Николай Михайлович Коняев НИКОЛАЙ РУБЦОВ
ПУТНИК НА КРАЮ ПОЛЯ (Часть первая)
Рубцову было шесть лет, когда умерла мать и его сдали в детдом.
Шестнадцать, когда он поступил кочегаром на тральщик...
Он служил в армии, вкалывал на заводе, учился...
На тридцать втором году жизни впервые получил постоянную прописку, а на тридцать четвертом — наконец-то! — и собственное жилье: крохотную однокомнатную квартирку.
Здесь, спустя год, его и убили... Вот такая судьба.
Первую книгу он выпустил в шестьдесят пятом году, а через двадцать лет его именем назвали улицу в Вологде.
Ему исполнилось бы всего пятьдесят, когда в Тотьме поставили ему памятник.
И это тоже судьба.
Как странно несхожи эти судьбы... И как невозможны они одна без другой!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также — истин... Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось...»
«Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью...»
«Стихи Рубцова выражают то, что невыразимо ни зримым образом, ни словом в его собственном значении... Образ и слово играют в поэзии Рубцова как бы вспомогательную роль, они служат чему-то третьему, возникающему из их взаимодействия».
Эти высказывания Глеба Горбовского, Александра Романова, Вадима Кожинова — лучшее свидетельство тому, как непрост разговор о поэзии Рубцова. Стоит только исследователю попытаться выразить ее суть, как тут же, отказываясь от литературоведческой терминологии, вынужден он оперировать понятиями и категориями самой жизни.
Обманчива простота рубцовской лирики. Анализируя ее, легко обнаруживаешь закономерности и приемы, которыми пользуется поэт, но результат, достигаемый этими приемами, не закономерен, не достигаем данными приемами.
Судите сами...
Рубцов словно специально пользуется неточными определениями. «За расхлябанным следом», «пустынные стога», «в деревне мглистой», «распутья вещие»...
Что это? Языковая небрежность? Или поиск подлинного, соответствующего стиховой ситуации смысла, освобождение живой души слова из грамматико-лексических оков?
А вот другой пример... Наверное, ни у кого из поэтов не найдется столь многочисленных повторов самого себя, как у Рубцова. Кажется, он забывал созданные и уже зафиксированные в стихах образы, многократно повторяя их снова и снова:
Скачут ли свадьбы в глуши потрясенного бора, Мчатся ли птицы, поднявшие крик над селеньем, Льется ли чудное пение детского хора, — О, моя жизнь! На душе не проходит волненье...(«У размытой дороги»)
Как просто в прекрасную глушь листопада Уводит меня полевая ограда И детское пенье в багряном лесу...(«Жар-птица»)
Словно слышится пение хора, Словно скачут на тройках гонцы, И в глуши задремавшего бора Все звенят и звенят бубенцы...(«Тайна»)
И пенья нет, но ясно слышу я Незримых певчих пенье хоровое...(«Привет, Россия...»)
Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора, Или, как ласка, в минуты ненастной погоды Где-то послышится пение детского хора, — Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!(«Скачет ли свадьба...»)
Все эти «свадьбы», эти «хоры», рассыпанные по стихам Рубцова, право же, сразу и не перечислишь...
Что это? Самоповтор? Или «причастность к тому, что, в сущности, невыразимо»? Ведь приближение потусторонних сил столь же естественно и обычно в поэзии Рубцова, как дуновение ветра или шум осеннего дождя, и поэтому даже и не осознается как повтор...
Еще более загадочной выглядит взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни. По стихам Николая Михайловича точнее, чем по документам и автобиографиям, прослеживается его жизненный путь. И не только тот, который уже был пройден поэтом к моменту создания стихотворения, но и события будущей жизни, о которой Рубцов мог только догадываться...
Конечно, многие настоящие поэты угадывали свою судьбу, легко заглядывали в будущее, но в Николае Рубцове провидческие способности оказались развиты с такой необыкновенной силой, что, когда читаешь написанные им незадолго до смерти стихи:
Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат березы, —охватывает жутковатое чувство нереальности. Невозможно видеть вперед так ясно, как видел Рубцов! Хотя — сам Рубцов говорил: «мы сваливать не вправе вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит, поехал — так держись!» — отчего же невозможно? Очень даже можно, если учесть, что Рубцов и жил так, будто писал самое главное стихотворение, и, совершенно точно зная финал, ясно представляя, что ждет впереди, даже и не пытался что-либо изменить...
Потому что не прожить свою жизнь, не пройти назначенный ему Путь до конца он не мог, да и не хотел...
— 1 —
О родителях Николая Рубцова известно немного...
Отец поэта — Михаил Андрианович Рубцов родился в деревне Самылково на Вологодчине.
Работал продавцом в сельпо.
В двадцать первом году женился на Александре Михайловне Рычковой.
В Самылково появились первые дети — три дочери: Рая, Надежда, Галина и сын Альберт.
Николай Рубцов был пятым ребенком в семье и родился 3 января 1936 года уже в Емецке Архангельской области,[1] куда Рубцовы переехали, по-видимому, летом 1929 года...
Еще до рождения Николая в положении семьи произошли перемены. Михаил Андрианович вступил в партию, и из продавцов возрос до должности начальника Отдела рабочего снабжения (ОРС) местного леспромхоза. Исполнилось Михаилу Андриановичу, когда родился Николай, тридцать шесть лет.
Был Михаил Андрианович, как вспоминают сослуживцы, простым и компанейским человеком. Часто у Рубцовых, хотя и размещалась семья в двух проходных комнатках, останавливались на ночевку наезжавшие в райцентр из лесопунктов командированные. Место находилось для всех.
Весело было и в праздники...
По общему коридору жило еще три семьи... Гуляли сообща. Начинали в одной квартире, потом переходили в другие...
Михаилу Андриановичу такая жизнь нравилась. Он любил компанию, застолья, музыку. Когда возвращался со службы, первым делом заводил патефон...
Дом, где родился Рубцов, сохранился... Красивое, с огромными окнами (в каждой раме по шестнадцать стекол) здание на старинном «рыбном» тракте...
Но у самого Рубцова о Емецке остались весьма смутные воспоминания.
«Первое детское впечатление, — рассказывал он, — относится к тому времени, когда мне исполнился год...
Помню снег, дорога, я на руках у матери. Я прошу булку, хочу булку, мне ее дали. Потом я ее бросил в снег. Отца помню. Мать заплакала, а отец взял меня на руки, поцеловал и опять отдал матери... оказывается, это мы отца провожали.
Его забрали, так мы с ним прощались. Это было в Емецке в начале 37-го. Отца арестовали, ну, как многих тогда. Он год был в тюрьме, чудом уцелел...
Отцу сообщили среди ночи, что он свободен. Он сначала не поверил, а потом собираться стал. Ему писем насовали, чтоб передал на свободе родственникам. Выпихнули его за ворота в глухую ночь, на улице мороз, а он в одном пиджаке и идти далеко. Ну, отец у нас крепкий был, ходовой мужик. Тетка потом мне рассказывала, отцова сестра, она тут, в Вологде, жила. Говорит: «Смотрю утром в окошко, вроде Миша бежит, ожигается, в одном-то пиджачке да по морозу-то...»
Этот рассказ Николая Рубцова был записан женщиной, сыгравшей такую роковую роль в его жизни... И даже допуская, что рассказ записан предельно точно, доверять ему трудно. Смущает нестыковка деталей.
Если Михаила Андриановича забрали в январе, то отчего же на нем был только один пиджак? Должно было иметься и пальто...
В этом рассказе Рубцов верно передает лишь свои ощущения: «прошу булку, хочу булку... бросил в снег», а вся сюжетная канва скорее всего заимствована из недетских впечатлений, и прекрасный рассказ тетки о том, как прибежал морозным утром в одном пиджачке Михаил Андрианович, явно относится к другому эпизоду из жизни отца поэта.
Так или иначе, но документально пока не удается подтвердить, за что арестовывали Михаила Андриановича и арестовывали ли вообще...
Сергей Багров в весьма поэтичном рассказе «Сердце ласточки», основываясь, очевидно, тоже на рассказах самого Рубцова, арест Михаила Андриановича переносит в Няндому.
«В Няндоме жили Рубцовы по двум адресам. Вначале — в добротном, уютно обставленном доме. Но после ареста хозяина жизнь семьи стала невыносимой. Из хорошей квартиры велено убираться. Чтобы духу здесь не было через сутки! В разгаре зимы, не имея ни средств, ни имущества, оказались Рубцовы среди сугробов. С грехом пополам удалось вселиться в гнилое, сарайного типа жилище. Мало кто от Рубцовых не отвернулся. Даже в девочках Наде и Гале, учившихся в средней школе, узрели опасных людей, с которыми надо быть настороже. Наде, имевшей песенный дар, воспретили петь песни, как на концертах, так и на спевках. Надя была самой старшей и, чтобы как-то помочь своей маме, устроилась счетоводом в райпо. Но вскоре она заболела и умерла.
Нельзя представить, как жили Рубцовы дальше. Одиннадцать месяцев просидел Михаил Андрианович в предварительной камере, ожидая суда, которого так, кстати, и не дождался, ибо на редкость честное по тем временам дознание (выделено мной. — Н. К.) вины за ним никакой не нашло, и его отпустили...»
В рассказе Багрова, как мы видим, тоже содержатся очевидные неточности. Несомненно, что источник их — сам Рубцов.
Можно предположить, что он рассказывал эту историю Сергею Багрову летом 1964 года, когда Багров приезжал в Николу. Ведь именно тогда было отправлено Рубцовым письмо Николаю Николаевичу Сидоренко, в котором изложена эта версия биографии отца...
«Родился в семье значительного партийного работника. Его даже врагом народа объявили, потом освободили, и статья о его реабилитации была помещена, кажется, в 1939 г. в Архангельской областной газете. Больше всего времени он работал вообще-то в Вологде».
Тут Михаил Андрианович — еще двух лет не прошло после его смерти! — превращается уже в значительного партийного работника.
Почему Рубцов повышает статус отца, понятно. Он писал Н. Н. Сидоренко, когда стоял вопрос о восстановлении в Литературном институте. И Николаю Михайловичу, с его простоватой хитрецой, могло казаться, что сына значительного партийного работника восстановят быстрее.
Надо сказать, что, вспоминая о своем прошлом, поэт всегда менее всего заботился о фактологии... Канцелярская выверенность свидетельств всегда угнетала его.
Куда больше подлинности в рассказах — записанных, кстати, тоже Сергеем Багровым — непосредственно о самом детстве...
«С малых лет, даже месяцев, когда посмотрит он с маминых рук на ромашковый берег Емцы, на ее поймы, церкви, лодки и тополя, так и выплеснет птичий восторг, так и дернется махоньким телом, точно зная, что сияющий воздух его не обидит, примет в лоно свое и, качая, закружит в лучах светоносного дня.
А еще ему будет по нраву сидеть, как матросу, в высокой корзине, которую старшие сестры отправят с плота по воде, наблюдая, как крошечный брат запыхтит, загудит, объявляя себя настоящим архангельским пароходом...»
Или в прозаическом наброске самого Николая Михайловича Рубцова...
«Закончился этот необыкновенный вечер тем, что все — и наши домашние и гости — забыли погасить свет и по всему дому, кто где, заснули непробудным счастливым сном! Но я не мог уснуть, т. к. предельно был полон волнующих впечатлений. Я неслышно поднялся, кое-как вскарабкался на длинный праздничный стол, уставленный рюмками, тарелками, графинами, и пополз по нему, выпивая из всех рюмок подряд вино, которое там осталось...
После этого лихого похмелья я ничего не могу вспомнить из значительных событий, как я понимаю, почти целого года».
Но вернемся к Михаилу Андриановичу...
С большой долей уверенности можно предположить, что если и был арестован он, то не за «политику», не как враг народа, а по уголовной статье, связанной с растратой или другими хозяйственными недочетами в ОРСе, возглавляемом им...
Эту версию, косвенно, подтверждают и любовь Михаила Андриановича к застольям, и путаница в рассказах Николая Рубцова, и «на редкость честное по тем временам дознание», которому был подвергнут Михаил Андрианович.
Во всяком случае, вернувшись (если следовать рубцовской версии) из тюрьмы, Михаил Андрианович в апреле 1939 года был восстановлен в рядах ВКП(б) и сразу пошел на повышение. Его перебросили в Няндомское райпо.
Няндома запомнилась Николаю Рубцову лучше. В этом небольшом городке, в доме, стоящем почти вплотную к железнодорожной насыпи, умерла старшая — Рая скончалась еще до рождения Николая — сестра Надежда.
Надежду Рубцов любил... Он запомнил, как выходит она к гостям в нарядном платье, в блестящем монисто на высокой шее, чтобы показать, чему научилась в кружке пения...
«Монисто, — вспоминал Рубцов, — очень шло к ней, придавало ей еще красоты и тихо звенело во время танца. И голос ее звенел, и слова непонятной песни тоже звенели, и всю жизнь сопровождает меня, по временам возникая в душе, какой-то чудный-чудный, тихий звон, оставшийся, наверно, как память об этом пении, как золотой неотразимый отзвук ее славной души».
Живая, общительная, Надежда погасла в одночасье — съездила в деревню на сельхозработы, простудилась и заболела менингитом.
Рубцов часто вспоминал, как мучительно переносила она нестихающую боль и, когда заговаривали с ней, отворачивалась к стене...
Наде было шестнадцать, когда она умерла. Ее хоронили как комсомолку...
Рубцов запомнил красный гроб, множество венков, скопление народа...
На всю жизнь осталась в нем боль утраты, всю жизнь считал он, что, если бы Надежда не умерла так рано, не было бы в его жизни того безысходного сиротства, через которое предстояло пройти ему...
Почти все эти, полулегендарные рассказы Николая Рубцова о жизни в Емецке и Няндоме почерпнуты нами из записок Д. и рассказов Сергея Багрова...
И все...
Более нигде, кажется, ни в стихах, ни в письмах, ни в разговорах с друзьями не вспоминал Рубцов о той жизни, словно это и не его была жизнь, а его началась только в Вологде...
— 2 —
14 января 1941 года Михаил Андрианович Рубцов, как записано в учетной партийной карточке, выбыл из Няндомы в Вологодский горком партии.
В Вологде Рубцовы поселились недалеко от Прилуцкого монастыря, в который еще недавно свозили со всей области раскулаченных мужиков...
Николаю было четыре года...
Из родительских разговоров ему запомнилась всего одна фраза.
— Александра, кипяточку! — кричал отец, усаживаясь за стол.
В рассказе «Дикий лук», передавая атмосферу тех лет, Николай Рубцов попытался нарисовать характер отца.
Рассказ написан уже после смерти Михаила Андриановича, и, читая его, видишь, как пересекаются в этой небольшой зарисовке два взгляда: ребенка в еще неясное, туманное будущее и усталого, измотанного жизнью поэта, как бы усмехающегося своему детскому неведению...
«Давно это было. За Прилуцким монастырем на берегу реки собрались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимающий толком. День был ясный, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: «Держите его! Держите его!» И тотчас я увидел, что мимо нас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.
— Держите его!
Отец мой быстро выплыл из воды и, в чем был, тоже побежал за неизвестным. «Стой! — закричал он. — Стой! Стой!» Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдруг: «Стой! Стрелять буду!»
Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом...»
Михаил Андрианович Рубцов был, как говорится, сыном своего времени.
Вот он стоит на фотографии в белой косоворотке, бравый, знающий себе цену деревенский парень. Если бы не революция, быть ему оборотистым сельским лавочником, может, выбился бы он в купеческое сословие, и его жизнь сложилась бы разумно и полезно для себя и для других.
Фотография сделана в начале двадцатых, и во взгляде смотрящего на нас Михаила Андриановича сквозит вера в разумное устроение будущей жизни.
Михаил Андрианович сделал свой выбор. Когда новая власть безжалостно погнала на голодную смерть миллионы русских мужиков, он примкнул к победителям и без сожаления покинул обворованную, обескровленную деревню, чтобы определиться на сытую, хлебную должность в новом, теперь уже полностью подвластном кремлевской нечисти, мире.
И, должно быть, исправно служил хозяевам, коли, несмотря на отсутствие образования, потихоньку рос в должностях, а на пятом десятке даже выдвинулся в круг областной номенклатуры.
Сохранилась еще одна предвоенная фотография... Михаил Андрианович сидит за рабочим столом в конторе. На нем пиджак, белая рубашка, галстук... Волосы гладко зачесаны назад... Взгляд прямой, как бы пронзающий насквозь. В нем чувствуются твердость и преданность генеральной линии партии.
Рассказывают, что, будучи навеселе, Михаил Андрианович ставил на патефон пластинку с «Интернационалом» и, выстроив семью в шеренгу, сам становился в строй и, вытянувшись в струнку, слушал партийный гимн.
Маленький начальник — отец и в рассказе Рубцова ведет себя очень типично. Не задумываясь, вылезает из реки и «в чем был» устремляется в погоню за неизвестным.
Зачем? Да затем, что за годы номенклатурной службы его выдрессировали на погоню. И этот: «Стой! Стрелять буду!» — подлинный, из тех лет крик.
Это же беспорядок — кто-то посмел убежать!
И неважно, что оружия у преследователя нет, неважно, что в погоню он устремился голым... Социальные роли и преследователем, и преследуемым осознаются настолько отчетливо, что оружие и не требуется, они оба знают магическую силу слов:
— Стой! Стрелять буду!
Беглец вынужден покориться. Он прекратил бег, даже и не оглянувшись, чтобы проверить — насколько реальна угроза...
«Все это поразило меня... — тридцать лет спустя, — напишет поэт Рубцов. — И впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было».
Приходится только гадать, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, не потеряй он так рано семью. Но, оказавшись в детдоме в Николе[2] — всего-то, если считать по прямой, в нескольких десятках километров от деревни Самылково, — открылась ему простая, искупающая отцовские прегрешения и предательства, истина:
С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь.Эту истину, на осознание которой ушло несколько поколений, Рубцов не уставал повторять всю жизнь.
Не порвать мне мучительной связи С долгой осенью нашей земли, С деревцом у сырой коновязи, С журавлями в холодной дали...— 3 —
Когда началась война, Михаил Андрианович поменял черную вельветовую куртку на полувоенный френч и легкие хромовые сапоги, и стал заправлять военторгом в Кущубе...
В книге Вячеслава Белкова «Жизнь Рубцова» (Вологда, 1993) приведены рассказы соседей Рубцовых, вспоминавших, что Михаил Андрианович не забывал себя, распределяя продукты... «По пути из Красных казарм на вокзал «заедут домой, шаранут с телеги мешок муки, крупы, бутыли со спиртом прямо в окно передадут...»
Жизнь пошла веселая, как раз такая, которая всегда нравилась Михаилу Андриановичу.
И, конечно же, появились и женщины... Семья стала тяготить Михаила Андриановича. Теперь он — вот уж воистину: кому война, а кому мать родна! — частенько не ночевал дома.
Александра Михайловна, конечно, переживала. Часто жаловалась на сердце.
В апреле, когда стаяли снега, дом на улице Ворошилова подтопило, и на первом этаже, где жили Рубцовы, по колено стояла вода...
Жили посреди воды... Электричества не было, горела коптилка.
Через неделю вода ушла, но волнения, связанные с потопом, не прошли для Александры Михайловны даром...
Этот черный день, 26 июля 1942 года, Николаю Рубцову запомнился на всю жизнь...
Он возвращался с братом из кино, когда возле калитки ребят остановила соседка и сказала:
— А ваша мама умерла.
У нее на глазах показались слезы. Брат тоже заплакал и сказал Николаю, чтоб он шел домой.
«Я ничего не понял тогда, — вспоминал уже взрослый Рубцов, — что такое случилось...»
Сюжет рассказа «Золотой ключик», в котором описаны эти события, Рубцов полностью повторил в стихотворении «Аленький цветок»:
Домик моих родителей Часто лишал я сна. — Где он опять, не видели? Мать без того больна. — В зарослях сада нашего Прятался я, как мог. Там я тайком выращивал Аленький свой цветок... Кстати его, некстати ли, Вырастить все же смог... Нес я за гробом матери Аленький свой цветок.Рубцов потерял мать в том возрасте, когда чувство самосохранения и любовь к матери еще не разделены, когда человек ощущает мать как часть самого себя, и поэтому не надо обманываться кажущейся сентиментальностью стихотворения, написанного, кстати сказать, уже зрелым поэтом. Это точная память о душевном смятении, охватившем ребенка.
Разрастаясь, аленький цветок заполнил «красными цветами» зрелую лирику — едва ли кто из русских поэтов так много писал о матери, как Рубцов...
Но это потом, годы спустя, а тогда, в сорок втором, судьба, словно бы посчитав, что лимит семейного тепла будущим поэтом уже исчерпан, торопливо разрушает рубцовский дом.
Только похоронили мать на Введенском кладбище в Вологде, как снова приходит смерть: умирает самая младшая Рубцова — полугодовалая Надежда.
Отец — он уже получил повестку на фронт — зовет свою сестру Софью Андриановну помочь в беде: надо пристроить ребят...
Мать умерла. Отец ушел на фронт. Соседка злая Не дает проходу. Я смутно помню Утро похорон И за окошком Скудную природу...В стихах чуть смещены события, но причина — не в забывчивости поэта. В повествовательной логике не сходятся и не могут сойтись те беды, что обрушились в эти дни на мальчика.
Вдобавок ко всему Николай умудрился потерять хлебные карточки. Если бы отец продолжал работать в военторге, этой потери и не заметили бы, но с Кущубой к тому времени отцу пришлось расстаться. Соседи вспоминают, что Николая сильно выпороли, и он сбежал из дома.
И вот приезжает тетка, и в семье Рубцовых разыгрывается новая трагедия... Софья Андриановна забирает старших детей — Галину и Альберта к себе,[3] а младших — Николая и Бориса — отправляет в Красковский дошкольный детдом.
Софью Андриановну можно понять: у нее — свои дети, и идет война. Она и так сделала все, что могла... Каждый ли способен взять двоих чужих детей? И наверняка взрослый Рубцов понимал это...
Но что чувствовал шестилетний ребенок? Горе раннего сиротства, осознание собственной несчастливости захлестывали его. Ведь более легкая участь досталась другим! И тем мучительнее, тем болезненнее рана, что о новой обиде приходится молчать. Если и пытался кому-то жаловаться шестилетний мальчишка, то в ответ встречал неприязненное недоумение: зависть — качество неприятное даже и в ребенке.
Откуда только — Как из-под земли! — Взялись в жилье И сумерки, и сырость... Но вот однажды Все переменилось, За мной пришли, Куда-то повезли.В Краскове[4] Николаю Рубцову предстояло пережить еще одну трагедию.
20 октября 1943 года вместе с группой детей, вышедших из дошкольного возраста, его отправляют в Никольский детский дом под Тотьмой. Младший брат остался в Краскове. Рвалась последняя ниточка, связывающая Николая с семьей, с родными...
Я смутно помню Позднюю реку, Огни на ней, И скрип и плеск парома, И крик «Скорей!», Потом раскаты грома И дождь... Потом Детдом на берегу.— 4 —
Тотьма... Устье Толшмы... Древняя, овеянная легендами русская земля...
Здесь творил чудеса святой Андрей Тотемский.
Летописи рассказывают, что, босой, он стоял возле храма в снегу и молился. И увидели его «сибирския страны варварского народа людие», и их старейшина Ажбакей, страдающий глазной болезнью, обратился к блаженному с мольбой о помощи. Андрей испугался и убежал, но Ажбакей не растерялся. Пал на колени и водой, что, натаявшая, стояла в следе святого, умыл лицо. И тут же прозрел.
Если Николай Рубцов и слышал это предание, то в самом раннем детстве... Значит, это оттуда, из глубины детской памяти воскрешающие образы древнего предания стихи?
Я шел, свои ноги калеча, Глаза свои мучая тьмой... — Куда ты? — В деревню Предтеча. — Откуда? — Из Тотьмы самой...Или, может быть, сама здешняя земля настраивает людей на один и тот же лад, независимо от того, сколько столетий разделяет умеющих вслушиваться в ее голос сограждан?
Сюда, в устье Толшмы, и привезли в 1943 году семилетнего Николая Рубцова...
Лошадь за детьми, разумеется, не прислали, и двадцать пять километров по разбитой дороге под злым осенним дождем малыши шли пешком. Когда добрались до детдома, там уже спали.
«Вдруг голоса откуда ни возьмись! Топот за окнами и хлопанье дверей... Антонина Алексеевна Алексеевская, воспитатель младшей группы, с мокрыми волосами и с крапинками дождя на плечах, проталкивает вперед присмиревших гостей.
— Ребята, это ваши новые друзья. Они протопали от пристани пешком. Двадцать пять километров. Прямо с парома, без передышки...
Алексеевская держала в руках список. Вычитывала фамилии.
— Коля Рубцов! Ложись на эту кровать. Мартюков, подвинься.
Без единого слова, но со светом в глазах шел черноглазый мальчишка...»
Эти воспоминания сотрудника великоустюжской газеты «Советская мысль» Анатолия Мартюкова интересны еще и тем, что дают первый из известных нам портретов будущего поэта.
Конечно, можно усомниться, откуда — из октябрьской ночи сорок третьего года или из рубцовских стихов? — «свет в глазах»...[5]
Но есть в воспоминаниях Мартюкова и то, что невозможно придумать, — тот семилетний Рубцов, все еще по-детски доверчивый, надеющийся на ласку, на привет и вместе с тем уже настороженный, готовый к любой неожиданности.
— А тебя зовут Толей, — тихо утвердил он.
Не сказал, не усмехнулся, а именно, как бы даже безразлично, «утвердил».
В одной этой фразе — опыт годичного пребывания в детдоме. Рубцов еще ничего не знает о своем соседе по койке, но понимает, что надо с первых же слов заинтересовать будущего товарища, «утвердить» себя.
— А как ты узнал? — спрашивает Мартюков.
Но — снова сказался опыт детдома! — даже искуса заинтриговать будущего товарища не возникает в Рубцове.
— На дощечке написано... — так же тихо объяснил тот.
Как вспоминает Антонина Михайловна Жданова, воспитательница младшей группы, в которую попал Рубцов, жили тогда в детдоме очень трудно. В спальнях было холодно. Не хватало постельного белья. Спали на койках по двое. Рубцов вместе с Анатолием Мартюковым. Не было и обуви. До 1946 года детдомовцы ходили в башмаках с деревянными подошвами, и весь дом был переполнен деревянным стуком, словно здесь размещалась столярная мастерская...
В обед воспитанникам полагались пятьдесят граммов хлеба и тарелка бульона... Еды не хватало, и дети воровали турнепс, пекли его на кострах.
В детском доме было свое подсобное хозяйство. Была лошадь по кличке Охочая и у нее жеребенок Красавчик. За ними ухаживали Рубцов с братьями Горуновыми... Работали все, в том числе и младшеклассники. Особенно тяжело приходилось летом — заготавливали сено, поливали огород, собирали грибы, ягоды, лекарственные травы, ходили в лес за сучьями для кухни. Сучья заготавливали на всю зиму. К осени они горами возвышались возле здания детдома.
Зимой работы становилось меньше, но зато и тоскливо было. По ночам в лесу, возле деревни, выли волки... В коридоре, возле двери, стояла большая бочка с кислой капустой. Запах ее растекался по всему дому...
Дети со всем смирились... Они ни на что, как вспоминают воспитательницы, не жаловались...
— 5 —
Когда читаешь воспоминания о Рубцове, порой начинает казаться, что стихи самого поэта звучат как бы в ответ на эти воспоминания.
Вот, например, Евгения Буняк пишет:
«Годы были трудные, голодные, поэтому мало помнится веселого, радостного, хотя взрослые, как только могли, старались скрасить наше сиротство. Особенно запомнились дни рождений, которые отмечали раз в месяц. Мы с Колей (Рубцовым. — Н. К.) родились оба в январе, поэтому всегда сидели за столом в этот день рядом, нас все поздравляли, а в конце угощали конфетами, горошинками драже. Как на чудо, смотрели мы на эти цветные шарики».
А вот воспоминания самого Рубцова:
Вот говорят, Что скуден был паек, Что были ночи С холодом, с тоскою, — Я лучше помню Ивы над рекою И запоздалый В поле огонек. До слез теперь Любимые места! И там, в глуши, Под крышею детдома, Для нас звучало Как-то незнакомо, Нас оскорбляло Слово «сирота».Разница поразительная. Евгения Буняк вспоминает детдомовский нищенский быт, а для Рубцова и нищета, и голод существуют как бы на втором плане...
«Я лучше помню...» — говорит он, и это не поза.
И нищету, и голод для Рубцова заслоняло осознание собственной несчастливости, своей несчастливой избранности. И поэтому-то, едва коснувшись бытовых трудностей, он сразу начинает говорить в стихах о главном для себя...
К сожалению, стихи Рубцова очень часто толкуются в духе обычной поэтической риторики, и строки: «Нас оскорбляло слово «сирота» — выдаются порой за утверждение некоей особой, домашней атмосферы, что существовала в Никольском детдоме, атмосферы, в которой дети якобы и не ощущали себя сиротами.
Подобное толкование лишено малейших оснований. Стихотворение «Детство», как и большинство рубцовских стихотворений, предельно конкретно и не нужно выискивать в нем переносный, не вложенный в его строки смысл.
В Никольском детдоме жили, конечно, и сироты, но больше здесь было эвакуированных детей. Некоторые, попав в детдом, сохранили даже вещи родителей. Вещи эти они очень берегли.
Пионервожатая Екатерина Ивановна Семенихина вспоминает, что дети постоянно просили ее пустить в кладовку, где хранились «взрослые» вещи. Они объясняли, что очень надо проверить, «как они висят».
— Это моей мамы пальто... — хвастали они, попав сюда.
И неважно, что у многих уже не было в живых мам — мамино пальто как бы служило гарантией, что мама жива и с ней не случится ничего плохого.
Из педагогических соображений считалось целесообразно скрывать от детей судьбу родителей (некоторые из них, как, например, мать Геты Меньшиковой — будущей жены поэта, находились в лагерях), и вечерами, когда старшие воспитатели и учителя расходились по домам, дети просили пионервожатую:
— Посмотрите в личном-то деле, где у меня мама?
Трудно поверить, что Николай Рубцов не участвовал в этом захлестывающем детдом мечтании о родителях. Он знал, что отец жив, и верил — а во что еще было верить? — вот закончится война, и отец заберет его, и в домашнем тепле позабудутся тоскливые и холодные детдомовские ночи...
И как же было не оскорбляться слову «сирота», если оно отнимало у ребенка последнюю надежду?
«Большинство одноклассников Коли были эвакуированные дети, — пишет в своих воспоминаниях Н. Д. Василькова. — Из Белоруссии, с Украины... Из Ленинграда блокадного тоже были... И все-таки многие верили, в том числе и Коля Рубцов, что после войны родители их вернутся и обязательно возьмут их из детдома — этой верой только и жили, тянулись со дня на день...
И действительно, в сорок пятом — сорок шестом стали приезжать в Никольский детдом родители за детьми. Помню хорошо, как за первой из нас приехал отец — за Надей Новиковой из Ленинграда. (Эта девочка была привезена к нам из Красковского детдома вместе с Колей Рубцовым)...
Для нас приезд отца за Надей был большим праздником, потому что каждый поверил, что и за ним могут приехать. И жизнь наша с тех пор озарилась тревожным светом надежд, ожиданий... Коля Рубцов тоже ждал...»
Ждал...
Николай Рубцов на исходе войны еще не знал, что отец давно уже демобилизовался и, вернувшись в Вологду, устроился работать в отдел снабжения Северной железной дороги — на весьма хлебное по тем временам место...
Про сына, сданного в детдом, Михаил Андрианович так и не вспомнил. Да и зачем вспоминать, если он снова женился, если уже пошли новые дети...
В 1946 году Николай Рубцов закончил с похвальной грамотой третий класс и начал писать стихи.
Может быть, стихи и спасли его.
Таких обманутых детей в детдоме было немало. Каждый переживал свою трагедию по-своему, и далеко не все могли пережить ее...
«В Николе случилась беда. Утонул в Толшме детдомовец. Мы знали — это Вася Черемхин. В один из июльских дней, в «мертвый час», когда в спальнях царили сны, Вася вышел на улицу...
Он всплыл в смутном месте реки, под Поповым гумном. Там стояла высокая темная ель... вода была темной и неподвижной. Два дня поочередно дежурили старшие на берегу омута».
Рубцову удалось пережить горечь разочарования в своих надеждах, но и в его стихи плеснуло мертвой смутной водой:
И так в тумане смутной воды Стояло тихо кладбище глухое, Таким все было смертным и святым, Что до конца не будет мне покоя...— 6 —
Впрочем, время было суровое, и горя тогда хватало на всех. Чтобы понять, как же жили в те годы в тотемских деревнях, полистаем подшивку тотемской районной газеты «Рабочий леса»...
8 февраля 1945 г.
«Нарсуд 1-го участка Тотемского района на днях заслушал дело Тугариновой Л. и Филимоновой X. из деревни Юренино Верхне-Толшменского сельсовета, уклонившихся от мобилизации в лес, и приговорил их к году исправительно-трудовых работ с вычетом 25 процентов заработка с отбытием на лесозаготовках при тех лесопунктах, куда они были мобилизованы».
26 апреля 1945 г.
ЦЕННЫЙ ПОЧИН
«Чтобы быстрее справиться с весенними полевыми работами, колхозники сельхозартели «Красная нива», Никольского сельсовета, взяли на себя обязательство провести боронование всех посевов озимых культур на коровах личного пользования».
7 июня 1945 г.
«Весенний сев в 1945 году колхозы Никольского сельсовета начали и провели более организованно, чем в прошлом...
Нельзя не отметить и большого трудового подъема в колхозной деревне. Люди работали не покладая рук. Многие перевыполнили нормы выработки. Так, пахарь колхоза «Объединение» Боря Каминский на паре лошадей вспахал 14,5 га... Четырнадцатилетний Павлин Микляев на паре бычков вспахал до 10 га...»
13 сентября 1945 г.
ЗОРКО БЕРЕГИТЕ КОЛХОЗНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
«...Жукова А А. украла 3,5 кг колосьев в колхозе «1 Мая», за что осуждена нарсудом к одному году исправительно-трудовых работ».
А вот подшивка газеты за тысяча девятьсот сорок седьмой, страшный и голодный на Вологодчине год...
«...кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Тотемскому избирательному округу № 225 выдвинули верного соратника товарища Сталина Лаврентия Павловича Берия и знатную стахановку Тафтинского лесопункта Клавдию Константиновну Лосеву».
27 февраля 1947 г.
«В этом году верхушки необходимо заготовлять не только в районах, где ощущается нехватка картофеля в связи с сильной засухой прошлого года, но и в районах, где его достаточно. Это даст возможность увеличить продовольственные ресурсы и весной сверх плана посадить картофель на большей площади».
Из беседы с академиком Т. Д. Лысенко
6 марта 1947 г.
«Колхозники сельхозартели «Искра» собрали в семенной фонд колхоза 4 центнера зерна и 3 центнера картошки из своих личных запасов.
Колхозник П. П. Гущин сдал на колхозный склад 50 кг зерна, Е. И. Гущина, А. И. Опалихин, М. А. Мизанцев — по 32 кг каждый и т. д.».
15 мая 1947 г.
ПОЧИН ПАТРИОТА
«Замечательный пример честного, сознательного отношения к артельному хозяйству показывает 80-летний колхозник сельхозартели «Маяк» Евгений Павлович Верещагин.
Для того чтобы помочь колхозу быстрее провести сев, Евгений Павлович выехал на вспашку колхозного поля на своей личной корове. За первые пять дней работы он вспахал 2,12 гектара, за вторую пятидневку — 2,5 гектара...
Почин тов. Верещагина должны подхватить все колхозники района».
24 июля 1947 г.
В РАЙПРОКУРАТУРЕ
«Е. В. Овчинникова, работая пастухом в колхозе «Победа», систематически производила дойку коров и молоко использовала для своих надобностей. 29 июня она выдоила на пастьбе четырех коров, от которых получила 5 литров молока, и была задержана на месте преступления.
За кражу колхозного молока Овчинникова арестована и предается суду по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».
Ю. Архипов, прокурор Тотемского р-на.
14 августа 1947 г.
«Для школ района нынче отпущено 135 250 штук тетрадей, 630 коробок перьев, 16 200 карандашей, 10 350 экземпляров учебников и т. д. — почти в три раза больше, нем в прошлом году. Плохо то, что учебники и ученические принадлежности многих школ лежат до сих пор в сельпо и не выкупаются».
4 сентября 1947 г.
ИЗ ЗАЛА СУДА
Опалихина Л. Е. из колхоза «Искра», несмотря на предупреждение райуполминзага от 2 июля 1947 года о добровольной уплате недоимки мяса за 1945—46 гг. и первый квартал 1947 г. в количестве 105,8 кг в десятидневный срок, недоимки не погасила. 14 авг. 1947 г. Народный суд 1-го участка Тотемского района по иску райуполминзага решил наложить на хозяйство Опалихиной Л. Е. штраф в сумме 1 058 руб. и за недоимку мяса взыскать его стоимость деньгами в сумме 2 116 руб.
Овчинникова Е. В., работая пастухом, занималась дойкой колхозных коров на пастбище. Народный суд 1-го участка Тотемского района 16 августа 1947 года приговорил Овчинникову Е. В. к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. Осужденная арестована».
Генриетта Михайловна Шамахова, будущая жена Николая Михайловича Рубцова, родилась в Николе... Когда ее мать, подобно героине газетной заметки, гражданке Овчинниковой Е.В., посадили в тюрьму, девочку никуда не повезли, просто перевели в детский дом.
«В июне 1947 года, — вспоминает она, — я сама попала в этот детский дом. Нас было там в то время 105 человек. (Помню, вышивали номер на одежде.) Меня определили в младшую группу девочек, а было мне в то время десять лет. Коля Рубцов был в старшей группе. Помню его друзей: Витя, Миша, Володя Горуновы, Саша Пятунин».
— 7 —
Через двадцать лет, вспоминая детдомовские годы, Николай Рубцов напишет:
«Это было тревожное время. По вечерам деревенские парни распевали под гармошку прощальные частушки:
Скоро, скоро мы уедем И уедем далеко, Где советские снаряды Роют землю глубоко!А мы по утрам, замерзая в своих плохоньких одеждах, пробирались сквозь мороз и сугробы к родной школе. Там нас встречала Нина Ильинична и заботилась о нас, как только могла...
Все мы тогда испытывали острый недостаток школьных принадлежностей. Даже чернил не было. Бумаги не было тоже. Нина Ильинична учила нас изготовлять чернила из сажи. А тетради для нас делала из своих книг. И мы с превеликим прилежанием выводили буквы по этим пожелтевшим страницам на уроках чистописания.
По вечерам зимой рано темнело, завывали в темноте сильные ветры. И Нина Ильинична часто провожала учеников из школы. Долго по вечерам горел в ее окне свет, горел озабоченно и трепетно, как сама ее добрая душа. И никто из нас знать не знал, что в жизни у нее случилось большое горе: погиб на фронте муж...»
Зарисовка для районной газеты «Ленинский путь» написана Рубцовым в 1964 году, почти одновременно со стихотворением «Русский огонек»... И случайно ли слова «как сама ее добрая душа» почти без изменения вошли в стихотворение:
Спасибо, скромный русский огонек... За то, что, с доброй верою дружа, Среди тревог великих и разбоя Горишь, горишь, как добрая душа, Горишь во мгле, и нет тебе покоя...Более того, читаешь сейчас «Русский огонек» и кажется, что в нем сошлись судьбы колхозников, пахавших колхозные поля на своих коровах, сдававших в трудные годы собственное зерно в колхозные закрома... За три с половиной килограмма колосьев их отправляли в заключение на год, а за пять литров молока — на десять лет, но и этот «разбой» не в силах был загасить свет в их душах...
«Русский огонек» Рубцов писал в шестьдесят четвертом году, когда давным-давно закрыли детдом на берегу, когда взгляд поэта, многое повидавшего на своем веку, легко проникал в самые сокровенные тайны русского бытия...
У десятилетнего Рубцова этого опыта и умудренности не было.
«Целыми вечерами, — вспоминает Е. И. Семенихина, — сидели ребята в пионерской комнате и мечтали, греясь у растопленной печки. Мечтали о том, что будет время, когда все будут счастливы, не будет детдомов...»
Рубцов в то время был хрупким мальчиком «с черными бездонными глазами и очень располагающей к себе улыбкой». Он хорошо играл на гармошке, хорошо учился, выделялся какой-то особой непосредственностью и доверчивостью.
Между прочим, именно тогда состоялось его знакомство с будущей женой Гетой...
Генриетта Михайловна занималась в детдоме вместе с девочками акробатикой. Летом 1949 года в Тотьме состоялась олимпиада детских домов. Из Николы возили четырнадцать человек.
Ездил и Рубцов. Он играл на гармошке разные песни, сопровождал музыкой акробатические номера, которые Гета исполняла с Женей Буняк.
Учили в Никольской школе, конечно, плохо. Преподавателем русского языка и литературы, физкультуры и географии был один человек. Об особых знаниях тут говорить не приходилось...
Зато были книги.
Зато на стенах классов висели дореволюционные наглядные пособия...
Комплект таких картин, рассказывающих о промышленности русских городов, нам с сотрудницей Тотемского краеведческого музея удалось найти на чердаке старой Никольской школы. Пролежав десятки лет в опилках, они даже и не потускнели.
Мы протерли картины тряпкой, и снова заблестела прежняя, такая богатая и такая счастливая русская жизнь.
Нижний Новгород, Тверь, Самара...
Разумеется, в городских школах подобные наглядные пособия безжалостно изымались и уничтожались... В Николе их спасла бедность. Нечем было заменить старорежимные пособия, вот и оставались распахнутыми для детей окна в досоветскую, словно бы освещенную другим солнцем жизнь.
«Воскресенье... — вспоминает Анатолий Мартюков. — И мы отчасти свободные люди. Сочится влагой оранжево-глинистый высокий берег оврага, что в сторону деревни Камешкурье. Это у самого берега реки Толшмы под Николой. Отчетливы и удивительно свежи золотые копеечки мать-и-мачехи. Они обозначились по всему берегу пригретого оврага. Густая синяя дымка вытекает из оврага и рдеет над рекой. Мы — это Валя Колобков, Виля Северный, Коля Рубцов... стоим на речном мосту. Большая страшная вода мечется под ногами. Слева — село Никола с церковью из красного кирпича на возвышенности, справа от моста — дорога... Далекая, непонятная, по-апрельски живая, манящая...»
В детдоме все жили с повышенной — палец в рот не клади — активностью. Недаром здесь была сочинена частушка:
Мы детдомовски ребята, Мы нигде не пропадем! В синем море не утонем, Бережочечком пройдем!Но Рубцов все-таки не потерялся, сумел стать заводилой и среди детдомовцев.
Клавдия Васильевна Игошева вспоминает, как дети ходили в поход за двадцать пять километров до деревни Черепанихи. Там переехали на пароме через Сухону, развели на берегу костер. На обратном пути ночевали в Манылове, в гумне...
Всем поход очень понравился, и Рубцов предложил повторить его. Он вызвался организовать игру «Спрятанное знамя», которое должна была искать вся школа.
Николай с ребятами разработал план, ориентиры, но, к сожалению, Клавдия Васильевна так и не сумела выяснить, можно ли играть в такую игру. Не сказали воспитательнице в роно ни да, ни нет.
Вот так и жили тогда в далекой, затерянной посреди вологодской глуши деревне Никола...
12 июня 1950 года Николай Рубцов получил свидетельство об окончании семи классов и в тот же день уехал в Ригу поступать в мореходное училище.
Откуда у мальчишки, выросшего посреди полей и лесов, возникла необъяснимая любовь к морю, которого он никогда не видел? И как тут не вспомнить, что и прославленные русские адмиралы тоже выросли в глубине континента...
Впрочем, тут с Рубцовым все понятно. Мечту о морских странствиях в юном поэте пробудил опыт тотемских земляков...
В конце сороковых годов, когда наконец-то начали вспоминать имена славных российских мужей, выплыло из неразличимой тьмы «досемнадцатого» года имя Федора Кускова, основавшего столетие назад «Форт-Росс» в Калифорнии. О Кускове написали в районной газете, появился посвященный ему стенд и в Тотемском краеведческом музее...
«Колю Рубцова, — пишет в своих воспоминаниях Н. Д. Василькова, — отправляли первым в Ригу... Выдали ему самодельный чемодан, который вместо замка закрывался гвоздиком. Мы, девочки, подарили Коле двенадцать носовых платков — и все обвязанные, вышитые нами».
ГЛАВА ВТОРАЯ
Удивительное дело... Сколько лет отделяет от нас Николая Рубцова? И ведь не в бесписьменные века он жил, а в десятилетия, когда шелестом справок сопровождался, кажется, каждый шаг советского гражданина, но — вот нате же! — жалкие крохи сведений, что удается выудить из архивов, неспособны заполнить белые пятна в биографии. И порою возникает ощущение, будто Рубцов и не был никогда нашим современником, погруженным в стихию справок и анкет, а пришел к нам из другого времени...
Можно и далее продолжать эти «мистические» — о, как приятны они! — рассуждения, но, перелистывая фолианты бухгалтерских и регистрационных книг, понимаешь и другое...
Всевластный и всеобъемлющий учет регистрировал каждый шаг человека, но человек этот должен был вписаться в советский социум. А тот человек, который по каким-либо причинам не смог или не захотел этого сделать, оставался неучтенным. Его надежды и страдания не учитывались, да и не могли быть учтены, потому что советский гражданин и живой человек были — увы! — не совпадающими друг с другом величинами.
— 1 —
В книге учета воспитанников Никольского детдома записано, что 12 июля 1950 года Николай Рубцов уехал в Ригу, уехал поступать в училище.
В мореходке документы у Рубцова не приняли — ему не исполнилось еще пятнадцати лет.
Так ясно видишь эту сцену...
Уставший, вымотавшийся в долгой дороге подросток входит в приемную комиссию, с облегчением ставит на пол самодельный, запирающийся на гвоздик фанерный чемодан — наконец-то его путь закончен, сейчас его определят на ночлег, поставят на довольствие! — вытаскивает из кармана документы.
Человек в военной форме задает ему вопрос:
— Сколько тебе лет?
— Четырнадцать... — отвечает Рубцов и удивленно смотрит, как, нераскрытые, возвращаются назад документы.
Рубцов не может понять, что в приеме отказано решительно и бесповоротно, он пытается объяснить, что приехал издалека, что дорога у него заняла три дня, что здесь, в Риге, никого не знает, но его уже не слушают, о нем уже забыли...
И тогда Рубцов поднимает фанерный чемоданчик и выходит из училища, на улицу чужого, незнакомого города, где он не знает никого и его не знает никто...
Годы спустя Рубцов напишет «Фиалки». Это стихотворение обычно датируется 1962 годом, годом выхода самодельной книжки Николая Рубцова «Волны и скалы».
Наверняка написано стихотворение было уже после демобилизации Рубцова с флота, но непосредственные жизненные впечатления, положенные в его основу, несомненно, относятся к более раннему времени.
Судя по некоторым деталям, в «Фиалках» запечатлен опыт, приобретенный как раз в Риге, опыт первой попытки самостоятельного устройства в жизни во взрослом мире:
Я в фуфаечке грязной Шел по насыпи мола, Вдруг тоскливо и страстно Стала звать радиола: — Купите фиалки! Вот фиалки лесные! Купите фиалки! Они словно живые! Как я рвался на море! Бросил дом безрассудно И в моряцкой конторе Все просился на судно. Умолял, караулил... Но нетрезвые, с кренцем, Моряки хохотнули И назвали младенцем...Каждому — о, это вечное чудо поэзии! — слышится что-то свое, личное в простенькой мелодии, и поэтому диссонансом врывается в нее рвущийся крик, требующий уже не сопереживания, а сострадания:
Кроме моря и неба, Кроме мокрого мола, Надо хлеба мне, хлеба! Замолчи, радиола...Как это ни парадоксально, но точность датировки лирики Рубцова по конкретным деталям не идет ни в какое сравнение с датировкой событий в его анкетах...
Можно, например, сравнить автобиографию: «Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году», где полная неправда (отец не погиб на войне) соседствует с неточностью (отца призвали не в сорок первом, а в сорок втором году), и разбираемое сейчас нами стихотворение «Фиалки»:
Вот хожу я, где ругань, Где торговля по кругу, Где толкают друг друга И толкают друг другу, Рвут за каждую гайку Русский, немец, эстонец... О!.. Купите фуфайку. Я отдам за червонец...Если вспомнить первую строку: «Я в фуфаечке грязной...» — и сопоставить ее с запрашиваемой за фуфайку ценой, легко сообразить, что имеется в виду дореформенный червонец, ставший после 1961 года рублем.
Разумеется, лирика — не самый подходящий материал для финансово-экономических изысканий, но смысл произведенной нами операции в том и состоит, чтобы пробиться к реальному, четырнадцатилетнему детдомовцу, к тому голодному мальчишке, который пытается продать на рижском рынке единственное свое достояние — грязную детдомовскую фуфайку. Едва ли в цене на том рынке были вышитые и обвязанные одноклассницами носовые платки...
— 2 —
Для четырнадцатилетнего Рубцова рижская неудача была тяжела еще и потому, что все эти годы ему внушали, в какой замечательной стране он родился.
— Конечно, — говорили учителя, — сейчас трудно, но это только сейчас. И только здесь, в глухой вологодской деревне. А вообще жить хорошо, и главное — все дороги открыты перед юношами и девушками...
Нет никакого сомнения, что в этом смысле Рубцов, как и все остальные детдомовцы, был инфантильней, нежели его сверстники, выросшие в семьях...
И в Риге произошло не только крушение мечты...
В Риге вдребезги разлетелся внушенный воспитателями и педагогами миф о дорогах, которые открыты молодым.
Никому не нужный подросток оказался выброшенным в равнодушную толчею чужого города.
Смутные и невнятные, сохранились воспоминания, что якобы, на обратном пути из Риги, Николай Рубцов останавливался в Ленинграде и пытался поступить в художественное училище...
«После училища, после неудачи, поехал Коля в Ленинград, хотел поступить в художественное училище: рисовать он тоже умел и любил, но только акварелью, а надо было уметь масляными красками, да и с гипсом знаком не был. Делать нечего: вернулся Коля обратно в Николу».
Через несколько дней после возвращения Николая вызвал директор детдома Брагин.
— Не приняли в мореходку? — спросил он. — Нет...
— Ну, что поделаешь, Рубцов. Иди тогда в наш Тотемский лесотехнический техникум.
Как записано в книге учета воспитанников, 13 августа Николай Рубцов уехал учиться в город, в котором тридцать пять лет спустя ему поставят памятник.
Ну а урок, преподанный в Риге, забылся не сразу. Словно бы подводя итоги, Рубцов напишет, анализируя образ Катерины из «Грозы» А. Островского:
«...к несчастью, человек может быть «поэтически» настроен до тех пор, пока жестокие удары судьбы не развеют нелепых представлений о жизни как об источнике единственно счастья и радостей».
Пятнадцатилетнему человеку свойственно абсолютизировать собственный жизненный опыт, свои весьма туманные представления о реальной жизни, и не случайно максималистически-мрачный тезис: «Жизнь — это суровая проза, вечная борьба» — дополняется достаточно оптимистическими размышлениями о возможности «добыть себе счастье, если у него (человека. — Н. К.) для этого достаточно духа и воли...»
Добыть себе счастье Рубцову, конечно же, хотелось не меньше, чем героине пьесы А. Островского...
— 3 —
В стихотворении «Подорожники», вспоминая Тотьму, Николай Рубцов скажет:
Топ да топ от кустика до кустика — Неплохая в жизни полоса. Пролегла дороженька до Устюга Через город Тотьму и леса.«Неплохая в жизни полоса» растянулась почти на два года.
Два года жизни в прекрасном русском городе...
Как и на Великий Устюг, на Тотьму у «творцов светлого будущего» не хватило дефицитного динамита и город сохранил свою былую красу.
Правда, некий Монашенок, вдохновленный призывами разрушить старый мир, походив с красным знаменем по округе, начал было разбирать колокольню в бывшем Спасо-Суморинском монастыре, но — есть, есть Божий суд! — сверзился вниз, сломал три ребра и отбил печенку. Больше на старинный монастырь не покушались...
Настоятельский корпус, братские келий, монастырскую гостиницу передали техникуму, готовившему мастеров лесовозных дорог.
Здесь, в золотом листопаде монастырских берез, и увидел впервые Сергей Багров «русоволосого, с очень живым, загорелым лицом улыбающегося подростка», которому все кричали:
— Давай, Николай! Давай!
И подросток, подламывая локтями, рванул лежавшую на груди красномехую хромку и неожиданно резко запел:
Куда пошла, зелена рать? Гремела рать, зелена рать, Пошла я в лес, зелена рать, Грибы ломать, зелена рать!Это и был Николай Рубцов...
Подростки и есть подростки, и школу подросткового воспитания Николай Рубцов, выросший в детдоме, проходил легко.
Он вспоминал потом, как испытывали в техникуме на смелость...
Всей гурьбой шли в полуразрушенный собор, от которого остались только стены и внутренний карниз, прерванный проломом. Нужно было пройти по карнизу на головокружительной высоте и перепрыгнуть через пролом.
Коля прыгал.
Было жутковато, но почти не страшно...
В этом рубцовском прыжке на головокружительной высоте, над темной бездной погруженного в мерзость запустения храма — очень много от предстоящей жизни, от Пути, который назначено пройти ему. В каком-то смысле этот прыжок — метафора всей его жизни и поэзии. И каждое его стихотворение — повторение этого прыжка...
Лети, мой отчаянный парус! Не знаю, насколько смогу, Чтоб даже тяжелая старость Меня не согнула в дугу! Но выплывут, словно из дыма, И станут родней и больней Стрелой пролетевшие мимо Картины отроческих дней... Запомнил я снег и салазки, Метельные взрывы снегов, Запомнил скандальные пляски Нарядных больших мужиков. Запомнил суслоны пшеницы, Запомнил, как чахла заря, И грустные, грустные птицы Кричали в конце сентября. И сколько друзей настоящих, А сколько там было чудес, Лишь помнят сосновые чащи Да темный еловый лес!..Но тогда Рубцов был молод, и поэтому было не страшно...
Однако таким — отчаянным и бесшабашным — был Рубцов днем, в шумной ватаге сверстников.
А вечером? Ночью?
Тот, кто жил в сберегаемых советской властью монастырях, знает, какая тоска обрушивалась на человека в сумерках, запекающихся в черных провалах стен, клубящихся под рухнувшими кровлями храмов...
Эта тоска хорошо была знакома и Николаю Михайловичу Рубцову...
И в последние детдомовские годы, и в техникуме Рубцов словно бы и забыл, что у него есть отец. Никто из его знакомых не запомнил, чтобы он пытался тогда восстановить связь с отцом, братом, сестрой, теткой...
Быть может, только однажды и попытался рассказать Николай «все накопившееся на душе за эти долгие годы бесконечного молчания».
Случилось это уже в 1951 году, когда Рубцов писал сочинение на заданную в техникуме тему «О родном уголке».
Оно сохранилось...
Поначалу — это обычный пересказ экскурсоводческих баек, удручающий примитивностью мышления и абсолютным незнанием истории... Приведем лишь несколько строк из него:
«Многое изменилось благодаря Великой Октябрьской революции. Монастырь, бывший очагом насилия и грабежа, превратился в рассадник культуры и грамотности среди населения. В заново отстроенных аудиториях зашумели первые студенты. Бывший тотемский собор превратился в городской кинотеатр, откуда беспрерывно доносится веселая музыка, наполняющая радостью сердца новой молодежи!»
Но где-то к середине сочинения Рубцов вдруг оставляет тон разбитного экскурсовода и начинает писать о своем детстве. Вначале, сбиваясь на уже заданный тон: «Иначе и нельзя! Ведь в их среде протекало мое беззаботное, счастливое, незабываемое детство...» — но с каждым словом все искренней и увлеченней:
«Хорошо в зимнее время, распахнув полы пальто, мчаться с горы навстречу обжигающему лицо ветру; хорошо в летнее время искупаться в прохладной воде, веселой при солнечном свете речки, хорошо бегать до безумия, играть, кувыркаться. А все-таки лучше всего проводить летние вечера в лесу у костра, пламя которого прорывает сгущающуюся темноту наступающего вечера, освещая черные неподвижные тени, падающие от деревьев, кажущиеся какими-то таинственными существами среди окружающей тишины и мрака...»
И чем дальше, тем несовместимее сочетание детских слов и оборотов: «играть... кувыркаться...» с точными, свидетельствующими о духовной зрелости и художническом видении мазками: «веселой при солнечном свете» речкой, «черными неподвижными тенями».
Еще удивительней, как безбоязненно открывается пятнадцатилетний подросток, описывая «темные тотемские ночи».
Как бы переходя на рассказ о друге детства, Рубцов пытается написать свой автопортрет:
«Обычно безудержно веселый, жизнерадостный, он становится порою непонятным для меня, сидит где-нибудь один, думает, думает и вдруг?., на таких всегда веселых, полных жизнеутверждающей силы глазах показываются слезы!»
(Этот «автопортрет» совпадает с тем, что рассказывает о Рубцове Л. С. Тугарина: «А Коля Рубцов ласковый был. У него кличка такая была — любимчик. Но ему что-то безразлично это было. Часто задумчивый сидел». То же самое и в воспоминаниях А. И. Корюкиной: «В детском доме Колю любили все... Он был ласков сам и любил ласку, был легко раним и при малейшей обиде плакал...»)
А дальше, в сочинении, забывая, что рассказ ведется в третьем лице, как бы о друге, Рубцов прямо пишет о том тайном, что мучило его самого детдомовскими ночами.
Страх в этом удивительном сочинении персонифицирован с медведем, превращающимся то в директора школы, — вспомните директора детдома Брагина, выбравшего Николаю Рубцову его будущую профессию! — то в свирепого хищника...
«Может быть, все это покажется невероятным, но представьте себе, как часто такие истории и им подобные видел я во сне в те же темные тотемские ночи, засыпая под заунывную песню ветра, свистящего в трубе».
Пересказывая сновидение, Николай Рубцов, сам того не понимая, анализирует свои комплексы и пытается преодолеть их. Пускай во сне медведь «нисколько не испугался (хотя говорят, что медведь боится людей), а, наоборот, с каким-то диким ревом бросился навстречу... «и первым желанием было «бежать, бежать...», но все-таки страх удается преодолеть. Мальчик выхватывает «охотничий нож», который у него наяву отбирает директор школы и который так пригодился сейчас во сне, и «с криком, который по силе и ужасу не уступает реву самого медведя...» — бросается навстречу опасности.
Медведь падает, сраженный ножом.
Впрочем, тут же Рубцов и закругляет повествование, выходя из области подсознательного в мир природы, в пейзаж, как это он часто делал потом в своих стихах:
«По-прежнему тихо, почти беззвучно шумели старые березы в лесу в безветренные дни, а вместе с порывами ветра громко плакали, почти стонали, как будто человеческою речью старались рассказать все накопившееся на душе за эти долгие годы бесконечного молчания. По-прежнему с какой-то затаенной, еле заметной грустью без конца роптала одинокая осина, вероятно, жалуясь на свое одиночество... По-прежнему спокойно и плавно уносились легкие волны Сухоны в безвозвратную даль...»
Сочинение «Мой родной уголок» интересно, как достоверное, из первых рук, свидетельство напряженной внутренней работы, происходившей в Рубцове-подростке.
Результат этой работы известен...
С юношеской беспощадностью и благородством Николай Рубцов принимает решение жить вопреки несправедливости судьбы. Жить, как бы не замечая несправедливости. Живой отец не вспоминает своего сына, и не надо. Значит, у него нет отца.
На следующий год, нанимаясь кочегаром на тральщик, Николай напишет в автобиографии:
«В 1940 году переехал вместе с семьей в Вологду, где нас и застала война. Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году».
Конечно, можно предположить, что Рубцов написал так, не зная наверняка, где его отец, но едва ли это объяснение удовлетворительно. Ведь и потом, в 1963 году, Рубцов повторит утверждение-приговор: «Родителей лишился в начале войны», хотя уже десять лет будет встречаться с отцом.
В Спасо-Суморином монастыре, превращенном в «рассадник культуры и грамотности», Рубцов провел два года.
Внешне он вел себя точно так же, как и остальные сверстники. Ничем не отличался от них. Вернее — старался не отличаться.
Жили тогда голодно все, но детдомовец Николай Рубцов особенно тяжело... Сокурсникам запомнилось его выражение: «Дай на хамок». Так Рубцов просил откусить хлеба.
Ребята в техникуме учились простые и поддерживали Николая, чем могли, всегда делились тем, что имели... Но Рубцов переживал, что ему нечем ответить им. Иногда он отказывался от еды, которую ребята приносили из дома, и убегал...
«В техникуме хорошо был развит спорт: лыжи, футбол, баскетбол, стрельба. Больше всего мы увлекались футболом, — вспоминал А. Викуловский. — Делились на команды, приглашали судей из преподавателей физкультуры или старшекурсников и шли играть на техникумовский стадион. Николай тоже играл с нами, но от недоедания и слабости иногда не мог отыграть весь матч. Он покидал поле, ложился под тополя или на скамейку, а после короткого отдыха снова включался в игру...»
— 4 —
С таким же упорством, как в любимом футболе, пытался Рубцов не отстать от своих более благополучных сверстников и в других состязаниях.
«В те годы молодежь жила проще, — вспоминает Татьяна Решетова. — Работали с огоньком, но умели и веселиться от души. Принято было в Тотьме собираться на танцы в лесном техникуме у «короедов» (как мы их звали) или в педучилище у «буквоедов» (так они нас называли). Танцевали под духовой оркестр или под гармошку».
Глубокой осенью 1951 года Татьяна с подружкой пришла на танцы в лесотехникум. Народу в зале собралось много, было тесно танцевать, но девушки не замечали этого...
«На очередной танец нас пригласили двое ребят. Меня вел в вальсе улыбчивый паренек, темноволосый, небольшого роста, одет, как и большинство его ровесников, в комбинированную хлопчатобумажную куртку, черные брюки. Все было отглажено, сидело ладно. Красивое лицо с глубоко посаженными черными глазами — все это как-то привлекало мое внимание. А главное, он все время что-то говорил, улыбался и хорошо танцевал».
Это и был Николай Рубцов.
В тот вечер он пошел «провожать» Татьяну.
Позже словом «провожать» стали называть совместные гуляния парочек, но тогда, в Тотьме, это, действительно, было только провожание.
Решетова шла со своей подругой впереди, а за ними ребята. Девчата оглядывались на них и ничего не говорили, только шептались между собою, обсуждая кавалеров.
На следующем вечере танцев Рубцов снова попытался ухаживать за девушкой, но что-то вдруг разладилось. Татьяна, как это часто бывает с молодыми девушками, перестала «замечать» Рубцова.
В отместку — приближался Новый год! — Рубцов прислал поздравительную открытку. Вместо письма там были стихи...
«Я поняла, что это его стихи. Но такие обидные для меня, злые! Оценивая меня, он не жалел ядовитых эпитетов. Резкие очень стихи были. Мне показалось, что он несправедлив ко мне, и в гневе тут же я порвала открытку».
Этот юношеский роман будет иметь продолжение, и не только в событиях биографии Николая Рубцова, но и в его поэзии...
Поэтому и хочется обратить внимание на странную, проявившуюся уже тут невезучесть Рубцова с женщинами. Странную, потому что, судя по воспоминаниям Татьяны Решетовой, внешне Рубцов производил вполне благоприятное впечатление... И симпатичным был, а главное, «все время что-то говорил, улыбался и хорошо танцевал». Успех вроде бы был гарантирован, однако вместо этого — «настойчиво добивался внимания, но безуспешно»...
Татьяна Решетова и сама, годы спустя, вспоминая о давних встречах, не может понять, почему не ответила взаимностью на чувство симпатичного, умного, хорошо танцевавшего кавалера.
Так, может быть, то, о чем писал Рубцов в сочинении про медведя, та зияющая глубина, — знобящей тревогой, неуютом! — проступала и наяву? И женщины ощущали это, и инстинктивно отодвигались от Рубцова?
Наверное, так и было...
— Возле тебя всегда такое беспокойство охватывает... — много лет спустя скажет Рубцову знакомая поэтесса. — Прямо места не нахожу себе...
Мы увидим дальше, что свой первый опыт форсирования романов Рубцов — увы! — будет повторять снова и снова. И снова вначале будет встречать заинтересованность, а дальше — пойдут безуспешные попытки добиться большего внимания, пока не произойдет срыв. И обязательно появятся стихи, перечеркивающие всякие отношения уже навсегда... Своего рода алгоритм поведения, как бы и не зависящий от самого Николая Михайловича...
Но тогда, в Тотьме, Рубцов еще не знал этого...
у Рубцова никого не было, и зимой он ездил на каникулы в Николу...
Летом, после первого курса, ехать стало некуда.
22 июля 1951 года Никольский детдом закрыли...
А через полгода Рубцову исполнилось шестнадцать, и, получив паспорт, он уезжает в Архангельск, позабыв в общежитии техникума затрепанную тетрадку со своими стихами.
Некоторые биографы считают, что Рубцова влекла романтика... Может быть...
А может, все было гораздо проще.
«Те трудности, — считает А. Викуловский, — которые легли на четырнадцатилетнего мальчишку при отсутствии какой-либо поддержки от родных, стали основной причиной того, что Рубцов бросил техникум и поехал искать счастья по России»...
Как бы то ни было, но все произошло так, как и представлял Рубцов...
«Последний, отвальный гудок дает пароход «Чернышевский», отходя от пристани, и быстро проходит рекой, мимо маленьких деревянных старинных домиков, скрывающихся в зелени недавно распустившихся листьев берез, лип, сосен и елей, скрадывающей их заметную кособокость и уже подряхлевший за долгие годы существования вид, мимо громадных церквей, верхушки которых еще далеко будут видны, возвышаясь над городом».
Только теперь была не весна, а осень.
Дул холодный ветер, густая темнота висела над рекой, как в стихах, которые еще предстоит написать Рубцову:
Была сурова пристань в поздний час, Искрясь, во тьме горели папиросы, И трап стонал, и хмурые матросы Устало поторапливали нас. И вдруг такой повеяло с полей Тоской любви! Тоской свиданий кратких! Я уплывал... все дальше... без оглядки На мглистый берег юности своей.
— 5 —
На этот раз встреча с морем, о котором так мечтал Рубцов и в детдоме на берегу Толшмы, и в полуразрушенном, превращенном в лесотехникум старинном монастыре, состоялась...
Забрызгана крупно и рубка, и рында, Но час отправления дан! И тральщик Тралфлота треста «Севрыба» Пошел промышлять в океан...В этих рубленых стихах, которые будут написаны десять лет спустя, энергии и пафоса больше, чем личного духовного и житейского опыта, и не случайно, как только романтический пейзаж заселяется людьми, стихотворение проваливается, строчки разбухают случайными, поддерживаемыми лишь ритмом, а не внутренней логикой, словами.
Личностное, лирическое задавлено в этих стихах Рубцова мощной романтической антитезой: слабый, но бесстрашный человек и безграничное, суровое море, которое все-таки покоряется отважным морякам:
А волны, как мускулы, взмылено, рьяно, Буграми в суровых тонах ходили по черной груди океана, И чайки плескались в волнах...Несовпадение образа лирического героя «морских» стихотворений с самим Рубцовым поразительно. И оно многое позволяет понять в рубцовском характере...
Так беспощадно-жестоко выстраивается драматургия жизни, что говорить о самом себе Рубцов долго не решался — не хватало сил...
Как вспоминает капитан РТ-20 «Архангельск» А. П. Шильников, Рубцов был самым низкорослым в команде. Когда боцман Голубин выдал ему робу — а советская швейная промышленность, как известно, шила одежду в основном на богатырей! — Николай буквально утонул в ней.
Хорошо, что жена механика РТ-20 пожалела Николая и ушила казенную робу, чтобы он мог носить ее...
Даже эти бытовые подробности начала морской одиссеи Николая Рубцова, мягко говоря, не вполне соответствуют облику героя морского цикла — «юного сына морских факторий», который хочет, «чтобы вечно шторм звучал»...
И здесь уместно напомнить, что физическое развитие многих русских детей, выросших в годы войны, было настолько замедленным, что в школу тогда брали с восьми лет, позднее призывали и в армию...
Сравним две даты...
12 сентября 1952 года Николай Рубцов пишет заявление на имя начальника Тралфлота И. Г. Каркавцева: «Прошу зачислить меня на работу, на тральщик в качестве угольщика».
А 23 июля 1953 года, в самый разгар навигации, Рубцов увольняется с тральщика...
В месяцы, заключенные между этими датами, вместились и оформление на работу, и получение формы, которую надобно было ушивать, и наступившая зима... Получается, что в плаваниях Рубцов провел совсем немного времени.
И здесь нужно удивляться не тому, что всего несколько месяцев продержался Николай Рубцов в должности «угольщика», а тому, что — вспомните его полуобмороки во время игры в футбол на техникумовском стадионе — почти год сумел выдержать на непосильной для него работе.
Вспоминая через десять лет о тральщике, Николай Рубцов напишет:
Никем по свету не гонимый, Я в этот порт явился сам В своей любви необъяснимой К полночным северным судам.Стихотворение написано с бесшабашной, характерной для Рубцова начала шестидесятых, удалью. И тем не менее из морского цикла оно явно выпадает. Не тематически, а интонационно...
Кажется, впервые начинает явственно звучать здесь столь характерная для позднего Рубцова грустная самоирония:
Оставив женщин и ночлег, иду походкой гражданина и ртом ловлю роскошный снег —позволяющая, если не заговорить о главном в себе, то хотя бы приблизиться к главному...
И когда вдумываешься в слова: «Никем по свету не гонимый», понимаешь, что это не просто красивый, романтический штамп, а беспощадная истина рубцовской жизни.
Никто никогда и не гнал Рубцова...
И только в том и состояла трагедия и горечь его жизни, что в огромной стране он умудрился прожить почти всю жизнь, не имея нигде собственного угла. Поэтому «необъяснимая любовь к полночным северным судам» — понятна и объяснима. Она из тех привязанностей, что человек сам придумывает для себя. Вместо «полночных судов» могло оказаться что угодно, лишь бы при этом почувствовал себя Рубцов полноправным человеком, смог пройти независимой «походкой гражданина»...
И все-таки, хотя и перевели Николая из кочегаров в повара, а по совместительству в уборщики, работа на тральщике оказалась непосильной для него.
— Что, — спросил Алексей Павлович Шильников, прочитав написанное на четверти тетрадного листка в косую линейку заявление на расчет, — не нравится у нас, Коля?
— Нет... — смущаясь, ответил Рубцов. — Нравится. Только я учиться решил, на механика.
— Правильно... — сказал Шильников и, оглянув худенькую фигурку своего кочегара, подписал заявление.
Через три дня Николай уехал в Кировск. Решил поступить — вспомните: «Я везде попихаюсь...»! — в горный техникум.
— 6 —
Время для поездки Рубцов выбрал не самое удачное...
27 марта 1953 года, вскоре после похорон И. В. Сталина, был опубликован Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об амнистии. По этому Указу — амнистия 1953 года получила название бериевской! — из мест заключения освобождались все лица, осужденные на срок до пяти лет.
К осужденным за контрреволюционные преступления амнистия не применялась. Не подпадали под нее и такие «преступники», как та же колхозница Е. В. Овчинникова, которая отбывала 10 лет заключения за хищение пяти литров колхозного молока...
Тем не менее амнистировалось довольно много заключенных, и летом поток уголовников хлынул из лагерей. Обстановку, царящую на Кировской железной дороге, представить не трудно. В этом смысле Рубцову везло всю жизнь, всегда он оказывался в переломные моменты истории России именно там, где напряженность почти достигала предела и все видел сам, все сам перечувствовал.
На вокзале Рубцова обокрали, и добираться до Кировска ему пришлось на крыше вагона. В самом вагоне ехали амнистированные уголовники.
Вероятно, за год работы на тральщике Николаю Рубцову удалось скопить какие-то, необходимые на первое время, деньги. Но деньги тоже исчезли вместе с самодельным, «запирающимся на гвоздик» детдомовским чемоданом...
И хотя Рубцов и поступил в техникум, проучился он здесь чуть больше года.
Специальностью он избрал, как явствует из архивных записей техникума, «маркшейдерское дело». На маркшейдера учился Рубцов целый учебный год...
Жил вначале в общежитии на улице имени 30-летия комсомола, а потом — на Хибиногорской.
Однокурсники вспоминают, что хотя и старался Рубцов выглядеть бывалым морским волком, хотя и ходил в матросских клешах, тельняшке, бушлате и — непременно! — белом шарфике, но был стеснительным, довольно замкнутым и даже скрытным юношей...
Большую часть свободного времени занимался резьбой. Пока однокурсники веселились, гуляя с девушками, искусно вырезал из дерева разные фигурки...
Эти — достойные бывалого морского волка! — занятия прервали летние каникулы... Во время учебного года можно было заниматься поделками — это отвлекало от невеселых мыслей о своей бесприютности и безденежье... Но наступило лето, пришли каникулы, общежитие опустело, надо было ехать куда-то и Рубцову...
И он поехал...
В Тотьму...
Здесь Рубцов попал на выпускной вечер в педучилище.
Надо сказать, что тогда, в юности, в романтизме Рубцова явно обозначалась практическая сметка...
Вот и сейчас Николай не растерялся и объявил Татьяне Решетовой, что специально приехал в Тотьму поздравить ее с окончанием техникума.
Это сразило девушку. Теперь уже она не смогла отвергнуть ухаживания и после вечера пошла с Рубцовым. Долго бродили по берегу Сухоны, дожидаясь ночного рейса парохода на Вологду.
У церковных берез, почерневших от древности, Мы прощались, и пусть, опьяняясь чинариком, Кто-то в сумраке, злой от обиды и ревности, Все мешал нам тогда одиноким фонариком...Это автобиографическое стихотворение...
Расставаясь с Николаем, Таня обняла его и, то ли от скорой разлуки, то ли от сознания, что и ей через несколько дней придется расстаться с Тотьмой, заплакала.
И так и осталась бы эта ночь, проведенная вместе с Рубцовым под церковными березами на берегу реки, может быть, самым светлым воспоминанием Тани Решетовой, но Рубцов решил не ограничиваться достигнутым успехом.
В августе он неожиданно приехал в Космово, где жила Таня. Приехал с приятелем, который дружил с Таниной подругой Ниной Курочкиной.
Девушки как раз собирались в дорогу. После училища их распределили на работу — учить детей русскому языку в Азербайджане...
Решетовы встретили Рубцова хорошо. Танина мама, узнав, что он сирота, постаралась окружить его заботой.
Николай расчувствовался... Однажды он признался Тане, что хотел бы называть ее мать мамой. Сказал, что ему не хочется отсюда уезжать. Был август, поспела малина. С деревенскими девчатами Николай ходил по ягоды в лес.
Татьяна Решетова вспоминает, что для Николая интереснее была дорога в лес, чем сама малина.
— Смотри, какая красота! — то и дело восклицал он.
Часто сидел на берегу речки Шейбухты или уходил в поле, в рожь.
«Таким я его и запомнила... — вспоминает Татьяна Решетова. — Из-за чего-то мы поссорились с ним, как часто бывает с молодыми людьми в 18—19 лет. Компромиссов молодость не знала. Коля уехал из деревни...»
Тут первая любовь Николая Рубцова немножко лукавит. Конечно же, о причинах ссоры она догадывалась. А если не догадывалась, то только потому, что не хотела догадываться, боялась догадываться. Снова тяжело и глубоко колыхнулось возле нее смутное сиротство Рубцова и снова стало страшно молодой девушке...
Еще страшнее стало Тане, когда она снова увидела Рубцова.
Вместе с сокурсницами Таня ехала на работу в Азербайджан. Вначале пароходом до Вологды, а затем поездом через Москву. Каково же было ее удивление, когда в вагоне, едва только отъехали от Вологды, появился Рубцов с гармошкой.
«Кажется, до полуночи мы пели под гармошку наши любимые песни. Я с ним не разговаривала, побаивалась, что он поедет за мной до Баку. А ведь там и для нас с подругами были неизвестность и страх. Коля нервничал, злился. А я еще не понимала, что обманываю себя, играя в любовь. Видимо, это было очередное увлечение. Николай почувствовал это, и утром в Москве сказал мне, чтоб я не волновалась, едет он в Ташкент.
Так мы расстались в Москве с нашей юностью...»
Пароход загудел, возвещая отплытие вдаль! Вновь прощались с тобой У какой-то кирпичной оградины, Не забыть, как матрос, увеличивший нашу печаль, — Проходите! — сказал. — Проходите скорее, граждане! — Я прошел. И тотчас, всколыхнувши затопленный плес, Пароход зашумел, Напрягаясь, захлопал колесами... Сколько лет пронеслось! Сколько вьюг отсвистело и гроз! Как ты, милая, там, за березами?— 7 —
Что делал Рубцов, бросив техникум, известно только из его стихов:
Жизнь меня по Северу носила И по рынкам знойного Чор-Су.В это время Рубцов как бы растворяется в бескрайней стране и как бы перестает быть материальным телом, нуждающимся в прописке и прочих документах.
Странно, но точно такое — неведомо куда! — исчезновение мы обнаруживаем и в юности Василия Шукшина...
И есть, есть в этих исчезновениях русских писателей какая-то мистика, как и в прыжках через пролом карниза над черной бездной заброшенного храма.
Ничего не известно из этого периода жизни Рубцова... Кроме одного... Кроме того, что и в солнечно-знойных краях не сумел отогреться поэт.
В 1954 году он написал в Ташкенте:
Да! Умру я! И что ж такого? Хоть сейчас из нагана в лоб! Может быть, Гробовщик толковый Смастерит мне хороший гроб. А на что мне Хороший гроб-то? Зарывайте меня хоть как! Жалкий след мой Будет затоптан Башмаками других бродяг. И останется все, Как было На Земле, Не для всех родной... Будет так же Светить Светило На заплеванный шар земной!Впервые, в этом стихотворении, обращается Рубцов к теме смерти, ставшей в дальнейшем одной из главных в его творчестве...
С годами придут в стихи всепрощающая мудрость, философская глубина, но отчаянная невозможность примириться, свыкнуться с мыслью о смерти, останется неизменной.
И через шестнадцать лет, стоя уже на пороге гибели, Рубцов напишет:
Село стоит На правом берегу, А кладбище — На левом берегу. И самый грустный все же И нелепый Вот этот путь, Венчающий борьбу И все на свете, — С правого На левый, Среди цветов В обыденном гробу...Трудно не заметить внутреннего созвучия этих двух стихотворений, между которыми, как между обложками книги, вместилось все богатство рубцовской лирики.
И еще одно...
В Ташкенте, пусть и неловко, но очень отчетливо впервые сформулирована Рубцовым важная и для его поэзии, и для жизненного пути мысль — осознание, что он находится на «земле, не для всех родной».
Как мы уже говорили, Рубцов не сразу сумел заговорить о самом главном в себе, не сразу разглядел в своей судьбе отражение судьбы всей России, не сразу сумел осознать высокое предназначение поэта. И чудо, что далеко от родных краев, в Ташкенте, в минуту усталости или отчаяния удалось ему на мгновение заглянуть далеко вперед, заглянуть в себя будущего...
Со стихотворением «Да! Умру я!» перекликается и другое, написанное в последний год жизни поэта стихотворение — «Неизвестный».
Ситуация, в которой оказался его герой, в общем характерная для поэзии Рубцова, почти такая же, как в «Русском огоньке» или стихотворении «На ночлеге». Но стихотворение «Неизвестный» существенно отличается властным, каким-то эгоцентрическим, все замыкающим на личности героя ритмом:
Он шел против снега во мраке, Бездомный, голодный, больной. Он после стучался в бараки В какой-то деревне лесной.И если герою стихотворения «На ночлеге» почти мгновенно удается найти контакт с хозяином избы:
Подмерзая, мерцают лужи... «Что ж, — подумал, — зайду давай?» Посмотрел, покурил, послушал И ответил мне: — Ночевай! —то «неизвестного» встречают иначе:
Его не пустили. Тупая Какая-то бабка в упор Сказала, к нему подступая: — Бродяга. Наверное, вор...На первый взгляд может показаться, что «неизвестному» просто не повезло, и он напоролся на бездушных, черствых людей. Но это не так. Ведь хозяина «ночлега» немногое разнит от «тупой бабки»:
Есть у нас старики по селам, Что утратили будто речь: Ты с рассказом ему веселым — Он без звука к себе на печь.Другое дело, что «неизвестный» слишком сосредоточен, зациклен на себе и не понимает, что в неказистых с виду, угрюмых старухах и стариках живет и гордость, и благородство, — не понимает того, что открыто герою стихотворения «На ночлеге»:
Знаю, завтра разбудит только Словом будничным, кратким столь, Я спрошу его: — Надо сколько? — Он ответит: — Не знаю, сколь!(Старуха в «Русском огоньке» отвечает еще более категорично: «Господь с тобой! Мы денег не берем».)
Но ведь такие ответы, такое отношение хозяев ночлега предполагают, что их собеседник и сам погружен в стихию народной жизни, что он расслышит несказанное, не оскорбит беззащитной простоты... А когда вместо него появляется человек с психологией «сына морских факторий», этот человек рискует оказаться в пустыне своей гордыни, где и суждено завершиться избранному им пути:
Он шел. Но угрюмо и грозно Белели снега впереди! Он вышел на берег морозной, Безжизненной, страшной реки! Он вздрогнул, очнулся и снова Забылся, качнулся вперед... Он умер без крика, без слова, Он знал, что в дороге умрет.Однако в романтической антитезе непонятой личности и тупой человеческой массы смерть эта приобретает почти трагедийное звучание. Тем более что, согласно романтическому канону, даже сама равнодушная природа не остается безучастной к гибели гордого человека: «Он умер, снегами отпетый...»
И только люди: ...вели разговор Все тот же, узнавши об этом: — Бродяга. Наверное, вор.Но странно, первое чувство неприятия человеческого равнодушия, запрограммированное самой ситуацией, быстро проходит и возникает ощущение совсем другого рода.
Умер чужой человек... умер нелепо, глупо, и что же еще сказать, как можно определить отношение к чужаку людям, которые живут в рамках христианской морали и сострадания, а не в романтических антитезах?
Отношение должно быть сформулировано однозначно, ибо необходимо сразу заявить о своем неприятии произошедшего. Вот и звучит слово: «Бродяга!», а следом — уничижительное, не обвиняющее окончательно, но снимающее всякий романтический флёр дополнение: «Наверное, вор». Сказано жестко, но справедливо.
Сам по себе путь, как бы труден он ни был, не представляет нравственной ценности. Уважаем и почитаем только истинный Путь.
Зрелый Рубцов четко понимает разницу между бродягой и Путником. Отчасти понимал это, как мы видим по стихотворению «Да! Умру я!», и молодой Рубцов...
Во всяком случае в Ташкенте он почувствовал, что превращается в ненужного никому и не несущего в себе ничего, кроме озлобления, бродягу. Он почувствовал в Ташкенте, что выбранный им путь — не тот Путь, который назначено пройти ему.
И вот — поражает в Рубцове это мужество, эта внутренняя сила! — он круто меняет свою жизнь. Осознав гибельность избранного пути, переступив через обиду, смирив свою гордость, пытается он наладить отношения с родными.
В марте 1955 года Рубцов приезжает в Вологду и разыскивает здесь отца.
Сергей Багров утверждает, что у Николая «хранилось фото отца... На фотокарточке надпись: «На долгую память дорогому сыночку Коле. Твой папка. 4/III — 55. М. Рубцов».
Как проходила первая встреча с отцом, Рубцов никому не рассказывал.
Он вообще мало рассказывал о своей жизни.
И не из-за замкнутости или необщительности, а просто — трудно было говорить об этом...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О встрече Николая Михайловича Рубцова с отцом я услышал в Невской Дубровке от Валентины Алексеевны Рубцовой — жены старшего брата Николая Рубцова, Альберта...
С Альбертом Валентина Алексеевна познакомилась в 1954 году в Сестрорецке, там они и расписались.
Валентина работала на заводе имени Воскова, а Альберт — на телефонной станции. Несколько месяцев жили в комнате на почте, но пришел новый начальник, и комнату отобрали. Жить стало негде. Родители Валентины Алексеевны тоже не имели тогда угла, еще только устраивались под Ленинградом — в поселке Приютино. Родная деревня их сгорела во время войны...
Все эти подробности важны, потому что они и определят дальнейшую географию юности Николая Рубцова.
В 1955 году в Сестрорецк приезжал Михаил Андрианович.
Посмотрел, как мыкается по чужим квартирам сын, пожалел молодых и пригласил жить к себе, в Вологду. Забегая вперед, скажем, что ничего хорошего из этого не получилось, и через пару месяцев Альберт Михайлович и Валентина Алексеевна ушли из отцовского дома на частную квартиру, а потом и вообще уехали из Вологды...
Трудно сказать, чем руководствовался Михаил Андрианович, делая свое предложение. Незадолго до этого он уволился с хлопотливой, но весьма хлебной должности начальника ОРСа. История случилась темная — пропал вагон с яблоками... До суда дело не дошло, но со снабженческой работой Михаилу Андриановичу пришлось расстаться. Так что, возможно, теперь, когда был поставлен крест на карьере; Михаил Андрианович вспомнил, как хорошо жили в прежние времена большими семьями, сообща огорёвывая свалившуюся беду. И позабыл, позабыл Михаил Андрианович, что и время стало другим, да и сам он тоже изменился.
— У меня совсем ума не было, так поехали... — вздыхала, вспоминая об этой авантюре, Валентина Алексеевна, прожили они в Вологде недолго, чуть больше года...
Здесь, в Вологде, и стала Валентина Алексеевна свидетелем встречи Николая Рубцова с отцом, с братом...
— 1 —
Зима 1955 года выдалась холодная.
Вот уже и март наступил, а морозы не ослабевали...
Только что спровадила Валентина Сергеевна цыган, выпрашивавших сахар, — сахара тогда совсем не стало в Вологде — как снова заскрипел снег под окнами.
Валентина быстро выскочила на крылечко. У калитки стоял черненький, худенький парнишка в осеннем пальто, в ботинках.
— Чего? — спросила Валентина. — От своих отстал?
— Не отстал... — засмеялся парнишка. — Я вообще не цыган. Я брата разыскиваю. А вы... — он постучал нога об ногу, пытаясь согреться. — Вы не жена Альберта будете?
— Жена! — сказала Валентина. — А ты откуда знаешь?
— Я в справке адрес сестры спрашивал, Галины... А мне сказали, что только Валентина Рубцова есть. И адрес этот дали. А здесь у меня отец живет.
— Михаил Андрианович?
— Ага...
— А чего же тогда в дом не заходишь?
— А можно?
— Заходи. А то я тоже с тобой замерзла.
— А Женя? Она дома?
— Сейчас должна прийти, в магазин пошла.
— Я тогда посижу немного, погреюсь, — сказал Николай. — Ты, Валя, когда Альберт придет, покажи мне... Я ведь и не помню его...
Пока говорили, пока отогревался в домашнем тепле Николай, вернулась мачеха — высокая, светлоглазая женщина. Только взглянула на Николая и даже раздеваться не стала — вышла, хлопнув дверью.
— Куда это она?! — удивилась Валентина.
— Отца предупреждать, чтобы не оставлял меня здесь.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю... Ты мне подмигни, Валентина, когда Альберт придет... Я боюсь, что и не узнаю его...
«И вот пришел отец, — вспоминала Валентина Сергеевна. — И ведь не обнялись даже.
Сел на лавку, и сидят, разговаривают с Николаем, ну, так, будто вчера расстались.
Альберт только к пяти часам пришел...
Николай-то попросил меня подмигнуть, а только я и сообразить ничего не успела, они уже обнимаются»...
— Николай!
— Олег!
На следующий день утром Михаил Андрианович подошел к Валентине Сергеевне и сказал:
— Ты скажи Николаю, чтобы не задерживался. Пускай уезжает.
— А почему я должна ему это говорить?!
— Да потому... — ответил Михаил Андрианович, — что отец я. Мне не удобно. А тебе-то чего? Скажи...
Когда проснулся Николай, Валентина Сергеевна передала ему просьбу отца.
Думала, что рассердится, но он спокойно выслушал все, а потом сказал:
— Ты, Валентина, не беспокойся. Я все знаю. Я брата нашел и уеду теперь, не буду стеснять никого. А на отца ты не обижайся. Он всю жизнь на легкой работе был, а теперь старый, больной, с ломом ходит... А я уеду. Я брата нашел, теперь не потеряю его.
«Вот ведь, — утирая платком слезы, рассказывала Валентина Сергеевна, — моих годов был, а уже такой умный. Не стал никого осуждать. Серьезно так рассудил. Я уже после подумала, какой он молодец, что не дал мне разругаться. Дала ему мамин адрес в Приютино. Какие у меня копейки были, отдала, и он уехал. А мы потом с Альбертом тоже ушли на частную квартиру...»
О взаимоотношениях братьев Рубцовых разговор еще впереди, а пока вернемся в 1955 год, к Николаю Михайловичу Рубцову, разыскавшему, наконец, и отца, и брата...
Подросток с чуть оттопырившимися ушами, с густыми и широкими, но короткими бровями — таким Рубцов запечатлен на фотографии в паспорте — настороженно смотрел на незнакомого, возбужденно-веселого мужчину, который был его отцом.
Михаил Андрианович, должно быть, не очень-то уютно чувствовал себя под острым, напряженным взглядом сына.
В прежние времена он занимал хорошую должность, работал в ОРСе Северной железной дороги, знал, как надо поставить себя, как говорить с начальством и подчиненными, но этих знаний не хватало для того, чтобы понять, как вести себя в нынешней ситуации. К тому же то и дело заглядывала в комнату Женя. Неприязненно смотрела на пасынка — вздыхала тяжело.
И вот вроде бы и дом у Михаила Андриановича был свой, но Рубцову места в нем не нашлось. Светлоглазая мачеха не собиралась принимать пасынка.
— Я твоих всех обстирывать не собираюсь! Не для этого я выходила замуж за тебя... — предупредила она Михаила Андриановича, когда вела его домой со станции. Она хотела добавить еще, что и не за разнорабочего выходила она замуж, а за начальника ОРСа, но только взглянула на понурившегося мужа и поняла, что этого не надо говорить, что об этом Михаил Андрианович и думает сейчас.
— В общем так... — смягчилась она. — До утра пусть ночует у нас, но утром ты ему скажи: до свидания... А не захочет уходить, я ему сама скажу все, что про вас думаю...
Однако до скандала, как мы знаем из рассказа Валентины Алексеевны, дело не дошло. Выручил отца сам Рубцов. Он ушел из дома, в котором уже во второй раз не нашлось ему места. Николай, как свидетельствует Валентина Рубцова, все понимал.
Но понимать и прощать — разные вещи...
Простить отца Рубцов не мог, и поэтому в 1957 году в стихотворении «Березы» он снова «похоронит» Михаила Андриановича:
На войне отца убила пуля, А у нас в деревне у оград С ветром и с дождем шумел, как улей, Вот такой же желтый листопад...Но ташкентский порыв, смирение и великодушие, проявленные Рубцовым, не пропали даром. «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Не сумев сблизиться с отцом, Николай подружился с Альбертом.
Тот и помог на первое время младшему брату хоть как-то устроиться на этой, «не для всех родной» земле.
— 2 —
Если сосчитать, где и сколько жил Рубцов, то получится, что в деревне в общей сложности поэт провел не более десяти лет, считая и детдомовские годы.
Три года прожиты в Ленинграде, два — в Москве, пять — в Вологде. Всего на большие города падает десять лет. Плюс пять лет службы на флоте и работы на тральщике...
Оставшиеся двенадцать лет — самый долгий срок — пришлись на небольшие города и поселки...
И в этом судьба Рубцова перекликается с событиями, происходящими в стране.
Сговорившись с кремлевскими вождями, московско-ленинградские «ученые» на протяжении всех лет советской власти планомерно уничтожали, сводили на нет корневую, деревенскую Россию. Этапы раскулаченных мужиков и эшелоны спецпереселенцев сменились в хрущевско-брежневские десятилетия еще более мощными потоками мигрантов из деревень. Вчерашние хлеборобы пополняли армии лимитчиков, заселяли небольшие, разбухающие от великих строек городки и поселки.
В таком поселке Приютино под Ленинградом и обосновались родители Валентины. Сюда с мужем перебралась и она, когда выяснилось, что с Михаилом Андриановичем и Женей ей не ужиться.
Альберт устроился слесарем на артиллерийский полигон, а жить их определили в семейное общежитие, размещавшееся в старинном барском доме...
Это была знаменитая усадьба первого директора Императорской Публичной библиотеки, президента Академии художеств, секретаря Государственного совета Алексея Николаевича Оленина...
Здесь гостили Александр Пушкин и Карл Брюллов, Михаил Глинка и Иван Мартос, Адам Мицкевич и Федор Толстой... Как писал Константин Батюшков:
Мечтает там Крылов Под тению березы О басенных зверях И рвет парнасски розы В приютинских лесах. И Гнедич там мечтает О греческих богах, Меж тем как замечает Кипренский лица их И кистию чудесной, С беспечностью прелестной, Вандиков ученик, В один крылатый миг Он пишет их портреты...Но все это было давно...
Давно пришел в запустение прекрасный английский парк, давно заросла камышами речка Лубья...
Над усадьбой и над поселком в пятидесятые годы распростер свои крылья испытательный артиллерийский полигон. Все строения Оленинской усадьбы — господские дома, людская, кухня-прачечная — принадлежали ему.
Во флигеле, напротив бывшего барского дома, было еще одно общежитие: в большой — 96 квадратных метров — комнате, перегороженной шкафами и занавесками, разместилось двенадцать человек. Двое — с семьями. Здесь, в этой комнате, поселили и Николая Рубцова. Он тоже устроился на полигон слесарем-сборщиком. Произошло это, если судить по «Личному листку по учету кадров СП СССР», в марте 1955 года...
Сейчас дом, где жил Рубцов, реставрируется. Или разрушается... Собственно говоря, слова эти давно уже стали у нас синонимами.
По узенькой лестнице поднялись мы на второй этаж, заглянули в комнату-общежитие. Полы там уже сняты, и проемы окон как-то неестественно поднялись к потолку.
Старого (тысяча девятьсот пятьдесят пятого года) Приютино уже не существует. Давно выселены прежние жители, но — странно! — самые близкие Николаю Рубцову все еще живут в поселке...
Уточняя, где находится дом номер два, Николай Тамби, мой товарищ, с которым мы приехали в Приютино, обратился к парню, возившемуся во дворе другого, запущенного, но еще не взятого в капитальный ремонт флигеля.
— А вы подождите немного... — ответил тот. — Сейчас Николай приедет. Вроде он жил в том доме...
— Ему не Беляков фамилия? — спросил я.
— Беляков... — ответил парень и удивленно посмотрел на меня. — А вы откуда знаете?
О Николае Белякове я знал из книг Николая Рубцова, из его:
Не подберу сейчас такого слова, Чтоб стало ясным все в один момент. Но не забуду Кольку Белякова И Колькин музыкальный инструмент... —стихотворения, написанного в Приютино в 1957 году.
— А-а... — сказал парень. — Вон там Колькина мать сидит. Поговорите, если желание имеется.
Действительно, в глубине двора грелась на солнце древняя старушка, а у ног ее, теребя сползшие чулки, крутился толстый, похожий на мячик щенок.
— Колюшка-то? Рубцов-то? — переспросила бабушка, когда нам удалось докричаться до нее. — Как же, как же не помнить... А где он сейчас-то? Я уже давно его не встречала...
Мы не стали рассказывать, что — увы! — уже давно умер Николай Рубцов, и его именем названа улица в Вологде... Бронзовый, сидит сейчас Николай Михайлович на берегу холодной реки... Восьмидесятичетырехлетняя старушка уже не способна была постигнуть такое. Она вообще лучше помнила, что было в пятьдесят пятом году, чем то, что случилось вчера.
Она и нас, похоже, приняла за приятелей Рубцова.
— Дружил Рубцов с Колькой моим... — сказала она. — Такой паренек хороший...
Зато Николай Васильевич Беляков разговорился не сразу. Жизнь у него сложилась нелегко, да и не очень-то он готов был к разговору...
Хотя и слышал Николай Васильевич о Рубцове по радио, но настоящая слава поэта, похоже, еще не скоро докатится до Приютино.
Разговорился Николай Васильевич в парке, когда вспомнил вдруг — слышанное еще тогда, в пятьдесят пятом году, — рубцовское четверостишие:
И дубы вековые над нами Оживленно листвою трясли. И со струн под твоими руками Улетали на юг журавли...— Ну, как жили? — рассказывал он. — Бродили, колобродили, по ночам не спали. Рубцов много рассказывал, стихи читал, вспоминал детство свое, какое оно у него было плохое — рано остался без родителей. У них было два брата: он и Олег...
— Альберт... — поправил я.
— Олег, по-моему... — сказал Беляков. — Он уже женат был, жил тут в господском доме, у них там типа комнаты было... А Николай в нашем доме поселился, в общежитии. Я ему понравился, он мне понравился, в общем, подружились. Другие-то на Николая не обращали внимания, потому что он привязчивый был, все старался свои стихи прочесть... А у людей свои заботы... Ну а нашел меня, так мы с ним частенько в этом парке сидели, разговаривали. Стихи свои прочитает, а потом спрашивает: нравится? Нравится, нормально, конечно... А он говорит: пойдем, я тебе еще почитаю. Так и ходим всю ночь с ним. Можно сказать, частенько ходили... Поэму свою читал. В ней все с самого малого детства, как он из детдома. Про себя и про брата. Они как раз вместе и росли там. Кормиться было трудно, так они убегали с братом. В общем, читал там о каждой корочке хлеба. Рассказывал эту поэму очень долго... А вообще нормальный парень был. Дружбу любил настоящую. Не любил, когда изменяют ему... Он верил в человека...
Этот бесхитростный рассказ Николая Васильевича Белякова я записал на магнитофон, и только дома, перенося на бумагу, услышал громкие, порою заглушающие нашу беседу, голоса птиц. Такие же птицы пели здесь, наверное, и Николаю Рубцову...
— Вы, наверное, и в армию его провожали? — спросил я.
— Нет... Ну, в общем, об этом не обязательно знать, но заступился я за одного товарища, и, короче, посадили меня. Так что, скорее, это он меня провожал, ну и потом писал письма. И с армии писал. Такие письма были ужасно-прекрасные...
— А они не сохранились?
— Нет... Я потом снова сидел... Этот дом разломали, а мы во флигель перебрались. Куда-то исчезло все...
— А вы после встречались с Рубцовым?
— Да... Он приезжал сюда, когда узнал, что я освободился. И вот такой интересный эпизод был...
Николай Рубцов, направляясь из Ленинграда в Приютино, сошел тогда с электрички на станции Бернгардовка и решил проголосовать на шоссе. Поднял руку. Остановилась машина.
— Куда?
— В Приютино...
— Ну, садись...
— А это хмелеуборочник, в общем, был... — рассказывал Николай Беляков. — А Коля поддавший. Ну и отвезли его в вытрезвитель... А у Рубцова с собой сто пятьдесят рублей денег. Так пока его не раздели, восемьдесят рублей он спрятал в валенок. А остальные отдал. Ну, и, короче говоря, когда оттуда вышел, деньги, которые сдавал, ему вернули, а те, что в валенке были, — исчезли. Он ко мне наутро пришел. В дырявых валенках. Вот честно говорю — дырявые пятки. Сто пятьдесят рублей, а пятки на валенках рваные.
— А в каком это году было?
— Сейчас соображу... В шестьдесят втором я женился... Значит, шестьдесят четвертый, примерно... Точно не помню, но вроде так... У меня сынишке уже года два исполнилось. Так вот, пришел Рубцов и жалуется, так, мол, и так, в такую историю попал... Ну, короче говоря, взяли мы, это дело отметили... И он уехал в Вологду. Обещал приехать. Даже, по-моему, это не шестьдесят четвертый был, а где-то побольше, потому что больше я его не видел...
— Может, он из Москвы приезжал?
— Да. Он учился там где-то... Значит, это было позже. Из Москвы он тоже ко мне приезжал, а это было позже... Потому что у меня опять неприятность получилась. И, короче, я уже на зоне узнал о его кончине. Такой журнал есть — «Молодая гвардия»... Там некролог написан был: трагически погиб... Я потом спрашивал вологодских ребят, а они говорят: да, его жена топором зарубила...
— Задушила...
— Или задушила. Ну... Я многих вологодских ребят спрашивал: знаете такого? Да, говорят, знаем...
Николай Васильевич замолчал.
— Мама ваша его хорошо помнит... — осторожно сказал я.
— А как же... — улыбнулся Николай Васильевич. — Отлично помнит. Он мою мамку здорово любил. Сюда приходил, никогда ему ни в чем не отказывали. И он такой внимательный был... А сам весельчак, на гармошке любил играть. Ночами тут покоя не давал некоторым. Гармошка, она ведь громко играет, а Николай из-за Таи очень сильно тогда переживал. Очень расстраивался. Он мне и в тюрьму писал об этом, и сюда... Почти все письма стихами были написаны.
О Тае я тоже кое-что знал.
В Государственном архиве Вологодской области, в фонде Рубцова, я видел фотографии этой красивой девушки, которые Рубцов сберег в своих бесконечных странствиях.
— А где она теперь живет? — спросил я. — В Ленинграде?
— Тая-то? Нет... Здесь она живет. Поедемте, покажу.
— 3 —
И вот мы в квартире Таи Смирновой — сейчас Таисии Александровны Голубевой.
Момент для встречи выбран неудачно. Еще не исполнилось сорока дней со смерти мужа Таисии Александровны, и на телевизоре, рядом с его фотографией в рамке, стоит рюмка, прикрытая ломтиком хлеба. Не вовремя мы пришли — откуда же знать? — но Таисия Александровна побеседовать согласилась.
Чуть смущаясь, чуть посмеиваясь над собою, девятнадцатилетней, она роется в альбоме, вспоминая давние пятидесятые годы.
— Рубцов веселый был. Такой веселый, ой! Выйдешь, бывало, на крыльцо, а он уже на гармошке играет. И на танцах играл. Тут парк такой хороший был, так народ к нам даже из города приезжал. Это сейчас он заросший.
Об этих танцах в приютинском парке Николай Рубцов вспоминал и в последний год своей жизни:
«Вечером придем с ребятами, девок еще ни одной нет. Я начинаю на гармошке играть, чтоб Тайка слышала. Потом отдам гармошку приятелю, чтоб тот играл, а сам — к Тайкиному дому. Проберусь как-нибудь задворками, и прямо — к крыльцу. Туман стоит, вблизи даже плохо видно. Смотрю — стоит Тайка на крыльце в белом платье и гармошку слушает. Она думает, что я играю, а я вот он где! Сердце стучит, на душе хорошо! Выскочишь из тумана и к ней. Она вся испугается, а я смеюсь. Хорошо было!»
— И под гармошку танцевали? — спросил я у Таисии Александровны.
— Угу... Еще радиола была. А так вообще и под гармошку.
— А Рубцов не писал из армии?
— Писал... Только сейчас уже не сохранилось ничего. Вот... Только фотографии. Тридцать ведь лет прошло.
И она положила на стол четыре фотографии. На одной — Николай Рубцов в куртке-«москвичке» с белым воротником, с густыми еще, зачесанными на бок волосами. Он лежит перед кустом в траве и чуть усмехается. На обороте его рукой написано:
«Мы с тобою не дружили, Не встречались по весне, Но того, что рядом жили, Нам достаточно вполне!Тае от Коли. 29/VIII — 55 г. Приютино».
Через два дня Тая подарит Рубцову свою фотографию, ту самую, которая хранится в ГАВО в Рубцовском фонде. На ее обороте надпись:
«На долгую и вечную память Коле от Таи.
30/08 - 55 г.
Красоты Приютино здесь нет, она не всем дается, зато душа проста и сердце просто бьется».
С этой фотографией и ушел Николай Рубцов в армию. Остальные его фотографии присланы уже с Северного флота. На одной — снова стихи:
«Не стоит ни на грош Сия открытка... Все ж Как память встреч случайных. Забытых нами встреч, На случай грусти тайной Сумей ее сберечь.1/I — 1956 г. Тае от Коли».
— 4 —
История юношеского романа, который пережил Николай Рубцов в Приютино, обыкновенна, почти банальна...
— Как-то у нас ничего серьезного и не было... — рассказывает Таисия Александровна. — Почему-то не нравился он мне... Девчонка была, чего понимала? Мы же не знали тогда, что он такой знаменитый станет. Ничего у нас с ним не было. В армию проводила и все... А потом? Потом я встретилась с одним человеком...
— А Рубцов приезжал к вам?
— Приезжал... Знаете, какой он потом пьяница был? Он в таком виде приезжал, что мы даже перепугались все. Весна была, а он в рваных валенках, из кармана бутылка торчит... И говорит моему мужу: выйти, мне надо поговорить с ней. А я говорю: «Нет! Чего нам с тобой разговаривать?» Николай тогда посмотрел на мужа и пальцем погрозил: «Смотри, если только ее обидишь, из-под земли достану...»
Я пишу это и смотрю на подаренную Таисии Александровне фотографию молодого Рубцова.
В «москвичке», с белым воротником, перепоясанный ремнем с неуклюжей, бросающейся в глаза пряжкой, девятнадцатилетний Рубцов крутит в руках травинку и смотрит прямо в объектив фотоаппарата. Через несколько дней ему идти в армию. Но это не пугает его. Растерянности нет в его взгляде. Здесь, в Приютино, его будут ждать родные, друзья, любимая девушка...
И не случайно, что на побывку в пятьдесят седьмом году Рубцов едет сюда, как некогда ездил на каникулы в Николу...
Соловьи, соловьи заливались, а ты Заливалась слезами в ту ночь; Закатился закат — закричал паровоз, Это он на меня закричал!.. Да, я знаю, у многих проходит любовь, Все проходит, проходит и жизнь, Но не думал тогда и подумать не мог, Что и наша любовь позади. А когда, отслужив, воротился домой, Безнадежно себя ощутил Человеком, которого смыло за борт: «Знаешь, Тайка встречалась с другим!»Разумеется, в лирическом стихотворении свои законы отражения действительности. Поэт изменяет, деформирует на свой лад реальные события, как того требует драматургия стиха, но живая, не стихающая боль оживает в душе и, сминая напевно-лирический настрой, взрывается криком: «Знаешь, Тайка встречалась с другим!»
Кто знает, любила ли Тая Рубцова? Она и сама сейчас не помнит этого, потому что молодого Рубцова заслонил страшный, пьяный Рубцов, который вломился в ее квартиру уже в шестьдесят пятом году.
Скорее всего, любила... И, изменив, боялась. Этот страх Таисия Александровна помнит и сейчас:
«С армии-то когда пришел Рубцов, так он идет по дороге с чемоданом, а я убежала из дома — спряталась».
А может быть, все было, как в стихах Рубцова:
Закатился закат. Задремало село. Ты пришла и сказала: «Прости». Но простить я не мог, потому что всегда Слишком сильно я верил тебе! Ты сказала еще: — Посмотри на меня! Посмотри — мол, и мне нелегко. Я ответил, что лучше на звезды смотреть, Надоело смотреть на тебя! Соловьи, соловьи заливались, а ты Все твердила, что любишь меня. И, угрюмо смеясь, я не верил тебе. Так у многих проходит любовь... В трудный час, когда ветер полощет зарю В темных струях нагретых озер, Птичьи гнезда ищу, раздвигая ивняк, Сам не знаю, зачем их ищу. Это правда иль нет, соловьи, соловьи, Это правда иль нет, тополя, Что любовь не вернуть, как нельзя отыскать Отвихрившийся след корабля?Эти риторические, обращенные то к соловьям, то к тополям, вопросы совсем не риторичны для Рубцова, который ощущает себя «человеком, которого смыло за борт».
Не трудно заметить, что история приютинской любви Рубцова, по сути дела, во всех деталях повторяет рисунок юношеского романа с Татьяной Решетовой...
Увы... Детдомовское детство было тяжело еще и тем, что даже элементарного представления об азбуке человеческих отношений выходящему в самостоятельную жизнь воспитаннику не давало. Для молодого Рубцова характерно суровое неприятие даже малейших компромиссов, полное отсутствие умения подлаживаться под характер другого человека. Разумеется, качества, может быть, и не самые плохие, но доставляющие обладателю их массу хлопот. Тем более такому ласковому и влюбчивому, каким был Рубцов.
Бушующая в душе любовь не способна смягчить его. Наоборот, Рубцов словно бы упивается своей горечью.
Стихотворение «Соловьи» написано в 1962 году, когда время все-таки смягчило боль разрыва, а в пятьдесят седьмом свой гнев Рубцов выплеснул в есенинском дольнике. Над стихами стоит посвящение — «Т. С.» — Таисии Александровне, носившей в девичестве фамилию Смирнова.
Хочешь, стих сочиню сейчас? Не жаль, что уйдешь в обиде... Много видел бесстыжих глаз, А вот таких не видел! Душа у тебя — я знаю теперь — Пуста и темна, как сени... «Много в жизни смешных потерь», —Верно сказал Есенин.[6]
Не лучший, конечно, избрал путь Николай Рубцов, чтобы вернуть расположение возлюбленной...
Как, впрочем, и когда, не надеясь ни на что — и все-таки надеясь! — пришел в ее дом в рваных валенках, с торчащей из кармана поллитровкой...
— Я чего-то раньше и вообще не замечала, чтобы кто-то особенно пил тогда, — рассеянно, словно позабыв, что разговаривает с нами, произнесла Таисия Александровна. — А про Рубцова все считали, что он детдомовский, что он и не пьяница совсем... И вот явился в таком виде. Весна. Сыро. А он в валенках без галош. Весь мокрый. Бутылка в кармане. Я потом об этой встрече его родственнице рассказала, которая на Котовом поле живет. А она говорит: никогда не поверю. Он, знаешь, как ходит? С тростью, в шляпе, разодет весь... Ну, не знаю, говорю, я его таким никогда не видела... А он что? Правда, с тростью ходил? В шляпе?
— 5 —
Нет... Насчет трости я ничего не слышал.
Николай Михайлович Рубцов вообще не очень-то заботился о своей внешности. Это уже на памятнике приодели его, обули в красивые туфли, накинули на плечи элегантное пальто... А в жизни все было не так красиво, не так изящно...
А шляпа была. Шляпу Рубцов носил. И возле могилы отца он стоял в шляпе на голове, и вообще...
Про эту шляпу можно даже прочитать в воспоминаниях Владимира Степанова, который познакомился с Рубцовым летом 1967 года.
Вместе с ребятами из «Вологодского комсомольца» он отправился пообедать в ресторан «Чайка». И все время с удивлением поглядывал на Рубцова, «который и в ресторане не снимал с головы помятую соломенную шляпу. Но и шляпа не скрывала, что голова пострижена наголо».
Заметив удивление Степанова, Рубцов, смущаясь, рассказал, что накануне он рано утром приехал из Москвы...
К знакомым идти было рано, а погода благоприятствовала, и Рубцов отправился в скверик. Постелил на траву пиджачок и открыл бутылку вина.
Он совсем немного и выпил, когда заметил, что с дорожки его разглядывает молодая женщина. Или бутылку, к которой время от времени Рубцов прикладывался... Издалека определить, куда именно смотрит женщина, было трудно, и Рубцов поманил ее, чтобы подошла ближе. Женщина подошла и села рядом. Поговорили. Рубцов почитал стихи...
Когда вино в бутылке закончилось, женщина сказала, что стихи ей понравились и она не против продолжения знакомства...
Рубцов обрадовался.
Оставил женщину сидеть на своем пиджачке и сторожить чемоданчик, а сам побежал в ларек еще за одной бутылкой вина.
Когда же вернулся, женщины в скверике уже не было. Не было и чемоданчика. Пиджачка тоже не было...
Сообразив, что далеко уйти с чемоданом женщина не могла, Рубцов бросился догонять ее и на бегу врезался в милиционеров, а те, не долго думая, ухватив его под руки, отвели в отделение.
В общем, повторилась почти та же история, о которой рассказал Н. В. Беляков. Разница состояла только в том, что теперь Рубцов был почти трезвым и без денег. Тем не менее исход оказался столь же печальным.
Пока ждали начальство, пока где-то разбирались в документах, поэта остригли. И только потом, увидев, что он не пьян и не буянит, а главное, сообразив, что он ничего нарушающего общественный порядок не совершил, отпустили.
Так что носил Рубцов шляпы... Как не носить... Кстати, как-то я прочитал в Вологде объявление: «Ателье головных уборов переехало на улицу Николая Рубцова». Тут бы и посмеяться, как умеет жизнь закручивать сюжеты, только почему-то было это совсем не смешно.
Невеселым оказался отпуск матроса Рубцова в 1957 году... Разрыв с Таей он переживал так тяжело еще, может быть, и потому, что все рушилось, ничего не оставалось от жизни, которую он сам для себя придумал:
Когда-то я мечтал под темным дубом, Что невеселым мыслям есть конец, Что я не буду с девушками грубым И пьянствовать не стану, как отец. Мечты, мечты... А в жизни все иначе. Нельзя никак прожить без кабаков. И если я спрошу: «Что это значит?» — Мне даст ответ лишь Колька Беляков.Но — увы — и с другом было не посоветоваться, друг тянул свой срок в лагерях. Да и брату, Альберту, который с каждым годом все сильнее ощущал, что вся жизнь у него «в тумане», тоже было не до Николая.
Ты говорил, что покидаешь дом, Что жизнь у тебя в тумане, Словно о прошлом, играл потом «Вальс цветов» на баяне...
«Словно о прошлом», нужно было научиться и Рубцову думать о Приютино, которое уже привык он считать родным. Еще одна местность могла стать его домом и не стала им, еще один вариант благополучной жизни был перечеркнут безжалостной судьбой.
Я люблю, когда шумят березы, Когда листья падают с берез. Слушаю — и набегают слезы На глаза, отвыкшие от слез...Альберт исполнил свое обещание. Перебрался в поселок Невская Дубровка...
А Николай Рубцов, хотя и приезжал после пятьдесят седьмого года в Приютино, но только в гости.
Об этом и думал я, разговаривая с Таисией Александровной Голубевой.
— А больше, после того, вы его не видели?
— Нет... — вздыхая, ответила она. — Больше не приезжал сюда...
Не приезжал... Зато сколько раз вспоминал о Приютино, сколько раз переносился душой в эти места, которые могли стать его домом. И разве не о старинном приютинском парке вспоминал Рубцов за три года до смерти, когда писал:
Песчаный путь В еловый темный лес. В зеленый пруд Упавшие деревья. И бирюза, И огненные перья Ночной грозою Вымытых небес! Желтея грустно, Старый особняк Стоит в глуши Запущенного парка...— 6 —
В Рубцовском фонде в Государственном архиве Вологодской области хранится снимок: мельтешащие над морем чайки, а вдалеке — крохотное, как эти чайки, суденышко. На обороте рукой Рубцова написано:
«Море черного цвета. Снег на горах. Это начало лета В наших местах! г. Североморск».
В Североморске, визирщиком на эскадренном миноносце «Острый», и проходила флотская служба Николая Михайловича Рубцова. Служба была суровая, края тоже суровые, но — странно! — такое веселое лицо у Рубцова только на флотских фотографиях.
Об этом же и воспоминания людей, знавших Николая Рубцова в те годы...
«Думаю, что время службы на флоте, — пишет Борис Романов, — было для него самым благополучным — в бытовом отношении — за всю-то его несладкую жизнь...»
Психологически объяснимо, почему именно тогда Рубцову удалось преодолеть комплекс «несчастливости». На флоте Рубцов впервые оказался в равном положении со своими сверстниками. Годы детдома — там равенство было заведомо ущербным — не в счет... А здесь, на службе, хотя и имели товарищи Рубцова свой дом, любящих родителей, но это не создавало им никаких преимуществ по сравнению с Рубцовым. Конечно, они грустили, тосковали о близких, но грустить было не заказано и Рубцову. Более того, погружаясь мечтами в выдуманную жизнь, он грустил еще слаще:
Как живешь, моя добрая мать? Что есть нового в нашем селенье? Мне сегодня приснился опять Дом пустой, сад с густою сиренью.Ни в коей мере не идеализируя ранние стихотворные опыты Рубцова, все же надо сказать, что до армии он писал иначе. Может быть, корявее, но честнее... Самообман, опасный для любого человека, для такого поэта, как Рубцов, был опасен вдвойне.
Конечно, Рубцов играл... Хотя бы в стихах, хотя бы в словах пытался примерить на себя облик человека, у которого есть мать, семья... Но в том-то и беда, что в этой игре легко перескользнуть через запретную черту. Даже родной язык начинает изменять Рубцову, и немецкое — «что есть?» — появляется в его языковых конструкциях.
Понятно, что так играть нельзя. Игра эта опасна прежде всего для собственной души и — случайно ли? — флотские стихи Рубцова поражают своей внутренней пустотой:
Улыбку смахнул командир с лица: Эсминец в атаку брошен. Все наше искусство и все сердца В атаку брошены тоже.Чужие слова, отработанные, ставшие штампами, мертвые схемы полностью вытесняют из стихов голос самого Рубцова, превращают стихи в графоманские опусы:
Я труду научился на флоте, И теперь на любом берегу Без большого размаха в работе Я, наверное, жить не смогу...Что ж, и такие строки были в творчестве поэта, чей путь всегда неоднозначен и ясен. Идти по этому Пути было трудно... И — увы — часто сворачивал Рубцов на уводящие в бок кривые тропинки, и только чудом — вот оно истинное Чудо! — удавалось ему вернуться назад.
Здесь хочется сделать небольшое отступление...
Биография Рубцова не вмещается в традиционные схемы. И прежде всего потому, что, прослеживая путь поэта, невозможно обнаружить благостного единения его с народом. Напротив, оказываясь «в народе», Рубцов почти всегда чувствовал себя неуютно... Подобные факты замалчиваются, ибо разрушают благостную схему, тот патриотический «имидж», который сам поэт и придумал.
Но кто решил, будто народ врачует душу художника, утешает его?
Представление это тем более неверно, что понятие «вечный народ» (тот народ, который был, есть и будет) наши идеологи склонны порою зауживать. Народом они называют лишь современников поэта. А современникам не хватает дистанции времени, чтобы по достоинству оценить художника. И надо сказать, что это «небрежение» современников необходимо прежде всего самому художнику, ведь в столкновении, в жесткой ломке судьбы и прозревает душа.
Разумеется, у девятнадцатилетнего Рубцова не было бесстрашия, необходимого для решительного выбора единственного Пути. Это мужество появится позднее, в шестьдесят четвертом году, а пока... Пока он просто стремится быть таким же, как все.
Но в армии как раз и требуют, чтобы ты был таким, как все. Так что гармония получалась полная — внутренний настрой сливался с требованиями действительности... Поэтому-то, наверное, и чувствовал себя Рубцов все годы службы счастливым...
Он отличался веселостью и общительностью. Смело вступал в любой разговор о литературе, о поэзии... И замыкался только, когда начинали расспрашивать его о семье, о родителях.
Однажды Рубцов спросил у Валентина Сафонова:
— У тебя они живы?
— Живы.
— Отец воевал?
Сафонов молча кивнул, испытывая, как он вспоминает, странное стеснение и, не решаясь рассказать, что не только отец — вся семья у них, включая и его, и брата Эрика, прошла через войну, начиная с самого первого дня. И пережили многое... И за колючей проволокой довелось посидеть, и в партизанском отряде побывать...
— Ты счастливый: отец и мать есть — не пропадешь! — сказал Николай. — А я вот всю жизнь один. И всю жизнь боюсь затеряться. В детдоме боялся... И потом, когда бродяжил, менял адреса и работу. И в учебке тоже, когда выдернули из привычной одежки...
Зато самой службы Рубцов не боялся. Благодаря детдомовскому опыту, к флотской жизни он был подготовлен лучше других.
Московский прозаик Евгений Чернов, человек весьма наблюдательный, запомнил драку в общежитии Литинститута, в которой участвовал и Николай Рубцов... Более всего поразило Чернова, как хорошо тщедушный Рубцов «держал удар». То есть ни на мгновение не терялся от боли, и по мере своих сил наносил удары более мускулистым противникам.
Что и говорить, «держать удары» жизнь научила Рубцова, и суровость флотской службы не пугала его... Тем более что складывалась она вполне благополучно.
Адмирал Иван Матвеевич Капитанц, командовавший в 1958 году эсминцем «Острый», хорошо запомнил старшину 2-й статьи Рубцова.
«Среднего роста, худощавый, подтянутый, скромный и вежливый, готовый всегда выполнить приказ. Он был душою коллектива в кубрике, к нему тянулись моряки, он им читал стихи. Рубцов был очень собран и организован, флотскую службу любил, особенно дальние походы... Он любил море».
Очень скоро, как отличник боевой и политической подготовки, старшина Рубцов получил право посещать занятия литературного объединения при газете «На страже Заполярья».
Чему учили на занятиях литобъединения, видно из заметки, напечатанной в газете:
«У ФЛОТСКИХ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ
В минувшее воскресенье члены литературного объединения при газете «На страже Заполярья» собрались на очередное занятие...
С поэтами беседовал Зелик Яковлевич Штейман, уже знакомый членам литобъединения по встрече в прошлом году. Он конкретно разобрал некоторые произведения старшего матроса Николая Рубцова... Речь шла о поэтическом мастерстве, о борьбе за образность и действенность стихов, о точности словоупотребления, о необходимости высокого душевного накала при создании каждого произведения и большей требовательности к себе — требовательности в свете решений Коммунистической партии».
Стоит ли удивляться, что Рубцов — этот тончайший лирик, лирик по своей природе своей, писал тогда:
От имени жизни, идущей в зенит Расцвета, — в заветное завтра, Это же сила мира гремит В наших учебных залпах.Впрочем, в газете «На страже Заполярья» публиковались и не такие шедевры Николая Рубцова. Политуправление постоянно поручало кружковцам подготовку различных «политических» листовок, и Рубцов отличился и на этой стезе.
3 апреля 1959 года вместе с капитаном В. Лешкиновым, старшиной второй статьи Р. Валеевым, матросом К. Орловым Рубцов напишет «Открытое письмо начальнику штаба ВМС США адмиралу Арлейгу Бэрку»:
Известно всем — СССР Ракетами силен. И можем мы, почтенный сэр, Любой достать район.Стихи эти не нуждаются в комментарии. Такое ощущение, что автор полностью освободился от ненужного груза человеческих чувств и ощущений...
Удивительно, как меняется лицо Николая Рубцова за годы службы...
Бесследно исчезает мальчишка в бескозырке, что запечатлен на фотографии «Привет из Североморска»... Вместо него — незнакомый нам человек со значком отличника ВМФ на суконке...
Конечно, неверно было бы думать, что Рубцов искренне верил в то, что писал по заданию политуправления... Но и считать, что стихотворные опусы тех лет никак не задевали душу, тоже неверно. Многое в этих стихах — искреннее...
Осенью пятьдесят шестого года, в связи с египетскими событиями (Израиль развязал войну против Египта, и на стороне Тель-Авива выступили англичане и французы) по флоту была объявлена повышенная готовность.
«Тревоги игрались поминутно, — вспоминает Валентин Сафонов, — спали матросы не раздеваясь, да и громко это сказано — спали. Счастлив уже, коли вырубишься на полчаса — до очередной сирены. Мир, казалось, висел на волоске. Вот-вот полыхнет она, третья мировая»...
Так вот, в те дни Рубцов обмолвился, что написал заявление с просьбой отправить в Египет в составе интернациональной бригады.
— Ну и что у тебя вышло? — сочувственно спросил Сафонов.
— Толку не вышло, — ответил Рубцов. — Вызвал святой отец, прочел «проповедь». Тем и кончилось!
«Святым отцом» называли на кораблях заместителя командира по политчасти.
— 7 —
А неудовлетворенность, разумеется, была...
После побывки в Приютино, в 1957 году началась в Рубцове та внутренняя неподвластная ему самому работа, которая и сделала его истинным поэтом...
Подтверждением служат не те флотские стихи, что публиковались на страницах газеты «На страже Заполярья» или в альманахе «Полярное сияние», а, к примеру, первый, написанный тогда, вариант «Элегии»...
Но для окружающих смысл внутренней работы, происходившей в Рубцове, был непонятен, и не удивительно, что, как пишет в своих воспоминаниях Валентин Сафонов, стихи:
Стукнул по карману — не звенит, Стукнул по другому — не слыхать. В тихий свой, безоблачный зенит Улетают мысли отдыхать. Но очнусь, и выйду за порог, И пойду на ветер, на откос О печали пройденных дорог Шелестеть остатками волос... —были восприняты товарищами по литобъединению как шутка.
«Очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с обликом автора — жизнерадостного морячка. Впрочем, даже не то что не вязалась — противоречила ему.
Был Николай ростом не высок, но крепок. Пышные усы носил — они ему довольно задиристый, этакий петушковатый вид придавали. Короткую, по уставу, прическу, в которой если и содержался намек на будущую лысину, то весьма незначительный. Аккуратен, подтянут — флотская форма очень шла ему...»
Впрочем, и стихи, написанные в 1957 году в Приютино, тоже не очень-то вяжутся с обликом «жизнерадостного морячка»...
И все же, понимая, что во время службы на флоте Рубцов почти вплотную подошел к границе, за которой начинался уже совсем другой человек, не имеющий никакого отношения к Рубцову, которого мы знаем, что-то удерживает назвать его флотские годы потерянными для русской литературы.
Нет... Здесь, на флоте, Рубцов впервые в жизни почувствовал, что он может преодолеть собственную несчастливость, впервые почувствовал в себе силу, позволяющую перешагнуть через детдомовскую закомплексованность и стать хозяином собственной жизни.
«О себе писать ничего пока не стану, — сообщает Рубцов Валентину Сафонову. — Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!»
За несколько месяцев до «дембеля» Рубцов «некстати» (так он выразился в стихотворении «Сестра») угодил в госпиталь.
Разлучив «с просторами синих волн и скал», его увезли в Мурманск на операцию. Что именно резали Рубцову, неизвестно. На все расспросы о болезни он отвечал, что все это ерунда и операция была легкой...
«Дня три-четыре мучился, — сообщает он в письме, — потом столько же наслаждался тишиной и полным бездействием, на корабль не очень-то хочется, но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи, которой приходится тявкать на кошку или на луну.
Обстановка для писания стихов подходящая, но у меня почти ничего не получается, и я решил убить время чтением разнообразной литературы. Читал немного учебник по стенографии — в основном искал почему-то обозначения слов «любовь» и «тебя», читал новеллы Мопассана, мемуары В. Рождественского в «Звезде», точнее в нескольких «Звездах», и даже «Общую хирургию» просматривал... Еще занимаюсь игрой в шахматы...
Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места, послоняться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью в лесу у костра и наблюдать, как черные тени, падающие от деревьев, передвигаются вокруг костра, словно какие-то таинственные существа.
Ужасно люблю такие вещи.
С особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, приставив динамик к самому уху, и иногда в такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой скверны, накопленной годами...»
Любопытно тут, как — почти цитатно — перекликается это письмо, отправленное из мурманского госпиталя, с сочинением «О родном уголке», написанном еще в тотемском техникуме. Совсем немного и потребовалось покоя и уединения, чтобы зашевелилась, ожила душа Рубцова, отозвалась грустью на воспоминания о родном, зазвенела, словно струна... И одновременно с этими щемяще-сладкими видениями зашевелились, ожили в душе прежние детские страхи...
«Наверно, в предчувствии скорого расставания, — вспоминает Валентин Сафонов, — встречались мы теперь, как никогда, часто. Был самый разгар полярного лета, и алый парус солнца круглые сутки плавал над головой, не желая прятаться за сопки. Мы часами шатались по улицам Североморска — вдвоем, втроем, вчетвером. Все друзья, ровесники. Читали друг другу стихи — свои и чужие. Спорили — яростно, тоже друг друга не щадя. Мечтали о том времени, когда обретем уверенность в своих силах, чтобы написать об этом вот — о флоте, о Североморске, о юности своей на улицах Сафонова, Гаджиева, Полярной. Повести написать, поэмы...
Погода держалась на редкость теплая, и грибы на мшаниках росли чаще, чем карликовые березы. Уйма, пропасть грибов! Когда в городе дышать становилось невмоготу (изредка, а случается такое и на Крайнем Севере), мы подавались на Щука-озеро. Купались в обжигающе ледяной воде, бродили в сопках...
Как-то уехали на редакционной машине: шофер, Юра Кушак, отважившийся на самоволку Коля Рубцов и я. В озеро Рубцов входил неохотно: кусается вода, жалит! Зато обилие грибов поразило его несказанно. Радовался, как ребенок:
— Господи, да их тут косой не возьмешь!
К вечеру вернулись в редакцию и с двумя ведрами, полными отборных грибов, двинули на Восточную, к Юрке. Шагали бодрой рысцой, предвкушая, как отварим грибки да сыпанем на сковородку — экое будет жаркое! И тут случилось неожиданное: дорогу нам преградила хмельная ватага, особей этак шесть или семь. Матерятся, кулаками сучат. Запахло мордобоем. Мы с Юркой опустили ведра, готовые защищаться, а Коля проворно нагнулся и схватил с земли ребрастый булыжник.
— Не подходи! — выкрикнул с исказившимся лицом. Ватага покружилась вокруг нас и, матерясь, уступила дорогу.
— Это, кореша, не те, не они... — донеслось в спину сожалеющее, с хрипотцой. — Хотя и этим бы ввалить стоило.
— За Нинку изгваздать хотели, — пояснил всезнающий Кушак, имея в виду перезрелую сотрудницу редакции, за которой давно и не без успеха волочился туповатый сверхсрочник двухметрового роста. И уточнил: — А за Нинку вовсе и не нас надо...
— Колька, — сказал я Рубцову, — ты же противник всякого насилия, а тут... за камень сразу.
Он внимательно взглянул на меня: не смеюсь ли? И очень серьезно ответил:
— Я же детдомовский. Меня часто били. Может, вовсе убили б, да вот... приходилось иногда...»
Этот эпизод тоже перекликается, только уже со стихотворением «Сколько водки выпито!», которое напишет Николай Рубцов в этом же, 1959 году, в Невской Дубровке у брата...
Детдомовское детство, бродяжническая жизнь, конечно же, многому научили Рубцова, но все-таки и в стихах, и в эпизоде, который запомнился Сафонову, на наш взгляд, больше игры... Или — понта... Это уж кому как нравится...
Осенью 1959 года Николай Рубцов демобилизовался. Перед отъездом он заезжал в Североморск к Валентину Сафонову, попрощаться.
— Куда проездной выписываешь? — спросил тот.
— Еще не думал... — грустно ответил Рубцов. — Может, в Вологду, в деревню подамся, а может, в Ленинград. Там у меня родственник на заводе работает. Приютит на первый случай. Ты все-таки питерский адрес запиши — оно вернее...
И с той же грустью добавил:
— Четыре года старшина голову ломал, как меня одеть-обуть и накормить... Теперь самому ломать придется... Да не о том печаль. Ждал я этого дня, понимаешь! Долго ждал. Думал, радостным будет. А вот грызет душу тоска. С чего бы?
«Я проводил его к причалу... — вспоминает Сафонов. — Мы стояли на берегу. Был час прилива. Тугая волна медленно наступала на берег, закрывая отмели, тинистое дно, весь тот травяной, древесный и прочий хлам, который годами скапливался в море...»
— Ты долго на Севере задержишься? — спросил Рубцов.
— Не знаю... — пожал плечами Сафонов. — Учиться нам надо.
— Надо, еще как надо! Только получится ли сразу?.. Все думаю, к какому берегу волна меня прибьет... Ну, будь...
— Будь...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Рубцов не сразу решил, где ему осесть и чем заниматься на «гражданке».
— Может быть, в деревню подамся... — прощаясь, сказал он Валентину Сафонову.
— 1 —
Трудно судить, насколько серьезными были эти слова, но, как вариант, обдумывал Рубцов и такую перспективу. В деревне он не был уже больше восьми лет, и сейчас, после всех преобразований Никиты Сергеевича, ему могло казаться, что жизнь там стала получше.
Демобилизовался Николай Рубцов двадцатого октября, а в ЖКО Кировского завода устроился только 30 ноября. Почти полтора месяца он «осматривался» — гостил у брата в Невской Дубровке, у друзей в Приютино. Еще, по-видимому, он побывал в Николе... Косвенно свидетельствует об этом стихотворение Рубцова «Загородил мою дорогу...», написанное тогда же, в 1959 году.
Готовя его к публикации в «Юности» в 1964 году, Николай Рубцов — то ли по настоянию редакции, то ли по собственной воле — до неузнаваемости переработал текст. В первоначальном же варианте стихотворение звучало иначе:
Загородил мою дорогу Грузовика широкий зад. И я подумал: слава Богу, — Село не то, что год назад! Теперь в полях везде машины И не видать худых кобыл. Один лишь древний дух крушины Все так же горек, как и был. Да, я подумал: «Слава Богу!» Но Бог-то тут при чем опять? Уж нам пора бы понемногу От мистицизма отвыкать. Давно в гробу цари и боги И дело в том — наверняка, — Что с треском нынче демагоги Летят из Главков и ЦэКа!По сравнению с тем, что печатал Рубцов на страницах «На страже Заполярья», поэтом сделан шаг вперед. В полном соответствии с требованиями модной эстрадной поэзии голос его легко возвышается до самых верхних этажей власти и с эстрадной легкостью смахивает всю нечисть, скопившуюся там.
Вопрос в другом — в какую сторону сделан этот шаг? Стихотворение словно бы разрывают две противоборствующие силы. «Древний дух крушины», горько растекающийся над полями, не только не вяжется с заимствованным у новоявленных эстрадных политруков призывом «от мистицизма отвыкать», но и разрушает, сводит на нет картину положительных перемен, что произошли в деревне.
Кстати сказать, в 1964 году Рубцов попытался переработать стихотворение и, безжалостно жертвуя эффектной концовкой, изъял эстрадно-атеистические строки, но стихотворение (тем более что в редакции заменили «худых кобыл» на «плохих», а строку «село не то, что год назад» — на оптимистическое заверение «дела в селе идут на лад») лучше не стало, оно поблекло, превратилось в малозначащую пейзажную зарисовку...
Причина неудачи понятна. Хотя и отвратительна была Рубцову эйфория шестидесятнического пафоса, но ведь именно это он и чувствовал, именно так и думал, демобилизовавшись с флота. А изымать самого себя из стихов — занятие заведомо бесперспективное.
Что же думал, что чувствовал Рубцов в пятьдесят девятом году — на вершине хрущевского десятилетия?
Два года назад отшумел в Москве фестиваль, когда словно бы распахнулись окна во все концы света. Еще два года, и этот необыкновенный подъем завершится триумфом — полетом в космос Юрия Гагарина.
Ощущение свободы, предчувствие перемен захлестывали тогда страну, и как же остро должен был ощущать это Рубцов, после тесноты корабельных помещений и тягомотины политбесед... Сугубо личные ощущения опять совпали с доминантой времени, и, быть может, если бы из Североморска Рубцов сразу поехал в Ленинград, он бы и не уловил никакого противоречия, и смело двинулся по эстрадному пути и — кто знает? — какая бы судьба ожидала его...
Наверное, в личностном плане более счастливая, более благополучная, ибо труден путь человека, который идет не так, как все, а так, как определено ему. Но Николаю Рубцову «не повезло». Из Североморска он поехал не в Ленинград, а в деревню, за счет окончательного разорения которой и оплачивались блистательные триумфы хрущевского десятилетия. Те первые реформы, что вызывали надежды на улучшение деревенской жизни, уже давно были обесценены кукурузными аферами Никиты Сергеевича, а широкомасштабное движение страны к развитому коммунизму, начавшееся с урезания личных хозяйств и приусадебных участков колхозников, вообще отбросило деревню к временам коллективизации.
Конечно, сразу понять это человеку, которому четыре года вдалбливали на политзанятиях мысль о правильности и разумности политики партии, невозможно... Вот Рубцов и замечает обнадеживающие перемены, надеется, что в дальнейшем, когда выгонят из главков и ЦК еще несколько десятков демагогов, будет еще лучше, почти совсем хорошо... Только вот никак не отвязаться от всепроникающей горечи крушины, которой пропиталась вся здешняя жизнь, но, может, только кажется, только мерещится этот «древний дух»?
Наверное, с этими мыслями и уехал Рубцов из деревни...
И снова, как и в годы юности, едет Рубцов к брату Альберту, который обосновался теперь в поселке Невская Дубровка...
Здесь провел Рубцов несколько недель, побывал в Приютино, зашел во Всеволжске в районную газету «Трудовая слава», разузнал, что там есть литобъединение, и записался в него...
Потом уехал в Ленинград, решил устроиться по лимитной прописке на Кировский завод...
И хотя и перебрался Рубцов в большой город, где совсем не слышно было горечи деревенской жизни, трещинка в его вере в благотворность хрущевских перемен появилась.
— 2 —
Трещинка эта пугала Рубцова. Очень хотелось позабыть увиденное в вологодской деревне и в Невской Дубровке... Словно стремясь вернуться в прежнюю, флотскую простоту и ясность жизни, он пишет:
И с таким работал жаром, Будто отдан был приказ Стать хорошим кочегаром Мне, ушедшему в запас!Приказ такой отдавал себе сам Рубцов, но сам же и не подчинялся ему, не мог подчиниться. И такие стихи, как «В кочегарке», не только не проясняли жизнь, но вызывали еще большую неудовлетворенность собой.
Не подвластные самому Рубцову процессы шли в нем, и духовное прозрение совершалось как бы против его воли...
О все нарастающем чувстве неудовлетворенности свидетельствует письмо Валентину Сафонову, отправленное Рубцовым в июле шестидесятого года...
«Сперва было не очень-то весело, теперь же можно жить, так как работать устроился на хороший завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей никто не получает. С получки особенно хорошо: хожу в театры и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода.
Вообще, живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться».
Сходные мысли звучат и в стихотворении о детстве, когда ...мечтали лежа, о чем-то очень большом и смелом, смотрели в небо, и небо тоже глазами звезд на нас смотрело...
Но и обращение к детству — эта спасительная для многих палочка-выручалочка — не помогает Рубцову преодолеть неудовлетворенность. Ловко подогнанные друг к другу строчки:
Я рос на этих берегах! И пусть паром — не паровоз. Как паровоз на всех парах, Меня он в детство перевез... —не способны удержать образы реальной жизни.
Стихи Рубцова все более заполняются словесной эквилибристикой:
Буду я жить сто лет, и без тебя — сто лет. Сердце не стонет, нет, Нет, сто «нет»!В своей антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны» Константин Кузьминский сообщает, что именно в 1961 году Рубцов увлекся перевертышами.
«Интерес к вывескам наблюдался у поэта Коли Рубцова, который писал мне в 1961 году, что ходит по городу и читает вывески задом наперед. Элемент прикладного абсурда, о котором, в приложении к Рубцову, ни один из его биографов не сообщает. Тем не менее это литературный факт. Письмо я натурально потерял. В письме еще были стихи, но они где-то приводятся по памяти».
Справедливости ради надо сказать, что интерес к словесной игре сохранялся в Рубцове до конца жизни. Многие вспоминают, как по утрам придумывал он «хулиганские» стихотворения.
В провинциальном магазине Вы яйца видели в корзине, Вы подошли к кассирше Зине И так сказали ей, разине: — Какого хрена эти яйца Гораздо мельче, чем у зайца? Она ответила не глядя: — Зато крупнее ваших, дядя!Но это было своеобразной гимнастикой...
Подобные шутливые экспромты часто воспроизводятся в воспоминаниях о поэте, но сам Рубцов редко записывал их. Придумывались подобные шутки для разминки; для «разогрева», и самоцелью для Рубцова не являлись.
А тогда, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов (еще одно следствие фестиваля) в столицах начало входить в советский быт слово «стиляга». Узкие брюки сделались знамением времени. Одни утверждали с их помощью свою свободу, свое право на собственное, отличное от общественного, мнение; другие восприняли невинные отклонения в одежде как угрозу всей советской морали. На улицах городов появились комсомольские патрули, вылавливающие стиляг... Появились и музыкальные «стиляги». В 1956 году Борис Тайгин (тот самый, который «издаст» потом первую книжку Николая Рубцова) «схлопотал», например, пять лет за «музыку на ребрах». Кто-то придумал записывать музыку на старых рентгеновских снимках, и Ленинград заполонили самодельные пластинки, на которых можно было разглядеть изображение человеческих костей. Музыка тоже была похожей на рентгеновские снимки:
Зиганшин[7]— буги! Зиганшин — рок! Зиганшин съел Второй сапог!Такое это было время, когда Николай Рубцов поступил в девятый класс вечерней школы № 120 рабочей молодежи.
Кочегаром он работал недолго.
В мае 1961 года перешел работать шихтовщиком в копровый цех и поселился в заводском общежитии на Севастопольской улице.
— Везучий я в морской жизни... — шутил он. — Служил на Баренцевом море, а живу на Севастопольской...
Товарищ Николая Рубцова по общежитию — Александр Васильевич Николаев вспоминает:
— Жил я в одной комнате с Николаем Рубцовым... Койки наши стояли рядом. Засиживались вечерами допоздна: я учился в машиностроительном техникуме, Николай — писал стихи. В его тумбочке лежала стопка листов, испещренных пометками, вычеркнутыми строчками, вымаранными чернилами словами. Иногда Николай часами бился над одним словом. Бывало, вернемся с завода в общежитие — в комнате хоть шаром покати: добываем у ребят хлеба, ставим чайник, пьем кипяток...
В молодости общежитский неуют переносится легче, но не таким уж молодым был Рубцов, да и все двадцать пять скитальческих лет, оставшихся за спиной, тоже брали свое, и временами в стихах прорывалась горечь:
Что делать? — ведь ножик в себя не вонжу, и жизнь продолжается, значит. На памятник Газа в окно гляжу: железный! А все-таки... плачет.«Николай Рубцов, — пишет в воспоминаниях Глеб Горбовский, — был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Суп отвергал.
Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ночевать не просто человек, но — поэт, и поэтому необходимо — непременно! — сменить белье».
Жил Рубцов в общежитии на Севастопольской, в комнате номер шестнадцать, где и были написаны стихи, вошедшие в сокровищницу русской классики: «Видения на холме», «Добрый Филя»... Первые стихи настоящего Рубцова.
— 3 —
Как и когда началось превращение рядового сочинителя, среднего экспериментатора в великого поэта? Едва ли и в дальнейшем, когда более основательно будет изучен ленинградский период жизни Рубцова, мы сможем получить исчерпывающий ответ на этот вопрос. Даже его тогдашние друзья не уловили произошедшей в нем перемены.
«Не секрет, — признается Глеб Горбовский, — что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение».
Но если нельзя ответить на вопрос «когда?», то объяснить, почему случилась эта перемена, можно попытаться.
Ни в Москве, ни в Ленинграде о трагедии русской деревни ничего не знали и не хотели знать. Магазины были завалены продуктами, и здешнюю публику больше волновали нападки Хрущева на абстракционистов. Это после того известного выступления Хрущева, как утверждают многочисленные мемуаристы, и отшатнулась от Никиты Сергеевича интеллигенция, а отнюдь не тогда, когда, раскручивая новый виток геноцида русского народа, начал он наступление на нищую деревню.
Об этом свойстве советской интеллигенции довольно точно скажет несколько лет спустя А. И. Солженицын: «Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счет ограбления остальной страны) наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, новое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кошмарном уровне здравоохранения, при уродливом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об этом ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о чем об этом?..»
Неверно было бы считать, что Рубцов обладал таким уж несокрушимым иммунитетом к московско-ленинградской нечувствительности. Его стихотворение «Я забыл, как лошадь запрягают...» передает типичные для переехавшего в город человека представления о деревенской жизни.
Эх, запряг бы Я сейчас кобылку И возил бы сено Сколько мог, А потом Втыкал бы важно вилку Поросенку Жареному В бок...Понятно, что «жареный поросенок» возник в стихах из какого-нибудь кинофильма о счастливой колхозной жизни, а не из реальной жизни вологодской деревни. Но могло ли быть иначе?
Увы, вся система официального и неофициального воспитания навязывала Николаю Рубцову губительный для нравственности атеизм, пренебрежительно-снисходительный взгляд на традиции и уклад деревенской жизни.
«Прозрение» пришло к Рубцову, вероятно, во время поездки на родину. Едва ли стихотворение «Видения на холме» (первоначальное название «Видения в долине») осознавалось самим Рубцовым как начало принципиально нового периода в творчестве. Стихотворение задумывалось как чисто историческое, но, обращаясь к России:
Россия, Русь — Куда я ни взгляну! За все твои страдания и битвы Люблю твою, Россия, старину, Твои леса, погосты и молитвы... —поэт вдруг ощутил в себе силу родной земли, и голос его разросся, обретая привычные нам рубцовские интонации:
Люблю твои избушки и цветы, И небеса, горящие от зноя, И шепот ив у смутной воды, Люблю навек, до вечного покоя...Надо сказать, что произошло это не сразу. В первоначальном варианте строфа выглядела иначе:
Люблю твою, Россия, старину, Твои огни, погосты и молитвы, Твои иконы, бунты бедноты, и твой степной бунтарский свист разбоя, люблю твои священные цветы, люблю навек, до вечного покоя...Но в этом и заключается поэзия Рубцова, когда «иконы, бунты бедноты» — перечисления, напоминающие школьный учебник, превращаются вдруг в «шепот ив у смутной воды» — нечто вечное, нечто существовавшее, существующее и продолжающее существовать в народной жизни. Точно так же, как «степной, бунтарский свист разбоя» превращается в «небеса, горящие от зноя» — связывая упования на улучшение народной жизни не с новоявленным Стенькой Разиным, а с Господом Богом.
Поэтому-то, возвышаясь до небес, и растет голос, становится неподвластным самому поэту, словно это уже не Рубцова голос, а голос самой земли. И случайно ли строки, призванные по мысли поэта нарисовать картину военного нашествия давних лет, неразрывно сливаются с картиной хрущевского лихолетья:
Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои и долы Со всех сторон нагрянули они, Иных времен татары и монголы, Они несут на флагах черный крест, Они крестами небо закрестили, И не леса мне видятся окрест, А лес крестов в окрестностях России.И вместе со стихотворением рождалось искупительное прозрение:
Кресты, кресты... Я больше не могу! Я резко отниму от глаз ладони И вдруг увижу: смирно на лугу Траву жуют стреноженные кони. Заржут они — и где-то у осин Подхватит эхо медленное ржанье, И надо мной — бессмертных звезд Руси, Спокойных звезд безбрежное мерцанье...В «Видениях на холме» можно обнаружить не только интонации и образы, характерные для зрелого Рубцова, но и характерное только для него восприятие мира, понимание русской судьбы.
Существует немало исследований, доказывающих, что Рубцов в значительно меньшей степени, чем, например, Есенин, испытал на себе влияние фольклора. Возможно, исследователи и правы, пока речь идет о чисто внешнем влиянии, но если проанализировать более глубокие взаимосвязи, то обнаружится, что все не так просто.
Для поэзии Рубцова характерно особое восприятие времени... Прошлое, настоящее и будущее существуют в его стихах одновременно, и если и связаны какой-либо закономерностью, то гораздо более сложной, нежели причинно-следственная связь. Для того чтобы разобраться в природе этого явления, надо кое-что вспомнить о природе русского языка.
— 4 —
Давно сказано, что о русском языке надо говорить как о храме. В фундаменте его — труд равноапостольных Кирилла и Мефодия. Замысленный «первоучителями словенскими», литературный язык создавался как средство выражения Богооткровенной истины, заключенной в греческих текстах; Божиих словес, выраженных на греческом языке. Особое значение придавалось аористу, который обозначал действие в чистом виде; действие, не соотнесенное со временем; действие вне времени, в вечности... При описании обычной жизни аорист был не нужен, но когда речь шла о действиях Бога, который не подвластен времени, который сам Владыка и Господь времени, аорист становился необходимым. Как свидетельствует Житие Константина-Кирилла, первыми словами, написанными по-славянски, были евангельские слова: «искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово».
Наличие аориста в церковно-славянском языке отвечало свойственной христианскому мышлению системе тройственных сопоставлений: «божеское — человеческое — бесовское»; «духовное — душевное — плотское», «аорист — имперфект — перфект». В этом выражалась самая суть христианской антропологии: человек с его свободной волей, находящийся на тончайшем средостении между бездной божественного бытия и адской бездной.
«Этому, — отмечает доцент Международного славянского университета А. А. Беляков, статью которого «О содержании наследия равноапостольных Кирилла и Мефодия и его исторических судьбах» мы и цитируем сейчас, — соответствует и несовершенство, имперфект человеческой жизни и человеческой истории, которые совершатся тогда, когда «времени не будет к тому», в последнем суде Божий и воздаянии «комуждо по делам его». Сатана же проклят от самого его отпадения, то есть еще до начала исторического времени. И все действия его уже осуждены, а потому всецело принадлежат к прошлому и выражаются исключительно перфектом».
Очень точно сформулировал похожую мысль еще в шестнадцатом веке Иоанн Вишенский, который писал, что «словенский язык... простым прилежным читанием... к Богу приводит... Он истинною правдою Божией основан, збудован и огорожен есть... а диавол словенский язык ненавидит...»
Целое тысячелетие православное мировоззрение перетекало в наш, «истинною правдой Божией» основанный язык, формируя его лексику, синтаксис и орфографию, и в результате возник Храм, оказавшийся прочнее любого каменного строения.
После переворота в семнадцатом году, разрушая и оскверняя церкви, расстреливая священников, большевики постарались разрушить и этот храм русского православия.
В соответствии с этим планом велась реформа орфографии (тут большевики успешно продолжили дело, начатое патриархом Никоном и продолженное Петром Первым), шла интервенция птичьего языка аббревиатур, насаждался советский сленг. Велась ожесточенная, как и со священнослужителями, борьба со старославянскими корнями языка. Но языковой храм выстоял.
Аорист, приравненный никоновскими грамотеями и справщиками к перфекту и, казалось бы, окончательно вытесненный из языка последующими петровскими и большевистскими реформами, подобно ангелу-хранителю продолжал охранять светоносную суть языка.
Слово Божие продолжало жить в русском языке и в самые черные для православных людей дни. Равнодушные, казалось бы, давно умершие для православия люди против своей воли поминали Бога. Произносили спасительные для души слова...
Атеистическая тьма, сгущавшаяся над нашей Родиной во времена владычества ленинской гвардии и хрущевской «оттепели», так и не сумела перебороть православной светоносности русского языка. И происходило чудо. Прошедшие через атеистические школы и институты люди, погружаясь в работе со словом в живую языковую стихию, усваивали и начатки православного мировоззрения.
Мы еще будем говорить, как поразительно зорко различал пути, ведущие к спасению и гибели, не знающий церковной защиты лирический герой Николая Рубцова.
Страшному, сопровождаемому грохотом и воем, лязганьем и свистом пути, по которому движется «Поезд», в поэзии Николая Рубцова всегда противостоит путь «Старой дороги», где движение — это ли не попытка воссоздания поэтическими средствами аориста? — осуществляется как бы вне времени: «Здесь русский дух в веках произошел, и ничего на ней не происходит». Вернее, не вне времени, а одновременно с прошлым и будущим. Еще более открыто эта молитвенная, «аористическая» одновременность событий обнаруживается в стихотворении «Видения на холме», где разновременные глаголы соединяются в особое и по-особому организованное целое...
В самом деле...
Они — «иных времен татары и монголы» — крестами небо закрестили в прошлом времени, но «не леса... окрест, а лес крестов в окрестностях России», видятся сейчас, в настоящем времени, зато в будущем, когда-нибудь, резко отнимет от глаз ладони поэт, и в будущем времени увидит, как жуют траву стреноженные кони. В будущем времени и заржут они, и эхо подхватит медленное ржанье... Но над поэтом — «бессмертных звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцанье» — и не в прошлом, и не в настоящем, и не в будущем, — а в вечном, непреходящем времени...
Вероятно, правильно будет сказать, что от фольклора в поэзии Рубцова — двусмысленность шутливых стихотворений («Я забыл, как лошадь запрягают», пассажи, подобные «равнобедренной» дочке). Истоки же многозначности серьезных произведений Николая Рубцова в особом устроении времени его стихов.
В строке «Россия, Русь! Храни себя, храни!» можно увидеть и изображение гитлеровского нашествия, но едва ли тогда подлинный смысл будет угадан.
Разумеется, «угадывание» — слово неудачное. Стихи Рубцова — не ребусы, просто, помимо обычного, в них заключен и вещий смысл, воспринять который значительно легче на уровне подсознания, нежели путем длительных умозаключений...
«Видения на холме» первое в ряду «вещих», «пророческих» стихов Рубцова, а с годами поэт научится столь ясно различать будущее, что даже сейчас, когда, годы спустя, читаешь его стихи, ощущаешь холод разверзающейся бездны. И всегда потрясает почти документальная точность предсказания! Например, те же предсмертные строки Рубцова:
Из моей затопленной могилы Гроб всплывет, забытый и унылый, Разобьется с треском, и в потемки Уплывут ужасные обломки... — многие понимают как апокалиптическое предсказание, но так ли это? Рубцовские пророчества носят гораздо более конкретный характер. И это стало ясно, когда в начале перестройки в Вологде пошли разговоры, что хорошо бы, дескать, перенести могилу с обычного городского кладбища в Прилуцкий монастырь и перезахоронить Рубцова рядом с Батюшковым...
Деяние, так сказать, вполне в духе времени реформ (при Хрущеве могилу Рубцова просто бы запахали), но Рубцову незнакомое, вот и написано им:
Сам не знаю, что это такое... Я не верю вечности покоя!
Какая уж тут «вечность покоя», если тебя переносят — народу удобнее! — поближе к экскурсионным тропам.
Впрочем, мы забежали вперед... В шестьдесят первом году написано Рубцовым и стихотворение «Добрый Филя»:
Мир такой справедливый, Даже нечего крыть... — Филя! Что молчаливый? — А о чем говорить? —где, пока на уровне вопроса, смутной догадки осознание собственной неустроенности и личной несчастливости начинает сливаться в стихах Рубцова с осознанием несчастливости и неустроенности общей русской судьбы.
— 5 —
В таком большом городе, как Ленинград, даже узкий круг пишущих людей весьма велик и неоднороден.
Первое время Николай Рубцов активно посещает занятия литературного объединения «Нарвская застава» и литературный кружок при многотиражке «Кировец».
Руководитель «Нарвской заставы» поэт Игорь Михайлов вспоминал: «Странно сейчас перебирать пожелтевшие листки со стихами Коли Рубцова — те экземпляры, которые давались на обсуждение в «лито». Вот шесть стихотворений, украшенных решительным минусом его оппонента: «На родине», «Фиалки», «Соловьи», «Видения в долине», «Левитан» и «Старый конь». Может быть, иногда чрезмерно суровы и требовательны к молодому поэту были его друзья, но отчетливо видишь, что в своих оценках они редко ошибались...»
Зато: «Очень понравился «литовцам» своеобразный юмор Рубцова. И характерно, что именно здесь впервые на ура были приняты те его стихи («В океане», «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте»), которые стали его первыми публикациями и сразу составили ему добрую репутацию... И уж совершенный восторг вызвало у товарищей Рубцова одно из самых улыбчивых его стихотворений — «Утро перед экзаменом»: для ошалевшего школяра скалы стоят «перпендикулярно к плоскости залива», «стороны зари равны попарно», облако «несется знаком бесконечности» и даже «чья-то равнобедренная дочка» двигается, «как радиус в кругу»...
Игорь Михайлов пишет, что «товарищи по «лито» четко «засекли» тот момент, когда из-под пера Рубцова стали появляться зрелые, художественно совершенные стихи». Вывод неожиданный... Ведь отвергнутыми, как мы видим, оказались лучшие стихи Рубцова, а «принятыми на ура» — случайные, к зрелому Рубцову не имеющие никакого отношения.
Увы... И сейчас для многих профессиональных литераторов Рубцов остается всего лишь автором забавных стишков о «равнобедренной дочке», и эти люди искренне недоумевают, почему вдруг Рубцова объявили классиком...
Круг общения «Нарвской заставы» если и устраивал Рубцова, то только на первых порах. Очень скоро он начал тяготиться им...
Впрочем, справедливости ради отметим, что и в «Нарвской заставе» не особенно-то дорожили Николаем Рубцовым.
И тут не так уж и важно, что «Нарвская застава» не являлась объединением заводских поэтов и что время шестидесятых годов существенно отличалось от эпохи рабфаков и пролеткульта...
Санкт-Петербургский критик и переводчик Виктор Топоров в книге «Двойное дно. Признания скандалиста» приводит злую, но точную сцену, характеризующую отношения Рубцова с нарвскими «рабочими» поэтами...
«...Я сблизился со странноватой и жутковатой компанией поэтов старше меня лет на десять, крутившихся в кафе «Электрон» при заводе «Электросила». В отличие от знаменитого Кафе поэтов на Полтавской, это было захолустье, и собиралась там заводская, если не просто дворовая команда. В «шестерках» у этих бездарей почему-то ходил великолепный поэт Николай Рубцов — его посылали в магазин за дешевой водкой и мстительно били назавтра, если он не возвращался».
— 6 —
В Рубцовском фонде в Государственном архиве Вологодской области сохранилась записная книжка поэта, растрепанная и прошитая суровой ниткой — косо, но прочно. Верой и правдой — почти двадцать лет — служила она Николаю Михайловичу, была единственным свидетелем многих дней его жизни.
Страницы, аккуратно заполненные красивым рубцовским почерком, залиты вином, многие записи расплылись, новые адреса зачастую записаны поверх старых — толкучка и мешанина фамилий, городов, телефонов такая же невообразимая, как и в самой жизни поэта.
Есть здесь и литературные записи... Смешные диалоги... То ли придуманные самим Рубцовым, то ли услышанные где-то сентенции: «Жизнь хороша. Нельзя ее компрометировать»... Записи для памяти: «Купить трубку»...
На семнадцатой странице — начало какой-то прозы:
«Он сильнее всего на свете любил слушать, как поют соловьи. Часто среди ночи он поднимал меня с койки и говорил: «Давай бери гитару — и пойдем будить соловьев. Пусть они попоют. Ночью они умеют здорово это делать...»
Запись обрывается, восемнадцатой страницы в книжке нет (нумеровал сам Рубцов), и не узнать, разбудил ли Рубцов соловьев, как никогда не узнать и многого другого из его жизни.
Но главное в этой книжке — фамилии...
Саша Кузнецова, Надя Виноградова, Нина Токарева, Надя Жукова, В. В. Васильев, Жора (в скобочках — друг В. Максимова), Борис Новиков, В. Гариков, Зоя, А-р Кушнер, Н. О. Грудинина, К. Кузьминский, И. Сергеева, Бахтин, Ю. Федоров, М. Л. Ленская, С. Орлов, Д. Гаврилов, Вильнер, Люся Б., Петя, Бродский, Г. Семенов, Зина, Ю. Логинов, Кривулин, Катя...
Список можно продолжать, но и перечисленных фамилий вполне достаточно, чтобы получить представление о круге общения Николая Рубцова в Ленинграде. Немало здесь профессиональных литераторов, но много и поэтов, назвавших себя в семидесятые годы «второй литературной действительностью»...
Сближение с ними в поиске единомышленников — литературный, как любил говаривать господин Кузьминский, факт...
В уже упоминавшейся антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны», превращенной по замыслу автора в насыщенное различными документами и воспоминаниями повествование о литературном Ленинграде последних десятилетий, Константин Кузьминский пишет:
«Нет (в антологии. — Н. К.) текстов покойного Коли Рубцова (а они должны быть!), кроме одного, включенного им в первый его сборник «Волны и скалы» (1962 г., печать моя,[8] обложка Э. К. Подберезкиной, тираж 5 экз.)
Сколько водки выпито, Сколько стекол выбито, Сколько средств закошено, Сколько женщин брошено! Где-то финки звякали, Чьи-то дети плакали! Эх, сивуха сивая, Жизнь была... красивая!Оно, конечно, моральному кодексу строителя коммунизма не совсем соответствует, как и сам Коля. Поэтому и печатать его начали всплошную только посмертно. А то, живой, он мог бы как-нибудь признаться, что его лучший друг — Эдик Шнейдерман, а любимый поэт Бродский. Славянофилам это не очень было бы по нутру».
Здесь, естественно, необходимо сделать поправку на излишнюю категоричность суждений: «лучший друг», «любимый поэт».
Сохранилось несколько писем Николая Рубцова, адресованных Константину Кузьминскому и Эдуарду Шнейдерману...
«Привет, привет, «несчастный» Костя! Я читал у Эдика твое письмо, проникнутое трогательным пессимизмом, отчаянием.
Просишь стихов. Если не пошлем их — сойдешь с ума в Феодосии, так, что ли? Ну ладно, друзьям полагается в таких случаях быть отзывчивыми и т.п., и я отзовусь, напишу тебе что-нибудь из своих стихов в конце письма. Подкрепи ими свои ослабевшие силы. Или травить в ближайшую урну потянет?
Но о чем писать? Говорить о лит. сплетнях? Но я почему-то не интересуюсь ими...
Ты бы посмотрел, какие у нас на Севастопольской улице тени ночью! О Господи, оказывается, на обычных тенях от дерева можно помешаться!..
Ну, ладно. Прости мою витиеватость. Почитай дальше стихи...
Жму лапу. Н. Рубцов.
Чиркни, как будет время. Адью».
А вот письмо Эдуарду Шнейдерману, написанное тоже, вероятно, в 1961 году...
«Эдик, привет! Заниматься тем стихом было некогда. Когда-нибудь его сделаю и лучше. А пока — посмотри такой вариант:
Спотыкаясь даже о цветочки, Боже, тоже пьяная в дугу! Чья-то равнобедренная дочка Двигалась, как радиус в кругу...Тебе, наверное, знакомо чувство «затычки» в стихе, над которой бесполезно долго думать. Надо просто ждать. Просто подождать, когда решение само собой придет...»
Разумеется, эти послания свидетельствуют о вполне приятельских отношениях Рубцова с Кузьминским и Шнейдерманом. Тут есть и дружеское подтрунивание, и доверительность...
Но вместе с тем и отстраненность тоже наличествует.
О том, как принимали Рубцова в кругу «пролетарских» поэтов, мы знаем из воспоминаний Виктора Топорова. Как принимали Рубцова в кругах Шнейдермана и Кузьминского, мы видим из рассуждений «несчастного Кости».
Рубцов Константину Кузьминскому и после гибели интересен только, так сказать, в прикладном смысле...
Тем, что писал хулиганские стихи... Тем, что любил читать вывески наоборот... Тем, что поддерживал приятельские отношения с Шнейдерманом...
И не в этом ли надо искать ответ, почему Рубцов не стал своим и в кругу неофициальных ленинградских литераторов, почему не был услышан и понят там...
Момент в биографии Рубцова, действительно, принципиальный...
— 7 —
Здесь нужно сделать небольшое отступление. Когда мы оглядываем события конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, сразу бросаются в глаза непоследовательность поступков главы государства, их судорожность и случайность. Это проявляется и в экономической политике, и в международной, и в кукурузной кампании, и в действиях по разоблачению культа личности Сталина.
Применяя в борьбе за власть те же, что и Сталин, приемы, Хрущев не наполнял их государственной волей, и всегда, даже когда пытался произвести кардинальный переворот, останавливался на полпути, подчиняясь инерции государственного движения. И так во всем...
И если беспристрастно проанализировать даже те свершения Хрущева, которые считаются его безусловной заслугой, трудно сказать, чего больше, вреда или пользы, принесли они стране.
Это касается и освоения 35,5 миллиона гектаров целинных земель в Казахстане, за счет окончательного разорения Центральной России.
Это относится и к разоблачению культа личности Сталина. И дело не в том, что не Хрущеву, напрямую причастному к пресловутым нарушениям социалистической законности, нужно было бы заниматься разоблачениями.
И не в том, что никакой «гуманистической» миссии не выполняли они — практически все осужденные по знаменитым статьям уже находились на свободе.
Нет!
На XX съезде партии Хрущев обличал не Сталина, которому служил верой и правдой, а тот государственный курс, который был взят Сталиным.
Все эти противоречия хрущевского правления ярко проявились в так называемых «шестидесятниках».
Разумеется, явление, обозначенное словами «шестидесятники», «шестидесятничество», не было однородным и единым... Возникшее в хрущевской одиннадцатилетке, на рубеже перехода от сталинской эпохи к годам застоя, оно объединило самых разных людей.
«Шестидесятниками» называли (и продолжают называть!) себя и писатели «деревенщики», и поэты, так сказать, эстрадного направления, и представители, к примеру, петербургской школы стиха... При этом сразу подчеркнем, что жанровые различия здесь перерастают пределы литературоведения, становятся идеологией...
Возрождая миф о «хороших ленинцах», Хрущев пытался реанимировать идеи ленинской гвардии о создании «чудо-партии», живущей вне народа, вне интересов государства.
К счастью, реанимация не удалась. Но вред она нанесла России не малый.
Вновь окрепшая в те годы русофобская идеология, переварив интернационально-коммунистическое мировоззрение, сумела породить прикрывающихся лозунгами антикоммунизма прямых продолжателей дела Ленина —Троцкого.
И тут нужно очень четко различать шестидесятников, которые отрицали сталинизм, как несвободу, и тех, которые под вывеской борьбы со сталинизмом боролись с возрождением русскости, возрождением России...
И не так уж и существенно, что эстрадные поэты, призывавшие быстрее «возводить» коммунизм, пытавшиеся возродить романтику чекистских будней и «комиссаров в пыльных шлемах», не понимали достаточно отчетливо, чем грозит России возрождение ленинской гвардии. Те люди, которые «заказывали» их поэзию, понимали все...
Впрочем, и не понимая, и даже не заботясь понимать последствия возрождения «ленинских принципов», многие поэты-шестидесятники, отнюдь не патриотического направления, отрицали подобную возможность, поскольку она знаменовала для них противоестественное «обратное» движение истории. Особенно ярко это отрицание проявилось в творчестве поэтов петербургской школы.
Рубцова многое роднило с поэтами этого круга.
Ведь хотя эти литераторы и овладели в совершенстве техникой эстрадно-популярного стиха, но поэтами «поколения» так и не стали. Отчасти это разнопутие объясняется тем, что идеология шестидесятничества, столь ярко выразившаяся в поэзии Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, только в Москве, где слышнее запах из кремлевских буфетов, и могла иметь успех.
Ленинград, в силу своей удаленности от цековских кормушек, этого искуса уберегся.
Питерские поэты не грешили дифирамбами палачам-комиссарам, не воспевали великие стройки коммунизма. Но, уберегшись от одного искуса, далеко не все сумели уберечься от другого, быть может, еще более опасного — от так называемого «кривостояния, при котором прямизна кажется нелепой позой».[9]
Типичный образчик «кривостояния» — отношение к Николаю Рубцову. В кругу новых знакомых, как и на занятиях литобъединения «Нарвская застава», на ура принимались хотя и несколько другие стихи, но тоже не те, которые Рубцов считал для себя главными.
«Николай Рубцов, — вспоминает Борис Тайгин, — на сцену вышел в заношенном пиджаке и мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака. Это невольно обратило на себя внимание. Аудитория как бы весело насторожилась, ожидая чего-то необычного, хотя здесь еще не знали ни Рубцова, ни его стихов.
Подойдя к самому краю сцены, Николай посмотрел в зал, неожиданно и как бы виновато улыбнулся и начал читать... Читал он напевно, громко и отчетливо, слегка раскачиваясь, помахивая правой рукой в такт чтению и почти не делая паузы между стихотворениями.
Стихи эти, однако, были необычными. Посвященные рыбацкой жизни, они рисовали труд и быт моряков под каким-то совершенно особым углом зрения. И насквозь были пропитаны юмором, одновременно и веселым и мрачным. Аудитория угомонилась, стала внимательно слушать. И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк. И искренние шумные аплодисменты после каждого стихотворения.
— Читай еще, парень! — кричали с мест.
И хотя время, отведенное для выступления, уже давно истекло, Николаю долго не давали уйти со сцены».
Столь же теплый прием вызывали стихи «Сколько водки выпито...» и подобные им.
Как мы говорили, Николаем Рубцовым было написано немало таких стихов. Многие из них не печатаются из-за неприличных выражений, на которых они зачастую и построены... Этими стихами можно эпатировать публику, можно восторгаться ими — многие наши классики любили поозорничать! — но считать определяющими в наследии Рубцова, конечно, нельзя.
Представление о том, чего ждали от Рубцова в кругу его новых знакомых, дает стихотворение «Жалобы алкоголика», помеченное январем 1962 года:
Ах, что я делаю, зачем я мучаю Больной и маленький свой организм? Ах, по какому же такому случаю? Ведь люди борются за коммунизм! Скот размножается, пшеница мелется, И все на правильном таком пути... Так замети меня, метель-метелица, Ох, замети меня, ох, замети! Я жил на полюсе, жил на экваторе — На протяжении всего пути, Так замети меня, к едрене матери, Метель-метелица, ох, замети...Если сравнить это стихотворение с «Добрым Филей», станет очевидной разница между «кривостоянием» и прямым Путем, который все-таки изберет для себя поэт Николай Рубцов.
Ерничанье и дешевый эпатаж не способны были выразить то, что чувствовал, что думал Рубцов.
Глеб Горбовский точно подметил это.
«Нельзя сказать, — пишет он, — что Николай Рубцов в Ленинграде выглядел приезжим чудаком или душевным сироткой. Внешне он держался независимо, чего не скажешь о чувствах, скрывавшихся под вынужденным умением постоять за себя на людях, умением, приобретенным в детдомовских стенах послевоенной Вологодчины, в морских кубриках тралфлота и военно-морской службы, а также в общаге у Кировского завода, где он тогда работал шихтовщиком, то есть имел дело с холодным, ржавым металлом, идущим на переплавку. Коля Рубцов, внешне миниатюрный, изящный, под грузчицкой робой имел удивительно крепкое, мускулистое тело. Бывая навеселе, то есть по пьяному делу, когда никого, кроме нас двоих, в «дупле» не было, мы не раз схватывались с ним бороться, и я, который был гораздо тяжелее Николая, неоднократно летал в «партер».
Рубцов не любил (выделено мной. — Н. К..) заставать у меня кого-либо из ленинградских поэтов, все они казались ему декадентами, модернистами (из тех, кто ходил ко мне), пишущими от ума кривляками. Все они — люди, как правило, с высшим образованием, завзятые эрудиты — невольно отпугивали выходца «из низов», и когда Николай вдруг узнал, что я — недоучка и в какой-то мере скиталец, бродяга, то проникся ко мне искренним уважением. Не из солидарности неуча к неучу (в дальнейшем он закончил Литинститут), а из солидарности неприкаянных, причем неприкаянных сызмальства.
Зато, обнаружив кого-либо из «декадентов», сидел, внутренне сжавшись, с едва цветущей на губах полуулыбкой, наблюдал, но не принимал участия и как-то мучительно медленно, словно из липкого месива, выбирался из комнаты, виновато и одновременно обиженно склоняя голову на ходу и пряча глаза. А иной раз — шумел. Под настроение. И голос его тогда неестественно звенел. Читал стихи, и невольно интонация чтения принимала оборонительно-обвинительный характер».
Кстати говоря, на машинописной копии, по которой воспроизводим мы «Жалобы алкоголика», под стихотворением стоит подпись: «Коля Рубцов». Слово «Коля» зачеркнуто и сверху от руки написано «Н». Не случайно, и Кузьминский, цитируя стихотворение «Сколько водки выпито...», называет Рубцова Колей. Как и «Жалобы алкоголика» — это стихотворение, действительно, написано Колей Рубцовым...
Перу Николая Рубцова принадлежат «Видения на холме», «Добрый Филя»...
И трудно не согласиться с Глебом Горбовским, что «питерский Рубцов как поэт еще только просматривался и присматривался, прислушивался к хору собратьев, а главное — к себе, живя настороженно внутренне и снаружи скованно, словно боялся пропустить и не расслышать некий голос, который вскоре позовет его служить словом, служить тем верховным смыслам и значениям, что накапливались в душе поэта с детских (без нежности детства) лет и переполняли его сердце любовью к родимому краю, любовью к жизни».
Рубцов «расслышал» позвавший его Голос.
Путь, на который, повинуясь призванию, вступил Николай Михайлович Рубцов, А. И. Солженицын называл невидимым...
Когда на тебя смотрят, когда ты оказываешься как бы на сцене общественного внимания, легче совершать подвиги или делать вид, что совершаешь их, срывая аплодисменты. Труднее идти своим путем, когда никто не видит тебя, когда пропадает путник в сумерках, сгущающихся над бескрайним полем...
ГЛАВА ПЯТАЯ
Когда человек не втянут в мелкую, ничтожную суету, когда душа его раскрыта и он внимает звучащему для него Глаголу, жизнь приобретает особую точность, из нее исчезают невнятные паузы безвременья.
В первой половине лета 1962 года Николай Рубцов получает аттестат зрелости и завершает вместе с Борисом Тайгиным издание своей книжки «Волны и скалы»...
— 1 —
Издание «Волн и скал» — а в 1998 году вышло репринтное издание этой книги! — история, достойная, чтобы остаться в хронике русской литературы.
Как писал Глеб Горбовский: «обозначил ряд имен и спохватился: где эти люди? Неужто умерли все? Почему не вижу столькие годы? Ни в городе, ни в деревне. Так ведь они уехали все, улетели. Будто птицы по осени. Только не на юг. На запад. Веселые были ребята...
А вот, скажем, Боря Тайгин — не улетел. Ни вглубь, ни вкось. Уцелел. Сдюжил. Смирил гордыню. Остался жить у себя на Васильевском острове. Невдалеке от Смоленского кладбища. Удивительно стойкий, хоть и не оловянный солдатик этот Боря Тайгин, принявший отпущенные судьбой муки и радости с улыбкой ребенка, а не с ухмылкой закаленного в коммунальных битвах страстотерпца. Известно, что зло в человеке — это болезнь, тогда как добро — норма. Зло в себе необходимо лечить каждодневно, ежесекундно. Но есть люди, к которым эта хворь как бы не пристает. У них — иммунитет. Мне думается, что Боря Тайгин из этого ряда неподверженных. В старину их именовали блаженными...»
Еще можно назвать Бориса Тайгина подвижником. Он издал за свою жизнь несколько тысяч сборников стихов своих приятелей-поэтов.
Если учесть, что они печатались на пишущей машинке тиражом в пять экземпляров, то можно совместить данное нами имя с определением Горбовского... Получится — блаженный подвижник... Вот этот «блаженный подвижник» и становится первым издателем стихов Рубцова...
«В конце мая, — вспоминает Борис Тайгин, — Рубцов позвонил мне по телефону, мы уточнили день и час его прихода ко мне, и вот — 1 июня 1962 года Николай Рубцов у меня дома! Он оказался простым русским парнем с открытой душой, и минут через 10 после его прихода мы беседовали, как старые друзья! Я включил свой магнитофон, и мы прослушали чтение поэтами своих стихов, которые у меня были ранее записаны на ленту. Я сказал Николаю, что решил записывать на магнитофонную ленту стихи своих друзей в авторском чтении и что, как мне кажется, через определенный отрезок времени такие записи будут представлять уникальную ценность! Он одобрил это начинание и тут же сам зачитал мне на ленту десять своих стихов! Я также показал Николаю несколько машинописных книжечек, которые сам напечатал и переплел, и объяснил, что таким вот образом решил собирать совершенно необычную библиотеку современной поэзии, где авторы стихов — мои друзья, стихи которых я хотел бы иметь у себя! Эта мысль очень понравилась Николаю, и тогда я тут же предложил — напечатать с помощью моей машинки подобие настоящего сборника стихотворений Николая Рубцова, под редакцией самого автора! У Николая имелось с собой довольно много машинописных листков с его стихами и мы, не откладывая дела в «долгий ящик», стали обсуждать: что из себя должна представлять такая книжка стихов? Николай набросал ориентировочный макет книжки...
Расстались мы в этот вечер добрыми друзьями. В свете нашего замысла об издании его книжки стихов Николай в скором времени обещал снова зайти ко мне. Я немедленно приступил к печатанию на машинке оставленной им подборки стихов, получая при этом настоящее эстетическое Удовольствие, настолько стихи его были великолепны!»
В течение полутора месяцев Рубцов бывал у Тайгина довольно часто, принося с собою каждый раз новые стихи. Многие он, по ходу составления книжки, переделывал.
В начале июля работа по созданию задуманной книжки подошла к концу. В окончательном варианте в книжку вошло 38 стихов, разделенных на восемь тематических циклов: «Салют морю», «Долина детства», «Птицы разного полета», «Звукописные миниатюры», «Репортаж», «Ах, что я делаю», «Хочу — хохочу», «Ветры поэзии»...
Рубцов назвал свою книжку «Волны и скалы», объяснив, что «волны» означают волны жизни, а «скалы» — различные препятствия, на которые человек натыкается во время своего пути по жизни. Стихи в книжке, говорил он, именно об этом, и лучше названия — это слова самого Николая Рубцова! — придумать невозможно!
7 июля сборник был полностью перепечатан, и оставалось лишь переплести его. Николай весь этот вечер провел у Тайгина. Внимательно перечитал все стихи. Потом сказал, что хорошо бы написать несколько вступительных слов...
11 июля был готов и текст «от автора».
«В этот сборник, — писал Николай Рубцов, — вошли стихи очень разные. Веселые, грустные, злые...
Кое-что в сборнике слишком субъективно. Это «кое-что» интересно только для меня, как память о том, что у меня в жизни было. Это стихи момента.
Стихотворения «Березы», «Утро утраты», «Поэт перед смертью...» не считаю характерными для себя в смысле формы, но душой остаюсь близок к ним...
И пусть не суются сюда со своими мнениями унылые и сытые «поэтические» рыла, которыми кишат литературные дворы и задворки.
Без них во всем разберемся.
В жизни и поэзии — не переношу спокойно любую фальшь, если ее чувствую.
Каждого искреннего поэта понимаю и принимаю в любом виде, даже в самом сумбурном.
По-настоящему люблю из поэтов-современников очень немногих.
Четкость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных молодых поэтов. Это — характерный знак времени.
Пока что чувствую этот знак и на себе.
Сборник «Волны и скалы» — начало. И, как любое начало, стихи сборника не нуждаются в серьезной оценке. Хорошо и то, если у кого-то останется об этих стихах доброе воспоминание».
Предисловие необычное, как необычна и сама книга, как необычен и способ издания ее. В нем много задора, даже нахальства... Но еще больше застенчивости... В характере Рубцова уживалось и то и другое. Уживается это и в предисловии...
И все-таки главное в предисловии то, что не сказано словами. Главное — прощание с еще одним этапом собственной жизни... Рубцову и дорого то, что остается позади, и вместе с тем — он сам пишет так! — пока все пережитое и наработанное не нуждается в серьезной оценке.
13 июля весь тираж — шесть экземпляров! — лежал на письменном столе. Полуторамесячная работа была завершена!
— 2 —
А время торопило Рубцова... Очень плотно пошли события, и, взяв очередной отпуск, в середине лета Рубцов уезжает в Николу.
По дороге заезжает в Вологду.
Сохранилось его письмо, адресованное сестре:
«Галя, дорогая, здравствуй! Как давно я тебя не видел! Встречу ли еще тебя? Сейчас я у отца и у Жени. Проездом. Еду в отпуск, в Тотьму. До свидания...»
Письмо суматошное...
Чувствуется, что Рубцов чем-то очень взволнован. Волнение это без сомнения связано с отцом.
Есть маленький домик в багряном лесу, И отдыха нынче там нет и в помине: Отец мой готовит ружье на лису И вновь говорит о вернувшемся сыне...Стихотворение «Жар-птица» впервые опубликовано в «Вологодском комсомольце» 10 октября 1965 года, но написано оно наверняка раньше, скорее всего еще тогда, в шестьдесят втором.
Косвенным свидетельством этого служит не только «автобиографическая» строфа, но и образный строй, характерный для ленинградского периода:
Мотало меня и на сейнере в трюме, И так, на пирушках, во дни торжества, И долго на ветках дорожных раздумий, Как плод, созревала моя голова. И хотя несколько затянутый диалог: — Старик! А давно ли ты ходишь за стадом? — Давно, — говорит. — Колокольня вдали Деревни еще оглашала набатом, И ночью светились в домах фитили. — А ты не заметил, как годы прошли? — Заметил, заметил! Попало как надо. — Так что же нам делать, узнать интересно... — А ты, — говорит, — полюби, и жалей, И помни хотя бы родную окрестность, Вот этот десяток холмов и полей... —пока еще проигрывает афористической иронии «Доброго Фили», да и в голосе пастуха прорываются какие-то опереточные нотки, но появляются здесь и новые, еще не встречавшиеся в стихах Николая Рубцова мотивы.
Впервые здесь Рубцов говорит об отце как о живом человеке, которого не только не убила на войне пуля, но который сам готовит ружье на лису...
Впервые любовь к родной земле, к Отчизне воспринимается здесь как средство собственного спасения...
В стихотворении так много необычного для Рубцова стилевого разнобоя, что невольно закрадывается мысль, а не специально ли сохранены эти огрехи, как живая запись свершившегося с ним чуда, когда нелепой увиделась вдруг позиция «кривостояния», когда так просто:
...в прекрасную глушь листопада Уводит меня полевая ограда, И детское пенье в багряном лесу...И когда прямо в руки слетает сказочная жар-птица поэзии...
Итак... Выпуск первой, пусть и самодельной книжки, подытоживший длительный, растянувшийся на целое десятилетие поиск в поэзии своего Пути, своего голоса...
Примирение с отцом, поставившее точку в неразберихе отношений с ним...
Но это не все...
В конце июля 1962 года Николай Рубцов на вечеринке знакомится — во второй раз! — со своей будущей женой Генриеттой Михайловной Меньшиковой.
«Мы провожали в армию Владимира Аносова, — вспоминает она. — Был праздник. И вот в разгар праздника зашел невысокого роста лысый парень. Конечно, сразу обратила внимание — кто? Потом пошли в клуб, и там я узнала, что это Рубцов Коля. Да, он был совершенно неузнаваем».
Любовь это была или увлечение — судить трудно.
Во всяком случае, вскоре после отъезда Рубцова из Николы Генриетта Михайловна едет следом за ним: устраивается работать почтальоном в городе Ломоносове под Ленинградом. Вместе с подругой она ездила в общежитие на Севастопольской, но Николая там уже не было...
— 3 —
Экзамены на аттестат зрелости, «издание» книжки, подытожившей долгий этап поисков самого себя, знакомство с будущей женой, очередное примирение с отцом — события в жизни Рубцова плотно следуют друг за другом.
В Вологде Рубцов снова заехал к отцу. Тот провожал его до вокзала и всю дорогу нес чемодан, а на вокзале купил бутылку вина, и — ему категорически было запрещено пить — выпил на прощанье.
Рубцов знал, что отец — поэтому он и примирился с ним! — болен, но он не знал, что видит отца в последний раз...
Вернувшись в Ленинград, Рубцов нашел письмо из Литературного института. Его извещали, что он прошел творческий конкурс и приглашается для сдачи вступительных экзаменов.
Существует легенда, будто на вступительные экзамены Рубцов опоздал, и его зачислили в институт без экзаменов. Однако документы «личного и учебного дела Рубцова Николая Михайловича»[10] в корне опровергают ее.
Экзамены Николай Рубцов сдавал в установленные сроки. Четвертого августа написал на четверку сочинение, шестого получил пятерку по русскому языку и тройку по литературе, восьмого — четверку по истории и десятого — тройку по иностранному языку. Отметки, конечно, не блестящие, но достаточно высокие, чтобы выдержать конкурс.
23 августа появился приказ № 139, в котором среди фамилий абитуриентов, зачисленных на основании творческого конкурса и приемных испытаний студентами первого курса, значилась под двадцатым номером и фамилия Николая Михайловича Рубцова.
Отметим тут, что хлопотать о поступлении в Литературный институт Николай Рубцов начал еще в 1961 году, о чем свидетельствует его письмо, недавно опубликованное Вячеславом Белковым.
«Мне двадцать шестой год. Я русский, член ВЛКСМ. Самостоятельную жизнь начал с 1950 года, после выхода из детского дома, где воспитывался с первого года войны. Все это время работал, учился. Служил четыре года на Северном флоте... Последнее время работаю на Кировском заводе в Ленинграде... Начинаю сдавать экзамены за десятый класс в вечерней школе. Думаю, что сдам: не зря ведь я посещал ее два года! Желаю учиться на дневном отделении, на основном, в вашем институте. Могу и на заочном. В другие институты не тянет, а учиться надо...»[11]
Это письмо мы приводим еще и потому, что оно опровергает и другую легенду о Рубцове... Распространено мнение, что ни в какой вечерней школе Николай Михайлович не учился, а аттестат зрелости — находятся и свидетели, якобы присутствовавшие при этом! — куплен на черном рынке.
Конечно, и вспоминать об этих легендах не стоило бы, если бы автором их, как мы полагаем, не был сам Рубцов.
Это он и рассказывал ленинградским приятелям, любившим вместе с ним читать вывески наоборот, что «западло» ему ходить в вечернюю школу, есть у него более достойные поэта занятия...
Это он и придумал, что в Литературный институт его приняли без экзаменов, только за один талант...
Нет...
Как мы и говорили, и вечернюю школу Николай Рубцов заканчивал, и экзамены в институте сдавал. И сдал успешно.
В конце августа, радостный, в приподнятом настроении возвращается Рубцов в Ленинград, чтобы рассчитаться с заводом и выписаться из общежития.
Здесь и ожидало его письмо от отца, отправленное, видимо, вскоре после расставания...
«Здравствуй дорогой родной сыночек Коля! Первым долгом сообщаю что здоровье мое после твоего отъезда сильно ухудшается, почти ежедневные сердечные приступы, вызывали скорую помощь, зделают укол. Правда навремя боли прекращаются, а потом опять. Этоже медикаменты которые пользы не дают. Дорогой Коленька узнай пожалуйста можно или нет попасть к профессору хотелось бы на осмотр и консультацию. Неплохо бы попасть в больницу. Узнайте пожалуйста и отпишите мне какие надо документы и когда можно приехать. Привет от моей семьи твой отец М. Рубцов. 24.VII.62». (Стиль и орфография — подлинника. — Н. К.)
Никаких свидетельств о хлопотах Рубцова по поводу отца обнаружить не удалось. Впрочем, хлопоты все равно оказались ненужными...
29 сентября 1962 года Михаил Андрианович Рубцов умер от рака.
Николай Рубцов в этот день вернулся в Москву «с картошки».
— 4 —
О неделях, проведенных будущими писателями в колхозе, сохранилось немало воспоминаний...
Однокурсник Николая Рубцова Александр Черевченко запомнил, например, бригадира с рваным горлом и танки, которые проламывали лесную дорогу...
«Деревня, где нас разместили по избам... — вспоминает Михаил Шаповалов, — уже растеряла большую часть жителей: не только молодые, но и все, кто мог рассчитывать на сносный заработок, подались в столицу и пригороды. Помню, мы были поражены, когда случайно выяснилось, что электричество в деревню провели не так давно: в пятидесятые. «И это в двухстах километрах от Москвы!» — как бы подвел черту кто-то. На что Рубцов сказал со значением:
— Эх, не видели вы наших вологодских деревень!..
Мы промолчали. Чего не видели, того не видели».
Потом наступили дождливые, слякотные дни и даже колхозный бригадир — когда он говорил, затыкал пальцем дырку на горле — склонен был считать, что работать в поле в такой дождь нельзя.
«Мы целыми днями валялись на соломенных тюфяках и придумывали себе занятия... — вспоминает Эдуард Крылов. — Высшим смыслом всех занятий было «узнавание» друг друга. Пожалуй, самым незаметным среди всех был Николай Рубцов.
В тот день, как и в предыдущие, поэты читали свои стихи. Рубцов подошел к нашей группе, лег, облокотясь на тюфяк, послушал немного, а потом очень искренне сказал:
— Разве это стихи?
— Читай свои! — предложил кто-то.
Он сел и монотонным голосом стал читать «Фиалки». Но с каждой новой строкой голос становился звонче, выразительнее, пока не превратился в то, что называют «криком души».
Впечатление было очень сильным. В то время кумирами читающей публики были Евтушенко, Вознесенский... В Рубцове сразу почувствовали нечто совсем другое. Парадоксально, но «необычная» поэзия «под Евтушенко» звучала уже слишком обычно, а «обычная» поэзия Рубцова прозвучала необычно.
Рубцову ничего не было сказано, но стихов больше не читали».
Здесь, в колхозе под Загорском состоялся и первый литинститутский триумф Рубцова. В местном клубе был проведен литературный вечер...
Клуб — обыкновенная изба, где стояли в несколько рядов скамейки, а у задней стены (чуть приподнятый над полом помост) размещалась сцена. Публика — в основном старики с детворой. Литинститутские поэты читали стихи. Принимали каждого, как вспоминает Михаил Шаповалов, радушно, однако самый большой успех выпал на долю Рубцова.
«Стоя на краю сцены, он читал громко, уверенно и, отвергая жестом руки заслуженные аплодисменты, переходил от хохм о флотской жизни к любовной лирике, к стихам о Вологодчине»...
Тем не менее сам Рубцов свое пребывание на картошке описывал менее восторженно...
«Деревня нам досталась очень подлая. Без одной гармошки, без магазина, без девок... Деревня была даже без петухов. Дожди шли беспрерывно, и дул сильный ветер».
Впрочем, все это не в деревне... Это в письме Шнейдерману, и тут, конечно же, надо сделать поправку на ту «позицию кривостояния», о которой мы уже говорили, и сойти с которой Николаю Михайловичу Рубцову, и перебравшись в Москву, удалось не сразу.
— 5 —
И вот, еще «не успокоившись после колхоза», Рубцов узнает о смерти отца.
На похороны он не смог выбраться, но на девятый или двадцатый день ездил.
Сохранилась фотография — Николай Рубцов, низенькая тетка Софья Андриановна и высокая, светлоглазая мачеха Женя — стоят над могилой Михаила Андриановича.
За спинами — глухой кладбищенский забор.
На могильном холмике постелена белая косынка. На ней — ломти хлеба, металлический чайник с бражкой.
Все женщины на фотографии в платках. Николай Рубцов — единственный в этой компании мужчина — стоит в пальто с поднятым воротником. На голове — шляпа...
Почему Николай Михайлович не обнажил голову перед могилой отца? Может, было — недавно прошел дождь, видно, что доски забора темны от сырости — холодно?.. А может быть, Николай Михайлович просто позабыл про шляпу?
Так или иначе, но Рубцов стоит над могилой отца с покрытой головой, и некому сделать ему замечание. Он — на фотографии! — единственный мужчина...
И тут прямо с кладбищенской фотографии — дорога в другой сюжет...
Альберта так и не сумели отыскать, чтобы сообщить о смерти отца... На обратном пути из Вологды Николай заезжал в Невскую Дубровку, но брат не появился дома.
Валентина Алексеевна рассказала Николаю, что месяц назад решили они сходить в баню...
Она полотенца собирала, мочалки, мыло, а Альберт сказал:
— Пойду покурю на лестничной площадке...
Когда Валентина Алексеевна вышла позвать его — никого на лестнице не было. Валентина Алексеевна решила, что Альберт уже ушел в баню, отправилась туда. Но и в бане Альберта не было. И домой не вернулся...
— Целый месяц уже ни слуху ни духу. Может, на развод подать, Николай?
— Куда вам разводиться... — ответил Рубцов. — Вам детей надо вырастить.
— Так про детей и говорю... Алименты хоть получать будут...
— Не знаю...
Так и уехал в Москву Николай Рубцов, не разыскав Альберта.
В Вологде мачеха Женя устроила его спать в отдельную комнату. Николай потом рассказывал, что долго не мог заснуть, ворочался, прислушиваясь к глухой вологодской тишине...
И вдруг — раздался стук в окно... Явственно прозвучало: тук-тук-тук...
Рубцов вскочил, бросился к окну, но там никого не было.
До конца жизни не мог отделаться он от ощущения, что это умерший отец стучал тогда ночью в его окошко...
И все сильнее сжимается время, все плотнее — одно за другим! — события...
Из Вологды, как мы говорили, Николай Рубцов поехал в Ленинград. Здесь, в общежитии, и узнал он, что Генриетта Михайловна разыскивала его.
— 25 октября у меня был день рождения... — вспоминает Генриетта Михайловна. — Я сидела одна в общежитии и грустно думала, что даже знакомых у меня нет здесь. И вдруг вызывают на вахту: «Тебя там молодой человек спрашивает...»
Генриетта Михайловна вышла и увидела Рубцова...
Тогда и узнал Николай Михайлович, что у него будет ребенок.
Смерть отца и известие о приближении собственного отцовства...
Вроде ничего особенного в этом совпадении нет. Кроме того, что вдруг в корне меняется положение самого Рубцова. Смерть отца освободила его от «сиротского комплекса». Но что же взамен? Взамен Рубцов сам вдруг становится отцом, бросающим своего ребенка.
Это даже не ирония судьбы — это больше похоже на злобный смех тех потусторонних сил, голоса которых — вспомните «детское пенье в багряном лесу» — все ближе, все явственней различал Рубцов...
Рубцову, судя по воспоминаниям Генриетты Михайловны, в Ломоносове не понравилось.
Он приехал вечером, а утром уехал.
Они простились на ораниенбаумской платформе. Генриетта Михайловна купила — денег у Рубцова совсем не было! — билет на электричку до Ленинграда.
Было сыро. В свинцовой дымке едва проступали вдалеке очертания Кронштадта. Дул с залива холодный, пронзительный ветер. Летели на мокрый перрон последние листья.
Рубцов угрюмо сутулился.
— Я поеду... — сказал он, когда пришла электричка. — А ты... Ты в Николу возвращайся... Чего тебе здесь делать?
Генриетта Михайловна это указание выполнила. Отработала положенный месяц и уехала назад в Николу, деревню, из которой она больше уже не уезжала никуда.
Устроилась работать в клуб на тридцать шесть рублей жалованья.
20 апреля 1963 года у Рубцова родилась дочка... Из Москвы тогда пришла в Николу телеграмма: «Назови Леной = Очень рад = Коля».
— 6 —
«С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносящихся к Никитским воротам машин.
В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять в день...» — так описывает жаркий августовский день 1962 года Станислав Куняев, работавший тогда заведующим отделом поэзии в журнале «Знамя». И вот: «Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка: выглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.
— Здравствуйте, — сказал он робко. — Я стихи хочу вам показать.
Молодой человек протянул мне странички, где на слепой машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать:
Я запомнил, как диво, Тот лесной хуторок, Задремавший счастливо Меж звериных дорог...
Я сразу же забыл... о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет...
Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие махонькие глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.
— Как Вас звать?
— Николай Михайлович Рубцов...»
К вечеру в редакцию зашел Анатолий Передреев, и Куняев показал ему стихи Рубцова.
— Смотри-ка... — сказал Передреев. — А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку. Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...
Вот так и произошла счастливая и крайне важная для Николая Рубцова встреча с поэтами, которым суждено было сыграть большую роль в его писательской судьбе.
Как пишет Вадим Валерианович Кожинов, эти люди «дали возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути».
Вадим Кожинов вспоминает, что наибольшим успехом пользовались такие стихи Рубцова, как «Добрый Филя», «Осенняя песня», «Видения на холме». А в дальнейшем с таким же восторгом были встречены и «В горнице», «Прощальная песня», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...».
Что и говорить — попадание полное, стопроцентное. Это было как прорыв безнадежности. Наконец-то Рубцов нашел свой круг общения, своего читателя.
То главное, что в Ленинграде «оценивалось жирными минусами оппонентов», нашло в Москве живой отклик, и это главное рванулось из Рубцова новыми, обжигающими стихами.
Поэт говорил о себе, но его судьба, словно бы вобравшая в себя сиротство, обездоленность и нищету таких, как он, и была судьбой страны, и, говоря о себе, говорил Рубцов ту правду, которую ему было назначено поведать.
Сближение с кружком московских поэтов было важно для Рубцова и с практической точки зрения. Во многом именно благодаря дружбе с Вадимом Кожиновым главным стихам Рубцова удалось сравнительно быстро пробиться к читателю.
А это было нелегко. Эстрадная поэзия была тогда в моде. Ее любили и московская интеллигенция, и сидельцы от идеологии из ЦК... Однако, вопреки эстрадному поветрию, Вадим Кожинов сумел заинтересовать рубцовскими стихами Дмитрия Старикова.
Когда тот стал заместителем главного редактора «Октября», Рубцов (с помощью, кстати сказать, Владимира Максимова) начал печататься в этом журнале. В «Октябре» были опубликованы: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Видения на холме», «Памяти матери», «Добрый Филя» и другие стихотворения. Дружба с журналом не прерывалась и потом, и неоднократно в трудные минуты Николай брал от редакции командировки.
Конечно, сейчас можно оспаривать роль небольшого кружка московских поэтов в судьбе Николая Рубцова. Можно говорить, что он и так не бросил бы писать стихи, но все же...
Как вспоминает Эдуард Крылов, признание таланта Рубцова в Литературном институте отнюдь не было безоговорочным, «поэты либо вовсе не признавали его, либо признавали с большими оговорками и отводили ему очень скромное место».
«Стихи Рубцова, — вторит Крылову Михаил Шаповалов, — поначалу на семинаре и в среде стихотворцев успеха не снискали. С благословения руководителя семинара Н. Н. они подвергались нападкам за «пессимизм», за «односторонность» изображаемого мира и тому подобное. Только со временем, когда стало известно, что в «Советском писателе» готовится к изданию книга Рубцова, Н. Н. (Николай Николаевич Сидоренко. — Н. К.) изменил к нему свое отношение».
В справедливости этих утверждений убеждаешься, листая журнал семинарских занятий за 1963—1964 гг. Напомним, что Николай Рубцов занимался в семинаре Николая Николаевича Сидоренко. Кроме Рубцова в этом семинаре учились Г. Багандов, Д. Монгуш, В. Куропаткин, М. Шаповалов, Г. Шуров, В. Лякишев, А. Рябкин, И. Шкляревский.
29 октября 1963 года состоялось обсуждение стихов Рубцова.
Он читал подборку из десяти стихотворений: «А между прочим, осень на дворе...», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «На перевозе», «Ночь на перевозе», «Полночное пение», «В лесу под соснами», «Тихая моя родина...», «Над вечным покоем», «Я забыл, как лошадь запрягают...».
Подборка, разумеется, неровная, но многим из перечисленных стихов предстояло войти в хрестоматии. Поэтому-то и интересно, как воспринимались эти стихи тогда, в октябре 1963 года...
Записи в журнале семинарских занятий, конечно, не стенограмма, но общий характер выступлений они передают... Первым взял слово Газимбек Багандов.
— Если бы Рубцов работал над стихами больше, он обогнал многих бы из нас... — сказал он и в подтверждение своей мысли заявил, что многое из поэзии Рубцова ему близко.
Хотя, конечно, имеются и недостатки... — Меня не удовлетворяют концовки в стихах... Вот стихотворение «Ворона». Для чего написано это стихотворение, о чем оно — я не понял. «Ворона» ничего людям не дает. «В конце отпуска...». Четвертая строфа, две последние строчки прозаичны, а до них были хорошие строчки, тем обиднее срыв... Почти всегда мысль, тогда, когда она должна завершиться выводом, уходит в сторону, затихает... «Я буду скакать...» — хорошее стихотворение, где тоже не все ясно для меня, но ряд строчек, общая мысль — понятны. Очень жаль, что не все стихи сделаны до конца.
— То, что Рубцов талантлив, факт, — сказал следом за Багандовым В. Лякишев. — Но и восхвалять особенно нечего. Стихи хорошо сделаны, широк их диапазон. За стихами встает человек совершенно ясного, определенного характера. Грустный человек... Перепевы или, вернее, повторы тем А. Блока, С. Есенина...
А вот мнение Арсения Рябкина о стихах Рубцова:
— Меня удивляет, что тема «деревня», «родина» очень гнетуще написана... Ряд слов и образов не из того «словаря». Совмещение разных вещей... «Отрок» — «десантник», или в стихотворении «Я буду скакать...» — звездная люстра? Это образ не из тех стихов. Рубцов сильно, крепко начинает стихотворение «Над вечным покоем», а дальше идут слабые строчки, нет законченной мысли...
И даже руководитель семинара Николай Николаевич Сидоренко, человек, в общем-то, профессионально чувствующий поэзию, не сумел понять всей необычности того семинарского занятия, на котором прозвучало сразу столько шедевров русской лирики.
Бегло похвалив Рубцова, он тут же заявил:
— Надо, чтоб поэт ставил перед собой большие задачи, с каждым стихотворением. Надо, чтоб грусть становилась просветленной. Вскрывать закономерности времени. Облик Родины все-таки меняется, это должно стать предлогом для больших обобщений, а не просто констатация фактов, пусть и в своей окраске впечатлений. В поэзии должна быть перспективность... Поэзия должна утверждать. Пусть с вами произойдет второе рождение!
Разумеется, непедагогично «захваливать» семинариста, но и пожелать автору стихов «Тихая моя родина...», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» второго рождения — тоже не свидетельствует об особом педагогическом даре...
Когда перечитываешь записи, сделанные в дневнике семинарских занятий, отчетливо понимаешь, что, хотя и звучали на этих занятиях лучшие стихи Рубцова, их здесь не слышали.
Не способствовал взаимопониманию с семинарскими сочинителями стихов и характер Николая Михайловича.
«Он был всяким, но никогда не был ни вздорным, ни злым... — вспоминает Эдуард Крылов. — О поэзии и поэтах, как ни странно, говорить он не любил. К поэзии своих друзей — Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Владимира Соколова, Глеба Горбовского — был снисходительным, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости».
«Я искренне считал тогда, что так строго Рубцов судит чужие стихи только из-за того, что однажды постановил себе быть предельно честным, бескомпромиссным в литературе, и это было для меня примером и уроком на всю дальнейшую жизнь, — как бы спорит с Крыловым Анатолий Чечетин. — А теперь ясно другое — он судил коллег на уровне своего мастерства, своего таланта, а это (выделено мной. — Я. К.) было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей...»
— 7 —
Перемена, произошедшая в Рубцове, реализовалась уже при составлении второго, к сожалению, неизданного сборника «Над вечным покоем». Составляя его, Рубцов безжалостно — в Москву приехал с баулом, набитым стихами, — бракует прежние сочинения, еще вчера казавшиеся интересными.
Судьба ранних стихов неведома. Кое-что сохранилось в частных архивах, но большинство, вероятно, погибло...
Как писал и как хранил Рубцов свои стихи, мы знаем из воспоминания Эдуарда Крылова...
«Какое-то время мы жили с ним в одной комнате. Стол его всегда был завален стихами, старыми и новыми, рукописными и отпечатанными на машинке. Я никак не мог понять, когда же он их пишет. Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим» стихи. Днем у него явно не было времени, вечерами мы шли к кому-нибудь в гости или к нам кто-нибудь приходил. Ложились всегда поздно, и утром я видел его еще обычно спящим...»
Уезжая на летние каникулы, Николай убрал свои бумаги в ящики письменного стола, а когда осенью вернулся, выяснилось, что в комнате делали ремонт, мебель вынесли — все письменные столы стояли в коридоре...
Своего стола Рубцов так и не нашел. Вероятно, ленинградский архив Николая Рубцова закончил существование в мусоропроводе или на складе макулатуры.
Впрочем, Рубцов не особенно-то и разыскивал пропавшие бумаги...
Он стал другим...
И он слышал уже другие стихи...
«Однажды, — пишет Эдуард Крылов, — я проснулся очень рано, в пятом часу, и вышел в коридор. Рубцов, в пальто с поднятым воротником, совершенно ушедший в себя, мерил шагами коридор»...
Рубцов не сразу заметил Крылова, но когда увидел, остановил:
— Вот, послушай строчки.
И прочитал стихотворение «Плыть, плыть...»:
Плыть, плыть, плыть Мимо родной ветлы, Мимо зовущих нас Мимо сиротских глаз... Если умру — по мне Не зажигай огня! Весть передай родне И посети меня. Где я зарыт, спроси Жителей дальних мест, Каждому на Руси Памятник — темный крест!Потом Николай Рубцов переделает «темный» крест на «добрый», но едва ли это было сделано добровольно...
Крест не бывает «не добрым», крест всегда «добрый». Но если соотносить крест с рубцовской судьбой, которая обозначается в этом стихотворении как полупрозрение, полупророчество, то, конечно же, крест этот оказывается и тяжелым, и темным...
Рубцов это, пожив в Москве, различал совершенно ясно.
Кстати сказать, перемену, произошедшую в Рубцове, остро почувствовали и его ленинградские друзья.
В Рубцовском фонде, в Государственном архиве Вологодской области, хранится письмо Эдуарда Шнейдермана, в котором тот просит узнать об условиях приема в Литературный институт, куда он собирается поступать с Константином Кузьминским.
Это тоже, как любит выражаться господин Кузьминский, литературный факт. Только теперь уже из жизни составителя антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны», факт, о котором, как я понимаю, он сам не любит вспоминать теперь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Рубцов поступил в Литературный институт, когда ему исполнилось двадцать шесть с половиной лет. Детдом, годы скитаний, служба на флоте, жизнь лимитчика-работяги... Это осталось позади. Впереди — неясно! — брезжил успех. Пока же Рубцов был рядовым студентом.
О жизни Рубцова-студента написано столько воспоминаний, что порою трудно отделить правду от слухов, факты от домыслов, и волей-неволей приходится обращаться к архивным свидетельствам.
— 1 —
Свернешь с Тверского бульвара, пройдешь мимо памятника Герцену через двор, в дальний угол, к гаражу... Здесь, в полуподвале, и находилось хранилище институтских документов. Сразу за дверью — металлическая, выгороженная перильцами и оттого похожая на капитанский мостик площадка... Металлическая лестница ведет вниз, к стеллажам, на которых пылятся бесконечные папки и гроссбухи... Часть институтского архива была вообще не разобрана и свалена в соседней комнате прямо на пол. В этом канцелярском, зарастающем пылью море и искал я архивные свидетельства о Рубцове-студенте...
«Проректору Лит. института от студента 1 курса Рубцова Н.
Объяснительная записка
Пропускал последнее время занятия по следующим причинам:
1) У меня умер отец. На три дня уехал поэтому в Вологду.
2) Взяли моего товарища Макарова. До этого момента и после того был занят с ним, с Макаровым.
3) К С. Макарову приехала девушка, которая оказалась в Москве одна. Несколько дней был с ней.
Обещаю не пропускать занятий без уважительных причин. 10. XII - 62 г. Рубцов»
Поверх этой объяснительной записки резолюция: «В приказ. Объявить выговор».
«Ректору Литературного института им. Горького тов. Серегину И. Н. от студента первого курса осн. отд. Рубцова Н. М.
Заявление.
Я не допущен к сдаче экзаменов, т. к. не сдавал зачеты.
Зачеты я не сдавал потому, что в это время выполнял заказ Центральной студии телевидения... Писал сценарий для передачи, которая состоится 9 января с. г.[12]
Прошу Вас допустить меня к экзаменам и сдаче зачетов в период экзаменационной сессии.
7. I — 63 г. Н. Рубцов»
Резолюция: «В учебную часть. Установить срок сдачи зачетов 15 января. Разрешаю сдавать очередные экзамены».
«Ректору Литературного института им. Горького тов. Серегину от студента 1 курса Рубцова Н.
Объяснительная записка
После каникул я не в срок приступил к занятиям. Объясняю, почему это произошло.
Каникулы я проводил в отдаленной деревне в Вологодской области.
Было очень трудно выехать оттуда вовремя, т.к. транспорт там ходит очень редко.
Причину прошу считать уважительной.
25. 2. 63 г. Н. Рубцов»
Резолюция: «В учебную часть. Принять к сведению объяснения т. Рубцова».
Приведенные мною объяснительные записки и заявления студента Рубцова несколько не соответствуют образу бесшабашного поэта, который рисуют авторы некоторых воспоминаний.
Вспоминают, например, что в руки ректора Ивана Николаевича Серегина попала веселая эпиграмма Рубцова на самого себя:
Возможно, я для вас в гробу мерцаю, Но заявляю вам в конце концов: Я, Николай Михайлович Рубцов, Возможность трезвой жизни отрицаю.Иван Николаевич вызвал Рубцова...
— Это ваше заявление, Рубцов?
— Да...
— Коля! — с сожалением посмотрел на Рубцова Серегин. — Это же мальчишество!
Рубцов молчал.
Серегин тяжело вздохнул.
— Иди... — сказал он.
Эти воспоминания записаны со слов самого Николая Михайловича Рубцова и бесспорно, что некая рубцовская «редактура» события тут наличествует. И, безусловно, этот трансформированный в легенде облик более точно отражает состояние души автора «Тихой моей родины...», «Прощальной песни», нежели ставящие двадцатисемилетнего поэта в унизительное положение выкручивающегося школяра объяснительные записки.
Хотя...
Ведь и эти заявления и объяснительные записки — истина.
Та горькая истина, о которой исследователи творчества Рубцова и авторы воспоминаний стараются почему-то не думать...
— 2 —
В архиве Литературного института хранится объемистый фолиант, озаглавленный «Лицевые счета студентов на буквы Н-Э» за 1963 год. Страница номер тридцать два в этом фолианте посвящена анализу материального достатка студента Рубцова.
Записи по-бухгалтерски немногословны и содержательны:
«19 января 1963 выплачена Рубцову стипендия 22 рубля. Удержано 1 руб. 50 коп».
То же самое в феврале, марте, апреле, мае...
Жить на такие деньги в Москве было трудно.
И не разобрать, чего больше — юмора или горечи? — в рассказе Александра Черевченко, вспоминавшего, как Рубцов, вернувшись из института, долго лежал по своему обыкновению прямо в пальто на койке, а потом вдруг неожиданно спросил:
— Саша... А зачем тебе два пиджака? Подумав, Черевченко решил, что второй пиджак ему и впрямь ни к чему.
Тут же пиджак был продан. На выручку купили две бутылки вина, кулек жареной кильки, батон, пачку чая и конфеты-подушечки. Был пир.
Однако вернемся снова к «лицевым счетам»... 25 июня 1963 года Рубцов получил аж 66 рублей — стипендию сразу за три летних месяца. Что и говорить, 62 рубля 50 копеек — три с половиной рубля составили удержания! — не деньги для взрослого, имеющего ребенка мужика. С этими деньгами и уехал Рубцов в деревню. А вот когда вернулся назад, опоздав на занятия, — он задержался в Николе, собирая клюкву, чтобы купить билет, — приказом номер 157 его лишили сентябрьской стипендии, и в сентябре Рубцов не получал ничего...
Точно так же, как и в ноябре... Ну а вскоре его вообще отчислили из института... Всего же, как свидетельствует бесстрастный бухгалтерский документ, за полтора года учебы на дневном отделении Рубцов получил чуть больше двухсот рублей — примерно столько же, сколько он получал на Кировском заводе в месяц.
Конечно, в общежитии Литинститута нищета переносилась легче, но двадцать семь лет слишком большой возраст, чтобы не замечать ее. В москвичах Рубцова раздражало, что друзья специально приводят своих знакомых посмотреть на него.
Как в зверинец...
Сравнение это принадлежит самому Николаю Рубцову.
Как вспоминает Александр Черевченко, в общежитие частенько приходили «кружковцы», иногда задерживались на несколько дней, пили. Погуляв в не обремененной никакими заботами о быте общаги, они уезжали в свою достаточно благоустроенную жизнь. Припомнить, чтобы кто-нибудь приглашал Николая Рубцова к себе домой, Черевченко не сумел...
Делали так москвичи, разумеется, не специально, просто у каждого из них было слишком много проблем с родителями, с родными, чтобы можно было водить гостей из общежития, а главное, за плечами Рубцова была совершенно другая жизнь, и опыт незнакомой московско-ленинградским друзьям жизни выдавал его. Груз этот невозможно было сбросить вместе с пальто в прихожей московской квартиры, этот опыт непреодолимой преградой вставал на пути к сближению. У всех была своя жизнь, у Николая Михайловича Рубцова — тоже своя.
Об этом в шутку — в шутку? — и писал Николай Рубцов в 1962 году в своих апокрифических стихах:
Куда пойти бездомному поэту, Когда заря опустит алый щит? Знакомых много, только друга нету, И денег нет, и голова трещит.Очень точно передано состояние Николая Рубцова в воспоминаниях Бориса Шишаева.
«Когда на душе у него было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровать и долго смотрел в потолок... Я не спрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывается у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных мест своего одиночества. И в общежитии Литинститута, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это.
Женщины, как мне кажется, не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие».
— 3 —
Однокурсники, жившие с Рубцовым в одной комнате общежития, вспоминали, что Рубцов знал много страшных историй про ведьм и колдунов и часто рассказывал их по ночам.
Рассказывал глуховатым голосом.
Против окна качались ночные фонари, тени ползали по потолку, и легко было представить их ожившими силами зла — настолько яркими и жуткими были рубцовские истории. Порою однокурсник не выдерживал, вскакивал и быстро включал свет. Рубцов в эти минуты хохотал...
Конечно, Рубцов сам испытывал судьбу, сам из озорства вызывал из сумерек злых духов ночи. В его стихах навязчиво повторяются одни и те же образы ведьмовских чар. Иногда, как, например, в стихотворении «Сапоги мои — скрип да скрип», шутливо:
Знаешь, ведьмы в такой глуши Плачут жалобно. И чаруют они, кружа, Детским пением, Чтоб такой красотой в тиши Все дышало бы, Будто видит твоя душа сновидение. И закружат твои глаза Тучи плавные Да брусничных глухих трясин Лапы, лапушки...Но чаще и с каждым годом все грознее и неотвратимее уже не в озорном воображении, не в глубинах подсознания, а почти наяву возникают страшные видения:
Кто-то стонет на темном кладбище, Кто-то глухо стучится ко мне, Кто-то пристально смотрит в жилище, Показавшись в полночном окне...И все это — и пугающая самого Рубцова чернота, и отчаянная нищета, и понимание необходимости, неизбежности своих стихов — сплеталось в единый клубок. И как результат — срывы, те пьяные скандалы, о которых так часто любят вспоминать теперь. Конечно, ничего особенно страшного в этих скандалах не было, и, безусловно, другому человеку они бы сошли с рук. Но не Рубцову... Ему ничего не прощалось в этой жизни. За все он платил, и платил по самой высокой цене...
— 4 —
Как вспоминает Валентин Сафонов, сам факт существования Литературного института не всем был по нраву, и в качестве доказательства приводит высказывание, сделанное Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1963 году в частной беседе со студентами Литературного института.
— Горький, который в течение всей своей жизни очень многое делал для развития пролетарской литературы, в последние годы стал ей вредить, — глубокомысленно изрек Илья Григорьевич. — Самой крупной его диверсией было создание Литературного института...
Илья Григорьевич не обладал властью, достаточной для того, чтобы поправить «ошибку» Горького.
Однако нашлись люди, имеющие этой власти в избытке.
В июне 1963 года Литинститут, вернее, очное его отделение было закрыто. Набор очников на новый учебный год отменили. И только уже учившихся пожалели — решили довести до диплома.
— Нам, выходит, повезло, мы — последние из могикан, — грустно констатировал переваливший на второй курс
Николай Рубцов.
Сам по себе этот факт, казалось бы, к Рубцову имеет лишь опосредованное отношение, как и к остальным студентам Литинститута.
Но так только кажется...
Если вдуматься в мысль Ильи Григорьевича, то нетрудно понять, что, будучи чрезвычайно неглупым человеком, диверсией против пролетарской литературы он считал не весь Литературный институт, а только отдельных его представителей, ну, например, таких, как Рубцов...
И это их, в соответствии с руководящими указаниями Ильи Григорьевича, и следовало вычистить из института в первую очередь... Нет-нет...
Конкретно, по поводу Рубцова Илья Григорьевич Эренбург, разумеется, никаких распоряжений не делал. Едва ли он и вообще знал о его существовании... Речь шла о принципе... Так сказать, о самой постановке вопроса...
В центре Москвы происходила диверсия против пролетарской литературы... Советская литература теряла из-за разных деревенщиков свою интернациональную чистоту... Необходимо было, как указывал Илья Григорьевич, пресечь эту вылазку шовинистов в самом зародыше.
Впрочем, ни Рубцов, ни его товарищи-однокурсники и не догадывались тогда о надвигающейся опасности...
«Как-то теплым утром раннего лета мы с Эдиком и Колей решили пойти в Останкино покататься на лодке, — вспоминает Анатолий Чечетин. — К нашей компании присоединились еще ребята. Взяли две лодки. Катались по сравнительно небольшому прудику, веселясь и радуясь солнцу, теплу, молодой нежной зелени вокруг. Сняли рубашки, брызгались водой, догоняли друг друга, брали на абордаж лодку с тремя девушками, работницами молокозавода: опять хохмили, смеялись — отдыхали как-то сообща, живо и непринужденно...
Признаться, я никак не думал, что такой хорошей получится прогулка. Я наблюдал за Колей, как он подставляет лицо лучам солнца; как любуется гармонией дворца и леса; как он чуть деликатнее других по отношению к девушкам, хотя грубости и хамства никто из наших, разумеется, не допускал.
Коля был в белой рубашке с приподнятым воротником, какой-то по-домашнему умытый и обласканный добрым-добрым утренним весенним теплом. И о том, что эта прогулка наша — редкостный подарок судьбы, такого может не случиться больше никогда, подумалось мне в ту пору. Уверен, что и другие ребята, каждый по-своему и в определенный момент встречи, не могли не почувствовать, что в лодке среди нас есть тот, душе которого тяжелее всех нести бремя судьбы, но зато ему уготована необычайнейшая, редко на долю смертного выпадающая долгая-долгая жизнь...»
— 5 —
Лето 1963 года Рубцов провел в Николе...
О его жизни там некоторое представление дает письмо, адресованное Борису Абрамовичу Слуцкому...
«Дорогой Борис Абрамович!
Извините, пожалуйста, что беспокою.
Помните, Вы были в Литинституте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара — Рубцов Николай.
У меня к вам (снова прошу извинить меня) просьба.
Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, городского, расспрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочитаете?)
Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть отсюда на пароходе и потом — уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей (выделено мной. — Н. К.), которые могли бы помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам, просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многими) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости. Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.
Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализирую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)
Только сейчас плохая погода, и она меняет всю картину. На небе все время тучи.
Между прочим, я здесь первый раз увидел, как младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в это время с ними играют ангелы...
До свидания, Борис Абрамович».
Понятно, почему придушенный нуждой Рубцов решил обратиться с просьбой о помощи к Борису Слуцкому. О Слуцком он не раз слышал от Станислава Куняева, которого Борис Абрамович опекал. Но Станислав Куняев писал тогда про добро, которое должно быть с кулаками, и это импонировало Слуцкому куда сильнее, чем ангелы, играющие во сне с детьми... Денег Борис Абрамович, разумеется, не послал, но письмо сохранил и за это ему, конечно, великое спасибо...
В письме есть ключевые слова о том, что у Рубцова не оказалось адресов друзей, которые могли бы помочь...
Как страшно это признание...
Как горько было осознавать это самому Рубцову...
Тем более, когда все небо для него затянули грозовые тучи...
Осень шестьдесят третьего года помимо новых стихов принесла Рубцову и неприятности. Впрочем, поначалу они не особенно пугали. Просто жестче стали дисциплинарные меры. То, что сходило с рук раньше, что прощалось еще год назад, теперь неизбежно каралось.
Выписка из приказа № 157 от 24 сентября 1963 года: «2. За пропуски занятий по неуважительным причинам снять со стипендии на сентябрь месяц следующих студентов: 3. Рубцова Н. 2-й курс».
Выписка из приказа № 203 от 22 ноября 1963 года: «4. Студента 2-го курса тов. Рубцова Н. М. снять со стипендии на ноябрь месяц за пьянки и систематические пропуски занятий без уважительных причин».
И словно итог всего этого:
Приказ по Литературному институту им. Горького
№209
от 4 декабря 1963 года:
«3 декабря с.г. студент 2-го курса Рубцов Н. М. совершил в Центральном Доме литераторов хулиганский поступок, порочащий весь коллектив студентов Литературного института.
Учитывая то, что недавно общественность института осудила недостойное поведение Рубцова Н. М., а он не сделал для себя никаких выводов, исключить за хулиганство с немедленным выселением из общежития.
Проректор Литературного института
А. Мигунов».
Есть какая-то жесткая и неумолимая логика в череде этих приказов...
Нет-нет! Смешно было бы утверждать, что Рубцов не пил и вел себя примерно и тихо.
Увы... И пил... И буянил...
Но не следует забывать и того, что пили и буянили в Литературном институте многие. И, разумеется, администрация института не испытывала никакого восторга по поводу этих пьянок и время от времени принимала меры... Однако, судя по папке с приказами за вторую половину шестьдесят третьего года, никто не карался так строго, как Рубцов.
Так, может быть, скандалы Рубцова отличались каким-то особым размахом?
Нет... Судя по воспоминаниям тогдашних студентов Литинститута, некоторые гуляли и покруче Николая Рубцова, тем более что у них иногда было на что гулять...
Откуда же тогда систематическое, отчасти смахивающее на травлю, преследование?
Откуда это уже почти совсем мстительное: «Исключить... с немедленным выселением из общежития»?
Ведь для большинства студентов выселение из общежития значило лишь разлуку с Москвой. Для Рубцова же это было полной катастрофой, ибо никакой иной, кроме как в общежитии, жилплощади он не имел. И кто-кто, а администрация института прекрасно была осведомлена об этом обстоятельстве. В личном деле подшит тетрадный листок в косую линейку, на котором Николай Рубцов изложил всю свою биографию.
Помимо автобиографии, были в деле Рубцова и выписка из трудовой книжки, и сверенная с паспортом анкета... Так что проректор А. Мигунов, подписывавший роковой для Рубцова приказ, очень хорошо знал, что значит для него «немедленное выселение из общежития».
Возможно, со временем, когда будут опубликованы дополнительные свидетельства и материалы, прояснятся все детали этого рокового в жизни Рубцова события, но и сейчас уже можно восстановить в целом историю первой попытки изгнания поэта из института.
Итак... 3 декабря 1963 года Николай Рубцов совершил «хулиганский поступок», а уже 4 декабря — вот ведь оперативность! — его отчислили из института.
«Приказ об исключении Рубцова, — вспоминает Валентин Сафонов, — вывесили на доску незамедлительно, и в железно продуманных его формулировках действительно фигурировали слова «драка» и «избил».
— Дебошир со стажем! — сказал о Николае Рубцове один из старейших преподавателей. И тут же этот специалист по Достоевскому предложил привлечь поэта к уголовной ответственности.
«Только нам-то, студентам, — вспоминал Валентин Сафонов, — не верилось, что тщедушный, полуголодный и, главное, не терпящий никаких драк Коля Рубцов мог осилить дюжего дядю, немало и с пользой для себя потрудившегося на ниве литературного общепита. Начали собственное расследование. Выяснилось, что содержание приказа, мягко говоря, противоречит истине. Дело было так. В одном из залов Дома литераторов заседали работники наробраза, скучая, внимали оратору, нудно вещавшему с трибуны о том, как следует преподавать литературу в средней школе. Колю, проникшего в ЦДЛ с кем-то из членов Союза, у дверей этого зальчика задержало врожденное любопытство. Так и услышал он список рекомендуемых для изучения поэтов. Сурков, Уткин, Щипачев, Сельвинский, Джек Алтаузен... Список показался ему неполным.
— А Есенин где? — крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей. — Ты почему о Есенине умолчал? По какому праву?
Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятеля из ресторана, ухватил за пресловутый шарфик, повлек на выход... Рубцов, задыхаясь от боли и гнева, попытался оттолкнуть «интенданта», вырваться из его рук.
— Бью-ут! — завопил метрдотель. Подскочила прислуга. При своих, что называется, свидетелях составили протокол, который и лег в основу грозного приказа об исключении».
Ректором тогда был И. Н. Серегин. В памяти многих студентов осталось его худое, изможденное лицо. Серегин был неизлечимо болен. Диагноз: белокровие, рак крови...
Мы уже говорили, что к Николаю Рубцову Серегин относился хорошо, и, перелистывая выписки из приказов, вшитые в дело Рубцова, можно увидеть, что наиболее жестокие кары обрушиваются на голову Николая Михайловича как раз в отсутствие Серегина.
К счастью для Николая Рубцова, в декабре Литературный институт отмечал свой тридцатилетний юбилей...
К юбилею вернулся из больницы Серегин.
Его ли это заслуга или товарищей-студентов, установить трудно, но «дело» Рубцова решено было рассмотреть на товарищеском суде, который состоялся 20 декабря.
Суд (на нем председательствовал Водолагин[13]) после унизительного для Рубцова разбирательства все же «решил войти в ректорат института с предложением о восстановлении т. Рубцова в правах студента и о наложении на него за совершенный проступок строгого административного взыскания с последним предупреждением».
21 декабря Рубцов пишет заявление на имя Серегина:
«Учитывая решение товарищеского суда, прошу восстановить меня студентом института».
А 25 декабря И. Н. Серегин подписывает приказ № 216.
«В связи с выявленными на товарищеском суде смягчающими вину обстоятельствами (выделено мной. — Н. К.) и учитывая раскаяние тов. Рубцова Н. М., восстановить его в числе студентов 2-го курса.
Объявить ему строгий выговор с предупреждением об отчислении из института в случае нового нарушения моральных норм и общественно-трудовой дисциплины».
Мы уже говорили, что Иван Николаевич Серегин был неизлечимо больным человеком. Но надо сказать, что в отличие от многих других администраторов Литературного института он был еще и порядочным человеком.
Тот же Александр Черевченко вспоминает, что, отчаявшись из-за притеснений А. Мигунова (тот не стеснялся даже устраивать обыски в комнатах общежития), уехал он домой в Харьков, плюнув на институт, и здесь через два месяца его разыскал посланец ректора. Он передал Александру Черевченко записку И. Н. Серегина: «Саша! Напиши заявление о переводе на заочное. Через неделю я ложусь в больницу, и оттуда меня уже не выпустят».
Вот и Рубцова Иван Николаевич Серегин спас.
Хотя, если судить здраво, ничего особенного он не сделал. Ведь Литературный институт и задумывался его создателями как особое учебное заведение. Контингент учащихся был не велик и весьма специфичен. Возраст однокурсников Рубцова колебался от двадцати до тридцати лет. За спиной у каждого был свой немалый жизненный опыт, и единые мерки ко всем не подходили.
При И. Н. Серегине и не было единых мерок. В институте царила почти домашняя обстановка. Во всяком случае, гнев начальства легко смягчался, ошибка исправлялась. Так произошло и с Рубцовым. Кара за его, рядовые для студента Литинститута, прегрешения оказалась слишком суровой, и И. Н. Серегин, возвратившись ненадолго в институт, исправил ошибку.
Но так было при И. Н. Серегине. Он спас Рубцова и снова лег в больницу. Теперь уже навсегда...
Теперь спасать Рубцова стало некому.
— 6 —
И снова удивляешься, как точно совпадает судьба Николая Рубцова с историей страны.
В начале шестидесятых ужесточается общая обстановка в стране...
Прежние полулиберальные отношения уходят из оборота. Каждый конкретный человек становится интересным для системы не своей неповторимой человеческой сущностью, а лишь как исполнитель определенной социальной роли.
В разных учреждениях это проходило по-разному и в разное время. В Литературном институте процесс бюрократической унификации студентов совпал с последними месяцами работы в институте И. Н. Серегина.
Новую институтскую администрацию Николай Рубцов не устраивал уже потому, что не умел в нужную минуту сделаться незаметным, выпирал из любых списков и реестров.
Нет, он не был каким-то там бунтарем...
Просто, если обычного дебошира можно было все-таки как-то приструнить, то случай с Рубцовым оказался тяжелее. Никакие нравоучения, никакие собеседования не могли помочь ему преодолеть безнадежную нищету и неустроенность...
Зловещею птицей мелькает в это время в судьбе Николая Михайловича Рубцова его будущая убийца — Д.
В конце апреля 1964 года она возвращалась из отпуска в Воронеж.
«Со мной, — пишет она, — было несколько пол-литровых банок хмельного деревенского пива, которое варил к 1 Мая отец. Мне хотелось угостить одну знакомую московскую семью, но их не оказалось дома. Почему-то я вспомнила про Рубцова и позвонила ему в общежитие. Он случайно оказался дома. Мы встретились. Он неприятно поразил меня своим внешним видом. Стало ясно, почему он оказался дома. Один его глаз был почти не виден, огромный, фиолетовый «фингал» затянул его, несколько ссадин красовалось на щеке. На голове — пыльный берет, старенькое вытертое пальтишко неопределенного цвета болталось на нем. Я еле пересилила себя, чтобы не повернуться и тут же не уйти. Но что-то (здесь и дальше выделено мной. — Н. К.) меня остановило...
В гостинице он сидел у окна и медленно, с наслаждением глотал пиво. Мне было как-то неуютно, тревожно, я часто выбегала в коридор, а возвратившись, неестественно много болтала о каких-то пустяках. А все это шло оттого, что я боялась, чего-то боялась. Я боялась, что, не дай бог, Рубцов заговорит о чувствах. Товарищ — да, друг — да, но не более!»
Не более...
Чрезвычайно важно запомнить, что Д. с самого начала знакомства относилась к Рубцову весьма и весьма оскорбительно для него...
«Никаких свойств, — писала она, — присущих мужчине, настоящему мужчине, мне, казалось, в нем не было».
Признание потрясающее...
В конце шестидесятых, как мы знаем, пересилить это свое отношение или, по крайней мере, замаскировать его помогло Д. желание погреться в лучах растущей славы Рубцова, но в 1964 году никакой славы не было и в помине, и д. выпустила поэта из своих цепко-когтистых рук...
Так же, как Д., Николая Михайловича Рубцова воспринимали многие.
Он все время с какой-то удручающей последовательностью раздражал почти всех, с кем ему доводилось встречаться.
Раздражал одноглазого коменданта общежития, прозванного Циклопом...
Раздражал официанток и продавцов, преподавателей института и многих своих товарищей...
Раздражало в Рубцове несоответствие простоватой внешности с тем сложным духовным миром, который он нес в себе...
Раздражение в общем-то понятное.
Недоброжелатели Рубцова ничего бы не имели против, если бы Николай Михайлович по-прежнему служил на кораблях Северного флота, вкалывал бы на заводе у станка или в колхозе. Или вообще сидел бы где-нибудь в темном коридоре...
Это, по их мнению, и было его место.
А Рубцов околачивался в стольном граде, учился в довольно-таки престижном институте, проникал даже — ну, посудите сами, разве это не безобразие?! — в святая святых, в Центральный дом литераторов. Разумеется, люди покрупнее, поопытнее понимали, кто такой Рубцов, но таких людей в окружении поэта было немного, и новая администрация Литературного института не относилась к их числу.
— 7 —
То, что произошло с Рубцовым в июне 1964 года, настолько невероятно, что любой пересказ будет выглядеть как грубая ложь. Поэтому я и вынужден воспроизвести здесь тексты документов, которыми была нагружена покатившаяся на Николая Михайловича Рубцова «телега».
Напомню только, что Рубцов успешно сдал весеннюю сессию за второй курс и, как явствует из приказа № 101 от 22 июня 1964 года, был переведен на третий курс.
Аттестуя его, поэт Н. Н. Сидоренко дал ему на этот раз блестящую характеристику: «Если бы вы спросили меня: на кого больше всех надежд, отвечу: на Рубцова. Он — художник по организации его натуры, поэт по призванию». Уместно будет напомнить здесь, что крупные подборки стихов Николая Рубцова уже были заверстаны в журналах «Юность» и «Октябрь». И вот...
«Гл. администратору ЦДЛ от метрдотеля ресторана.
Докладная записка
Довожу до Вашего сведения, что 12 июня 1964 г. трое неизвестных мне товарищей сидели за столиком на веранде, который обслуживала официантка Кондакова. Время уже подходило к закрытию, я дал распоряжение рассчитываться с гостями. Официантка Кондакова подала счет, тогда неизвестные мне товарищи (здесь и дальше выделено мной. — Н. К.) заявили официантке, что они не будут платить, пока им не дадут еще выпить. Официантка обратилась ко мне, я подошел и увидел, что товарищи уже выпивши, сказал, что с них довольно и пора рассчитаться, на что они опять потребовали водки или вина, тогда я обратился к дежурному администратору, которая вызвала милицию. Когда приехала милиция и попросила, чтобы они уплатили, — один из них вынул деньги и сказал — «деньги есть, но платить не буду, пока не дадут водки». Время было уже 23.30, и буфет закрыт.
После долгих уговоров один из них все же рассчитался, и они были выпровожены из ЦДЛ.
16. VI. 64 Казенков».
Докладная записка заверена круглой печатью Центрального дома литераторов...
Вот такой документ...
Составлен он был четыре дня спустя после происшествия, когда дело об очередном «дебоше» Рубцова уже закрутилось вовсю, и, следовательно, у нас нет никаких оснований предполагать, что метрдотель Казенков скрывает какие-то иные «хулиганские» действия посетителей, кроме тех, что указаны в докладной. Поэтому-то и позволяет его «Записка» почти с документальной точностью восстановить все детали «недостойного поведения» Рубцова в тот вечер.
Рубцов вместе с двумя товарищами (имена их так и остались неизвестными) после экзамена по советской литературе зашел в ЦДЛ — «отдохнуть», как напишет он в объяснительной записке.
Сели за столик, заказали какую-то еду, бутылку вина. После пересчитали свои рублевки и трешки и решили заказать еще выпивки. В принципе, кроме того, что пить вообще вредно, ничего криминального, ничего особенного в их поведении не прослеживается...
И вероятно, ничего примечательного и не произошло бы в тот вечер, если бы не обладал Рубцов, как мы уже отмечали, прямо-таки удивительной способностью раздражать обслуживающий персонал, даже если и вел себя тихо и скромно.
Феномен этот можно объяснить только особой холуйской безжатостностью разных администраторов и официантов к слабому. Опытным, натренированным взглядом они сразу различали, что здесь, за столиком в ресторане, Рубцов не на своем месте, что он не свой человек. Эти жиденькие прядки волос, этот заношенный пиджак... У Рубцова даже подходящей одежды не было, чтобы укрыться со своей беззащитностью от безжалостного, пронизывающего взгляда. А коли беззащитен — в этом и заключается холуйская психология! — значит, на нем и можно сорвать накопившееся за день раздражение.
Разумеется, набегавшуюся за день официантку Клаву Кондакову, красивые глаза которой до сих пор помнят пожилые посетители цедээловского ресторана, можно понять.
Уставшая, задерганная, Клавочка все чаще раздраженно косилась на столик, за которым сидели и пересчитывали измятые рублевки и трешницы молодые люди — явно не богатые, явно не влиятельные.
Нет! Клавочку раздражали и другие клиенты, но это — известные люди, им, пересиливая раздражение, она была обязана улыбаться, чтобы не нарваться на неприятность, там приходилось делать вид, будто тебе самой доставляет удовольствие угождать им...
И от этого еще сильнее становилось раздражение против этих троих, которые просительно и жалко улыбаются, комкая в потных руках рублевки...
И поэтому — погрубее, порезче! — «Платить будете?!»
А в ответ снова просительные, заискивающие улыбки — не успели обзавестись молодые люди невозмутимостью и величественными манерами завсегдатаев ресторанов... Да и сюда-то попали случайно, показали вместо пропусков студенческие билеты, на корочках которых написано «Литературный институт имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР». Их пропустили на вахте, но могли ведь и не пустить... Так вот, заискивающие улыбки и неуверенное, нерешительное:
— А можно еще заказать... Водочки...
— Нельзя! — режет официантка, которой надоело бегать, надоело подавать на столики водку. — Будете платить?!
Ну, конечно, будут. И уже комкают невзрачные студенты трешки и рублевки, соединяя их под изничтожающим взором официантки в общую кассу. О, как ненавидела сейчас прекрасноглазая Клавочка всех своих пьющих и жрущих с утра до вечера клиентов! И тут из-за соседнего столика — барственный голос:
— Клавочка! Принесите-ка еще триста граммов...
И сразу — поверх раздражения — угодливая улыбка:
— Сейчас! Одну минуточку!..
И, действительно, оставив невзрачных клиентов разглаживать скомканные рублевки, бежит Клавочка в буфет, и оттуда, такая легконогая, такая большеглазая, сияя улыбкой, к соседнему столику с графинчиком на подносе... А потом назад к троице — ну, чего они копошатся, чего застыли, раскрыв рты? — и с ходу:
— С вас восемь семьдесят! А в ответ:
— Вы нам, пожалуйста, принесите все-таки еще бутылку водки!
И ведь этак с нажимом говорят, хотя и дрожат голоса от страха.
— Я сказала: нет водки!
— Ну, тогда вина...
— Вина тоже нет!
И все это: они — тихо, чтобы не услышали, а она — громко, в полный голос. И уже оглядываются завсегдатаи ресторана, скучающе пытаются рассмотреть: кто это там, кто такие, как попали сюда? И нашей троице за столиком уже и водки не надо, но ведь и уходить оплеванными кому хочется?.. И тогда, как последний аргумент:
— А мы платить не будем, пока не принесете!
Не надо, не надо бы говорить этого, и уже понимают они, что не надо бы, но — поздно, уже захлопнулась западня.
— Ах, вы платить не будете! — торжествующе, на весь зал звенит голос Клавочки, и уже не исправить ничего, потому что Клавочка торопливо скрывается за дверями, ведущими в служебные помещения.
И совсем неуютно становится за столиком. Напряженно, стараясь не смотреть друг на друга, чтобы не выдать свой страх, сидят приятели. Самое лучшее сейчас — положить деньги на столик и уйти, но как уйдешь, когда начинается такое?
Вот и метрдотель появился. Он идет и поначалу — метрдотель еще не видит: кто там за столиком? — лицо его величественно и беспристрастно. Не меняя выражения лица, можно публично сделать строгий выговор официантке, а посетителям улыбнуться приветливо: «Все хорошо? Сейчас ваш столик другой официант обслужит. Отдыхайте, на здоровье...» Но вот метрдотель уже разглядел все. На его величественном лице появляется улыбка. Ах, Клавка, ах, стерва!
— Что же вы так, молодые люди? — предвкушая потеху, спрашивает метрдотель.[14] — Если денег нет, не надо в рестораны ходить... Теперь придется вас в милицию сдать.
И снова оглядываются из-за соседних столиков — хотя там свои разговоры идут, там свои дела и некогда в чужие заботы вникать! — но оглядываются...
Переглядываются презрительно-недоуменно... Что же делается-то такое, товарищи? Проникли в ресторан неизвестно каким образом, а самим и платить нечем! Возмутительно! Что это за порядки такие в ЦДЛ наступили? Правильно Илья Григорьевич говорит, это не институт, а настоящая диверсия против интернационала... Хорошо, что закрывают его! Правильно!
И возмутившись внутренне, снова к своим разговорам, к своим заботам...
Все это игра... Игра для вымотавшейся за день официантки Клавы Кондаковой, игра, так сказать, небольшая разрядка после утомительного дня для метрдотеля Казенкова... Вот только для испуганных студентов все это не игра... И совсем уже не игра для строго-настрого предупрежденного-перепредупрежденного Рубцова.
В объяснительной записке 18 июня он напишет: «Неделю назад я зашел в ЦДЛ с намерением отдохнуть после экзамена, посмотреть кино, почитать. Но я допустил серьезную ошибку: на несколько минут решил зайти в буфет ЦДЛ и в результате к концу вечера оказался в нетрезвом состоянии. Работниками милиции у меня был взят студенческий билет». Ну а пока ситуация развивается словно по сценарию. Уже и рады бы заплатить ребята, но некому заплатить. И метрдотель, и официантка убежали встречать милицию... И милиция — у милиции, наверное, нюх на такие ситуации? — появляется мгновенно. И может быть, и не хочется милиционерам участвовать в затеянной склоке: ведь никто не бьет посуды, драки нет, все чинно и спокойно, и жалкие рублевки, чтобы уплатить по счету — ничего, небось, не сберегли для милиционеров! — лежат на столе, но — что же делать? — служба... И нужно проверить документы, нужно вывести неугодных посетителей из ЦДЛ.
— Идите, идите, ребята...
Момент вывода нашей троицы из ЦДЛ — весьма важный и чрезвычайно загадочный.
Именно здесь, возле вахты, бесследно исчезают двое участников «дебоша», и остается только Рубцов. Он один и фигурирует далее в обвинительных документах...
«Директору Дома литераторов
тов. Филиппову В. М.
от ст. контролера Прилуцкой М. Г.
Докладная записка
Довожу до вашего сведения, что во время моего дежурства 12. VI. 64 г. после 23 часов ночи подходит ко мне метрдотель ресторана и говорит, что три человека, сидящие за столиком в ресторане, отказываются платить счет. Придется вызывать милицию.
Войдя в ресторан, я узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н. М.
На предложение оплатить счет — три товарища заявили, что счет они оплатят после того, как будет подана еще одна бутылка вина. В продаже вина им было отказано, и я вызвала милицию.
По приходу милиции счет был оплачен (выделено мной, орфография — автора записки. — Н.К.). Удостоверена личность этих людей; все они оказались студентами Литинститута.
Вот при каких обстоятельствах студенческий билет т. Рубцова был отобран милицией и оказался у меня и передан руководству Дома литераторов.
16. VI. 64. ст. контролер Прилуцкая»
И опять-таки — круглая печать Центрального дома литераторов.
Докладная записка М. Г. Прилуцкой существенно проясняет загадочное исчезновение двух участников «дебоша». Прилуцкая сама пишет, что, «войдя в ресторан, узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н. М.», и именно Рубцов-то, а вернее, возможность впутать его в новый скандал привлекла ее, по-видимому, в этой истории.
Ресторанная склока, затеянная официанткой Клавой Кондаковой, именно с этого момента начинает приобретать зловещий оттенок и все более смахивает на расправу над Рубцовым, сумевшим полгода назад выпутаться из уже захлопнувшихся силков.
«Директору ЦДЛ тов. Филиппову Б. М.
Докладная записка
12 июня в 23 ч 15 мин к дежурному администратору Леонидовой Э. П. и старшему контролеру Прилуцкой М. Г. обратилась официантка ресторана Кондакова К. А. с просьбой вызвать милицию, так как три посетителя не расплачиваются, требуют еще спиртного и ведут себя вызывающе.
По приходе милиции инцидент в основном был улажен, но в вестибюле был задержан один из этих посетителей, и выяснилось, что все они студенты Литинститута, а задержанный оказался известным по своему скандальному поведению в ЦДЛ студентом Рубцовым Н. М. Вопрос об исключении его из Литинститута ставился осенью 1963 г. в связи с дебошем в пьяном виде в ЦДЛ.
В апреле—мае 1964 г. я дважды просил Рубцова покинуть здание ЦДЛ, куда он приходил с писателями, причем 2-й раз он в компании с Кунаевым и Переделиным (очевидно, имеется в виду Передреев. — Н. К.) оскорбили писателя Трегуба (Трегуб Семен Адольфович, критик, вел в Литературном институте спецкурс по творчеству Николая Островского. Н. К.).
У Рубцова отобран студенческий билет, который прилагается к докладной.
Прошу Вас принять соответствующие меры.
Помощник директора ЦДЛ Сорочинский»
Круглая печать.
Перечитывая эти докладные записки, можно заметить, как постепенно сгущаются краски вокруг в общем-то безобидного происшествия.
Вот и в докладной записке Сорочинского появляется Фраза «ведут себя вызывающе», отсутствовавшая в докладных метрдотеля и Прилуцкой. Привлекаются и какие-то другие события, которые, если и имели место, то не в тот, роковой для Рубцова вечер.
«Дирекция Литературного института имени Горького. Копия: Секретариат Правления Союза писателей СССР
тов. Воронкову К. В.
В письме № 19/29 от 4 декабря 1963 г. дирекция ЦДЛ ставила вопрос о хулиганском поведении в ЦДЛ студента В/института Н. М. Рубцова, учинившего в нашем клубе в пьяном виде дебош.
Н. М. Рубцову было категорически запрещено посещение Центрального Дома литераторов, он был исключен из состава студентов Литинститута, но в дальнейшем почему-то восстановлен (выделено мной. — Н. К.).
В апреле и мае 1964 г. студента Рубцова дважды пришлось удалять из ЦДЛ, а 12 июня с. г. это пришлось сделать уже при помощи милиции, так как, напившись в ресторане, он и компания, с которой он находился, отказались оплатить заказанный им ужин...
Дирекция ЦДЛ вынуждена вновь просить дирекцию Литинститута им. Горького принять меры в отношении студента Н. М. Рубцова и поставить нас в известность.
При сем прилагаю студенческий билет Н. М. Рубцова, отобранный у него милицией, и докладные записки дежурного секретаря ЦДЛ тов. Прилуцкой, пом. директора тов. Сорочинского и метрдотеля ресторана тов. Казенкова.
Директор ЦДЛБ. Филиппов.
17 июня 1964 г.»
Как писала в своей докладной записке М. Г. Прилуцкая, «счет был оплачен». Но, похоже, у Сорочинского, Прилуцкой, Филиппова был свой счет к Николаю Рубцову, и поэту предстояло «сплотить» по нему сполна.
И стоит ли удивляться, что эта компания чиновников от ресторана очень легко нашла общий язык с чиновниками от Литературного института.
18 июня 1964 года у Рубцова была взята объяснительная записка по поводу случившегося.
Что нужно было объяснить ему?
То, что они хотели купить втроем еще одну бутылку вина?
Впрочем, сам факт происшествия никого не волновал. Нужна была причина, повод...
25 июня 1964 года проректор А. Мигунов наложил на объяснительной записке Рубцова резолюцию: «За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение отчислить из числа студентов очного отделения».
Напомним, что резолюция эта появилась уже после того, как Рубцова перевели на третий курс.
Нет сомнения, что прежний ректор института И. Н. Серегин не допустил бы такого поворота дела — ведь ничтожным, надуманным был сам повод для исключения Рубцова. Но это Серегин. Нравственные и духовные качества нового главы института не сильно отличались от психологии ресторанных официантов и администраторов.
«26 июня 1964 г. Союз писателей СССР
Консультанту Секретариата правления СП СССР
тов. Соколову Б. Н.
Уважаемый Борис Николаевич!
В ответ на Ваше письмо от 24 июня с. г. сообщаю, что Рубцов Н. М. после дебоша, учиненного им в ЦДЛ в декабре месяце, был строго осужден всем коллективом института. На заседании товарищеского суда он давал обещание, что исправится. Однако он продолжал нарушать дисциплину. Его еще раз предупредили на комиссии по аттестации студентов 2-ого курса. Несмотря на принятые меры общественного воздействия, Рубцов Н. М. снова недостойно вел себя 12 июля (июня. — Н. К.) с. г. в ЦДЛ.
За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение Рубцов Н. М. исключен из числа студентов очного отделения. Тов. Рубцов просит разрешить ему заниматься без отрыва от производства. Если он осознает свою вину, положительно проявит себя на производстве, можно будет рассмотреть вопрос о зачислении на заочное отделение.
Проректор А. Мигунов».
Едва ли случайно совпадение даты письма Б. Н. Соколова, кстати сказать, отсутствующего в деле, и даты резолюции А. Мигунова на объяснительной записке Николая Рубцова. Как ни грозны были украшенные круглыми печатями Документы, которые пришли в институт из ЦДЛ, видимо, 18 июня — в этот день и заставили Рубцова написать объяснительную записку, — но все же и за круглыми печатями невозможно было скрыть всю смехотворность так называемого «дебоша». И хотя и тяготел А. Мигунов по своей сущности ко всем этим сорочинским-прилуцким-филипповым, но без приказа он не решился бы исключить Рубцова.
Этот приказ и поступил, по-видимому, 24 июня в письме неведомого нам консультанта из Союза писателей СССР.
И тут опять надобно сделать отступление...
Мы говорили, что Рубцов раздражал многих представителей литературной и окололитературной публики своими не богемными манерами, своим простецким видом... Но не будем забывать и того, что раздражение это многократно усиливалось из-за успехов Рубцова.
Как явствует из воспоминаний Бориса Укачина, стихи Николая Рубцова в «Октябре», кроме Вадима Валериановича Кожинова, пробивал не кто иной, как будущий редактор «Континента» Владимир Максимов, сделавшийся тогда на короткое время членом редколлегии «Октября».
«Николай Рубцов, чуть-чуть прикрыв ресницами глаза, читал ему свои стихи. Владимир Емельянович, ладонь правой руки положив на правую же щеку, с добрым вниманием слушал стихи нового для него поэта-гостя, повторяя после каждого прочитанного: «Хорошо. Молодец!.. Я их отнесу в «Октябрь». Пусть попробуют отказаться, не печатать!»
С помощью Феликса Кузнецова стихи Николая Рубцова тогда широко зазвучали по радио... Появились или готовились к печати подборки стихов Николая Рубцова в московских газетах и журналах... И конечно же, успех лирики, столь отличной от гремевшей с эстрад поэзии шестидесятников, с их смелостью, разрешенной Хрущевым, не мог не беспокоить литературное начальство.
Не ясно, как был сформулирован приказ, поступивший из Союза писателей СССР, но ясно, что он был. Согласно этому приказу Рубцов должен был «оплатить» по счету, выставленному компанией сорочинских, трегубов, филипповых, прилуцких.
Рубцов заплатил по нему...
«Все разъехались на каникулы... — вспоминая об этих днях, пишет Э. Крылов, — и только мы с Рубцовым оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Николу. Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскрытый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускал желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов заливисто смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил. Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее в руки и тихо вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы. Тридцать восемь стихотворений». Я прочитал ее всю и, каюсь, мне захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадям, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно (все-таки книжка вроде — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ему в глаза), и я снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.
— Вот посмотри. Хорош, правда? Дочке везу, — и он опять пустил цыпленка прыгать по полу».
Таким, самозабвенно играющим с цыпленком, купленным для дочери, и запомнился Рубцов перед отъездом в Николу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Когда читаешь или слушаешь воспоминания о Николае Рубцове, охватывает странное чувство...
Рубцова видели в коридорах общежития, встречали на городских улицах, запомнили то в очереди у пивного ларька, то в редакции журнала.
Авторы воспоминаний тщательно припоминают разговоры, добросовестно описывают прокуренные комнаты общежития Литературного института, вспоминают самые незначительные детали, но все эти подробности облетают, как пожелтевшая листва, и за прозрачными ветвями деревьев словно и нет городского асфальта — только сырое осеннее поле.
Над полем сгущаются сумерки, и зябко, холодно вокруг, и только вдалеке, у кромки чернеющего леса, робко и незряче помаргивают деревенские огоньки. Огоньки той деревни, в которой он жил...
Летели, летели недели. Да что там недели — года... Не раз в ЦДЛе сидели, А вот у реки никогда — с горькой иронией напишет в стихотворении, посвященном Рубцову, Николай Старшинов.
И Борис Романов тоже вспомнит, что от знакомства с Николаем Рубцовым у него сохранилось «очень конкретное впечатление на манер того, которое бывает, когда в море, в сумерках или ночью, внезапно проходит возле тебя огромное, с немногими огнями судно».
Но тогда откуда же сквозящий в строках городских описаний пейзаж сырого осеннего поля, пейзаж рубцовской деревни? И какой же силой любви к своей родной земле должен обладать поэт, чтобы и люди, никогда не видевшие ее, никогда не бывавшие там, увидели ее и запомнили как свою? И не потому ли с таким вниманием вчитываешься в коротенькие письма Николая Рубцова из деревни, не потому ли ловишь каждое слово человека, видевшего его в Николе?
— 1 —
Почти все письма Николая Рубцова и воспоминания о Рубцове в деревне относятся к 1964 году, может быть, самому страшному и трудному году в жизни поэта...
«Я снова в своей Николе... — пишет он Сергею Багрову 27 июля 1964 года. — Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная. Ягод в лесу полно — так что я не унываю...»
Слово «унываю», хотя и снабжено отрицанием «не», как-то выпадает из контекста — ведь дальше Рубцов пишет о своих успехах, о том, как прекрасно движутся дела с публикацией стихов:
«Ты не видел моих стихов в «Молодой гвардии» и «Юности» — 6-е номера? Я не доволен подборкой в «Юности», да и той, в «Молодой гвардии». Но ничего. Вот в 8-м номере «Октября» (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут...»
Вроде бы и нет причин для уныния...
И сам Сергей Багров, навестивший Рубцова в Николе, тоже рисует портрет бодрого, «неунывающего» поэта:
«А было то утро влажное, голубое, словно вымытое в реке и подсыхающее на припеке. Пахло накошенным клевером и гвоздикой. По крайнему к Толшме посаду я подошел к плоскокрышей (выделено мной. — Н. К.) избе с крыльцом, заросшим крапивой и лопухами...
Войдя через сени в полую дверь, слегка удивился... На полу валялись клочья бумаг, салфетка с комода, будильник, железные клещи и опрокинутый набок горшок с домашним цветком. На столе — какие-то распашонки, тут же чугун с вареной картошкой, бутылочка молока и детский ботинок. Из горенки послышался младенческий крик, а вслед за ним с крохотной девочкой на руках выплыл и сам Рубцов. Был он в шелковой белой рубахе, босиком. Перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший его сделаться нянькой.
— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил притихшую дочку на толстую книгу. — Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена. И я ей все разрешаю!..
— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?
— А вон, — показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что когда-то было часами, а теперь валялось в углу с разбитым стеклом и покореженным циферблатом. — Еще утром ходили. Но я ей дал поиграть...
— Теперь без часов вот остался?!
— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подскажет тебе настроение».
Сергей Багров не заостряет наше внимание ни на бедности окружающей Рубцова жизни; ни на непростых — с Генриеттой Михайловной официально Рубцов так и не зарегистрировался — взаимоотношениях обитателей «плоскокрышей избы» (избушки, как впоследствии будет называть ее сам поэт). Едва ли это сделано умышленно. Бодрость, энергия Рубцова заражали гостя, вот и осталась в памяти только «праздничная улыбка, а в карих глазах что-то ласково-легкое, игравшее радостью и приветом».
Летом 1964 года Рубцов чувствовал себя на взлете. За первыми крупными подборками стихов в центральных журналах виделось близкое признание... Как можно судить по письму, адресованному Н. Н. Сидоренко, именно в Николе получил Рубцов известие, что его книжка стихов включена в план редакционно-подготовительных работ на 1965 год в Северо-Западном книжном издательстве...
«Горжусь, — пишет в своих воспоминаниях Феликс Кузнецов, — что не без моей помощи... Николай Рубцов очень быстро, буквально за считанные месяцы стал знаменитым. В течение одного 1964 года сразу прошли передачи на радио, публикации в журналах «Октябрь», «Юность», «Знамя», «Молодая гвардия», в еженедельнике «Литературная Россия»...
Даже теща, прозванная Рубцовым «гренадером», и та постепенно смирялась с необычностью избранного непутевым зятем пути. Она видела, что фантастическая мечта Рубцова
вроде бы обретает реальную плоть: он учился в Москве «на поэта», его стихи печатались и в районной газете, и в московских журналах...
И по утрам в то счастливое лето не так грозно, не так гневно гремела она у печи ухватами.
Кстати сказать, планы примирения с тещей, прошедшей сталинские лагеря, Рубцов вынашивал давно и основательно.
Феликс Кузнецов вспоминает, что однажды Рубцов сказал:
— Все. Начинаю новую жизнь.
— И как же ты ее мыслишь? — спросил Кузнецов.
— Куплю корову. Гета и теща будут довольны. Буду жить в деревне, писать стихи. Приезжать в Москву только на экзамены.
Корову он не купил, но примирение состоялось... Может быть, впервые — и, увы, так ненадолго! — был Рубцов по-настоящему счастлив.
Об отчислении из института ни жене, ни Сергею Багрову Николай Михайлович не рассказывал...
И в этом не просто бездумная самоуверенность или болезненная скрытность — те качества характера, которые отмечали в Рубцове почти все знавшие его. В этом видится нечто большее...
— 2 —
Николай Рубцов был человеком с обостренным чувством Пути.
Когда листаешь сборники его стихов, все время мелькают слова «путь», «дорога», служащие не столько для обозначения каких-то определенных понятий реального мира, сколько для фиксации особого состояния души поэта.
Даже в шутливых стихах движение в пространстве зачастую несет особый нравственный смысл:
Я уплыву на пароходе, Потом поеду на подводе, Потом еще на чем-то вроде, Потом верхом, потом пешком Пойду по волоку с мешком И буду жить в своем народе...Еще в 1963 году была написана Николаем Рубцовым «Прощальная песня»...
Я уеду из этой деревни... Будет льдом покрываться река, Будут ночью поскрипывать двери, Будет грязь на дворе глубока.Не принято отождествлять героя литературного произведения с его автором, но лирического героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. И не потому ли так пронзительно, так неподдельно искренне звучат строки этого шедевра русской лирики:
Не грусти! На знобящем причале Парохода весною не жди! Лучше выпьем давай на прощанье За недолгую нежность в груди.В «Прощальной песне» поражает не только магия горьковатой печали, но и почти очерковая точность, с которой рисует поэт детали быта: и заплывший грязью двор, и берестяную зыбку, и тешу — пожилую женщину, вернувшуюся после тяжелого дня работы: «мать придет и уснет без улыбки...»
Читаешь «Прощальную песню» и невольно задумываешься: да оправдано ли сетование друзей на скрытность Николая Рубцова? Можно ли рассказать о своей жизни больше, чем это сделано в «Прощальной песне»? Неужели можно распахнуться сильнее?
Едва ли...
Ни в одной исповеди не скажешь так просто о самом главном: о том Пути, который считаешь единственно возможным для себя, об отчаянной решимости пройти этот Путь до конца...
«Прощальная песня» чрезвычайно важна для понимания того, что пережил Рубцов во второй половине 1964 года.
Он вернулся в Николу счастливым летом, где его ждали жена и дочь. И летом 1964 года порою начинало казаться, что как-то и наладится жизнь.
«Когда летом 1964 года я гостил в Тотьме у отца, — вспоминает Феликс Феодосьевич Кузнецов, — Рубцов, приехав из Николы, разыскал меня. Сидя в открытом кафе на берегу Сухоны, напротив того места, где сейчас стоит памятник Рубцову, попивая плодово-ягодное вино местного разлива, мы обсудили с ним много проблем, и в частности главную — как ему восстановиться в Литературном институте, откуда он был исключен»...
— Слушай, ты знаешь Чухину? — неожиданно спросил Рубцов.
— Учились вместе, — ответил Кузнецов. — А в чем дело? Рубцов объяснил, что Тамара Александровна Чухина (она работала секретарем Тотемского райкома партии) запретила местной районной газете «Ленинское знамя» печатать его стихи «по морально-этическим основаниям».
На другой же день Феликс Кузнецов навестил одноклассницу. С недоверием вглядывалась Тамара Александровна в московский журнал, где крупно было напечатано имя Николая Рубцова.
— Ну, сам посуди, — объяснила она свое решение, — человек нигде не работает, попивает. С женой не расписывается... Вот и идут из сельсовета сигналы. Меры-то надо было принимать!
Тамаре Александровне было неловко: нелепый запрет она в тот же день сняла... Инцидент был исчерпан.
Рубцов очень крепко надеялся, что и недоразумение с исключением из Литературного института тоже будет разрешено также просто...
И не отсюда ли такая неестественная для людей, знавших его по городу, «праздничная улыбка»?
И работалось в это лето Рубцову удивительно хорошо.
«Здравствуйте, Николай Николаевич! — пишет Николай Рубцов 16 августа своему руководителю, Н. Н. Сидоренко. — За это время написал уже тридцать с лишним стихотворений. По-моему, есть там и хорошие. Я согласен с Вами, с Вашим мнением о тех стихах, которые я послал Вам в первом письме. «Поднявшись на холмах, старинные деревни...» — действительно какая-то деталь прежних настроений, моих же. Но стихов. «Когда душе моей сойдет успокоенье», «Зачем ты, ива, возрастала над судоходною рекой», — по-моему, нечто другое...»
К письму — об институте в нем снова ни слова! — Рубцов приложил три напечатанных на машинке стихотворения: «В святой обители природы», «С моста идет дорога в гору», «Осеннее».
Всего же в Николе, летом 1964 года Николаем Михайловичем Рубцовым было написано около полусотни стихов, которые с незначительными поправками вошли в золотой фонд русской лирики.
И это было так очевидно, что смешными казались сами мысли о Литературном институте. Разве можно не восстановить, например, Блока или Есенина в институте, где учатся будущие писатели?
Именно поэтому, на наш взгляд, без волнений и прошло лето...
«Я еще должен заехать в Москву, в этот институт — улей, который теперь тише, наверное, шумит, т. к. поразлетелись из него многие старые пчелы, а новые не прибывают, — пишет Николай Рубцов Александру Яшину. — Далеко не все нравится, и не все в литинститутском быту, но очень хочется посмотреть на некоторых хороших наших поэтов, послушать их. Остались ли они еще там? Если не остались, то лучше бы снова одиноко ходить мне на наше унылое болото.
Удивительно хорошо в деревне! В любую погоду. Самая ненастная погода никогда не портит мне здесь настроение. Наоборот, она мне особенно нравится, я слушаю ее, как могучую печальную музыку... Конечно, не любая сельская местность может быть по душе.
Поеду отсюда числа 27 сего месяца (сентября. — Н. К.). Как раз будет лотерейный розыгрыш, я выиграю «Москвич», вот в нем и поеду. Между прочим, за это лето научился я играть в лотерею: два раза подряд выиграл по рублю. А то ли еще будет!»
А было то, что и должно быть...
Наступила осень. Потемнела спокойная вода Толшмы.
В институте Рубцова не восстановили...
— 3 —
Что произошло в Москве в сентябре 1964 года, когда Николай Рубцов вернулся из Николы, не понимал, кажется, ни он сам, ни те люди, что оформляли его исключение.
Еще в июне, уезжая из Москвы (вероятно, по совету Н. Н. Сидоренко), Рубцов написал такое заявление:
«В ректорат Литературного института им. Горького
от Рубцова Н. М.
Заявление
Прошу перевести меня на заочное отделение сроком на 1 год, так как я хочу в производственной обстановке работать над книжкой.
Прошу на время заочного обучения оставить меня в творческом семинаре Н.Н. Сидоренко.
23/VI - 64 г. Н. Рубцов».
Приказ № 106 об отчислении Рубцова из института был издан 26 июня 1964 года, но сам Николай Рубцов о своем окончательном отчислении из института узнал, только вернувшись в Москву.
В таком же неведении об отчислении Рубцова был и руководитель творческого семинара Н. Н. Сидоренко.
10 сентября он напишет по этому поводу возмущенное письмо А. А. Мигунову:
«Уважаемый Алексей Андреевич!
Совсем недавно узнал я о том, что студент Н. Рубцов исключен из института, меж тем как на последнем заседании, где стоял о нем вопрос, было решено повременить до окончания экзаменов: если Рубцов сдаст экзамены успешно, он останется в составе наших студентов, хотя, возможно, ему придется перейти на заочное отделение. О своем переводе на заочное отделение он сам просил в заявлении перед отъездом на каникулы.
И вдруг — исключение, хотя экзамены сданы успешно. То ли не соблюдено наше общее решение, то ли что-то случилось позднее, чего я не знаю (здесь и далее выделено мной. — Н. К.).
За это лето Н. Рубцов выступал со стихами на страницах журналов «Молодая гвардия», «Юность», «Октябрь». Его стихи были замечены в литературной среде, оценены положительно. Сборник стихов Н. Рубцова включен в план Северо-Западного издательства.
За время каникул Н. Рубцов написал много новых стихов, часть их у меня имеется. Это — хорошие стихи.
Завершение литературного образования нужно Рубцову, как воздух. Пусть он будет заочником, но пусть продолжает учиться, пусть находится под нашим руководством и наблюдением.
Если имеется хоть какая-нибудь возможность для восстановления Н. Рубцова в институте, она должна быть использована нами. Прошу очень Вас рассмотреть этот вопрос возможно скорее и объективнее.
10 сентября 1964
Руководитель семинара Н. Н. Сидоренко».
Вероятно, и для А. А. Мигунова такой исход казался наиболее приемлемым. Во всяком случае, на письме Н. Н. Сидоренко он наложил 3 октября резолюцию: «В приказ. Восстановить в числе студентов III курса заочного отделения».
Казалось бы, этим снимался вопрос о восстановлении Рубцова, по крайней мере, на заочном отделении, но дальше происходят совсем уж удивительные и загадочные вещи.
Канцелярия, вопреки приказу своего непосредственного начальника, так и не издала приказа о восстановлении Николая Михайловича Рубцова на заочном отделении...
Ну а сам Рубцов уже не мог проконтролировать это дело — после очередной попытки вовлечь его в скандал он спешно покидает Москву.
Что случилось тогда в ЦДЛ, сам Рубцов пытался выяснить у Станислава Куняева. В письме, отправленном из Николы 18 ноября 1964 года, он пишет:
«Хорошо, я думаю, что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался... Я тут же тогда уехал и не знаю, исключили меня опять из института или, может быть, нет...»
Станислав Юрьевич попытался ответить на этот вопрос недавно опубликованными воспоминаниями:
«Однажды в Центральном Доме литераторов встретились Николай Рубцов, Игорь Шкляревский и я. Рубцов после скромного застолья стал читать нам стихи, и вдруг его грубой репликой прервала одна окололитературная девица, сидевшая по соседству за столиком с поэтом Владимиром Моисеевичем Луговым. Рубцов был уже нетрезв и потому резок.
— А эта б... чего вмешивается в наш разговор?! — произнес он на весь пестрый зал. Франтоватый, вылощенный Луговой суетливо вскочил со стула и неожиданно для всех нас попытался защитить честь своей подруги какой-то полупощечиной Рубцову. Сразу же завязалась потасовка, в которую влез находившийся в зале администратор Дома литераторов. Рубцов замахнулся на администратора стулом, но на руках у него повисла официантка Таня, кто-то помог мне вытащить из зала Лугового вместе с его дамой (а почему Станислав Юрьевич утаскивал от скандала Владимира Моисеевича Лугового, а не своего друга, Николая Рубцова? — Н. К.), кто-то из сотрудников бросился к телефону вызывать милицию, что и оказалось самым скверным в тот вечер: не успели мы одеться и слинять (с Владимиром Моисеевичем? — Н. К.), как подкатил воронок... Протокол, свидетели, короче говоря, все, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку в суд. Я позвонил Александру Яшину, Борису Слуцкому, рассказал им, как все произошло, и в день суда мы все встретились в казенных коридорах. Александр Яшин взял с собой на помощь известную поэтессу и еще красивую женщину Веронику Тушнову, с которой у него в то время был роман. Николай Рубцов в замурзанной ушанке и стареньком пальто битый час сидел в темном коридоре, пока мы вчетвером уговаривали судью простить, замять и отпустить.
Уговорили. Яшин, Тушнова и Слуцкий распрощались с нами на Садовом кольце возле суда, а мы с Колей пошли в соседнюю забегаловку-стекляшку отметить его освобождение, поскольку вход в Дом литераторов был закрыт ему надолго».
Ответ, надо сказать, странный... Рассказанная Станиславом Юрьевичем история совершенно не стыкуется с письмом Николая Рубцова.
«Хорошо, я думаю, — писал он, — что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался, надеясь на молниеносный нокаут Игоря (Шкляревского. — Н. К..), на который, говорят, он способен. Пусть не было нокаута, но если бы я тогда ввязался сам, все — я уверен — закончилось бы милицией и шумом, подобным тому, который уже был и о котором ты знаешь! Вступившись за Толю (Передреева. — Н. К.), я знал, что за себя уже не вступлюсь, что с Луговым (вот еще поганка!) надо будет мне толковать в другом месте...»
Разночтения даже не в том, что конфликт с В. М. Луговым развивался иначе, чем в описании С. Ю. Куняева. Рубцов пишет, что дело только могло бы кончиться милицией, в то время как у Куняева оно именно милицией и судом кончается...
Почему Станиславу Юрьевичу понадобилось усаживать Рубцова в темном коридоре — загадка велика есть, но зато ответ на вопрос Рубцова: «исключили ли его опять из института?» — мы знаем совершенно точный.
Не исключили бы...
Запуганный расправой всех этих сорочинских-прилуцких-филипповых, учиненной над ним летом, Рубцов напрасно поспешил с отъездом из столицы. Его не могли исключить из института, потому что он был уже давно исключен, и так и не восстановлен там...
«В один из дождливых дней, — вспоминал Сергей Багров, — прогудел пароход и по сходням в толпе пассажиров на тотемский берег сошел Николай»...
— А как институт?
— Перешел на заочное.
— В Тотьме останешься?
— Нет. Поеду в Николу.
Денег у Рубцова не было, и пришлось, хотя и не хотелось, взять в районной газете командировку...
Перед тем как уехать, зашел к Багрову домой. Сидели на старинных высоких стульях; пили вино, курили и слушали дождь. И вдруг Рубцов запел:
Потонула во тьме отдаленная пристань. По канаве промчался, эх, осенний поток! По дороге неслись сумасшедшие листья, И порой раздавался пароходный свисток...«Я слушал его резковатый красивый голос, — вспоминает Сергей Багров, — и мысленно видел перед собой холодный сухонский плес и уплывающий пароход, на котором ехал Рубцов куда-то далеко-далеко, к каким-то неведомым берегам, где гуляют промозглые ветры, где тревога, где грозы, где вечная ночь.
Едва кончил он петь, как раздался гудок. Мы поспешили на пристань».
— 4 —
...И откладываешь книгу воспоминаний, и снова пытаешься понять: что же влекло Рубцова в ту сырую холодную осень к его бедной «избушке» в Николе? Ведь, наверное, можно было пристроиться в Москве и без Литературного института, и жить пусть и небогато, но уж куда вольготнее и сытнее, нежели в нищей вологодской деревне тех лет.
Рубцов сам ответил стихами на этот вопрос...
Ни литературный успех, ни деньги не могли помочь ему преодолеть обиду. Только — семья, только деревня Никола, только Родина, с которой всегда ощущал поэт «самую жгучую связь». И не было другого пути для него.
Именно в тяжкую минуту оскорбления и униженности должна была слиться его поэтическая судьба с судьбой народной.
И не могло быть сомнения в выборе...
Только безусловное принятие этой жизни, только полное забвение себя и, как результат, обретение возможности плакать ее слезами, петь ее голосом, звенеть ее эхом:
И разбудят меня, позовут журавлиные крики Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали... Широко по Руси предназначенный срок увяданья Возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье И высокий полет этих гордых прославленных птиц.
Журавли уже пролетели над тонущей в осенней грязи деревенькой, когда Рубцов вначале пароходом до Устья Толшмы, а потом на пароме, потом пешком через колхоз «Сигнал» и дальше, лесом вдоль огромного болота, наконец, добрался до дома, этой нищей избы с плоской крышей.
«Я уже три дня в Николе... — пишет он Сергею Багрову 30 октября 1964 года. — Один день был на Устье в дороге.
Пришлось топать пешком. Не знаю, как бы я тащился по такой грязи, столько километров... с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя...
Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелей, ей-богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой материальчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.
Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На Устье у меня потерялись или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленистов может послать мне десятку?.. Непосредственно к нему с этим вопросом я решил не обращаться, так как плохо знаю его. А вообще надо бы обязательно хоть немного поддержать эту мою избушку» (выделено мной. — Н. К.).
Трудно поверить, что это письмо написано автором «Журавлей»...
Стихотворение трагедийно и безысходно: «Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...» И так высок трагедийный пафос, что не соразмеряется он с отчаянной, будничной нищетой, в которой оказался Рубцов у себя «в избушке»...
Десять рублей — ничтожная и по тем временам сумма! — может поддержать семью Рубцова... О какой счастливой деревенской идиллии речь, если в Николе Рубцов оказался против своей воли нахлебником в бедствующей деревенской семье?
Тут уместно будет напомнить, что Генриетта Михайловна работала тогда в клубе и получала тридцать шесть рублей в месяц, а своей коровы — этой деревенской кормилицы — в семье не было.[15] Так что жили Рубцовы очень плохо. Кстати, и плоскокрышую избушку они занимали не одни. На другой половине жила многодетная семья Чудиновых.
Но все-таки и здесь, среди деревенской нищеты и униженности, не покидает Николая Рубцова ощущение правильности принятого решения, истинности избранного пути. Именно в эту глухую осень, сидя у крохотного, смотрящего на холодную Толшму окошка пишет он стихотворение «Душа», напечатанное уже после смерти под заголовком «Философские стихи». Новое название кажется нам неудачным, потому что стихотворение именно о душе, о том, как сберечь, как сохранить ее:
За годом год уносится навек, Покоем веют старческие нравы, — На смертном ложе гаснет человек В лучах довольства полного и славы! К тому и шел! Страстей своей души Боялся он, как буйного похмелья. — Мои дела ужасно хороши! — Хвалился с видом гордого веселья... —рисует Рубцов образ «счастливого» человека, достигшего полного благополучия, но тут же — яростно и напористо! — оспаривает это благополучие:
Последний день уносится навек... Он слезы льет, он требует участья, Но поздно понял важный человек, Что создал в жизни ложный облик счастья! Ложный облик счастья...Рубцов, как вспоминают его друзья, побаивался благополучных, особенно на казенном коште, людей. И не удивительно, а вполне закономерно, что ложь навязываемого ему «облика счастья» открылась поэту не в Москве или Ленинграде, а в нищей вологодской деревушке, среди серых изб и покосившихся заборов, где он жил, отрезанный бездорожьем и безденежьем от всех своих литературных и окололитературных знакомых и доброхотов.
Счастье — это не внешнее благополучие, а осознание единственности избранного пути, невозможности другого.
...Я знаю наперед, Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает, Кто все пройдет, когда душа ведет, И выше счастья в жизни не бывает!Стихотворение «Душа» смущало самого Рубцова холодноватостью. И тем не менее поэт не отказывался от него, время от времени прилагал силы, чтобы опубликовать стихотворение, соглашаясь даже на правку.
Это свидетельствует о том, что холодноватое стихотворение «Душа» было принципиально важно для него.
— 5 —
Трудно писать о Рубцове осени и зимы 1964 года...
Слишком малый срок отделяет нас от его земного бытия. Рубцов мог бы и сейчас жить с нами и поэтому-то испытываешь некую неловкость, сопоставляя события, расшифровывая скороговорку воспоминаний, пробираясь сквозь полунамеки и стыдливые умолчания. И все-таки нужно пробраться, потому что жизнь настоящего поэта, его путь и судьба — это тоже его произведение, страницы которого таят в себе не меньше нравственного, духовного содержания, нежели стихи. Да и в самих стихах открывается новый глубинный смысл, когда прочитываешь их в контексте всей жизни.
Рубцов никогда не вел дневника. Его дневник — стихи. И, открывая стихи, датированные 1964 годом, словно бы видишь одинокого путника, стоящего на краю заснеженного поля. И сгущается холодная тьма и отчаяние, и видения злыми тенями проносятся в сумерках — страшная, глухая нежить, готовая смять, растерзать душу. И уже нет сил отмахнуться, все ближе холодное, смертное дыхание...
И тогда, сквозь сумерки и холод отчаяния, огонек...
...Я был один живой. Один живой в бескрайнем мертвом поле! Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?) Мелькнул в пустыне, как сторожевой...
Огонек в доме, стоящем на краю заснеженного поля. В доме одинокая старуха, растерявшая на этом поле всех своих родных.
Как много желтых снимков на Руси В такой простой и бережной оправе! И вдруг открылся мне И поразил Сиротский смысл семейных фотографий: Огнем, враждой земля полным-полна, И близких всех душа не позабудет!.. — Скажи, родимый, будет ли война? — И я сказал: — Наверное, не будет. — Дай Бог, дай Бог... Ведь всем не угодишь, А от раздора пользы не прибудет... И вдруг опять: — Не будет, говоришь? — Нет, — говорю, — наверное, не будет. — Дай Бог, дай Бог...И вот: вроде бы и не говорили ни о чем, а уже легче. В робком помаргивании крохотного огонька посреди бесконечной тьмы рассеиваются злые видения. Снова в душе покой, и легко ей радоваться добру и прощать обиды, самоотверженно забывая себя и себя же обретая в этом забвении...
Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья! За все добро расплатимся добром, За всю любовь расплатимся любовью...И не этот ли «скромный русский огонек» мерцал Рубцову из затянутых морозной наледью крохотных окошек «избушки», где жил он тогда со своей семьей?
Трудно, но огорёвывалась и эта новая, нежданно свалившаяся беда. Жизнь Рубцова в Николе кое-как налаживалась. Прислали деньги из «Октября» — двести с лишним рублей. Сумма для Рубцова немалая.
«Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей теперь скучной Никольской природы, — неуклюже, как бы извиняясь за что-то, пишет он Сергею Багрову. — Нехотя пишу прозу, иногда стихи. Жаль, что Гета (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтобы она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом. Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал».
Но так уж была устроена жизнь Рубцова, что и у «скромного русского огонька» не суждено было задержаться ему... Так всегда было с ним...
Об этом он писал еще в той же «Прощальной песне»:
Ты не знаешь, как ночью по тропам За спиною, куда ни пойду, Чей-то злой, настигающий топот Все мне слышится словно в бреду.Этот «злой, настигающий топот» — не метафора, не химера сознания. Осенью 1964 года он был реальностью жизни Рубцова...
Чтобы понять это, снова нужно вспомнить, как жила вологодская деревня в те годы... Жизнь в Николе ничем не отличалась от бедствий деревни, описанной в повести В. Белова «Привычное дело». И не только по своему материальному достатку, но и по характеру отношений.
Тем более что деньги из «Октября» быстро растаяли, и снова надо было жить на копеечные (весь номер «Ленинского знамени» стоил двадцать два рубля) гонорары из районной газеты.
«Дорогой Вася! — пишет Рубцов в начале ноября Василию Елесину. — Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй ее и сокращай, как хочешь (это не стихи); но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдешь это возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету.
Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!»
Заметку Рубцова в газете напечатали спустя три месяца — 4 марта 1965 года.
— 6 —
Еще летом 1964 года написал Николай Рубцов стихотворение «По вечерам». Пейзаж:
С моста идет дорога в гору. А на горе — какая грусть! — Лежат развалины собора, Как будто спит былая Русь. —не придуман поэтом...
Это фотографически точная зарисовка с натуры...
На берегу Толшмы в Никольском до сих пор сохранилась церковь. Вернее, то, что осталось от храма святителя Николая Чудотворца... Часть церковной стены не разрушили — головастые местные мужики прямо к ней прирубили бревенчатые стены и сделали пекарню. Одна сторона у пекарни церковная, каменная с фризами, с окошечками, забранными решетками, белая; другая — бревенчатая, избяная, почерневшая...
Рядом с этой пекарней, на четырех опорах — церковный купол с дырой от маковки. На куполе еще и сейчас сохранились остатки фресок. Из мутноватой затягивающей их пелены небытия смотрят на нас святые. Смотрели они и на Рубцова...
Наверное, если постоянно жить в Никольском, можно привыкнуть и к церкви-пекарне, и к куполу с дырой в небо... Но вообще — зрелище это непереносимое. И гаснущие, уходящие в небытие святые, и церковь-пекарня над скованной первым ледком Толшмой...
«Люблю, — пишет Николай Михайлович в письме Александру Яковлевичу Яшину, — первый лед на озерах и речках, люблю, когда в воздухе носится первая зимняя свежесть. Хорошо и жутко ступать по этому первому льду — он настолько прозрачен, что кажется, будто ступаешь прямо по воде, бездонно-темной...»
О Никольской церкви Рубцов никогда не рассказывал друзьям. Он просто приходил сюда, и иногда до сумерек, как вспоминают односельчане, неподвижно сидел на берегу Толшмы возле церкви-пекарни, возле купола с гаснущими ликами святых. Сидел, вглядываясь в беззащитную даль заречья, пытаясь соединить — он должен был соединить это! — несоединимое...
Есть в этих развалинах что-то от того прыжка через пролом карниза, над бездной церковного запустения, что не раз повторял Николай Рубцов в Тотемском лесотехникуме.
Развалины церкви в Никольском многое объясняют в его поэзии. Стихи Рубцова — всегда попытка восстановления храма, это возведение церковных стен, вознесение куполов, это молитва, образующая церковное строение, и страшное ожидание окончательной гибели его. Рушатся, рассыпаются в пыль стены возведенного храма, осенняя пустота сквозит между опорами купола, и гаснет свет святости в захлестывающей поэта черноте.
Я не хочу критиковать памятник Николаю Михайловичу Рубцову в Тотьме, но больше правды о поэте в развалинах Никольской церкви, и, если сохранить ее в нынешнем состоянии, вместе с далью, что открывается с берега Толшмы, — это и будет лучшим ему памятником.
Это невыносимо, как невыносима жизнь Рубцова, это трагично, как трагична его жизнь, это страшно, как страшна судьба Рубцова.
В письме Глебу Горбовскому Рубцов, кажется, об этом и пытался рассказать:
«Сижу сейчас, закутавшись в пальто и спрятав ноги в огромные рваные старые валенки, в одной из самых старых и самых почерневших избушек селения Никольского — это лесистый и холмистый, кажущийся иногда совершенно пустынным, погруженный сейчас в ранние зимние сумерки уголок необъятной, прежде зажиточной и удалой Вологодской Руси. Сегодня особенно громко и беспрерывно воют над крышей провода, ветер дует прямо в окна, и поэтому в избе холодно и немного неуютно, но сейчас тут затопят печку, и опять станет тепло и хорошо.
Я уже пропадаю здесь целый месяц. Особенного желания коротать здесь зиму у меня нет, так как мне и окружающим меня людям поневоле приходится вмешиваться в жизнь друг друга, иначе говоря, нет и здесь у меня уединения и покоя, и почти поисчезли и здесь классические русские люди, смотреть на которых и слушать которых — одна радость и успокоение. Особенно раздражает меня самое грустное на свете — сочетание старинного невежества с современной безбожностью, давно уже распространившиеся здесь...»
Это письмо Рубцов не дописал, не отправил...
Наверное, понял, что об этом нельзя рассказывать никому. Об этом и думать-то было страшно...
И разве случайно взгляд Рубцова в стихах теперь все чаше и чаще обращается «на тот берег». Туда же, куда смотрели святые с исхлестанных злым осенним дождем фресок...
Фрески заплывали темнотой, и, как эти фрески, погружался в черноту отчаяния — «Порой кажется, что я уже испытал и все радости, и все печали...» — и сам Рубцов. Казалось, навсегда рвались последние ниточки, связывавшие его с Москвой, со всем миром...
«Сижу порой у своего почти игрушечного окошка и нехотя размышляю над тем, что мне предпринять в дальнейшем. Написал в «Вологодский комсомолец» письмо, в котором спросил, нет ли там для меня какой-нибудь (какой угодно) работы. Дело в том, что, если бы в районной газете нашли для меня, как говорится, место, все равно мне отсюда не выбраться туда до половины декабря. Ведь пароходы перестанут ходить, а машины тоже не смогут пройти по Сухоне, пока тонок лед. Так что остается одна дорога — в Вологду — с другой стороны села, сначала пешком, потом разными поездами».
Вместе с ощущением безнадежности нарастало и взаимонепонимание в семье.
«...Такое ощущение, — жалуется Рубцов в письме С. Куняеву, — будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже...»
И хотя тут же переводит разговор в шутку, дескать, мог бы объяснить этот казус с психологической стороны не хуже Толстого и хотя бы «в объеме достигнуть его, Толстого, глубины...», но отчаяннейший крик о помощи, прорвавшийся в строчках письма, все равно ведь прозвучал. И -увы — не был услышан.
«Жизнь моя идет без всяких изменений и. кажется, остановилась даже, а не идет никуда... Получил письмо от брата из Ленинграда (Альберт Михайлович Рубцов снова вернулся в Невскую Дубровку после двух лет странствий. — Н. К.). Он зовет меня в гости, но я все-таки не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задуматься, так как совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитываться ведь надо за эту скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если бы нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо.
Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по-своему и все отлично от меня».
— 7 —
Это письмо — последнее из написанных Рубцовым той зимой. Через несколько дней он уедет в Вологду на областной семинар начинающих литераторов, а оттуда в Москву — хлопотать о восстановлении в Литературном институте.
Письма, которыми бомбардировал Рубцов Москву — увы! — не давали никакого результата.
«Уважаемые товарищи! — писал Рубцов из Никольского. — После того как я уехал из Москвы, из института, где я был (в октябре) по делу своего восстановления на заочном отделении, — я уже больше не работал зав. клубом в с. Никольском, так как за длительное отсутствие «потерял» эту должность.
С ноября работаю в здешней районной газете. Об этом и посылаю Вам справку. Так что мой адрес прежний: Вологодская обл., Тотемский р-н, с. Никольское.
С уважением.
Николай Рубцов.
P. S. Неужели до сих пор не оформлен приказ о моем восстановлении? Ведь я тогда уехал, договорившись по этому поводу с ректором и с кафедрой творчества».
Об этом же — еще и еще раз! — и в письме Н. Н. Сидоренко...
«Добрый день, Николай Николаевич!
Письмо Ваше получил. Очень обрадовался ему, тем более что никто уже мне сюда не пишет. Кто летом еще и посылал весточку, тот теперь уже думает, что меня здесь нет.
Погода у нас вовсе осенняя. Недолго помянуть Тютчева, весь день стоял как бы хрустальный и лучезарны были вечера. Дожди, холода, скоро, наверное, перестанут ходить пароходы.
Фотокарточку для «Огонька» я посылаю с этим письмом. А что рассказывать, как Вы выразились, о моем жизненном пути? Я уже плохо все помню. Родился в Архангельской области, в поселке Емецк (это я знаю по своим документам), но все детство прошло в этом вот селе Никольском, в Вологодской области в детском доме. После учился в двух техникумах, в лесотехническом и горном (вообще после детдома мне довелось много «попутешествовать»), год работал кочегаром в Архангельском траловом флоте (зимой этот флот базируется в Мурманске), работал на военном испытательном полигоне в Ленинграде некоторое время, потом пошел служить на военный флот, опять на северном море. Служил матросом 4 года, с 1955—1959 г. Потом два года работал на Кировском (бывшем Путиловском) заводе в Ленинграде — слесарем, шихтовщиком и еще кое-кем. А уже после поступил в Литинститут. Больше двух лет жизни на одном месте не выдерживал, всегда тянуло в разные края. Исключение — служба на Северном флоте. Там уже все по-особому. Вот так вкратце об этом пути. Да, родился в семье значительного партийного работника. Его даже врагом народа объявили, потом освободили, и статья о его реабилитации была помещена, кажется, в 1939 г. в Архангельской областной газете. Больше всего времени он работал вообще-то в Вологде. Свою мать не помню почти, ничего о ней не знаю. Надо будет о ней когда-нибудь мне порасспрашивать брата. Николай Николаевич, а зачем все эти сведения нужны во «врезке»? Ну, конечно, Вы-то должны иметь обо всем этом более полное представление, поэтому я все это и написал.
Не понимаю, что значат Ваши слова: «Я подал заявление о вашем восстановлении...» Разве меня исключили из института? Если так, то это для меня новость, мне никто об этом не сообщал. Предлагали только перейти на заочное. А если меня исключили, так вы не беспокойтесь обо мне. Бог с ним! Уеду куда-нибудь на Дальний Восток или на Кавказ. Буду там, на Кавказе, например, карабкаться по горным кручам. Плохо, что ли? Пока могу карабкаться по скалам, до тех пор я живой и полон сил, а это главное.
Вы просите меня рассказать о какой-то «истории». Не знаю, какую такую историю Вы имеете в виду, поэтому пока ничего рассказывать не буду. Вы уж извините, Николай Николаевич».
И, как почти всегда в письмах к Сидоренко, большая подборка шедевров...
Выбираться из Николы зимой было трудно.
Нужно было пройти вдоль Толшмы тридцать пять километров до лесопункта Гремяченского, там сесть на лесовоз и по узкоколейке Монзенского леспромхоза добраться до станции Монза, где ходили настоящие поезда:
Вот он, глазом огненным сверкая, Вылетает... Дай дорогу, пеший! На разъезде где-то, у сарая, Подхватил меня, понес меня, как леший!И, разумеется, нельзя было пускаться в такой путь без валенок. В валенках и отправился Рубцов из Никольского. В валенках ходил по Вологде, в валенках приехал в Москву. В валенках, уже по весне, возвращаясь в Вологду, заехал в Приютино.
Таким, в рваных валенках, с детскими ботиночками, перекинутыми через плечо, и запомнили его друзья юности — Таисия Александровна Голубева и Николай Васильевич Беляков.
Таким, прошедшим по бездорожью, сквозь снежную мглу заметенного поля, усталым Путником видится сейчас Рубцов и нам...
ВОЛОГОДСКАЯ ТРАГЕДИЯ (Часть вторая)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«В один из осенних, холодных, предзимних дней, когда на лужах уже искрился ледок, а в оголенных вершинах деревьев широко просматривалось высокое светлое небо, — вспоминает Герман Александров, — я спешил старинными переулками родной Вологды на квартиру поэта Бориса Чулкова... Он жил на улице Гоголя в старинном деревянном доме на втором этаже... Борис Александрович был не один, у него сидел гость, и они оживленно беседовали».
Незнакомец встал, пожал Александрову руку и назвался:
— Николай...
После продолжительной паузы добавил:
— Рубцов.
Таким Николай Рубцов впервые предстал перед вологодскими писателями. Небольшой, подвижный, в простом клетчатом пиджачке с обмотанным вокруг шеи длинным шарфом...
Поражали — пронзительно черные грустные глаза, смотревшие с прищуром в упор. Говорил Рубцов мало, больше курил, но иногда внезапно оживлялся, и его глаза становились добрыми...
— 1 —
На этот раз посещение Вологды оказалось для Николая Михайловича Рубцова — хотя он и понял это много позднее — весьма полезным.
Герман Александров вспоминает, что еще до начала семинара «в небольшой комнатке вологодского «Союза писателей», который возглавлял тогда Сергей Васильевич Викулов, начинающие литераторы слушали стихи, которые читал Николай Рубцов. Читал он своеобразно, сидя на стуле, помахивая правой рукой и одновременно постукивая ногой в такт каждому звуку.
И это резкое и в то же время напевное его чтение завораживало, будоражило душу, заставляло вслушиваться...»
Впрочем, и здесь, в Вологде, далеко не все так однозначно-восторженно воспринимали и Рубцова, и его стихи...
«Николай Рубцов пришел в отделение Союза за несколько минут до начала семинара... Невысокого роста и неопределенного возраста лысеющий человек в валенках, взгляд настороженный, даже угрюмый; сел позади всех».
В обсуждении стихов Рубцов не участвовал, только изредка отпускал колючие реплики. В перерывах уединялся покурить или беседовал с Борисом Чулковым, который приютил его.
Наконец дошла очередь до рукописи Рубцова. Он коротко рассказал о себе и прочел несколько стихотворений. Среди них были хрестоматийные «Видения на холме» и «Родная деревня». Читал Николай Рубцов негромко, но энергично, изредка жестикулируя правой рукой, а левую сунув за борт пиджака.
«Старшим товарищам, — вспоминает Сергей Чухин, — стихи, видимо, понравились, они почувствовали, что на семинар пришел поэт со своим мироощущением, своей темой. Но, к сожалению, не обошлось и без дежурных учительных фраз: поближе к современности, к злобе дня...
С каждым подобным замечанием Рубцов все более мрачнел, реплики его становились вызывающими. А тут еще я подлил масла в огонь. Как же? Для меня чуть ли не единственным мерилом современной поэзии был тогда Р. Рождественский, а тут — на тебе! Деревня Никола, начальная школа... Да и безоглядная, горячая молодость внутренне протестовала против сдержанной (рассудочной) формы. И сдержанность эта и несколько отчужденный (заносчивый) вид автора — все настраивало против него. Сказано это было прямо и пылко, Рубцов вскипел и во время обеденного перерыва, прихватив с собою поэта О. Кванина, ушел с семинара».
Вскоре, внутренне ожесточенный и этой своей — как он думал! — неудачей, Рубцов уезжает в Москву...
— 2 —
В столицу Николай Рубцов приехал перед праздниками. Встречать Новый год его пригласил к своим родителям Вадим Кожинов...
Сам он задержался, и родители, смущенные видом Рубцова, не пустили Николая Михайловича в квартиру.
«Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда, — вспоминал Вадим Валерианович Кожинов. — Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я вбежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.
Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь, но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неуютной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста — ни людей, ни машин.
И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уже далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи... Но эта ночь была — тут память нисколько мне не изменяет — одной из самых радостных новогодних ночей для нас всех. Нами владело какое-то ощущение неизбежного нашего торжества — невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему...
— Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог, — отвечал я. — Все равно, что Есенина не пустил...
И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой».
Трудно не согласиться с Вадимом Валериановичем Кожиновым... Уже написаны были Рубцовым великие стихи. Написаны там, на краю окутанного заледенелой мглой поля...
И среди них, одно из самых прекрасных и страшных — «Звезда полей»...
Звезда полей во мгле заледенелой, Остановившись, смотрит в полынью.Невольно останавливаешься на этих словах и сам, леденея от холода, заглядываешь в смертную черноту полыньи, но стихотворение несет тебя, возносит душу к высшему свету:
...в минуты потрясений Я вспоминал, как тихо за холмом Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром...И такая благость в достигнутых высях, такая чарующая даль открывается окрест, что уже не жалко и жизни — все родное, все освещено светом звезды полей... Но в последней строфе снова возвращаешься сюда, на поле, в заледенелую мглу:
Но только здесь во мгле заледенелой Она восходит ярче и полней...«Полней» и «полынья»... Эхом, отразившимся от студеной воды, повторяется рифма, замыкая движение и не стиха даже, а самой жизни...
Это эхо различаешь всегда, вслушиваясь в стихи Николая Рубцова. Читаешь их, и словно бы твои самые главные и самые чистые чувства, отражаясь, возвращаются к тебе, и замирает сердце, узнавая их:
Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора, Или, как ласка, в минуты ненастной погоды Где-то послышится пение детского хора, — Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы! Вспыхнут ли звезды — я вспомню, что прежде блистали Эти же звезды. А выйду случайно к парому, — Прежде — подумаю — эти же весла плескали... Будто о жизни и думать нельзя по-другому!И вот тут-то проясненно понимаешь вдруг, что, может быть, в том и заключается опыт души и сердца, чтобы научиться отзываться на звук Глагола, затерянного в древних, смутных и неясных словах. И стихают пораженные силой Божественного Глагола глухие стоны на темном кладбище, отступают бурьян и нежить, которым так привольно и на нашей окутанной мраком атеизма земле, и в нас самих...
И не в этом ли заключена магическая сила рубцовской поэзии, не в этом ли и состоит его великий подвиг — подвиг человека, стоящего на краю поля?
Судьба... Путь...
Рубцов не выбирал своей судьбы, он только предугадывал ее. Он не мог изменить судьбы, но всегда узнавал ее, когда она являлась ему... В начале декабря он покинул деревню и сел на поезд, который должен был отвезти его в Вологду, а потом и в Москву.
Поезд мчался с грохотом и воем, Поезд мчался с лязганьем и свистом, И ему навстречу желтым роем Понеслись огни в просторе мглистом...Так пытался убежать из своей деревни герой «Привычного дела» Иван Африканович, так уезжал из Николы и Рубцов... Ни в коей мере не пытаюсь я сблизить героя повести Василия Белова и великого русского поэта, но по своей кровной сути оба они — сыновья своей земли, отрываясь от которой теряют свою богатырскую силу, перестают быть собою.
— 3 —
Сейчас о вологодской школе написаны сотни исследований, но так до сих пор и не удается определить, в чем заключается принципиальная новизна этого литературного направления. Внимание к незаметному сельскому жителю? Стремление рассказать правду о северной деревне? Противостоящая московско-ленинградской «нечувствительности» отзывчивость на болевые проблемы? Прекрасные северные пейзажи? Все это — неотъемлемые приметы вологодской литературной школы и вместе с тем все это только частности. Главное же, в поэзии Рубцова, в сельских повестях Белова наша литература вернулась к стержневой теме древнерусской литературы — теме спасения человеком своей души; теме страданий человека, загубившего свою душу; теме поисков человеком подлинного Пути спасения...
Ярко и пронзительно зазвучала эта тема в «Привычном деле» Василия Белова, в таинственно-волшебной рубцовской лирике. Вспомним, какой бедой обернулась для Ивана Африкановича попытка порвать связь с родиной, вырваться из родного северного пейзажа...
Только что мы видели его глазами «красную луну, катящуюся по еловым верхам над зимней дорогой», вместе с ним шли «по студеным от наста полям» и, переставая ощущать себя, сливались «со снегом и солнцем, с голубым, безнадежно далеким (выделено нами. — Н. К.) небом, со всеми запахами и звуками предвечной весны...». Щемящая и пронзительная красота северной природы наполняла душу Ивана Африкановича, и она светилась этой красотой...
Но вот беспутному Митьке, исполняющему в повести роль посланца враждебных миру красоты и сельского лада сил, удается соблазнить Ивана Африкановича, сманить на заработки, и, усевшись в поезд, оторвавшись от зябких осинников и щучьих заводей, как-то сразу и непоправимо превращается Иван Африканович в безбилетного гражданина Дрынова, несвязно объясняющего контролерам, что билеты и лук у Митьки, а сам Митька неизвестно где...
Иван Африканович не только созерцал, но и созидал своим трудом красоту. Гражданин Дрынов — это уже и не вполне человек, а некая среднестатистическая, безликая субстанция, способная лишь к самоуничтожению...
Поразительно зорко различал пути, ведущие к спасению и гибели, и лирический герой Николая Рубцова. Страшному, сопровождаемому грохотом и воем, лязганьем и свистом пути, по которому движется «Поезд», противопоставлен путь «Старой дороги», где движение осуществляется как бы вне времени:
Здесь русский дух в веках произошел, и ничего на ней не происходит.
Вернее, не вне времени, а одновременно с прошлым и будущим. Эта молитвенная одновременность событий обнаруживается здесь, как и в стихотворении «Видения на холме», где разновременные глаголы, как мы говорили, соединяются в особое и по-особому организованное целое...
И как созвучно ощущениям «Старой дороги» и «Ночи на родине» Николая Рубцова звучат мысли возвращающегося после неудачного бегства Ивана Африкановича, когда останавливается он возле развороченного тракторными гусеницами родничка!
Родничок занимает особое место в жизни Ивана Африкановича. Он сам отыскал и расчистил его, возле родничка отдыхал с Катериной, возвращающейся из больницы с новорожденным сыном... Теперь нарушена негромкая и светлая жизнь родничка. Руками ощупывает Иван Африканович землю и ощущает ее сырость. Значит, не умер родничок, пробивается...
«Вот так и душа, — думает Иван Африканович, — чем ни заманивай, куда ни завлекай, а она один бес домой просачивается. В родные места, к ольховому полю. Дело привычное».
— 4 —
В отличие от героя Василия Белова лирический герой рубцовского «Поезда» прозревает и постигает свою судьбу, «узнает» ее прямо в поезде... В этом стихотворении все называется прямо, с пугающей отчетливостью:
Вместе с ним и я в просторе мглистом Уж не смею мыслить о покое, — Мчусь куда-то с лязганьем и свистом, Мчусь куда-то с грохотом и воем...Это дьявольское наваждение движения — «Подхватил меня, понес меня, как леший!», как мы уже говорили, хорошо известно Рубцову!
Железный путь зовет меня гудками, И я бегу...Но раньше были силы, чтобы прервать его, чтобы остановиться:
...Но мне не по себе, Когда она за дымными веками Избой в снегах, лугами, ветряками Мелькнет порой, покорная судьбе...Теперь же в «Поезде» не осталось и этого. Что-то зловещее чудится в бравурном финале:
...Быстрое движенье Все смелее в мире год от году, И какое может быть крушенье, Если столько в поезде народу?Как мы знаем, поездное многолюдье не спасло поэта от крушения. Мотив дьявольского наваждения-движения повторится у Рубцова и в его стихотворении о собственной смерти:
А весною ужас будет полный: На погост речные хлынут волны! Из моей затопленной могилы Гроб всплывет, забытый и унылый, Разобьется с треском и в потемки Уплывут ужасные обломки.Николай Рубцов умер как раз в «крещенские морозы», умер, словно бы задохнувшись от бессмысленной, опустошающей душу скорости поезда, на котором — неведомо (сейчас, может быть, и ведомо) куда — мчались мы все...
Но это будет еще не скоро.
В 1965 году у Николая Рубцова еще оставалось целых пять лет жизни.
«Взялся писать прозу... — писал Николай Рубцов Николаю Николаевичу Сидоренко. — Кажется, у меня это может получиться, но пока не хватает усидчивости, детальной ясности образа да и условия для этого писания (имею в виду самые скромные условия). Хочу прозой написать историю одного человека, не похожего на современных литературных героев, — чтобы в нем была жизненная, а не литературная! тоска, сила, мысль, сила, разумеется, не физическая, а духовная...»
Рубцов не написал этой прозы...
Хотя порою кажется, что жизнь его в последнее пятилетие, как раз такой историей непохожего на современных литературных героев человека, обладающего великой духовной силой, и была...
— 5 —
Прежде чем приступить к рассказу о последнем периоде жизни Николая Рубцова, надо понять, почему именно 1964 год стал переломным в его жизни.
Этот год останется в истории страны не только кремлевским переворотом, положившим конец кукурузным авантюрам строителя коммунизма, но и тем, что именно в этом году наконец-то восторжествовали, прорвались наружу процессы, подспудно вызревавшие в умах нашей «образованщины».
Закамуфлированное под ниспровергателей, наше советское мещанство сбросило маску шестидесятничества, похерило клятвы юности и, толкаясь, устремилось к кормушкам. Там теперь, помимо привычного ассортимента — спецпайков, спецраспределителей, казенных дач, появились и загранкомандировки. В считанные месяцы — нечто подобное мы наблюдали, когда идеологи застоя превратились вдруг в «демократов», захватывающих правдами и неправдами власть и народную собственность! — недавние шестидесятники образовали прослойку угодливо-сытых людей, которые, лакейски поддакивая идеологическим идиотизмам, торопливо и жадно разворовывали страну, и ради сохранения своих синекур вовлекали отечество в авантюры минводхозов, чернобылей, кампаний неперспективных деревень.
Этот феномен еще не нашел должного отражения в нашей литературе, должно быть, потому, что и перестройка развивалась в основном в интересах все той же образованщины, отдельные представители которой сумели хорошо подзаработать на катаклизмах, обрушившихся — не без ее помощи! — на нашу бедную Родину.
Разумеется, в середине шестидесятых механизм тотального воровства и вранья еще только начинал раскручиваться, но уже тогда Система начала сбрасывать с себя все, что мешало ей.
И в первую очередь она стремилась освободиться от порядочности и честности.
Тогда сразу смешались границы конфронтирующих лагерей. Роковая черта, проведенная шестьдесят четвертым годом, прошла не по национальным, не по мировоззренческим расхождениям, а по нравственным. Все настоящее, честное, искреннее отвергалось Системой. Зато все, что служило ее интересам, — возвеличивалось и поднималось.
Случайно ли, что по одну сторону оказались такие разные люди, как Андрей Сахаров и Игорь Шафаревич, а по другую брежневы и коротичи, Сусловы и Яковлевы...
— 6 —
Еще раньше и еще резче эта граница разделила поэтов.
И опять-таки прежде всего по нравственному признаку...
И в этом смысле интересно сравнить судьбы четырех совершенно несхожих между собой поэтов — Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского, Николая Рубцова.
Все четверо — почти погодки. Старше — Вознесенский и Евтушенко. Они — с 1933 года... Рубцов на три года моложе. Еще на три года моложе — Бродский. Он родился в тридцать девятом...
Все четверо пришли в поэзию примерно в одно время, после смерти Сталина, когда сдвинулись маховики истории, вовлекая в свое движение бесконечные миллионы людей и целые страны.
Возраст для сравнения, которое мы собираемся провести, существен.
И. В. Сталин сказал: «Нам надо воспитывать новое, бодрое (выделено мной. — Н. К.) поколение, способное к преодолению любых трудностей».
По этой программе, по этому сталинскому чертежу и строилось воспитание поколения, родившегося в тридцатые годы.
Бодрость в них закладывали по полной программе.
И вместе с тем как раз это поколение, хлебнувшее и бедствий войны, и сталинской бодрости, было первым из поколений, которое не успело запятнать себя грязью и кровью тех страшных лет.
Вместе с тем к тому моменту, когда, скрежеща и рассыпая ржавчину куплетов:
— Берия! Берия! Вышел из доверия! А товарищ Маленков Надавал ему пинков! —сдвинулись наконец шестерни истории, все четверо не были отягощены прошлыми ошибками и бодро, как и все их сверстники, приняли произошедшие перемены.
Ну а дальше?
А дальше, как и положено, судьбы начали у каждого складываться по-своему.
В 1959 году, когда после армии Рубцов приехал в Ленинград, ему было двадцать три, за плечами — семь классов деревенской школы и неоконченный техникум, годы скитаний и службы на флоте. Еще было очень сильное желание выразить в стихах то, что мучило, терзало его. Правда, как это выразить — представлялось смутно и неясно...
Иосифу Бродскому было тогда двадцать. Образованием он формально не превосходил Рубцова — тоже только школа-семилетка. Но путь Бродского, похоже, уже определился. К 1960 году он уже нашел себя, хотя известность его и не выходила за границы весьма узкого круга почитателей.
Шутки ради отметим, что формально и «образованностью» Евтушенко и Вознесенский значительно превосходили ленинградцев Бродского и Рубцова. Ну а эстрадная слава их гремела вовсю. Евтушенко с Вознесенским уверенно завоевывали аудиторию, становились выразителями «шестидесятнического» мировоззрения.
Разница в образовании, в уже приобретенной известности существенна. Но еще более существенна та подмена поэзии эстрадной публицистикой, которая тогда происходила на глазах у всех и которая как бы не замечалась.
Явление это объяснимо только последствиями бодрого воспитания шестидесятников, представления о подлинной поэзии которых были настолько смутны, что они в основной своей массе и не замечали подмены. Уместно здесь будет напомнить, что и демобилизовавшийся с флота Рубцов тоже поддался соблазну эстрады и под крики: «Давай, парень! Шпарь!» — поначалу пробовал силы в создании звуковых эффектов и даже достиг в этом определенного успеха.
Бродского же эстрада, кажется, не тянула совсем. И не случайно, что он, быть может, первым из всей четверки начал ощущать дискомфортность времени перемен, внутреннюю лживость психологии шестидесятничества.
В 1961 году, в самый разгар бабьего лета советской власти — вспомните триумф первого полета в космос — он писал:
Это трудное время. Мы должны пережить, перегнать эти годы, с каждым новым страданьем забывая былые невзгоды и встречая как новость эти раны и боль поминутно, беспокойно вступая в туманное новое утро...Утро и в самом деле было туманным, а время трудным, хотя и не закончилась еще пресловутая оттепель. Но поэт словно бы прозревал будущее.
Ощущение близкой трагедии пронизывает и «Стансы городу», написанные в июне 1962 года:
Все умолкнет вокруг. Только черный буксир закричит Посредине реки, Исступленно борясь с темнотою, И летящая ночь Эту бедную жизнь обручит С красотою твоей И с посмертной моей правотою.Интересно сопоставить «Стансы городу» с «Осенней песней» Николая Рубцова, написанной в те же годы и только недавно напечатанной целиком, без купюр:
Потонула во тьме Отдаленная пристань. По канаве помчался — Эх — осенний поток! По дороге неслись Сумасшедшие листья, И порой раздавался Пароходный свисток.Стихи, разумеется, разные. Различия и в манере, и в образной структуре. Роднит их лишь выбор пейзажа — ночь на судоходной реке — да еще общее ощущение подступающей катастрофы...
Но вот если вспомнить написанное в эти же годы стихотворение Андрея Вознесенского «Ночь»:
Сколько звезд! Как микробов в воздухе...—то стихи Иосифа Бродского и Николая Рубцова могут показаться написанными одним человеком.
Разница в том, что Рубцов и Бродский видят все-таки одно мироздание, а Вознесенский — совсем другое.
Кроме номера телефона — Ж-2-65-39 — Иосифа Бродского в записной книжке Николая Рубцова, мы не располагаем достаточно достоверными свидетельствами о взаимоотношениях между этими поэтами. Скорее всего, никаких особых отношений не было, но это тем более интересно.
Те поразительные параллели, которые обнаруживаются в их судьбе и творчестве, лишний раз свидетельствуют, что система победившего шестидесятничества отвергала, сбрасывала все более или менее настоящее, подлинное.
Случайно ли в стихотворении Иосифа Бродского: «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам...» и Николая Рубцова: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», написанных в одно время, есть почти цитатные совпадения?
Ясно, что оба стихотворения создавались в предчувствии тех перемен, что уже отчетливо осознавались многими; в стремлении понять, определить для себя духовные ценности, не зависящие от соответствия их литературной и общественной ситуации. Стихи эти — попытка увидеть сквозь время и свою судьбу, и судьбу народа.
И конечно, это прозрение не могло быть рациональным, логическим.
У Иосифа Бродского оно рождается в сгущении мистических сумерек полудогадки:
Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд, кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд, кто глядит на себя, отраженного в черной воде, тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте...Николай Рубцов, наоборот, словно бы пытается вызвать из глубины памяти все самое светлое, чтобы рассеять надвигающийся мрак, но ни веселые картины деревенского гулянья, ни звуки гармошки не способны рассеять ни «мглу под обрывом», ни горечь озарения:
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы, Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом, Что, все понимая, без грусти дойду до могилы... — а главное, предощущение своей собственной судьбы: Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье И тайные сны неподвижных больших деревень. Никто меж полей не услышит глухое скаканье, Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.Эти ощущения не были характерными для поэзии шестидесятых, когда по выражению А. Вознесенского:
Как багровые светофоры, Наши лица неслись во мрак.Хотя, справедливости ради, отметим, что и в самовлюбленно-оптимистической поэзии Вознесенского тоже порою прорывалось подсознательное ощущение действительности, как некоего сатанинского действа.
Не случайно ведь в его книге «Антимиры», собравшей стихи начала шестидесятых, ангелы — эти обитатели надзвездных сфер — прочно вписываются в быт хозяев застойных десятилетий.
Он повис... С искаженным и светлым ликом, как у ангелов и певиц.(1963)
Или:
Как ангелы или лакеи, стоят за креслами, глазея.(1962)
Ангелы и певицы, ангелы и лакеи...
Низведение обитателей высших сфер до положения прислуги или, как принято стало выражаться в те годы, обслуживающего персонала, совершается Вознесенским, быть может, и неосознанно, но закономерно. Ничего другого и ждать было нельзя от человека, просившего Чудотворную икону Божией Матери Владимирской «грохнуться» в ноги его ветреной подружке, чтобы та отдалась ему.
На этом фоне самовлюбленных ужимок и хорошо оплачиваемого оптимизма и совершалось прозрение подлинных поэтов. И конечно, за него приходилось платить.
Это ведь только Евгений Евтушенко, «сквозь Россию мчась на «Москвиче» с любимой, тихо спящей на плече», спеша на курорт, актерствуя, мог попросить у Пушкина:
...пленительную участь — как бы шаля, глаголом жечь.А у Некрасова:
...неизящности силу. ... подвиг мучительный твой, чтоб идти, волоча всю Россию...Ну, заодно и у Блока — «два кренящихся крыла», у Пастернака — «смущенье веток», у Есенина — нежность «к березкам и лугам, к зверью и людям»...
И дело не только в неразборчивости Евтушенко, не в том, что он выпрашивает все подряд...
Просто настоящий поэт ничего и ни у кого просить не будет. Ни у Пушкина, ни у Маяковского, ни у власть имущих. Ему все это дается само собой...
Правда и платить тоже за все приходится самому...
И не случайно, что именно в тот год, когда Евтушенко, кренясь в своем воображении на блоковские крылья, катил «по России вместе с Галей куда-то к морю в «Москвиче», спеша от всех печалей...», Николай Рубцов, выгнанный из Литинститута, отправился в свою нищую вологодскую деревню, а Иосиф Бродский, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, был выселен из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду на пять лет.
В марте 1964 года он отправился по этапу вместе с уголовниками в деревню Норинское Коношского района Архангельской области.
У Бродского своя судьба, а у Рубцова — своя. Незачем насильственно сближать их, но все же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает...
Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда. Его просто убили. Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от неугодного ей образа мысли, это различие было несущественным...
Объективности ради следует сказать, что вскоре после 1964 года были неприятности и у Евгения Евтушенко...
Хотя он и признался, что:
Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся, Россия, материнский образ твой, —Ленинскую премию за поэму, воспевшую очередную экологическую катастрофу, ему так и не дали.
Это, конечно же, не справедливо. Тогда за такую поэму премию должны были дать.
Впрочем, как мы знаем, Евгений Евтушенко мужественно перенес несправедливость.
«За что мне заплачено, то я и ору», — признавался он в «Монологе автомата-проигрывателя», а у нас в стране, слава богу, был впереди еще и БАМ, который тоже ведь надо было кому-то воспевать...
Нашел свою тему и Андрей Вознесенский. Помимо шедевра «чайки — плавки бога», он создал еще прозаическое, но удивительно чувственное описание ночи, которую ему посчастливилось провести в кровати великого Пикассо.
Говорю я об этом не ради иронии.
Четыре поэта, четыре судьбы...
Все четверо начинали писать стихи, чувствуя живое движение истории. И потом, когда ток ее замедлился, ушел в песок одинаково похожих друг на друга съездов КПСС, когда подлинная история — афганская война, уничтожение неперспективных деревень — становилась все невнятнее, заглушаемая грохотом БАМов и ГЭСов, им пришлось выбирать, в какой истории жить. В подлинной или в выдуманной... В истории съездов и загранкомандировок, великих строек и спецпайков, славословий и казенных дач, тонн, кубов, центнеров и собраний сочинений...
И каждый из поэтов сам выбрал свою историю.
Ни Бродский, ни Рубцов не могли прижиться в истории, придуманной полутрупами из Политбюро, а Вознесенский и Евтушенко чувствовали себя там вполне комфортно.
Ну что ж...
Каждый выбирал сам, и каждому, по-видимому, и предстоит навсегда остаться в той истории, которую он для себя выбрал...
— 7 —
Сопоставляя судьбы четырех поэтов, я не преследовал задачи возвысить или принизить их значение. Задолго до меня это сделала история. Та подлинная история, в которой жил Рубцов, уже произнесла приговор, и бессмысленно вносить в него коррективы... Но поэт интересен не только своим творчеством, поучителен и его жизненный путь.
И сейчас, когда сместились все казавшиеся еще несколько лет назад незыблемыми точки отсчета, опыт жизни людей, сумевших и среди компромиссов и соглашательств отыскать свой Путь, расслышавших и в гуле оваций и анекдотов Глагол своего предназначения и, презрев житейские выгоды, повиновавшихся Ему, особенно актуален для нас...
Хотя и принято представлять Судьбу слепою, но она равно справедлива ко всем.
Да, у одних жизнь складывается благополучно, у других нет. Это житейская несправедливость. Нищета и гонения зачастую дают такие всплески гениальности, которые возносят униженные и оскорбленные души на те вершины, достичь которых, быть может, они никогда бы не смогли в самой благополучной и сверхкомфортабельной жизни.
Разумеется, говоря о «компенсации», предоставленной Судьбой за житейские неурядицы, нельзя сводить вопрос к бухгалтерским подсчетам, хотя, и не вдаваясь в мистику, можно найти объяснение этому парадоксу. Ведь постепенное приобретение житейских благ, борьба за достаточно комфортные условия жизни — процесс трудоемкий, требующий затраты как раз тех духовных сил человека, которые могли бы пригодиться на иные, более высокие цели.
Было бы много проще говорить о Рубцове, если бы он вообще не испытывал тяготения к житейскому благополучию. Или — любимое рассуждение нашей образованщины! — Рубцов потому и не продавался, что его никто не покупал...
Разумеется, это не верно.
Не верно, что Рубцов вообще не тянулся к благополучию. Не верно и то, что пути, ведущие к зажиточной жизни, были закрыты для него...
Об одном из таких путей мы уже говорили, пытаясь понять, почему Рубцов не зацепился в Москве, когда его исключили из института...
Но были и другие пути. Подходя к тридцатилетнему рубежу, Рубцов уже овладел тем багажом знаний, которые необходимы профессиональному литератору, и, право же, мог бы заниматься благополучной журналистикой или недурно оплачиваемым трудом переводчика.
И не нужно идеализировать Рубцова, не нужно делать вид, будто он заранее исключал для себя эти пути. Нет, «врагом» себе Рубцов не был, и конечно же, он пытался адаптироваться, вписаться в литературную ситуацию тех лет, пытался как-то устроиться в жизни, «ублагополучить» себя. Более того, он даже брал командировки от журналов, что-то пытался писать... Но — к счастью! — так и не смог сделать последнего шага, который требовалось сделать. Пробовал Рубцов заниматься и переводами. Здесь, по-видимому, требуется пояснение. Переводили в русской литературе всегда. Были переводчики талантливые, были халтурщики... Но все они — переводили, пытаясь в меру своих сил и возможностей донести до русского читателя то лучшее, что было накоплено в мировой литературе. Их зачастую подвижническая работа не имела ничего общего с тем откровенным деланием денег, в которое превратился перевод в шестидесятые годы.
Именно тогда обычным делом сделался «перевод» без знания языка, с подстрочника. Вероятно, это непотребство не получило бы такого массового распространения, если бы сусловско-московское понимание интернационализма не превратило занятие переводом с языков народов СССР в кормушку необъятных размеров. Многие поэты-профессионалы, опасающиеся, подобно Евтушенко, воспевать поезда, что идут по БАМу «мимо щеки» умирающего бригадира, занялись переводами.
В лучших традициях нашей образованщины халтуру в переводе почему-то все сразу согласились как бы и не считать халтурой.
Заметим тут, что этот феномен «гибкой совести», развившийся в среде советской образованщины, в дальнейшем, не без участия, кстати сказать, нашей диссидентствующей публики, был реализован в тактике американских спецслужб, с их «избранной защитой избранных прав избранных людей, полезных для цивилизованного мира»...
Хочу сразу оговориться, что добросовестные переводчики работали и в эти годы, но — увы! — они ничего не способны были изменить в захлестывающем прилавки магазинов мутном потоке непонятно на кого рассчитанной литературы. Ведь изменился сам характер переводческой работы. Теперь переводились не только шедевры иноязычной лирики, а и рядовые тексты, которые не способны были обогатить другой народ, пройдя и через самые добросовестные руки.
Будущим исследователям еще предстоит оценить тот титанический вклад, что внесен московско-ленинградской переводческой мафией в рост межнациональной напряженности, — ведь это благодаря ее стараниям в массовом русскоязычном читателе укрепилась устойчивая аллергия к большинству книг, на обложке которых стоит нерусское имя. Думается, что для создания стойкого иммунитета к любому нерусскоязычному культурному явлению (речь идет о народах СССР) переводческая мафия сделала нисколько не меньше, чем вся командно-административная система Брежнева — Суслова...
Вот к этому легиону владеющих версификационной техникой литераторов и пытался примкнуть Рубцов. Во всяком случае сохранились его довольно посредственные переводы довольно посредственных стихов Хазби. Но хотя и были опубликованы эти переводы, не хватило Рубцову разворотливости, хватки, необходимой для занятия переводами гораздо больше, чем знание языков. Не сумел Рубцов отнестись к переводу с тем профессиональным цинизмом и равнодушием, которые требовались...
Не сумел он, как и в занятиях журналистикой, переступить через себя...
ГЛАВА ВТОРАЯ
Увы... Положение Рубцова, хотя 15 января 1965 года он все-таки восстановился на заочном отделении института, хотя и вышла у него в Архангельске первая книжка, не шибко-то улучшилось. Это касалось и заработков, и жилья...
— 1 —
При расчете за книгу «Лирика» Рубцова безжалостно — так казалось ему! — обсчитали.
«Александр Яковлевич! — писал он 19 ноября 1965 года А. Я. Яшину. — Я не знаю, как вы сейчас чувствуете себя (или, как здесь говорят, как можете), все в порядке с Вашим здоровьем? Но, искренне надеясь, что Ваш недуг прошел и Вы, как прежде, стали сильным и могучим, я решил обратиться к Вам с просьбой по вопросу, вернее, по делу, важному для меня...
Дело в том, что у меня в Архангельске в Северо-Западном издательстве вышла маленькая книжечка — 1 п. л.
Недавно за эту книжку, за которую я должен был получить оставшиеся 40% гонорара, мне послали всего-навсего 29 рублей. При этом уведомили меня, что никакого недоразумения здесь нет, что произведен окончательный расчет. (И эту-то несчастную сумму они послали после долгой некрасивой волынки.) Они совершенно неожиданно для меня решили оплатить не все строчки, а только, видимо, рифмованные. Решили — сделали. Оплатили 470 рифмованных строк, но фактически в книжке 640 строк, т.е. за ними остался — я в этом убежден — долг. Это долг за 170 строк по 70 коп. Вот уж действительно свинью подложили! Я не злоупотребляю разбивкой строк, да дело еще и в том, что они сами кое-где ее убрали, а кое-где ввели, — значит, в художественном отношении они нашли это целесообразным. Так чего ж они, балбесы, подсчитали только рифмы! Они обязаны мне оплатить были по договору 1 п. л., равный 700 строкам (не важно, рифмованных или нет), фактически они обязаны мне оплатить 0,88 п. л., равного 640 строчкам (опять же не важно, рифмованных или нет). Правда ведь? Да во всех порядочных издательствах оплачивают все строки — это я знаю по себе.
Между прочим, у меня в книжке есть и белые стихи. По какому же принципу они оценили их? Если они взяли тут во внимание ритмические строки, то почему же они не сделали этого по отношению к другим «разбитым» стихам?»
И дальше Рубцов рассуждает о рифме, являющейся лишь художественным средством, которое поэт может использовать или не использовать, дальше уверяет, что он, Рубцов, не является миллионером и поэтому просит Яшина нажать на издательство и т.д., и т.д. Над этими рассуждениями можно иронизировать, но, очевидно, удар по планам Рубцова бухгалтерия Северо-Западного книжного издательства нанесла ощутимый...
И все же главная проблема для Рубцова сейчас заключалась не в безденежье... Ему срочно нужно было где-то прописываться.
9 июня 1965 года, подписывая с издательством «Советский писатель» договор на книгу «Звезда полей», Рубцов дал адрес литинститутского общежития на улице Добролюбова. Других адресов у него тогда просто не было.
Рубцов и жил здесь время от времени, когда обстоятельства способствовали этому. Но теперь прожитие в общежитии ему приходилось «отрабатывать»...
«Рубцову надо было ехать ночевать к кому-то из московских знакомых, я предложил ему остаться у себя, а утром, уходя на лекцию, положил на стол ключ, — вспоминает Сергей Чухин. — Ключ оставался у него полтора месяца.
За эти полтора месяца я заметил, что Рубцов не любит разговоров на литературные темы. Всего охотнее он сходился с людьми, если не далекими от литературы, то уж по крайней мере не поэтами.
Он весьма охотно выслушивал на наших вечеринках рифмованные потоки, где ему приходилось отыскивать удачные строки, строфы, чтобы похвалить, не кривя душой».
Так, «похваливая, не кривя душой» юных самовлюбленных стихотворцев, и жил великий русский поэт Николай Рубцов.
Как юные гении обращались с «приживалой» Рубцовым, великолепно описал Лев Котюков в книге «Демоны и бесы Николая Рубцова».
«Сразу хочу оговориться, — говорит он. — Я очень хорошо знал Рубцова, но дружбы между нами не было. Сказывалась разница в возрасте — почти одиннадцать лет, да и житейские обстоятельства.
Мы — девятнадцатилетние-двадцатилетние литшколяры — больше воспринимали Рубцова не как старшего товарища, а как непутевого, неудачливого, но доброго старшего брательника (выделено мной. — Н. К.)... Приведу характерный эпизод:
— Заочники утром приехали, при деньгах... Но не колются жлобы!.. — рявкает влетевший без стука в мою комнату стихотворец К.
Я грохочу кулаком в стену, за которой обитает Сергей Чухин. Через минуту он у меня, — Серега, пойдем заочников колоть! Срочно подготовь Рубцова с гитарой! И рубаху мою отнеси ему, а то кутается в свой шарф, как воробей недорезанный...
И шли, и успешно кололи зажиточных студентов-заочников под гитару и пение Рубцова...»
Разумеется, литинститутские гении унижали Рубцова не из зловредности, а просто из стремления хотя бы таким вот образом почувствовать себя наравне с гением. И что ж из того, что для этого приходилось маленько втоптать Николая Михайловича Рубцова в грязь? Втаптывали... И сами себе объясняли, что это от широты души называют гения русской поэзии «воробьем недорезанным»...
Вот Лев Котюков описывает спасение Николая Михайловича Рубцова из милиции....
«Бодро представ перед дежурным чином милиции, молодым аккуратным лейтенантом, я, стараясь не дышать в его сторону, громово, как в военкомате, представился:
— Секретарь комитета комсомола Литературного института имени Горького при Союзе писателей СССР!!!
Лейтенант напрягся, как машинописный лист под копиркой, взгромыхнулся по «стойке смирно» и сделал под козырек, всем своим служебным видом демонстрируя, что ради великой советской литературы он готов в огонь и в воду.
— М-да, мрачновато тут у вас... — сочувственно обвел я рукой тусклую дежурку. — Тяжеловато... Как танку в болоте... — и, не теряя темпа, с потусторонней брезгливостью спросил: — Тут поступила информация, что вами задержан некий Рубцов, наш студент, к сожалению...
— Сейчас, минуточку, — выясним! — лейтенант бодро полистал мрачную конторскую книгу и поспешно доложил: — Есть Рубцов! Николай Михайлович... Без документов!
— Ну-ка, ну-ка, приведите-ка сюда этого Николая Михайловича! Наши студенты не шастают без документов! — почти приказал я.
Через минуту из камерных недр предстал Рубцов. Вид его был предельно уныл и жалок: рваная, когда-то, видимо, шелковая тенниска, грязные, пузырчатые штаны, в которых только покойных бомжей хоронить, беспорядочно покорябанная физиономия и аккуратная багровая шишка на лысине.
— Этот, что ли?! — с уничижительным недоумением взарился (так у автора! — Н. К.) я на своего товарища.
Воспрянувший было Рубцов растерянно заморгал корявыми, непохмельными (? — Н. К.) глазами, закашлялся, промычал что-то нечленораздельное вроде «...Да я это, я... Кто ж еще-то?..», а лейтенант всполошенно зыркнул на сержанта сопровождения, видимо, решив, что произошла накладка—и надо срочно поискать среди задержанных кого-нибудь поприличней.
Но я царственно успокоил служителей правопорядка:
— Да, да, да, что-то припоминаю... Кажется, это действительно наш Рубцов. Надо же так допиться, до потери лика человеческого! М-да!.. Тут съезд на носу, а он... М-да!.. Что он у вас натворил-то?.. С такой рожей?! Тьфу!..
Сейчас уже и не помню — какой съезд я имел в виду: партийный, комсомольский или писательский. Насъездились на тысячу лет вперед — и, как оказалось, дураков в России припасено не только для съездов.
Но при упоминании съезда откуда-то сбоку, наверное, из стены, поскольку ни слева, ни справа от меня никаких дверей не было, возник седовласый майор. Возник, благородно поздоровался, учтиво и уважительно полюбопытствовал:
— Участвуете в съезде?
— Работаю над докладом, привлечен в качестве редактора-референта! — небрежно бросил я.
— Это хорошо, что привлечены, хорошо, что молодежь, так сказать, творческую привлекают... — одобрил майор и сожалеюще кивнул в сторону Рубцова: — А таких вот нам привлекать приходится!
— К сожалению! — согласился я.— К сожалению, одна паршивая овца может все стадо перепортить! Всю, понимаете, отчетность перед съездом достижений всей творческой интеллигенции... — и грозно гаркнул в сторону пожухшего Рубцова: — До чего ты довел высокое звание советского писателя?! Что сказал бы Горький, что сказал бы твой любимый Маяковский, если бы видел твое безобразие?! (Рубцов исказился в гримасе, ибо терпеть не мог Маяковского.) Как я буду смотреть в глаза Александру Трифоновичу Твардовскому?! Как ты теперь будешь смотреть ему в глаза, скотина неумытая??»
В принципе, не так и важно — в милицию Николай Рубцов попадал довольно часто... — был ли на самом деле такой эпизод в жизни или он придуман Котюковым... Котюкову важно нарисовать обстановку, в которой, как сам Котюков очень метко подметил, «ничтожество не знает смирения. Ничтожество ничтожит все и вся любыми, даже самыми, казалось бы, безобидными способами. И себя в первую очередь ничтожит, но не ведает об этом».
Рубцов терпел все это хамство, откровенное издевательство... А что еще оставалось делать ему, вытесненному дружной литературно-ресторанной компанией в грязные и темные коридоры бесправия? Но — увы! — и это воистину ангельское терпение не спасало... В общежитии можно было переночевать, прокантоваться и месяц, и другой, но без прописки жить в нашей стране не разрешалось ни за похвалы чужим стихам, ни за готовность терпеливо сносить хамство сотоварищей...
Тем более опасно было жить без прописки такому человеку, как Рубцов... Он самим своим видом, кажется, привлекал внимание стражей порядка.
Однажды его задержали с чемоданом на Ярославском вокзале в Москве.
— Что в чемоданчике?
— Кукла...
— Кукла?!
Рубцов открыл чемодан, показывая купленную для дочери куклу, и эта кукла и спасла его от дальнейшей проверки... Милиционер не потребовал паспорт, не проверил прописку.
На этот раз Рубцову повезло. Но рассчитывать на подобное везение и в дальнейшем не стоило.
— 2 —
В Государственном архиве Вологодской области среди бумаг Рубцова хранится справка со штампом и круглой печатью Никольского сельсовета, назначение которой не сразу и отгадаешь. Она датирована 5 августа 1965 года:
«Дана Рубцову Николаю Михайловичу в том, что он действительно проживал в селе Никольском Никольского с/совета Тотемского района Вологодской области с октября 1964 года по август 1965 года.
Что и заверяет Никольский сельсовет».
Справка аккуратно подклеена на картонке...
Зачем?
Не сразу и сообразишь, что в шестьдесят пятом году эта бумажка была главным документом Николая Михайловича Рубцова...
Здесь, видимо, необходимо сделать кое-какие разъяснения. В последний раз Рубцова прописали в Москве осенью 1963 года. Временная прописка для студентов давалась на год, и ее срок у Рубцова истек в октябре 1964 года. Поначалу он надеялся, восстановившись в институте, вернуться на дневное отделение. Тем более что вместо А. А. Мигунова, так старательно выгонявшего Рубцова, в институт пришел новый ректор — небезызвестный многим поколениям студентов Литинститута тов. В. Ф. Пименов.
Восьмым апреля 1965 года зарегистрировано в канцелярии института письмо секретаря Вологодского отделения СП РСФСР А. Романова, ходатайствующего о восстановлении Рубцова на дневном отделении.
Вероятно, Рубцова все равно бы не восстановили на дневном отделении. Владимира Федоровича Пименова, начавшего свою карьеру и сумевшего возвыситься до высоких должностей еще в довоенные годы, можно обвинить во многом, но уж в сочувствии к талантливым русским студентам, в желании помочь им преодолеть бедственное положение, я думаю, не упрекнет никто.
И тем не менее несчастливая судьба Рубцова значительно облегчила Владимиру Федоровичу его задачу. Как раз в те дни, когда затеял Рубцов хлопоты о возвращении на дневное отделение, немилостивая судьба разыгрывает с ним еще одно представление, которое можно было бы назвать комедией, если бы оно не отразилось так печально на его жизни...
— 3 —
В личное дело студента Н. М. Рубцова вшита целая пачка документов...
«Начальнику 19-го отд. милиции
г. Москвы от гражданки Акименко Е. И.
прожив, ул. Фонвизина, дом 6, кв. 63.
Заявление
1945 посадила (здесь и далее сохранены стиль и орфография автора. — Н. К.) пассажира 17 проезд Марьиной Рощи. По дороге пассажир стал вести себя не тактично, меня оскорблять и говорит что я депутат Верховного Совета и что хочу то и делаю и меня не имеет права забирать ни одна милиция окромя Ц.И.К.А.
Я обратилас к постовому инспектору у 10-го проезда Марьиной Рощи, он сказал вези в 19 о/м. Куда и был доставлен.
17.IV.65 г. Акименко»
«АКТ № 1442
составлен 17 апреля 1965 г. В 20.00 помощником
дежурного по о/м Якуниным.
Рубцов Николай Михайлович...
При личном обыске обнаружено и взято на хранение до вытрезвления следующее: студенческий билет, серый шарф, военный билет, паспорт, денег три рубля, два ключа, брючный ремень...
Доставленный одет: светлый плащ, серый пиджак, темно-зеленые брюки, без головного убора...
Личность нарушителя установлена по паспорту XV-ПА № 576384 от 3/Х 1959 г.»
И тут же, следом сообщение в институт...
«Директору Литературного института
им. А. М. Горького
17/1V- 1965 г.
19 о/мил. г. Москвы был задержан студент-заочник Литературного института Рубцов Николай Михайлович.
Будучи в нетрезвом состоянии и проезжая в такси ММТ-11—94 — водитель Акименко, Рубцов вел себя недостойно, наносил оскорбления водителю, отказался уплатить 64 копейки за проезд.
В дежурной части отд. милиции вел себя также недостойно и только после настойчивых требований дежурного уплатил по счетчику за пользование такси 64 копейки. В о/милиции Рубцов находился до полного вытрезвления с 20.00 ч. 17/IV — 65 г. до 7.30 18/IV - 65 г.
Считаю, что подобное недостойное поведение Рубцова позорит высокое звание советского студента Литературного института и заслуживает строгого обсуждения, тем более что РУБЦОВ не имеет постоянного места жительства.
Начальник 19-го отделения милиции города Москвы Куковкин».
Поскольку Рубцов сам очень подробно прокомментирует эти документы, пока обратим внимание только на даты...
С 8 апреля, когда было подано Рубцовым заявление о восстановлении в институте с приложенным к нему ходатайством Вологодского отделения СП РСФСР, никакого рассмотрения дела не происходило.
И это при том, что ночевать Рубцову было негде, а в общежитие его не пускали. Деньги тоже кончались...
Зато когда прибыли бумаги из милиции — они зарегистрированы институтской канцелярией 22 апреля 1965 года! — тотчас же, словно только этих бумаг и ждали, институтское начальство немедленно начинает готовить ответ Вологодской писательской организации.
«Справка
Студент 3 курса т. Рубцов Н. М. обучается заочно. В текущем учебном году (напомним, что Рубцова восстановили на заочном отделении только 15 января 1965 года. — Н. К.) он не сдал ни одной контрольной работы. Учитывая перезачеты, мы считаем, что за ним числится академическая задолженность — четыре контрольные работы.
Как студент-заочник он только числится, но не учится.
Вологодское отделение СП РСФСР ходатайствует о восстановлении Рубцова на IV курсе очного отделения (см. письмо). Думаю, что это преждевременно.
Тов. Рубцов плохо учится и недостойно себя ведет (см. письмо из милиции).
Рубцов — творчески активен.
Но за академическую неуспеваемость и недостойное поведение он заслуживает серьезного взыскания и предупреждения.
24.IV.65 г. П. Таран».
Справка эта, составленная деканом заочного обучения по поручению ректората, требовала времени для подготовки, и очевидно, что запросили справку сразу на следующий день после получения бумаг из милиции.
На основе справки и составляется ответ на ходатайство Вологодской писательской организации.
И по форме, и по содержанию ответ этот более смахивает на донос...
«Уважаемый товарищ Романов!
Студент Рубцов Н. М. в июне 1964 года был отчислен из института за систематическое появление в нетрезвом виде и за недостойное поведение.
Учитывая признание им своей вины, обещание исправиться и ходатайство его творческого руководителя поэта Н. Н. Сидоренко, он был в январе 1965 года восстановлен в число студентов-заочников. Мы надеялись, что тов. Рубцов учтет свои ошибки и исправится.
Однако Рубцов после восстановления в институте не приступил к занятиям и в апреле снова за недостойное поведение был задержан милицией и доставлен в вытрезвитель.
Все это не дает основания перевести т. Рубцова на очное отделение. В связи с указанным возникает вопрос о возможности дальнейшего обучения Рубцова и на заочном отделении.
Ректор
Литературного института В. Пименов».
Казалось бы, зачем нужно поднимать этот архивный хлам, какое это имеет отношение к Рубцову, к его поэзии?
Мне кажется, что имеет, и самое прямое...
Эта безжалостная, равнодушная, канцелярская стихия, где легко обезличивались человеческие поступки, где невинная в общем-то просьба принести бутылку вина или требование вернуть сдачу настойчиво переименовывались в «недостойное поведение», все время вставала на пути Рубцова...
И эту силу никогда не мог перебороть он.
Еще интересны эти документы тем, что в них необыкновенно глубоко раскрываются характеры их авторов.
Вот тот же В. Ф. Пименов...
Он отправил письмо А. Романову 26 апреля, а это значит, что засел за работу над ним 25 апреля — сразу, как только получил справку от П. Тарана. Но, хотя и малый срок был отпущен В. Пименову для составления письма, это не помешало ему всесторонне раскрыться в любимом жанре...
Владимир Федорович потому спокойно и счастливо и прожил на должности ректора все долгие годы застоя, что очень уж подходил для этого времени. Нет-нет, он и при И. В. Сталине не сидел в лагерях, не бедствовал в хрущевскую оттепель, но все-таки полностью раскрыл свой талант именно в годы застоя.
Вот и из письма А. Романову видно, как замечательно умел Владимир Федорович превратить свой отказ как бы даже и в благодеяние, каким заботливым и чутким мог прикинуться.
Читаешь Владимира Федоровича: «Мы надеялись, что тов. Рубцов учтет свои ошибки и исправится...» — и прямо слезы на глаза наворачиваются. Каков ведь студент подлец! Ему поверили, а он опять обманул, даже и «не приступил к занятиям», да к тому же «снова за недостойное поведение был задержан милицией»...
И как мастерски построена последняя фраза письма: «В связи с указанным возникает вопрос о возможности дальнейшего обучения Рубцова и на заочном отделении»!
Воистину, умри, а лучше не скажешь. Воистину — это звездная вершина творчества Владимира Федоровича... Вы, дескать, хлопочете о переводе Рубцова на дневное отделение, так нате же! Выкусите! Вашего Рубцова и с заочного нетрудно выгнать.
То есть почему нетрудно? Его просто нельзя держать в институте даже и на заочном отделении! И если держат, то только по причине необъяснимого добродушия самого Пименова.
Надо сказать, что манеры Владимира Федоровича Пименова производили впечатление на окружающих.
Многие студенты, например, как свидетельствуют воспоминания того же Льва Котюкова, считали, что в прошлом Пименов «всеми театрами СССР ведал, в кресло министра культуры метил»... Даже те, кто не питал симпатии к Пименову, верили его рассказам, что, «когда обсуждали пьесы
Булгакова, он вынимал наган; оттого и прозван был «Наганщик» (В. Цыбин «Но горько поэту...»).
И миф о том, что Пименов якобы заботился о студентах вообще и о Рубцове в частности, тоже оказался достаточно живучим...
«А милейший царедворец Пименов, — пишет Лев Котюков, — хоть и хмурил свои грозовые, брежневские брови при упоминании Рубцова, но, однако, не исключал из института без права восстановления и переписки и сквозь пальцы смотрел на его проживание без прописки в общежитии. Именно благодаря Пименову Рубцов успешно окончил Литинститут, а не был изгнан с позором, как гласят литературные легенды».
Однако стоит обратиться к документам, и все эти мифы обнаруживают свою несостоятельность.
Мы видели, как тонко выдавал товарищ Пименов А. Романову «компромат» на Рубцова! Причем делал это без особой цели, просто на случай, если по своей собственной глупости и недомыслию надумают, например, вологодские товарищи принять этого злодея Рубцова в Союз писателей. Знайте, товарищи, все. Владимир Федорович вам раскрыл глаза, насколько опасен Рубцов...
И я не случайно акцентировал внимание читателей на датах документов... Посмотрим еще раз...
8 апреля — Рубцов просит восстановить его на дневном
отделении.
22 апреля — в институт приходят бумаги из девятнадцатого отделения милиции.
26 апреля — В. Ф. Пименов отправляет ответ на ходатайство А. Романова.
То есть 26 апреля решение было принято...
Тем не менее сам Рубцов и 27 апреля не знает об исходе своего дела. Он, конечно, справлялся у Пименова, но тот по свойственной ему доброте и мягкосердечию о собственном письме-доносе в Вологодскую писательскую организацию позабыл, позабыл и о том, что уже отказал Рубцову в восстановлении на дневном отделении. Он предложил Рубцову написать заявление и объяснить, что же произошло 17 апреля... Рубцов написал...
— 4 —
«Уважаемый Владимир Федорович!
Я пишу Вам в связи с ходатайством Вологодского отделения Союза писателей, а также в связи с письмом в институт от начальника отделения милиции.
В первую очередь — о письме из милиции. Если говорить подробно, все произошло так:
Однажды вечером я приехал в общежитие института. На вахте меня не пропустили. Они имели на это право, но мне, как говорится, от этого не было легче. Я решил поехать на ночлег к товарищу и с этой целью подошел к такси. Водительница такси потребовала деньги за проезд заплатить вперед. Я отдал ей три рубля, так как более мелких денег у меня не оказалось (еще при себе у меня осталось столько же, т. е. 3 р. Это имеет значение). И мы поехали. Когда, выходя из машины, я попросил сдачу, водительница отказалась вернуть ее. Она с нескрываемым нахальством стала утверждать, что никаких денег у меня не брала. Тут стоит помянуть Есенина: такую лапу не видал я сроду! А если помянуть Гоголя, это черт знает что такое! И тогда я нарушил свое правило последнего времени: не гневаться и тем более не разжигать в себе гнев. Я потребовал продолжить поездку до ближайшего милиционера. Я это сделал с целью «проучить» ее. Теперь я понимаю, что поступил тогда удивительно глупо. В деревне, наверное, поглупел. Ни в коем случае нельзя было рассчитывать, что она покается в милиции, а нельзя забывать, что ее отвратительный поступок с моей стороны недоказуем. В милиции меня и слушать не стали, так как в общем-то их интересует не столько истина, сколько официально-внешняя сторона дела. Мне велели заплатить этой женщине 64 коп. по счетчику. Я сделал это, чтобы избежать осложнений. Потом меня увели куда-то спать. Слава богу, хоть за это я им благодарен! В отделении милиции я вел себя достойно, вернее, покорно. Только этой женщине резко сказал: «Как вам не стыдно!» Начальник отделения, очевидно, эти слова и имеет в виду, когда привычно формулирует: вел себя недостойно...»
Здесь, видимо, нужно прервать повествование Рубцова и попытаться понять, что же он имеет в виду, когда говорит, что «поглупел... в деревне». В стихах, написанных зимой 1964/65 года, никакого «поглупения» не ощущается.
«Поглупением» Рубцов называет отвычку от жизни большого многомиллионного города, где такие понятия, как стыд и совесть, оказываются необязательными в общении людей вне круга домашних и сослуживцев, где отсутствие стыда и совести нисколько не мешает этим людям выглядеть внешне вполне добропорядочно.
Разумеется, это не значит, что в сельской местности не встретишь лжецов и негодяев, но в деревне все люди на виду, каждый знает друг друга и это сдерживает людей...
Рубцов как-то немного смешно говорит о заведенном им правиле «не гневаться и тем более не разжигать в себе гнев», но, очевидно, что он искренне, хотя и не слишком успешно, пытался следовать ему. На своей шкуре узнав, что значит московское жлобство, он изо всех сил пытается не подставиться сейчас, когда решается вопрос об устройстве дальнейшей жизни.
Выпив с кем-то, он пытается устроиться на ночлег в общаге, но в общежитие его не пускают... «Они имели на это право, но мне... от этого не было легче». И все же Рубцов и здесь не вспылил, подчинился, покинул общежитие и решил отправиться к товарищу в Марьину Рощу.
От общаги Литинститута туда, хотя это и недалеко, маршрутным транспортом не добраться. К счастью, на остановке стоит такси. Правда, женщина, сидящая за рулем, просит заплатить вперед. Рубцов отдает ей трешку.
Что подумала неведомая нам московская таксёрша Акименко? Может, просто решила, что три рубля и платит подвыпивший, загулявший пассажир? Это неведомо... Тем не менее за те несколько минут, пока Акименко везла пассажира, с этой мыслью она сроднилась, вернее, сроднилась с трешкой и даже, наверное, прикинула, как ею распорядиться. Только одного не сообразила, что у Рубцова на всю дальнейшую жизнь оставалось всего две трешки (вспомните составленный в милиции акт!) и отдавать половину своих денег за такси было для Рубцова немыслимо. Немыслимым было для Рубцова и примириться с таким наглым обманом.
А дальше — настоящий фарс... Рубцов начинает пугать водителя такси, выдавая себя за депутата Верховного Совета. Кстати, судя по воспоминаниям, Рубцов однажды пытался выдать себя за майора КГБ...
Ну, конечно, пузырящиеся на коленях темно-зеленые брюки, в которых, как метко заметил Лев Котюков, только бомжей хоронить, светлый, заношенный плащ, видавший виды шарфик — сразу видно депутата Верховного Совета... Ни за что не отличишь...
И может быть, потому-то и решилась неведомая нам Акименко везти подвыпившего пассажира в милицию, что сразу раскусила его, поняла, что не только депутатского удостоверения у него нет, но и самой обычной прописки, самого обыкновенного жилья не имеется...
Как мы уже говорили, работники сферы обслуживания сразу вычисляли Рубцова и срывали на нем все накопившиеся за день обиды.
Наверное, и Рубцов сообразил, что не надо бы ввязываться в эту историю, но было уже поздно, ловушка, которую он сам построил, захлопнулась.
И сразу наступила апатия — все планы рушились...
И, может быть, в милиции иначе бы отнеслись к заверениям Рубцова, если бы была у того прописка в паспорте. Но не было таковой у Николая Михайловича, и это одно делало его в глазах дежурных милиционеров подозрительным.
Не случайно ведь начальник девятнадцатого отделения подчеркнул слова: «Считаю, что подобное недостойное поведение Рубцова... заслуживает строгого обсуждения, тем более что Рубцов не имеет постоянного места жительства».
Но вернемся к заявлению Рубцова... Как-то неуклюже оправдывается он, доказывая, что не мог не заплатить эти несчастные 64 копейки, имея, как подтверждено в акте, три рубля.
Эта неуклюжесть объяснения и доказывает его правоту...
Когда человек лжет, он всегда придумывает более или менее правдоподобную версию, и ложь звучит достаточно складно...
Сам Рубцов не замечает никакой нескладности в своих объяснениях.
Закончив с ними, он возвращается к главному вопросу — к просьбе восстановить его на дневном отделении. И как тут снова не поразиться необыкновенной духовной организации Владимира Федоровича Пименова, сумевшего, читая это заявление, не дрогнуть, не поколебаться в уже принятом решении. Воистину, железный ректор!
«С тех пор как меня перевели на заочное отделение... — писал Николай Рубцов, — меня преследует неустроенность в работе, учебе и в быту. Конечно, что есть проще того, чтобы устроиться на работу где-либо, прописаться и в этих нормальных условиях заниматься заочной учебой? Но дело в том, что мне, как всякому студенту нашего института, необходимы еще творческие условия. Эти условия я всегда нахожу в одном деревенском местечке далеко в Вологодской области. Так, например, в прошлое лето я написал там больше пятидесяти лирических стихотворений, многие из которых сейчас приняты к публикации в Москве и других городах. Когда я ушел на заочное, я сразу же опять отправился туда, в классическое русское селенье, — и с творческой стороны опять все у меня было хорошо. Но зато в документах возник беспорядок: у меня нет в паспорте штампа о работе, так как я сотрудничаю в тамошней газете нештатным (штатных мест не было), у меня нет прописки в паспорте, так как в той местности временным жителям выдают только справки о том, что они с такого-то по такое время проживали именно там. У меня тоже есть такая справка, но для Москвы она, эта справка, — филькина грамота. Именно из-за этого беспорядка в документах меня оставили тогда ночевать в милиции и написали оттуда такое резкое письмо в институт, т. е. помимо сути акта о нарушении в их руках оказалась еще эта суть. Бесполезно было там все это объяснять...
В заключение хочу сказать, что я ничего не прошу, не прошу даже о восстановлении... Просто, как Ваш студент, я посчитал своим долгом объяснить то неприятное происшествие, которое в конечном счете явилось результатом моего, так сказать, заочного образа жизни...
27. 4. 65 г. Николай Рубцов»
Сейчас можно только гадать: из осторожности ли, столь свойственной ему, или из-за какого-то административного садизма потребовал Владимир Федорович Пименов от Рубцова это заявление... Кому жаловался Рубцов на свой «заочный образ жизни», если Владимир Федорович считал, что Рубцов только заочно и имеет право жить?
— 5 —
Хотя что-то по свойственной ему манере говорить в жанре полунамеков-полуобещаний Пименов, возможно, Рубцову и посулил. И я склонен думать, что сделал это Пименов не только из злобы, но руководствуясь и политико-педагогическими побуждениями.
Может быть, Владимира Федоровича беспокоило, что Рубцову не давался на той майской сессии 1965 года исторический материализм... Написанная Рубцовым контрольная работа «Роль коммунистической идеологии в формировании нового человека» 6 мая не была зачтена преподавателем. Вот Владимир Федорович и решил подбодрить студента. И это ему удалось...
14 мая, пусть и «с очень большой натяжкой», была зачтена работа Рубцова «Классы и классовая борьба».
Так что наверняка самыми добрыми намерениями — добрый человек был Пименов — руководствовался Владимир Федорович, туманно обещая что-то Рубцову. И разве Пименов виноват, что Рубцов поверил в эти обещания? Нет, конечно. Это даже как-то нетактично со стороны Рубцова было напоминать Владимиру Федоровичу 3 сентября 1965 года новым заявлением: «Прошу восстановить меня на очном отделении» — о его обещании.
Впрочем, Пименов не обиделся на невоспитанного студента. «Из-за отсутствия мест отказано» — начертано на рубцовском заявлении... Просто и без затей...
Понимал ли В. Ф. Пименов, что значила для Рубцова учеба именно на дневном, а не заочном отделении института, что значила для Николая Рубцова прописка?..
Этого мы не знаем... Может, и не понимал... Московско-ленинградской нечувствительностью к страданиям России была заражена не только интеллигенция, но и аппаратчики. И Владимир Федорович Пименов живое свидетельство этому. Хотя интеллигенция, может быть, заражена была сильнее...
«Кто-то, пожалуй, упрекнет меня за некоторую безнравственность... — пишет Лев Котюков. — О, Господи, как озабочены чужой, убывающей нравственностью иные весьма и весьма порядочные люди! Так озабочены, что боязно становится за них, за их всепогодную порядочность, за их собственную нравственность, в конце концов! Но дальнейшие рассуждения о морали и нравственности я опускаю ради собственного покоя, а не для краткости изложения.
На следующее утро один из поклонников Рубцова, очень-очень высоконравственный гражданин, с шикарной квартирой на Арбате и при трехэтажной даче в Переделкино, узрев нас, не скрыл искреннего огорчения по поводу задержки поэта в столице — и почти без раздражения помог не только опохмелиться, но и призанять денег «до завтра» на дорогу. А когда я завел разговор о прописке Рубцова в Москве или где-нибудь в Подмосковье, поскольку в данный момент поэт был отовсюду выписан и фактически был бомжем, покровитель вспылил, возгневался и жестко попрекнул нас в меркантильности и еще в чем-то мещанском. Брякнул нам возмущенно вслед что-то вроде:
— О душе надо думать, а не о прописках!.. Живите, как птицы небесные!.. С народом надо быть, с народом!..
И захлопнул за нами тяжелую, высокомерную, многозамочную дверь своей наследственной квартиры».
И тут не так уж и важно, насколько осознанно и целенаправленно загоняли Рубцова в темный коридор его псевдодрузья и псевдоблагодетели. Все они рафинированные интеллигенты и простоватые аппаратчики, какие бы разные предлоги они ни придумывали, отказывали Рубцову в одном — в праве его на мало-мальски устроенную, человеческую жизнь...
Рубцов понимал это гораздо лучше своих друзей-приятелей...
Об этом, уезжая из Москвы, он пишет в письме Феликсу Кузнецову...
«Феликс! Я обратил внимание, что листок, на котором я пишу, лежит на «Лит. Газете», а в ней написано: «Моя поэтическая личность... всегда отделена от меня». Это слова какой-то Майи Борисовой, которые приводит в своей статье «Диалог соседей» твой (и наш общий) друг Ал. Михайлов. Приводит их и добавляет: «Мне близка эта мысль, подтверждающая мою позицию в наших спорах о лирическом герое». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Умники! Ужас! Михайлов, оказывается, не «рубит» в поэзии. А ты, говорил... Нашел еще на кого ссылаться! Великий русский поэт Борисова! Ну да ладно: у них своя компания, у нас — своя (выделено мной. — Н. К)».
Про свою компанию сказано без злобы. Скорее с грустью, что такой вот своей компании у него, поэта Рубцова, не было...
— 6 —
Осенью 1965 года в письме А. А. Романову, ответственному секретарю Вологодской писательской организации, Рубцов пытается если не обрести свою компанию в лице Александра Романова, то хотя бы объяснить ситуацию, в которой он оказался:
«Мне тут, в этой глуши, страшно туго: работы для меня нет, местные власти начинают подозрительно смотреть на мое длительное пребывание здесь. Так что я не всегда могу держаться здесь гордо, как горный орел на горной вершине...»
Тут нужно обратить внимание на некую перекличку этого письма с письмом, адресованным в прошлом году Н. Н. Сидоренко. Там, как мы помним, тоже возникали образы, связанные с кавказскими горами: «А если меня исключили, так вы не беспокойтесь обо мне. Бог с ним! Уеду куда-нибудь на Дальний Восток или на Кавказ. Буду там, на Кавказе, например, карабкаться по горным кручам. Плохо, что ли? Пока могу карабкаться по скалам, до тех пор я живой и полон сил, а это главное» — но сейчас не остается сил и на браваду. Сейчас Рубцов прямо пишет, что гордость горного орла на вершине — не для него.
У него нет уже сил изображать из себя глупую кавказскую птицу.
«Николай очень боялся, когда его вызывали в сельсовет... — вспоминает Генриетта Меньшикова. — Однажды наш участковый пришел к нам и сказал, чтобы он пришел в сельсовет. Николай даже побледнел... А оказалось, что участковый учился заочно и не мог решить контрольную по математике...
В те годы жизнь была трудная. Земли в колхозе не давали, было у нас три сотки, так картошки еле хватало до Нового года. Заработки тоже были маленькие. Я получала 36 рублей да мать 27. Вот на эти деньги надо было жить...»
Председатель Никольского колхоза «Россия» Н. А. Беляевский рассказывал, что паспорта они начали выдавать своим колхозникам только в 1967 году, и до этого времени все колхозное хозяйство держалось, по сути дела, на подневольном труде.
В это трудно поверить, но — увы! — и полвека спустя после победы советской власти в нашей деревне жили, как при крепостном праве. И, конечно же, сам факт появления в этой закрепощенной деревне вольного человека смущал местное начальство.
И вот — произошло то, что и должно было произойти. Фотография Рубцова появилась на доске «Тунеядцам — бой!» в сельсовете. Рубцов стоит на фотографии в свитере, сложив на груди руки. Чуть усмехаясь, прищурившись, он смотрит с этой, быть может, самой лучшей своей фотографии на нас...
Действительно, смешно...
Но тогда было не до смеха.
Разумеется, Рубцов ничего не пишет Романову ни про нищету, ни про свои страхи из-за того, что в Николе его уже зачислили в тунеядцы, но и так — крик о помощи слышится в его письме.
Александр Романов не услышал его.
Может быть, вспомнил о сведениях, сообщенных ему Пименовым, может, малость глуховат стал в «воеводской» должности на чужую беду...
— 7 —
Не об этой ли глухоте своей и думал А. А. Романов уже после смерти Николая Михайловича Рубцова, вспоминая, как заезжал тот зимой, года за два до смерти, к его матери в деревню Петряево...
«Только ты укатил в Вологду, а к вечеру, смотрю, какой-то паренек запостукивал в крыльцо, — рассказывала Александра Ивановна Романова сыну о приезде Рубцова. — Кинулась открывать... Он смутился и отступил на шаг.
— Я Рубцов, — поздоровался. — Вот к вам, к Саше завернул...
Стоял на крылечке такой бесприютный, а в спину ему так и вьет снегом. Ну, скорей зову в избу. Пальтишко-то, смотрю, продувное...
Поутру он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьеве на автобус. Так уж просила подождать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошел в сумерки. Глянула в окошко — а он уже в белом поле покачивается. В вихрях снега...»
Еще рассказывала Александра Ивановна, что вечером, отогревшись после дороги, Рубцов читал стихи...
— Про детство свое, когда они ребятенками малыми осиротели и ехали по Сухоне в приют. Про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня. Про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши, поруганные бесами... И вспугнуть-то боюсь: так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах слезы, а поверху слез — Богородица в сиянии венца. Это обручальная моя икона... А Коля, будто троеперстием, так и взмахивает над столом, будто крестит свои стихотворения.
«Это было в предзимье, — пишет Александр Романов. — Когда разбитая за осень дорога на Двиницком волоку крепнет от первых морозов, и трогаются наконец-то автобусы в дальние места. Возможно, он пробирался в Тотьму, в свои Палестины, и вздумал попутно взглянуть и на мою деревню, отстоящую всего в пяти верстах от Двиницкого волока. Бог весть».
Бог весть...
Может, действительно пробирался тогда Рубцов в свои «Палестины», а может, просто, как пять лет назад, искал угол, куда можно приткнуться со своими стихами, выйдя из окутанного снежными вихрями зимнего поля своей сиротской судьбы...
Ведь именно тогда, в 1965 году, положение сделалось настолько отчаянным и безвыходным, что Рубцов пытается даже разыскать сестру Галину, чтобы прописаться хотя бы у нее в Череповце.
В конце 1965 года он обратился с запросом в горотдел милиции Череповца:
«Уважаемые товарищи!
Очень прошу вас сообщить мне адрес Рубцовой Галины Михайловны, г. р. 1929, которая сейчас проживает в г. Череповце. И еще очень прошу сообщить мне об этом не задерживаясь, так как мне это совершенно сейчас необходимо.
Она моя сестра.
С уважением — Рубцов Николай
Мой адрес: г. Вологда; ул. Ленина, 17, Союз писателей».
На обороте этого письма штамп Череповецкого горотдела милиции: «Рубцова Галина Михайловна, Московский пр., д. 44, кв. 62» и дата — 17 декабря 1965 года,
Но и с пропиской в Череповце ничего не получилось.
И снова мысли Рубцова возвращаются к институту.
«Заявление
Прошу восстановить меня на дневном отделении института.
Я перевелся по личному заявлению с дневного на заочное отделение сроком на один год летом 1964 г., так как хотел побыть ближе к обстановке современной деревни: это было необходимо для написания книги.
За это время я опубликовал книгу стихов о деревне «Лирика» (г. Архангельск 1965 г.) и подготовил книжку «Звезда полей», которая уже одобрена издательством «Советский писатель». А также опубликовал циклы стихов в журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Юность» и др.
Но поскольку по месту жительства (с. Никольское Вологодской обл.) я испытываю большие затруднения в подготовке к занятиям и в повышении своего культурного уровня (ближайшая районная библиотека расположена за 100 км от деревни), я хотел бы завершить свое образование на дневном отделении.
Прошу в просьбе не отказать.
18/III-66 г. Н.Рубцов»
Но заявление это Рубцов так и не отправил. Протертое на сгибах, оно хранится не в литинститутском деле поэта, а в Государственном архиве Вологодской области, в Рубцовском фонде.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Трудно проследить все скитания тридцатилетнего Рубцова...
Во многих воспоминаниях можно найти сетования, что он мог, например, выйти из комнаты и, никому не сказав ни слова, уехать на вокзал и отправиться в Вологду, в деревню.
Проходит день, другой... Замечают, что Рубцова нет. Где же он? Никто не знает...
Но что должен был говорить Рубцов, если он и сам не знал, куда ему ехать, если во всей огромной стране не находилось для него места? Он и ехал куда придется — к товарищам, к полузнакомым людям. Отношения с семьей в Никольском к этому времени — увы — окончательно разладились.
— 1 —
Л. С. Тугарина вспоминала, что мать Генриетты Михайловны — Александра Александровна, работавшая уборщицей в сельсовете (через нее Рубцов, очевидно, и добывал свои справки), окончательно разругалась с ним, когда Рубцов отверг вынашиваемый ею план — определить зятя в председатели Никольского сельсовета.
Теперь, когда Рубцов приезжал в Николу, Александра Александровна встречала его вопросом:
— Чего ты, Колька, опять приехал? Своих-то (это говорилось про дочь и внучку) когда заберешь?
Генриетта Михайловна, конечно, радовалась, когда приезжал Рубцов, топила с дороги баню, но ей и самой (36 рублей жалованья) жилось не легко.
«Плохо, плохо они с Гетой его держали... — рассказывала Л. С. Тугарина. — Пойдем с ним, бывало, на целый день на болото за клюквой, а он только хлеб ест да водичкой запивает...
Я скажу:
— Возьми хоть молока попей...
— Молока? Молока, — говорит, — можно.
А клюкву он чисто брал — ни одной соринки. Ее по семьдесят копеек тогда принимали».
Об этом же вспоминает и Нина Геннадьевна Курочкина: «Когда летом ходили с ним на болото, Рубцов мне показывал все сенокосы, где они с детдомовскими ребятами работали. За Левакиной показал на место бывшего хутора и сказал: «Вот бы здесь построить домик в три окна. За домом — березы, а под окном — смородина, рябина, черемуха. Пиши сколько душе угодно, никто не помешает...»[16]
Глупо было бы упрекать Генриетту Михайловну или ее мать Александру Александровну за отношение к Рубцову. И помощи от него для семьи не было, и характер был, мягко говоря, нелегкий... Рубцов понимал это, но понимал по-своему:
«Я проклинаю этот божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить».
Иначе, но об этом же писал он и в стихотворении «Полночное пенье».
Когда за окном потемнело, Он тихо потребовал спички И лампу зажег неумело, Ругая жену по привычке. И вновь колдовал над стаканом, Над водкой своей, с нетерпеньем... И долго потом не смолкало Его одинокое пенье. За стенкой с ребенком возились, И плач раздавался и ругань, Но мысли его уносились Из этого скорбного круга...«Тот, кто встречался с ним, — пишет Станислав Куняев, — не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Но, чтобы раскрепоститься, Рубцов должен был обязательно выпить, как он говорил, «вина». Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных на лоб, и, рванув меха, начинал не петь, а плакать, равномерно раскачиваясь:
П-о-о-тону-ула во мгле Отдале-о-о-нная при-и-истань...Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе, — изливалась под скрипучие звуки разбитой гармошки... Это было не исполнение, а самозабвение...»
С таким же «самозабвением», должно быть, поет и герой «Полночного пенья».
И долго без всякого дела, Как будто бы слушая пенье, Жена терпеливо сидела Его молчаливою тенью. И только когда за оградой Лишь сторож фонариком светит, Она говорила: — Не надо! Не надо! Ведь слышат соседи! — Он грозно вставал, как громила. — Я пью, — говорил, — ну и что же? — Жена от него отходила, Воскликнув: — О господи боже!.. — Меж тем как она раздевалась И он перед сном раздевался, Слезами она заливалась, А он соловьем заливался...Разумеется, тщедушный Рубцов, покупавший одежду в детских магазинах, только самому себе в алкогольном опьянении и мог показаться «громилой»...
Покойный Борис Примеров, тоже не отличавшийся могучим телосложением, вспоминая о встречах с Рубцовым, употребил очень точное словечко: «Рубцов вспыльчивый был, а я тоже горячий... Вот и сцепились мы с ним однажды в две мощи...»
Так что, сравнивая своего героя с «громилой», Рубцов отнюдь не случайно употребил это слово. В стихах он все понимал, все мог выразить...
Совсем другое дело — в жизни. Здесь Рубцов часто и не хотел ничего понимать...
Финальные строки «Полночного пенья» — случайно ли? — перекликаются с «Соловьями», описывающими разрыв с Таей Смирновой.
Соловьи, соловьи заливались, а ты Все твердила, что любишь меня. И, угрюмо смеясь, я не верил тебе. Так у многих проходит любовь...Можно только догадываться, как пугала близких Рубцова его способность сознавать свою неправоту, мучиться ею и тем не менее продолжать утверждать ее в жизни...
И дело тут не в какой-то угрюмости или озлобленности Рубцова, а просто в неумении соразмерять свои слова и поступки с окружающим бытом. Основу этому, как мы уже говорили, заложил детдом, а вся остальная скитальческая жизнь еще сильнее развила это свойство.
В десятках вариантов сохранилась история, как в общежитии Литературного института, вырвавшись из надоевшей компании, Рубцов снял все портреты классиков в красном уголке и затащил к себе в комнату. Наутро он объяснил разгневанному коменданту, что ему просто хотелось провести какое-то время в компании приличных людей.
Случай анекдотичный, но для Рубцова — характерный. Сидеть и разговаривать с портретами ему было проще, чем говорить с живыми, окружающими его людьми. Ему действительно — вспомните: он судил коллег на уровне своего мастерства, а это было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей... — могло показаться, что портреты понимают его лучше.
В середине шестидесятых в Рубцове происходит перелом.
После ряда безуспешных попыток хоть как-то ублагополучить себя в жизни — все его мольбы, заявления, просьбы оказались безрезультатными — Рубцов словно забывает, что нужно устраиваться, и уже не предпринимает ничего, окончательно свыкнувшись с мыслью, что только в своих стихах и может он существовать...
И перебирая сейчас адреса, по которым жил Рубцов в середине шестидесятых, понимаешь, что по-настоящему Рубцов жил не в общежитии на Добролюбова, не в Николе, не на квартирах вологодских и московских приятелей, а только в своей поэзии.
Там и было его жилье, его горница...
— 2 —
Обманчивы простота и ясность рубцовских стихов. Если вдумываться, отыскивая в них будничный смысл, то окажется, что все здесь как-то несуразно и нелепо...
В горнице моей светло. Это от ночной звезды.Сразу, уже в этих первых строках, несообразность...
Как может быть светло от ночной звезды? Ну, ладно лунный свет, но звездный... Разве способен он осветить углы комнаты, табуретку, стол, тарелку на столе? А дальше?
Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды...Ну, зачем, скажите, идти матери ночью за водой, какая надобность? И при чем тут «красные цветы», которые «в садике завяли все»? При чем «лодка на речной мели», которая «скоро догниет совсем»?
Поиск будничного смысла начисто разрушает волшебство стихотворения, превращает его в груду нелепых обломков...
Но еще более нелепо предполагать, что эти прекраснейшие стихи написаны по рецепту эстрадной песни, где только звучание голоса и создает реальность, где только мелодия, ритм и могут связать бессмысленные слова...
Рассчитывая на чуткого читателя, Рубцов не снабжает свое стихотворение подзаголовком — «сон», вычеркивает строфы, дающие ключ к такому прочтению стихотворения, а прямо с первых же строк разворачивает сновидение:
В горнице моей светло. Это от ночной звезды.И все упорядочивается, все встает на свое место. Разумеется, светло! Звездный свет не высветит ни чугун с картошкой, ни табуретку. Для быта его не хватает — зато вполне достаточно для памяти, для того, чтобы увидеть в ее сумерках самое главное, то, что, кажется, навсегда было позабыто.
Звезды вообще дают у Рубцова больше нужного света, чем луна или солнце. Того света, который необходим для прозрения:
Виднее над полем при звездном салюте, на чем поднималась великая Русь.
И сейчас, в свете ночной звезды, тоже виднее. Видно давно умершую, но никогда не умиравшую в памяти Рубцова мать. И ее поступки, ее действия:
Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды...алогичны только для дневного, «забытовлённого» сознания, не замечающего, что «в любой воде таится страх...». Здесь же, в сновидении, они полностью оправданы, ведь:
Красные цветы мои В садике завяли все.Те красные цветы, которые в поэтическом мире Рубцова неразрывно связаны с матерью, с ее смертью...
Об этом, как мы уже говорили, Рубцов писал и в своей прозе, и в стихотворении «Аленький цветочек»...
Красный цветок нес шестилетний Рубцов за гробом матери... Чтобы полить этот увядший в памяти цветок, и приносит матушка воды. И тогда сразу оживает забытое в дневной сутолоке: «Лодка на речной мели скоро догниет совсем». Та лодка, на которой предстоит плыть «на тот берег», когда завершится жизненный путь.
Появление матери стряхивает дремоту с души, вселяет в нее силу, необходимую для свершения самых главных дел, о которых днем недосуг было подумать:
Завтра у меня... Будет хлопотливый день! Буду поливать цветы, Думать о своей судьбе, Буду до ночной звезды Лодку мастерить себе...Опять-таки и здесь ночная звезда является не просто как знак конца дневного времени суток, не только для закольцовки стихотворения, а как некая мера духовного, эталон, по которому дневные, будничные мысли выверяются с вечными...
Разумеется, никто не читает рубцовские стихи, детально расшифровывая их смысл. Это и не нужно. Глубинный смысл передается за счет высокого духовного напряжения прямо в душу читателя. Перед нами художественное в высшем его проявлении, и оно не нуждается ни в дополнительном толковании, ни в расшифровке. Поэт точно и во всей глубине передал свое душевное состояние, в простых и как бы безыскусных словах сумел закрепить свет, замерцавший в его душе. И свет этот стал принадлежать всем.
Если сравнить стихотворение «В горнице» с тем, что писал Рубцов о матери на флоте:
Еду в отпуск в Подмосковье И в родном селении опять Скоро, переполненный любовью, Обниму взволнованную мать...ясно можно увидеть тот путь, который прошел он за это десятилетие. Разница, разумеется, не только в так называемом поэтическом мастерстве, не в том, что во флотских стихах содержание нередко диктуется условиями рифмовки (если с «любовью» лучше рифмуется «Подмосковье», то именно туда, в еще неведомую Николаю Рубцову местность, и отправляется герой)... Различие тут прежде всего в методе преодоления границы, разделяющей живых и мертвых.
— 3 —
В «Горнице» встреча с умершей матерью становится реальностью в том особом состоянии души, которого достигает поэт. Уместно тут будет вспомнить, что первая редакция этого стихотворения (она была опубликована Вячеславом Белковым в журнале «Волга») существенно отличалась от канонического варианта. Первоначально стихотворение было названо «В звездную ночь».
В горнице моей светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, Молча принесет воды. — Матушка, который час? Что же ты уходишь прочь? Помнишь ли, в который раз Светит нам земная ночь? Красные цветы мои В садике завяли все, Лодка на речной мели Скоро догниет совсем. Сколько же в моей дали Радостей пропало, бед? Словно бы при мне прошли Тысячи безвестных лет. Словно бы я слышу звон Вымерших пасхальных сел... Сон, сон, сон Тихо затуманит все.Сравнивая эту редакцию с окончательным текстом, видишь, чего добивался Рубцов.
Безжалостно исключая замечательные строфы, он уходил от описания погружения в то состояние души, которое воссоздано в «Горнице», к самому этому состоянию...
Лирическая стихия Рубцова — это особая стихия, которая хотя и персонифицируется порою в поэте, даже и в этот момент, одновременно живет по другим, недоступным для живого человека законам, ибо наделена несвойственными человеку способностями. Эта самостоятельная сущность, сливаясь с которой, и получает поэт возможность ощущать запредельные миры, получая ту информацию — вспомните: «Я умру в крещенские морозы...», — которая недоступна обыкновенному человеку.
И, наверное, поэтому, читая стихи Рубцова, порою трудно отделаться от ощущения, что они звучат не из прошлого, а откуда-то из будущего, которое еще ожидает нас...
Замерзают мои георгины. И последние ночи близки. И на комья желтеющей глины За ограду летят лепестки...Посреди этого кладбищенского, словно бы рождающегося из сновидения пейзажа и начинает звучать голос Рубцова, голос его посвящения другу:
Нет, меня не порадует — что ты! — Одинокая странствий звезда. Пролетели мои самолеты, Просвистели мои поезда, Прогудели мои пароходы, Проскрипели телеги мои, — Я пришел к тебе в дни непогоды, Так изволь хоть водой напои!Разумеется, звучащий из нашего с вами будущего Голос невозможно ни накормить, ни напоить, если забыть при этом, что вода бывает еще и Живою... Правда, и волшебная Живая вода — а что в этом полусне-полусказке не волшебно? — не способна ничего изменить в судьбе и потому-то:
Не порвать мне житейские цепи, Не умчаться, глазами горя, В пугачевские вольные степи, Где гуляла душа бунтаря. Не порвать мне мучительной связи С долгой осенью нашей земли, С деревцом у сырой коновязи, С журавлями в холодной дали...И уже откуда-то издалека, из еще не наступившего времени — затихающий голос:
Но люблю тебя в дни непогоды И желаю тебе навсегда, Чтоб гудели твои пароходы, Чтоб свистели твои поезда!Мы пока не слышим восклицательного знака, стоящего в конце стихотворения. Как робкая надежда звучит для нас, для нашей Родины сейчас это пожелание.
Но это для нас, захлестнутых зловещей бедой... Это сейчас...
А голос-то звучит из будущего...
— 4 —
А это: «13 февраля. У нас третий день живет Николай Рубцов, поэт из Тотьмы...» и «19 февраля. Н. Рубцов пришел пьяным и поздно, отказали ему в дальнейшем гостеприимстве» — записи в дневнике Александра Яшина за 1966 год-голос из прошлого...
Лето 1966 года Рубцов встретил в общежитии Литературного института. Ехать ему было некуда...
«Пошли однажды компанией, человек семь, в столовую пить пиво... — вспоминает Борис Шишаев. — Сидели долго. Николай неожиданно сказал: «Надо мне куда-нибудь поехать. Туда, где никто меня не знает...» Слова эти выражали усталость».
Мы говорили о том, как, пытаясь возвыситься, унижали Николая Михайловича Рубцова юные литинститутовские гении. Но надо сказать и о том, что нигде больше за всю свою жизнь не встречал Рубцов такой (пусть зачастую хамоватой и полупьяной) отзывчивости, как в общаге на Добролюбова... Вот и сейчас — едва успел сказать, — как тут же начали предлагать адреса, куда можно поехать. И уже вечером Рубцов «ходил по комнате и с веселым, не соответствующим теме видом твердил экспромт»:
Наше дело — верное, Наши карты — козыри, Наша смерть, наверное, — На Телецком озере.Таким — веселым, но со страшными словами о смерти и запомнился Рубцов товарищам накануне поездки на Алтай.
В этом неожиданном предприятии была своя логика. До смерти надоело прятаться от коменданта, ночевать на чужих кроватях. Хотя «надоело» — неудачное слово. Правильнее заменить его — усталостью. Смертельная усталость порою охватывала перевалившего на четвертый десяток Рубцова, та усталость, когда человеку в тягость становится и сама жизнь. Поэтому и не удивляет никого сочетание «веселой улыбки» и страшного содержания экспромта.
С мыслями о смерти Рубцов, кажется, уже и не расставался, а веселье тоже объяснимо. Оно оттого, что удалось так хорошо придумать — уехать, забиться в даль, где тебя никто не знает, исчезнуть, чтобы... чтобы...
Едва ли Рубцов думал в ту минуту о смерти всерьез, но, поскольку эта мысль всегда жила в нем, она получала неожиданное и какое-то романтически-красивое развитие. Вот и улыбался Рубцов, повторяя свой страшный экспромт.
Удивительнее другое. Удивительнее то, что Рубцов пережил в Сибири...
Он взял в журнале «Октябрь» командировку и поехал в Сибирь, словно бы притихнув, как и всякий впервые едущий туда человек, перед самой огромностью этого слова.
Сибирь он представлял себе смутно...
«Пишу тебе из Сибири. Ермак, Кучум... Помнишь? Тайга, Павлик Морозов...» — напишет он 28 июня А. А. Романову.
— 5 —
Но Сибирь встретила Рубцова совсем не угрюмо, совсем не сурово, а не по-сибирски весело.
И не пустынной оказалась она, а переполненной людьми.
По-ярмарочному тесно и весело в стихотворении Николая Рубцова «Весна на берегу Бии»:
Трактора, волокуша с навозом, Жеребята с проезжим обозом, Гуси, лошади, пар золотой, Яркий шар восходящего солнца, Куры, свиньи, коровы, грачи, Горький пьяница с новым червонцем У прилавка и куст под оконцем — Все купается, тонет, смеется, Пробираясь в воде и грязи!И такая животворящая сила исходила от этого весеннего столпотворения людей и домашней живности, солнца и воды; такая сила вливалась в поэта от этой еще не до конца разоренной кремлевскими упырями земли, что забывались мрачные мысли. Их вытесняло ощущение сказочного, былинного могущества, когда «услышат глухие», «прозреют слепые», когда захлестывает человека рвущаяся изнутри радость жизни:
Говорю я и девушке милой: —Не гляди на меня так уныло! Мрак, метелица — все это было И прошло — улыбнись же скорей.Этот радостный оптимизм, в общем-то, совершенно не свойствен Рубцову. И объяснить его можно только удивительным состоянием самого поэта, пережитым в Сибири. Даже в письмах к друзьям прорывается столь нехарактерная для эпистолярного наследия поэта радость жизни:
«Цветы здешние мне понравились. Вино плохое. Поэтому, наверное, я его так редко здесь пью. Предпочитаю чай».
Борис Шишаев в очерке «Алтайское лето Николая Рубцова» приводит воспоминания Матрены Марковны Ершовой, у которой останавливался в Барнауле Рубцов...
Войдя в дом, Рубцов нерешительно поздоровался и негромко сказал:
— Наверное, вы и есть Матрена Марковна... А меня зовут Николай Рубцов. Я из Москвы, от вашего брата Васи Нечунаева. Мы учимся с ним вместе. Он сказал, что вы разрешите мне остановиться у вас на некоторое время. И письмо вот просил передать...
Матрена Марковна засуетилась, стала расспрашивать о брате — как он там? — но тут же прервала себя:
— Господи, ведь человеку надо умыться, поесть с дороги...
Поначалу она растерялась — из самой Москвы приехал... Но потом присмотрелась — пиджак поношенный, и туфли стоптались, пора бы уже и новые. Лысина надо лбом — хлебнул, видать, в жизни, — а глаза добрые, разговор свойский и в то же время культурный. И стесняется.
Слово за слово — и незаметно напряженность ушла. Расспрашивал Николай просто, неназойливо, и, отвечая ему, Матрена Марковна с удовольствием рассказывала о своей жизни, словно душу облегчала. Скоро ей начало казаться, что она знает Рубцова давным-давно.
— А как там Вася наш? — спросила она. — Не пьет?
— Не пьет... — ответил Рубцов и опустил глаза. Это тоже понравилось Матрене Марковне.
В сказку о непьющем брате она все равно бы не поверила, но понравилось, что Рубцов не стал врать, глядя прямо в глаза. Сразу стало видно — не умеет кривить душой, хоть и поэт.
Еще Матрене Марковне понравилось, что ребята — и Рая, и Вовка — моментально приладились к гостю.
«Раньше придет кто-нибудь чужой, — рассказывала она Борису Шишаеву, — так они дичатся, стараются на глаза не показываться. А Николай заговорил, расспросил их о том о сем, пошутил раз-другой, а они уже болтают с ним, смеются, как со своим».
Сели за стол — Матрена Марковна поставила перед Николаем отдельную тарелку, но он запротестовал:
— Что вы! Что вы! Я с вами из общей буду. Ведь так вкуснее! С детства люблю из общей.
Определили Рубцова в той самой комнатке, где до поступления в Литературный институт жил Василий. Стены ее сплошь были испещрены нечунаевскими стихами и рисунками. Ни одного из этих четверостиший Матрена Марковна раньше прочитать не могла — слишком мудреный был у брата почерк. А тут, перед самым сном, слышит — смеется Николай в комнатушке. Заглянула — он читает строки на стене. Расшифровал и ей несколько озорных надписей, посмеялись вместе, вспомнили опять о Василии.
Тогда и подумала Матрена Марковна, что Николай ничуть не похож на других друзей Василия — поэтов, которые нередко наведывались к брату в гости. Да и вообще на поэта не похож. Добрый, вежливый и внимательный...
Переночевав у Ершовых, Рубцов сказал Матрене Марковне, что ему надо встретиться с барнаульскими писателями, а потом он, возможно, поедет в Горный Алтай.
Ушел, и несколько недель его не было. Появился неожиданно — загорелый и посвежевший, в хорошем настроении. Рассказал, что гостил у поэта Геннадия Володина в предгорном райцентре Красногорское.
И как оживленно и радостно сделалось в доме, когда Рубцов снова поселился в нечунаевской комнатушке! На огороде к тому времени начали созревать огурцы и помидоры.
— Вот что, Матрена Марковна, — сказал однажды Николай, — пойду-ка я нарву помидоров и сочиню салат по-ленинградски. Вы такого никогда не ели.
И сделал, да так получилось вкусно, что уничтожен был салат мгновенно, а Рая с Вовкой даже еще захотели. Ели опять же из общей миски, и очень нравилась Николаю такая простота.
Помогал Рубцов Матрене Марковне и в других делах по дому, и всегда удивлялась она его сноровке, обнаруживающей большой жизненный опыт.
А вечерами вели неторопливые разговоры — вспоминали каждый о своей нелегкой жизни. Матрена Марковна рассказывала, как потеряла во время войны любимого человека, а потом неудачно вышла замуж, намучилась вволю и в конце концов осталась одна с двумя детьми. Открывала наболевшее, и легче становилось на сердце, потому что светились в рубцовских глазах родственное понимание и сочувствие.
Матрена Марковна рассказывала, что и Рубцов, который очень редко пускался в откровения, с нею охотно делился воспоминаниями о сиротской жизни...
— 6 —
Это свидетельство Матрены Марковны Ершовой важно еще и потому, что именно в Сибири Рубцов сумел преодолеть назревавший в нем кризис, увидел другой, возможный для себя вариант жизни. Об этом его стихотворение «В сибирской деревне»:
То желтый куст, То лодка кверху днищем, То колесо тележное В грязи... Меж лопухов — Его, наверно, ищут — Сидит малыш, Щенок скулит вблизи...Мастерскими, как бы небрежными мазками набрасывает Рубцов пейзаж окружающей местности, а на самом деле, как и положено у Рубцова, каждая деталь пейзажа несет тот внутренний, почти не осознаваемый смысл, который определяет логику стиха. Лодка, которой по законам рубцовской поэзии положено догнивать на речной мели, перевернута кверху днищем, готова к ремонту, а может, уже и к будущему плаванию... Поэтому и не пугает валяющееся в грязи колесо от разбитой телеги. Все равно, дальше уже не ехать, а плыть... плыть...
И малыш сидит среди лопухов... На мгновение, словно легкий вздох, еще слышен голос неторопливого пейзажиста:
Его, наверно, ищут...
и все, пейзаж исчезает, вернее, автор — пейзажист исчезает, сливаясь с ребенком.
И хотя намеченное действие еще продолжается: «Скулит щенок и все ползет к ребенку...», — оно потеряло смысл, игра закончена. Взрослый мир Николая Рубцова стремительно заполняет строфу смертной печалью:
А тот забыл, Наверное, о нем К ромашке тянет Слабую ручонку И говорит... Бог ведает, о чем!..Про ромашки у Николая Рубцова написано немало, и всегда ромашки у него «будто бы не те»...
Понятно, что с реальным пейзажем распахивающееся перед нами мироздание сходно точно так же, как берег моря с крохотной песчинкой на нем. Само необратимое время перестает действовать в безднах открывающейся высоты, оно уже не властно в распахнувшемся пространстве:
Когда в ночи глухой Со всех сторон Шумят вершины сосен, Когда привычно Слышатся в лесу Осин тоскливых Стоны и молитвы...Слово, обращенное к Богу — не забудем, что у Рубцова оно произносится младенческими устами! — и достигшее Его, уже само несет в себе искомый Ответ об ином, возможном в пространстве, где нет времени, Пути.
Отец, тот предатель, которого столько раз при жизни убивал Рубцов в своих стихах и с которым он полупримирился незадолго до его смерти, сейчас четыре года спустя после реальной смерти снова возникает из смешанных с глухой тишиной стонов и молитв:
В такую глушь. Вернувшись после битвы, Какой солдат Не уронил слезу?
И сливаются слезы отца и сына в едином искупительном порыве прощения и покаяния. Примирение состоялось. Медленно рассеивается мерцающий свет вечности...
Случайный гость, Я здесь ищу жилище... —все еще про себя, все еще там говорит Рубцов, но окружающий мир уже обретает привычные глазу очертания, и только память об искупительном чуде помогает ровно, не ломая интонации, закончить эту более сходную с молитвой пейзажную зарисовку:
И вот пою Про уголок Руси, Где желтый куст И лодка кверху днищем, И колесо, Забытое в грязи...Незаметное стихотворение Рубцова «В сибирской деревне», несомненно, имело истоком какое-то очень глубокое прозрение его автора. Свидетельством этого прозрения может служить и стихотворение «Шумит Катунь»:
...Как я подолгу слушал этот шум, Когда во мгле горел закатный пламень! Лицом к реке садился я на камень И все глядел, задумчив и угрюм, Как мимо башен, идолов, гробниц Катунь неслась широкою лавиной, И кто-то древней клинописью птиц Записывал напев ее былинный...Правда, само стихотворение является как бы конспектом произошедшего озарения, из него можно лишь узнать, в чем именно («Молчат цветы, безмолвствуют могилы, И только слышно, как шумит Катунь»...) состояло озарение, но никакого чуда, подобного тому, что происходит в стихотворении «В сибирской деревне», в нем не совершается...
— Я еще раз поеду на Катунь, — говорил Николай Рубцов Г. Володину, — поброжу по берегу, шум реки послушаю. Знаешь, в этом шуме свой ритм и своя интонация. Ни с чем не сравнимая интонация...
Впрочем, «конспект» пригодился Рубцову, когда он здесь же, на Алтае, на Чуйском тракте, писал «Старую дорогу»:
Все облака над ней, все облака... В пыли веков мгновенны и незримы, Идут по ней, как прежде пилигримы, И машет им прощальная рука. Навстречу им июльские деньки Идут в нетленной синенькой рубашке, По сторонам — качаются ромашки, И зной звенит во все свои звонки, И в тень зовут росистые леса... Как царь любил богатые чертоги, Так полюбил я древние дороги И голубые вечности глаза![17]Такие стихи можно писать, только когда знаешь, что «летом земля (вообще жизнь) особенно красива. А сколько еще впереди этих лет?».
Задавая этот вопрос в письме к приятелям, Рубцов подразумевал, что таких лет теперь у него будет много, очень много... Между тем и всяких-то лет оставалось у Рубцова впереди, не считая лета шестьдесят шестого года, всего четыре...
На Алтае Рубцов жил в гостях у друзей... Вернувшись в Вологду, он оказался как бы дома, но не было дома, жить ему было не у кого и не на что...
— Хочу поехать в Тотьму, к дочке... — сказал Рубцов, встретив Сергея Чухина. — Но сам понимаешь...
— Поедем со мной в Дмитриевское... Это совсем недалеко от Новленского... — предложил Чухин.— Шестьдесят километров отсюда. Там у меня тетя и бабушка. Изба большая — зимняя и летняя. Они — в летней, а мы в зимней будем. Лес, речка, озеро — все рядом!
— Неудобно... Ты там свой, а я что?
Но Чухин все-таки уговорил Рубцова, и остаток лета они провели вместе, в небольшой, растянувшейся одним посадом деревеньке на берегу реки, по которой — меньше километра плыть! — легко было добраться до Кубенского озера...
Интересно, что этим летом 1966 года товарищ Николая Рубцова по детдому Анатолий Мартюков как бы вместо Рубцова побывал в Никольском... Еще интереснее, что там он думал о старой дороге, «единственной, и самой трудной — от села Никольского до села Красного»...
Разумеется, летом 1966 года Анатолий Мартюков не знал стихотворения «Старая дорога», но, разглядывая проносящуюся за окном автобуса дорогу, он вспоминал слова Рубцова, имевшие самое непосредственное отношение и к стихотворению, и к самой старой дороге...
— Жаль старой дороги. Новую прямую прокладывают. Разрежут все на мелкие части... Пешеходам ничего не остается...
«Старая дорога звала ускорить шаг, прибавляла силы. Это была дорога встреч на каждом ее километре».
В Николе говаривали: до Засеки бегом добежишь (деревня в пяти километрах от пристани Устье-Толшменское), до речки Половинницы (ручей на половине пути) дойдет и хромой. Половинница всегда была местом отдыха. Свежая, лесная вода, прохлада пологих травянистых бережков. Тенисто в жару. Здесь утоляли жажду. А умывались, когда было очень пыльно, в Толшме.
А возле старой дороги бежали тропинки, делали все, чтобы можно было спрямить путь, а где надо, выйти на берег настоящей реки. И так, пока идешь до села Никольского, несколько раз «облегчала она мысли человека».
Анатолий Мартюков утверждает, что эти впечатления — из той, 1966 года, поездки в Никольское...
Но ведь, по сути дела, это впечатления самого Николая Рубцова, вернее лирического героя его стихотворения, который на старом Чуйском тракте думает о душе, которая «звенит, перекликаясь со всей звенящей солнечной листвой»... И разве не чудо поэзии, что эта перекличка душ перестает быть поэтическим образом, а становится в то же самое мгновение реальностью жизни...
Перекликаясь с теми, кто прошел, Перекликаясь с теми, кто проходит... Здесь русский дух в веках произошел. И ничего на ней не происходит. Но этот дух пройдет через века! И пусть травой покроется дорога, И пусть над ней печальные немного, Плывут, плывут, как мысли, облака...«С горечью узнаю, — что перестала существовать деревня Фатьянка. Открытая каждому путнику нашего Никольского сельсовета деревня. Некогда ряд двухэтажных узорных изб был украшением деревеньки на зеленой, обтекаемой лужайке».
В этой деревне жила одноклассница Мартюкова и Рубцова — Нина Соболева. Девочка с серыми глазами... Она приходила в школу в нарядном, с кистями платке...
«Запомнились покатые поля за Фатьянкой, среди летнего разнотравья, желтая извилистость дороги. Еще один километр легкого пути к Николе. С горки. С предчувствием близкой сырости болотин и озерин. К деревянному мосту через Толшму, что под самым селом Никольским. Под красной церковью Николая Чудотворца...»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
«Лысеющая голова, высокий лоб, маленькие, с прищуром, глубокие темные глаза — очень умные, проницательные до пронзительности»...
«Он был в берете, в демисезонном пальто с поднятым воротником, который защищал от знобящего ветра почти всю шею, небрежно замотанную шарфом»...
«Одет он был в новый коричневый костюм с еле заметной серой полоской. Белизна рубашки при зеленом галстуке оттеняла его смуглое, тщательно выбритое лицо. И выглядел он красивым. Был возбужден и энергичен. Нервничая, он настойчиво добивался по телефону связи с каким-то московским издательством».
«Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что «паче гордыни»...
«В редакции Рубцов появлялся то в сером костюме, темной рубашке со светло-серым галстуком сплошными крохотными ромбиками, то, несколько позже, в новом коричневом костюме в тонкую серую полоску и белой рубашке с зеленым галстуком. Ботинки и пальто поношенные, но аккуратно вычищенные, и пресловутый длинный шарфик не висел, как попало, а снимался вместе с пальто, когда он усаживался с ребятами играть в шахматы...
Обращала на себя внимание смугловатая бледность его узкого лица с большим лбом, а карие при добром расположении глаза в гневе темнели. Говорили о его вспыльчивости и нетерпимости — и говорили во многом напрасно. Мне довелось не раз видеть его возмущенным, и не помню, чтобы он был не прав.
Хамского пренебрежения Николай действительно не терпел. Чем он вызывал раздражение людей определенного сорта, трудно сказать, то ли какой-то особой внутренней сосредоточенностью, то ли цепкостью быстрого взгляда, который был «не как у всех»... А между тем выглядел он скорее незаметно, чем вызывающе»...
Таким был Рубцов осенью 1967 года, когда с легкой руки Егора Исаева, «под зеленый свет», вышла книга «Звезда полей» и Рубцов почувствовал, что становится знаменитым. И хотя в родной Вологде выход «Звезды полей» был ознаменован тем, что Николая Михайловича Рубцова на всякий случай — смотрите воспоминания Владимира Степанова! — наголо постригли в милиции, налаживались и вологодские дела.
— 1 —
Летом шестьдесят седьмого года Николай Михайлович Рубцов участвовал в устроенной обкомом партии агитпоездке по Волго-Балту. В поездке принимали участие Александр
Яшин, Василий Белов, Александр Романов, Виктор Коротаев, Дмитрий Голубков, Николай Кутов, Леонид Беляев, Борис Чулков...
Потом Рубцов скажет в стихотворении «Последний пароход»:
В леса глухие, в самый древний град Плыл пароход, разбрызгивая воду, — Скажите мне, кто был тогда не рад? Смеясь, ходили мы по пароходу...
Еще остались от этого путешествия у Николая Михайловича Рубцова знакомства с местными партийными боссами. Писателей, участвовавших в поездке, Рубцов знал и так.
Новые знакомства были ценными... Напомним, что Рубцов все еще не имел ни своего угла, ни постоянной прописки.
Сохранилось заявление, написанное Рубцовым...
«В Вологодский обком КПСС
от члена Вологодского отделения
Союза писателей РСФСР Рубцова Н. М.
Заявление
Прошу Вашей помощи в предоставлении мне жилой площади в г. Вологде.
Родители мои проживали в Вологде, Я тоже родом здешний.
Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого. Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею только во время экзаменационных сессий, т. е. 1—2 месяца в год.
Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий, ни нормальных условий для творческой работы.
Я автор двух поэтических книжек (книжка «Звезда полей» вышла в Москве, в издательстве «Советский писатель», «Лирика» — в Северо-Западном книжном издательстве), я также автор многочисленных публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.
В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала и радовала жизнь и работа в г. Вологде.
15 июля 1967г. Н. Рубцов»
Теплоход плыл по Волго-Балту, останавливаясь в райцентрах и крупных поселках. Писатели выступали у речников, в колхозах... Встречи с читателями плавно перетекали в совместные пьянки.
Очевидно, что здесь, на пароходе, плывущем по Волго-Балту, на совместных застольях, на рыбалках и решалась судьба просьбы Николая Рубцова о даровании ему, разменявшему четвертый десяток, собственного угла...
Заявление с просьбой предоставить ему жилую площадь Николай Михайлович подкрепил стихотворением, посвященным заведующему сектором печати Вологодского обкома КПСС Василию Тимофеевичу Невзорову...
Я не плыл на этом пароходе, На котором в Устюг плыли Вы, Затерялся где-то я в народе В тот момент на улицах Москвы. Что же было там, на пароходе? Процветала радость или грусть? Я не видел этого, но, вроде, Все, что было, знаю наизусть. Да и что случилось там, в природе, Так сказать, во мгле моей души, Если с Вами я на пароходе Не катался в сухонской глуши? Просто рад я случаю такому Между строк товарищей своих Человеку, всем нам дорогому, Как привет, оставить этот стих...Стих, казалось бы, сомнительного качества... Поэзия подчинена пиетету перед «всем нам дорогим» — а как это заведующий отделом печати обкома КПСС может быть не дорогим? — Василием Тимофеевичем Невзоровым...
Но, как и все в поэзии Рубцова, и этот «стих-привет» подчиняется отнюдь не холуйской угодливости, а высокой — «Так сказать, во мгле моей души...» — логике рубцовской судьбы.
Как безысходно, грустно и страшно перекликается зачин этого стихотворения с начатом «Последнего парохода», посвященного Александру Яковлевичу Яшину, который — уже и на пароходе было это видно! — недомогал, хотя и старался не показывать виду. Воистину, не «во мгле души», а в сумерках рубцовской судьбы рождалось страшное сближение...
Рубцов видел, что старший друг болен, и переживал, вспоминая прежние размолвки. Александр Яковлевич Яшин много помогал Николаю Рубцову, спас его, как вспоминает С. Ю. Куняев, от тюрьмы, в которую Рубцова готовы были упечь маленькие начальники от литературы и литературного ресторана...
Мы сразу стали тише и взрослей. Одно поют своим согласным хором И темный лес, и стаи журавлей Над тем Бобришным дремлющим угором... —напишет Николай Рубцов через год, когда Яшина уже не будет.
Потерю эту Рубцов будет переживать очень тяжело.
— Однажды мне было очень плохо... — рассказывал он. — Кругом прижало. В институте, с жильем. Сам не знаю, как пришел к Яшину. Он почувствовал мое состояние и позвал гулять. И представляешь, долго мы гуляли с ним по темным улицам, очень долго. Он тогда ничего мне не сказал, не пытался утешить. Просто мы ходили, молчали и — все. И так легко после этого стало. Вот мудрый человек...
Но пока Яшин был еще жив, и Рубцов, отвлекаясь от партийных бонз, видел:
А он, большой, на борт облокотись, — Он, написавший столько мудрых книжек, — Смотрел туда, где свет зари и грязь Меж потонувших в зелени домишек...
Порою в этой поездке Рубцов был ненавязчиво предупредителен, даже нежен в обращении с Яшиным. Такое с ним вообще случалось редко, а тут усугублялось необходимостью «обхаживания» или, вернее, выказывания почтения партийным боссам, занятием для Рубцова совсем уже непривычным, и Николай Михайлович нервничал...
И мы, сосредоточась, чуть заря, Из водных трав таскали окунишек, Но он, всерьез о чем-то говоря, Порой смотрел на нас, как на мальчишек...«И вот уже под Вытегрой, видя, что Яшин чрезмерно утомлен поездкой, и, видимо, втайне переживая за него, — вспоминал Сергей Чухин. — Рубцов отозвал меня и сделал форменный выговор, будто я никчемными разговорами отнимаю у Яшина время. Я был изумлен, так как разговоры мои ограничивались обшей беседой за обеденным столом, но Рубцову и это казалось слишком.
Спорить я не стал, хотя обиделся: зачем на мне срывать свою досаду? Потом уже, в Вологде, Николай Михайлович объяснил мне причину своей вспышки:
— Не видно разве, что человеку тяжело? — и мы помирились».
— 2 —
Разумеется, дело здесь не только в Яшине и в партийных начальниках. Некоторая повышенная нервность обусловливалась и ожиданием появления в продаже книги «Звезда полей»...
И тут — это очень важно для дальнейшего повествования! — надо обязательно сказать о характере известности, которую книга принесла Николаю Рубцову на Вологодчине.
Сборник вышел в начале лета, и почти весь тираж заслали в Вологодский книготорг, где его, естественно, раскупали медленно. В районных газетах тогда появились рекламные заметки:
«Книга «Звезда полей» поступила в нашу область и направлена в магазины книготорга и потребкооперации. Читатели, живущие в глубине района, вдали от книжных магазинов, могут выписать это издание по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 14, «Книга — почтой».
Разумеется, в конечном счете промашки книготорга никак не отразились на судьбе «Звезды полей», но момент для самого Рубцова был неприятный — книга долго лежала на прилавках вологодских магазинов, так же как книги Яшина, Романова, Коротаева и других вологодских поэтов, словно ничем и не отличалась от них.
Да и сам Рубцов постоянно чувствовал, что так и воспринимают его вологодские друзья. Они относились к нему благожелательно, дружески, как к равному — такому же, как и они... Я не хочу сказать, что Рубцова терзали муки честолюбия, но и «возвышение» до положения рядового областного поэта тоже вызывало определенный душевный дискомфорт. Товарищи чувствовали это. В среде вологодских литераторов к Рубцову очень скоро приклеилась полунасмешливая кличка «наш гений»...
«Осенью 1967 года вышла «Звезда полей» Николая Рубцова... — вспоминает Василий Оботуров. — Выслушал он немало похвал, но оставался к ним равнодушен. Высказывались о книге или нет — он знал, что ее читали, чувствовал истинное отношение к его стихам по интонации, по тому, как к нему обращались... Видимо, перегорел человек ожиданием: ведь столько вошло в эту книгу из давних-давних стихотворений, цену которым он представлял уже тогда и от которых теперь далеко-далеко ушел...
Прием в Союз писателей Николай Рубцов тоже прошел как должное, без особых восторгов. (Заявление Н. Рубцова в приемную комиссию Союза писателей РСФСР датировано 10 сентября 1967 года; рекомендации ему написали Феликс Кузнецов, Александр Романов, Василий Белов, Виктор Ко-ротаев. — Н. К.) И к Литинституту уже охладел в то время, заканчивая его только по необходимости. Он знал, что его дипломная работа — «Звезда полей» выполнена вовсе не на студенческом уровне»...
Все было так, все было вроде бы неплохо и вместе с тем должного удовлетворения успех книги, явившейся, по мнению друга Рубцова Анатолия Чечетина, «словно из другой галактики», не принес...
Сохранились воспоминания о литературном вечере, что проходил в городском Доме культуры в сентябре 1967 года.
После вечера все участники отправились в малый зал ресторана «Вологда»... Когда все уже порядочно выпили, Александр Яшин вдруг повернулся к Рубцову и сказал:
— Коля, твой тост. Давай экспромтом что-нибудь, а? Рубцов вспыхнул, но сдержался.
— Хорошо, Александр Яковлевич, — тихо ответил он. —
Попробую.
Как пишет А. Рачков: «Волнение с лица постепенно спадало, и оно становилось уверенно-спокойным и даже властным: плотно сжатые губы, жестко очерченные скулы, прищуренные глаза — все выражало упорную мысль. Взгляды были устремлены на Рубцова. И он это не столько видел, сколько чувствовал. И вот словно прояснение озарило его лицо. Оно стало спокойное и сдержанно-ликующее. Пальцы, до этого нервно перебиравшие ножку бокала, замерли, цепко облегли нагретое стекло, а рука вынесла бокал на средину стола и зависла над ним, как указующий перст, вздрагивая в такт чтению:
За Вологду, землю родную, Я снова стакан подниму! И снова тебя поцелую, И снова отправлюсь во тьму, И вновь будет дождичек литься... Пусть все это длится и длится!»Стихи хорошие, и описание, сделанное А. Рачковым, хотя он, по-видимому, и не очень-то разобрался в состоянии Рубцова, точное...
Видно, как перебарывает Рубцов раздражение, вспыхнувшее от довольно развязной просьбы, как пытается успокоиться.
Тост-то, надо сказать, получился никудышный...
И если бы внимательнее вслушивались за столом в смысл его, может, и не полез бы Яшин целоваться с Рубцовым.
Хорошенький тост, в котором автор заявляет, что, дескать, он отправится во тьму, но все равно — «пусть все это длится и длится...». Неприлично много для застольной шутки трагизма в этом экспромте.
Хотя, быть может, Яшин как раз и понял это, как понял и неловкость своей просьбы, поэтому и обнял Рубцова, уже раскаиваясь, что нечаянно обидел его. Но это был Яшин — человек тонкий, да к тому же, невзирая на отказ в гостеприимстве, искренне любивший Рубцова... Чаще все заканчивалось менее мирно.
— 3 —
«На глазах подтачивались нервы Николая... — вспоминает Борис Шишаев. — Говорить с ним об этом было бесполезно — он раздражался. Все чаще пропадал где-то. Иногда с ним в общежитие приезжали какие-то незнакомые люди. Однажды зашел я на шум в одну из комнат. Двое здоровенных парней — не наши, как я сразу определил, — тащили куда-то Рубцова. «Никуда я не пойду, надоели вы мне, сволочи!» — кричал он. «Да что тут торчать, пошли!» — тянул Николая за руку светловолосый, в очках. Они схватили его с двух сторон, но он — я удивился такой силе — с остервенением стал мотать их обоих по комнате».
Или еще из воспоминаний Бориса Шишаева:
«Приехал как-то Эрнст Сафонов, разыскали мы Николая и пошли в столовую пообедать. Сидели, вспоминали о былом, и вдруг Николай вспылил без всякой причины, заговорил обиженно, грубо.
— Что с тобой, Коля? — сказал Эрнст. — Я не узнаю тебя.
— Все вы меня не узнаете! — крикнул Николай. И добавил тихо: — Я и сам себя не узнаю...»
Конечно, удивляться надо не срывам Рубцова... Сам он мечтал вырваться из этой жизни, даже писал об этом:
И однажды, прижатый к стене Безобразьем, идущим по следу, Одиноко я вскрикну во сне И проснусь, и уйду, и уеду...«Перелистывая книгу «Звезда полей», — вспоминает Игорь Лободин, — по настрою души я сразу выделил для себя из других стихотворение «Прощальная песня». Запах сирени после дождя, терпкий привкус вина на губах, ровный шум в самом центре Москвы и древний перезвон курантов как бы наплывали, накладываясь на это грустное стихотворение...»
— Как ее зовут?
— Имя у нее не деревенское... — ответил Рубцов и, отпив глоток вина, стал как-то серьезнее. — Гета ее зовут...
Потом помолчал и добавил:
— Недавно она мне письмо прислала. Тебе прочитаю. Рубцов достал из бокового кармана потертую записную
книжку с адресами и телефонами. Из книжки он вынул письмо без конверта и протянул Лободину. «После обычных слов привета и житейских новостей запомнил я такие строчки письма к Николаю от его невенчанной (и нерасписанной. — Н. К.), кажется, жены: «Коля, мы с Леной тебя ждали на день ее рождения, но ты не приехал. Напиши нам или сразу приезжай. На этом заканчиваю, а то еще что-нибудь напишу».
Рубцов, как пишет Лободин, словно бы только тут и понял смысл приписки и, прищурив глаза, сказал:
— Лена — моя дочь. Я обещал ей подарить куклу. Сама открывает и закрывает глаза. Мигает.
«Когда мы допили вино и вышли на Красную площадь, мне все думалось об этом печальном стихотворении и незнакомой женщине, разлука с которой на бессрочное время словно передалась мне, — пишет Игорь Лободин, завершая воспоминания о праздновании Рубцовым выхода в свет «Звезды полей».
А вот воспоминания Нинель Старичковой о Рубцове из его «звездного» (от «Звезды полей») года...
«Главное же в комнате — чемодан, где сложены его нехитрые пожитки — книги, рукописи, переписка. Туда же он бережно кладет принесенную мной шоколадку и лекарство, достает мыльницу, быстро сует ее в карман пальто: «Мне надо в баню». Так без мочалки, без чистого белья с одной мыльницей в кармане он собрался в баню...»
Вот так и жил Рубцов...
— 4 —
Поразительно, но именно в эти годы идет напряженная работа над сборником «Сосен шум» — последним прижизненным изданием Рубцова.
Так получилось, что окончание работы над одной книгой и начало работы над другой сошлись для Рубцова в небольшом вологодском городке Липин Бор на Белом озере...
Сергей Чухин, к которому приехал в Липин Бор Рубцов, сидел на заседании в Доме культуры, когда ему передали по рядам записку:
«Сережа! Я прилетел. Можешь выйти? Н. Рубцов».
Рубцов сидел на деревянных ступеньках в демисезонном, не по погоде, пальто.
— Извини... — сказал он. — Я без предупреждения. Приехал в аэропорт, билеты есть...
Жить Рубцов устроился в редакции районной газеты «Волна».
Через несколько дней он объявил редактору Василию Елесину, что потерял рукопись книги, и спросил, не помогут ли в редакции перепечатать рукопись заново.
— Как же машинистка перепечатает, если рукопись потеряна? — удивился Елесин.
— Я ей продиктую.
— А сколько стихотворений было в рукописи?
— Около ста двадцати...
— И ты все помнишь наизусть?!
— Конечно! Ведь это — мои стихи.
Сто двадцать стихотворений (в сборник «Сосен шум» вошло шестьдесят одно из них) — это примерно половина всего творческого наследия Рубцова... Рубцов уже настолько свыкся со скитальческой жизнью, что — эта привычка сохранилась до конца жизни — не нуждался ни в черновиках, ни в текстах, «носил» их в голове.
Здесь, в Липином Бору, днем он диктовал машинистке свои тексты, а по вечерам, затопив редакционную печку, слушал шум ветра в деревьях.
В который раз меня приветил Уютный древний Липин Бор, Где только ветер, снежный ветер Заводит с хвоей вечный спор... Да как же спать, когда из мрака Мне будто слышен глас веков, И свет соседнего барака Еще горит во мгле снегов...В этом стихотворении шумят сосны стихотворения «В сибирской деревне», написанного на Алтае, но перекличка на этом не стихает, эхо ее разносится по всем стихам сборника...
Открывается сборник стихотворением «Тот город зеленый».
Мы уже говорили, что если подсчитать: когда, где и сколько жил Рубцов, то получится, что большую часть своей жизни он провел не в Москве и Ленинграде, не в деревне, а в маленьких, как Липин Бор, как Тотьма, как Приютино, городках и поселках городского типа...
Вот и в стихотворении, открывающем сборник, посвященный — в самом заголовке обозначено это — размышлениям о своей судьбе, попытке постигнуть взаимосвязь прошлого и будущего с настоящим, возникает, как на картинах Брейгеля, предельно насыщенный фигурами людей и неторопливым движением пейзаж небольшого городка...
На площади главной... Повозка Порой громыхнет через мост, А там, где овраг и березка, Столпился народ у киоска И тянет из ковшика морс. И мухи летают в крапиве, Блаженствуя в летнем тепле...
Все просто, все бесхитростно в этом мире, где «сразу порадуют взор земные друг другу поклоны людей, выходящих во двор», и вместе с тем исполнено той волшебной полноты жизни, которая способна наполнить любое, самое отдаленное воспоминание и превратить его в реальное, сиюминутное переживание...
Сорву я цветок маттиолы И вдруг заволнуюсь всерьез: И юность, и плач радиолы Я вспомню и полные слез Глаза моей девочки нежной Во мгле, когда гаснут огни... Как я целовал их поспешно! Как после страдал безутешно! Как верил я в лучшие дни!И нет, не может быть никакой озлобленности в этом «городе зеленом». Какими бы страданиями не обернулась жизнь, но всегда:
Сей образ прекрасного мира Мы тоже оставим навек. Но вечно пусть будет все это, Что свято я в жизни любил: Тот город, и юность, и лето, И небо с блуждающим светом Неясных небесных светил...Вторым в сборнике «Сосен шум» стоит стихотворение «Последний пароход», посвященное памяти Александра Яшина, которое тоже рождается как бы из вечного шума сосен, в «просветлении вечерних дум», а третьим — «Вечерние стихи»...
Когда в окно осенний ветер свищет И вносит в жизнь смятенье и тоску, Не усидеть мне в собственном жилище, Где в час такой меня никто не ищет, — Я уплыву за Вологду-реку! Перевезет меня дощатый катер С таким родным на мачте огоньком, Перевезет меня к блондинке Кате, С которой я, пожалуй что некстати, Так много лет — не больше чем знаком. Она спокойно служит в ресторане, В котором дело так заведено, Что на окне стоят цветы герани, И редко здесь бывает голос брани, И подают кадуйское вино.— 5 —
Многие вологжане хорошо помнят этот ресторанчик на дебаркадере, который так полюбился герою рубцовского стихотворения.
Оборудован он был в законсервированном, стоящем на приколе пароходе.
«Отсюда, с длинного узкого балкончика на борту, — вспоминает Василий Оботуров, — а то и из окна, открывается просторный вид на противоположный берег с храмами, дощатым настилом на воде для полоскания белья, рядом — старые деревянные домики, а дальше — новые пятиэтажки и заводские корпуса...
Именно отсюда увидел Н. Рубцов «Вологодский пейзаж». Здесь же родились его «Вечерние стихи»...
Вспоминает ресторан «Поплавок» на дебаркадере и писатель Виктор Астафьев...
«Стоял дебаркадер на реке Вологде, ниже так называемой Золотухи, про Золотуху тут пелось: «Город Вологда — не город. Золотуха — не река»... В Золотуху вологжане сваливали все, что можно и не можно. И все это добро выплывало в Вологду-реку. Двухэтажный дебаркадер стоял почти на окраине, в конце города...
От берега к дебаркадеру из прогибающихся плах был сооружен широкий помост, поверх которого наброшены трапы, на корме дебаркадера кокетливо красовался деревянный нужник с четко означенными буквами: «М» и «Ж», который никогда не пустовал, потому как поблизости никаких сооружений общественной надобности не водилось.
С дебаркадера, в особенности с кормового сооружения, с головокружительной высоты любили нырять ребятишки. Разгребая перед собой нечистоты, вынесенные Золотухой, натуральное дерьмо, плавающее вокруг дебаркадера, плыли вдаль будущие граждане Страны Советов (здесь и далее выделено мной. — Н. К.)...
Вот здесь-то, на втором этаже дебаркадера, располагалась забегаловка, называющаяся рестораном; и занавески на окнах тут были, несколько гераней с густо насованными в горшки окурками, горячее тут подавали и горячительное, это самое «кадуйское вино».
Большой мистификатор был Рубцов, по-современному говоря — травила. В его сочинении «кадуйское вино» звучит как бургундское или, на худой конец, — кахетинское. А вино это варили в районном селе Кадуй еще с дореволюционных времен из калины, рябины и других растущих вокруг ягод. Настаивали вино в больших деревянных чанах, которые после революции мылись или нет — никто не знал. Во всяком разе, когда однажды, за неимением ничего другого, я проглотил полстакана этого зелья, оно остановилось у меня под грудью и никак не проваливалось ниже. Брюхо мое, почечуй мой и весь мир противились, не воспринимали такой диковинной настойки.
Но главной достопримечательностью «Поплавка» была все же его хозяйка и распорядительница Нинка. Блекленькое, с детства заморенное существо с простоквашно-кислыми глазками, излучавшими злое превосходство и неприязнь ко всем обретающимся вокруг нее людям и животным, она была упряма и настойчива в своем ответственном деле.
Из еды в «Поплавке» чаще всего подавались рассольник, напоминающий забортную жидкость реки Вологды, лепешка, называемая антрекотом, с горошком или щепоткой желтой капусты, сверху, в виде плевка, чем-то облитой, и мутно-розовый кисель с не промешанным в нем крахмалом, вглуби напоминающим обрывки глистов. Случалось, на закусь подавали две шпротины, кусочек селедки с зеленым лучком или на какой-то хирургической машинке тонко-тонко нарезанный сырок. Три кусочка, широко разбросанных по тарелке...
Вот сюда-то, в это заведение, и любил захаживать поэт Николай Михайлович Рубцов. Сидит себе за столиком, подремывает иль стихи слагает...
И вот в один не очень погожий вечер... усталый, невыспавшийся поэт Рубцов, переплыв через Вологду-реку... прилепился в «Поплавке» за угловым столиком, покрытым пятнистой тряпкой, именуемой скатертью, заказал себе винца, антрекот, а поскольку ножа тут не выдавали, поковырял, поковырял вилкой антрекот этот самый, да и засунул его в рот целиком, долго жевал и достиг той спелости, что он проскочил через горло в неприхотливое брюхо и осел там теплым комочком. Чтобы смягчить ободранное антрекотом горло, Коля налил еще в стакашек и сопроводил закуску винцом, после чего облокотился на руку, да и задремал умиротворенно... :
Нинку скребло по сердцу, ох как скребло! Не может она видеть и терпеть, чтоб во вверенном ей заведении спали за столом. Тут что, заезжий дом колхозника иль гостиница какая-нибудь? Бегала, фыркала, головой трясла Нинка, стул нарочно на пол уронила — не реагирует клиент. И тогда она кошкой подскочила к нему и со словами: «Спать сюда пришел?» — дернула его за рукав, за ту руку, на которую он щекой опирался. От редкого приятного сна на ладонь поэта высочилась сладкая, детская слюна, от неожиданности и расслабленности Коля тюкнулся носом в стол и мгновенно, не глядя, ударил острым локтем Нинку да попал ей под дых — унижать много униженного бывшего подзаборника — занятие опрометчивое, по себе знаю.
Похватав ртом воздуху, Нинка огласила «Поплавок» визгом:
— О-оой, убили! О-оой, милиция!..
Нынче уж нет на месте ни пристани, ни дебаркадера, ни «Поплавка», и где, кого сейчас обсчитывает Нинка, кому и где хамит, знать мне не дано.
Бог с ней, с бабой этой. Дело не в ней, дело в том, что буквально через несколько дней Коля задорно читал нам замечательное, не побоюсь сказать, звездное стихотворение, в котором он преподал урок всем поэтам, читателям будущих времен, урок доброты, милосердия, сердечного, может, и святого отношения».
Увы... Тут писатель Астафьев малость ошибся... Не всем преподал Николай Рубцов урок доброты, или по крайней мере, не все усвоили этот урок. И воспоминания самого Виктора Петровича доказательство этому. В принципе, для того чтобы снизить романтический пафос рубцовского стихотворения, достаточно было и рецепта приготовления «кадуйского вина», но Астафьеву этого показалось недостаточно, он рассказывает и о нужнике, и о «будущих гражданах Страны Советов», что блаженствуют, «разгребая перед собой натуральное дерьмо, плавающее вокруг дебаркадера».
А описание кушаний чего стоит? Все эти плевки капусты, кисель с крахмалом, похожим на обрывки глистов...
Ну и, конечно, сам Рубцов, нарисованный Астафьевым и снаружи: «на ладонь высочилась сладкая, детская слюна», и изнутри: «неприхотливое брюхо», в котором «теплым комочком» осел непрожеванный антрекот, и «ободранное антрекотом горло» — тоже под стать обильно окружающему его дерьму... «Коля... мгновенно, не глядя, ударил острым локтем Нинку да попал ей под дых».
Понятно, что Астафьев хотел развернуть в прозаическом исполнении хрестоматийную цитату, «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...». Но немножко напутал... Стихи, действительно, порою растут из сора... Но не из дерьма ведь...
И наверное, и не было бы надобности цитировать столь насыщенные экскрементами воспоминания, но читаешь стихотворение Николая Рубцова и кажется, что именно об этих, написанных три десятка лет спустя после его гибели воспоминаниях и писал поэт, сидя в ресторане-поплавке:
Сижу себе. Разглядываю спину Кого-то уходящего в плаще. Хочу запеть про тонкую рябину, Или про чью-то горькую чужбину, Или о чем-то русском вообще!Об этом «русском вообще» и весь сборник стихов Николая Рубцова «Сосен шум», сборник, которому предстоит стать последним, который он успеет увидеть при жизни:
Остановившись в медленном пути, Смотрю, как день, играя, расцветает. Но даже здесь... чего-то не хватает... Недостает того, что не найти. Как не найти погаснувшей звезды, Как никогда, бродя цветущей степью, Меж белых листьев и на белых стеблях Мне не найти зеленые цветы...Ну а стихотворение «Сосен шум», давшее название последней прижизненной книге Рубцова, похоже на клятву перед последней дорогой. Не страшит, что и оставшийся путь будет таким же нерадостным, как тот, что уже пройден:
Пусть завтра будет путь морозен, Пусть буду, может быть, угрюм, Я не просплю сказанье сосен, Старинных сосен долгий шум...Когда книга «Сосен шум» была перепечатана, «Рубцов, — как пишет Сергей Чухин, — стал собираться в Вологду. Мы проводили его на аэродром».
— 6 —
«Всегда потрясает незащищенность сильного... — вспоминает о встрече с Рубцовым весной 1968 года Валерий Кузнецов. — Сидим на скамейке бесконечной аллеи — сквера по улице Добролюбова. Пьем не торопясь пиво — прямо из бутылок. Рубцов, насупившись, «прячется» в себя. Потом быстро посматривает в мою сторону, продолжает разговор с непривычной ласковостью: «Лена... дочь у меня... Показывал ей ночью звезды... говорил о них. А утром выводит меня за руку на улицу. Смотрит на солнце, на меня — не понимает: «А где же звезды?»
Молчит, улыбается дочери в Николе. И — с печалью:
— По радио стихи как-то передавали... Старая запись — дома-то не был давно. Она слушает и кричит: «Папа, папа! Ты когда приедешь?..»
В этом же году — наконец-то — он получил свое первое жилье — комнатенку в рабочем общежитии.
Все-таки не напрасным оказалось знакомство с партийными боссами, завязавшееся еще там, на «последнем пароходе». Не напрасно Рубцов посвящал заведующему сектором печати областного комитета партии В. Т. Невзорову «стихи — привет».
«Дорогой» ли человек порадел Рубцову или какой-то другой чиновник — не известно. Однако хлопотать насчет квартиры, судя по воспоминаниям Владимира Степанова, Рубцов принялся еще в начале года:
«Как-то вьюжным днем, уткнувшись подбородком в шарф и ежась в легком, явно не по погоде пальто, Рубцов остановил меня в центре города и спросил:
— Как писать заявление на жилье? Мне говорят: напиши заявление и сходи к одному начальнику, расскажи о себе. Как это делается? Никогда мне не приходилось. Не умею я, не могу...»
Владимир Степанов вспоминает, что в тот раз Рубцов неодобрительно поворчал по поводу начальника, к которому отправляли его, и ушел своей дорогой, но через два месяца, когда снова встретился со Степановым, первым делом заговорил о своих квартирных хлопотах. На этот раз он отзывался о неведомом радетеле с восторгом.
— Оказывается, умный и добрый человек! — говорил он. — И в литературе не профан. Не ожидал. Нельзя судить о людях, не познакомившись с ними.
Ситуация не смешная, скорее грустная... На тридцать втором году жизни человек получает наконец-то собственный угол! И Рубцов считал, что ему еще повезло...
Сохранилось описание рубцовского новоселья на улице VI Армии, в доме 295.
«Квартирой оказалась комнатка, — пишет А. Рачков. — И была она совершенно пуста, если не считать небольшого чемодана и трех порожних бутылок, стоящих в переднем углу на обрывке газеты... Рубцов сидел на газете, как на пышном ковре, скрестив ноги по-турецки. И настроение его было поистине султанское: радость за четыре «собственные» стены и постоянный потолок над головой возвышала в собственном мнении».
Отношение Николая Рубцова к своей жилплощади было действительно чрезвычайно трогательным.
Об этом свидетельствуют и воспоминания Германа Александрова, который работал в то время в газете «Маяк» Вологодского района, куда Николай Рубцов частенько заносил свои стихи.
«Как-то он пришел возбужденный, радостный и сообщил:
— Получаю квартиру, может, поможешь мне въехать?
— Какой разговор, — говорю, — конечно, помогу!
Каково же было мое удивление, когда мы пришли в пустую длинную комнату, в которой кроме старенького чемодана ничего не было.
— И это все? — спросил я.
— Все, — ответил Николай.
В тот вечер мы вымыли окно, пол и отпраздновали Колино новоселье. Купили курицу, попросили у соседей кастрюлю и сварили в ней куриный бульон. Николай был жизнерадостен, много шутил, стал показывать мне свои фотографии».
О трогательной ответственности Рубцова — владельца жилплощади свидетельствует и телеграмма, которую он отправил по дороге в Константиново, из Подмосковья, Нинель Старчиковой: «Извини пожалуйста — будешь свободна закрой форточку комнате забыл — приветом — Николай».
Мы приводим эти подробности потому, что с жилплощадью на улице VI Армии Николая Михайловича Рубцова надули... Комната, которую Рубцов торжественно именовал квартирой, оказалась общежитием, и вскоре Рубцова начали уплотнять.
И, как все в жизни Рубцова, этот бессовестный обман поэта сразу оброс фантастическими домыслами. А в воспоминаниях Виктора Астафьева все эти измышления оказались развернутыми почти в эпическое полотно...
Виктор Петрович обстоятельно повествует, как руководство города пристроило-таки под крышу и самого бесприютного, по городу скитающегося поэта Рубцова...
«Ан судьба-злодейка и тут взяла поэта на излом, и тут ему подсунула испытание, да еще какое!
Соседом по квартире оказался инструктор обкома партии, этакий типичный выдвиженец из низов в плотные непоколебимые партийные ряды. Колю, значит, ему соквартирантом подкинули.
Расставил свои небогатые мебели и хрустали партдеятель, похвальные грамоты приколотил, коврик, хотя и не персидский, повесил, за шесть двадцать в магазине «Уют» купил, не поскупился. Уютненько так все получилось, и для полноты радости квартировладетель, недавний обитатель отдаленного района, решил познакомиться с тем, кого ему дали в придачу, слышал, что поэта, правда, пока ничего у него не читал и вообще на какую-то там поэзию у него не хватает времени, да и стишки он со школы запоминал туго; честно сказать, ни одного так и не запомнил до конца.
Поправил галстучек заречный новожитель и прямо в жилетке, по-свойски, по-домашнему отправился к поэту в гости. Тот пьяненький лежит на совершенно изувеченной раскладушке, в углу к стене прислонена старая икона, две-три связки книг, на полу стакан, явно «уведенный» из автомата с газировкой, недопитая бутылка вина. Большая бутылка с криво прицепленной наклейкой, и название на ней внушительное — «Мицное».
Более всего квартировладельца поразил даже не поэт, но раскладушка, прогнутая почти до полу совсем невнушительным телом. Половина, если не больше, пружинок из раскладушки была вырвана с мясом и болталась по бокам, при шевелении издавая скорбящий звон...
Гость робко представился поэту, тот плеснул в стакан какой-то горючей смеси и, сказав: «Ваше здоровье!» — хлопнул содержимое, не предложив, однако, гостю выпить.
В этих делах Коля (выделено мной. — Н. К.) был бит и натаскан, знал, кого надо угощать в расчете на ответное угощение. От этого хмыря в галстуке и в жилетке с пуговками хрен чего дождешься, этот явно не попутчик, и не контачить им в дальнейшей жизни.
— Как же вы так? — несмело начал свою проповедь гость; ведь на то он и партдеятель, пусть и маленький, чтоб вразумлять людей, учить их правильно жить.
— Чего как?
— Да вот не прибрались, не устроились и уже новоселье справляете, — смягчил гость упрек.
— А твое какое дело? Я не новоселье справляю, не пьянствую, я думаю.
— О чем же?
— А вот думаю, как воссоединить учение Ленина и Христа, а ты, мудак, мне мешаешь...
Не сразу партдеятель пришел в себя после тирады поэта, заикаться начал:
— Ды-да ка-ак вы можете? Я честный партийный работник, я...
— Запомни, рыло: честных партийных работников не бывает. Бывают только честные партийные дармоеды. И уходи отсюда на...
Разумеется, после такого диалога никакого милого соседства получиться не могло. Партийный ярыжка накатал на Рубцова жалобы во все инстанции, и в Союз писателей тоже, с крутыми обвинениями соквартиранта в оскорблении партии, несоблюдении квартирного режима, словесной развязности, доходящей до нецензурных выражений.
Послание это в Союзе писателей было зачитано вслух, при скоплении народа нашим воеводой Романовым, и осмеяно (выделено мной. — Н. К.), и обмыто. Однако ж воевода наш сам был партиец, его поволокли в самое красивое помещение города, где раньше размещалось Дворянское собрание, ныне обком, сделали соответствующее внушение.
Вернувшись из высокой партийной конторы с испорченным настроением, начальник писателей глянул строго на братию свою, хлопнул какой-то книжкой о стол и послал подвернувшееся под руку молодое дарование в магазин за вином, сказав отрешенно: «Без пол-литра тут не разобраться».
Народ был удален из творческого помещения, поэт-бунтарь и отец наш, слуга творческого народа, остались наедине — для конфиденциальной беседы.
О чем они беседовали, ни тот ни другой нам не доложились.
Рубцов все реже и реже стал наведываться в свою келью за рекой, снова превратился в бесприютного бродяжку, ночевал у друзей, у знакомых бабенок, бывал, реденько правда, в доме у начинающей поэтессы Нелли Старичковой, работавшей медсестрой в местной больнице. К ней он относился с уважением, может быть, со скрытой нежностью. Здесь его не корили, не бранили, чаем поили, маленько подкармливали, если поэт был голоден, но бывать часто у Нелли, живущей с мамой, он стеснялся. Загнанность, скованность, стеснительность от вольной или невольной обязанности перед людьми — болезнь или пожизненная ушибленность каждого детдомовца, коли он не совсем бревно и не до конца одичал в этой разнообразной, нелегкой жизни.
Недосыпал поэт, недоедал, обносился, чувствовал себя неполноценным, от этого становился ершистей, вредней, гордыня ж стихотворца непомерна, как кто-то верно заметил».
Замечательным все-таки свойством обладают беллетристы, рванувшие из патриотического лагеря на демократические хлеба! Стоит им только задуматься о чем-либо, и вот, еще и мысли-то никакой не появилось, а воображение уже накручивает детали, образы, картины, да такие разухабистые, пропитанные такой ненавистью к советским временам, что доверчивый читатель сразу представляет и туповатого инструктора обкома партии, приколачивающего на стенку своей комнаты коврик за шесть двадцать (а почему не за семь сорок?), и хамоватого стихоплета, который и в пьяном состоянии расчетливо помнит, кого надо угощать в расчете на ответное угощение, и веселых парней — вологодских писателей, которым якобы зачитывает веселья ради их воевода жалобу партийного ярыжки...
Бессмысленно доказывать, что никогда не был Николай Рубцов жлобом, напряженно рассчитывающим, кому и сколько налить. Точно так же нелепо объяснять, что, получив жалобу от инструктора обкома партии, никак не могли веселиться в Союзе писателей...
Как-никак далековато было до девяностых годов в шестьдесят седьмом...
Зато о том, что «квартира», которой так гордился Рубцов, находилась в рабочем общежитии, в воспоминаниях Виктора Астафьева почему-то ничего не говорится...
Но сохранилось письмо самого Рубцова на имя секретаря Вологодского обкома партии Василия Ивановича Другова (у В. П. Астафьева — получить жилье Рубцову помогает секретарь Вологодского обкома КПСС Анатолий Семенович Дрыгин), в котором он сам рассказывает об этой пикантной особенности полученной им «квартиры».
Изложив вкратце свою горестную биографию, Рубцов сразу переходит к сути дела:
«При Вашем благожелательном участии (Вы, конечно, помните встречу с Вами вологодских и других писателей) я получил место в общежитии (выделено мной. — Н. К.). Искренне и глубоко благодарен Вам, Василий Иванович, за эту помощь, так как с тех пор я живу в более-менее нормальных бытовых условиях.
Хочу только сообщить следующее:
1. Нас в комнате проживает трое.
2. Мои товарищи по местожительству — люди другого дела.
3. В комнате, безусловно, бывают родственники и гости. Есть еще много такого рода пунктов, вследствие которых я до сего времени не имею нормальных условий для работы. Возраст уже не тот, когда можно бродить по морозным улицам и на ходу слагать поэмы и романы. Вследствие тех же «пунктов» я живу отдельно от жены — впрочем, не только вследствие этого: она сама не имеет собственного жилья...»
Письмо это не закончено, и непонятно: то ли Рубцов вообще решил не обращаться к Другову, то ли использовал этот текст как вариант, а отправил какое-то другое письмо... Тем не менее даже и в черновике едва ли стал бы Рубцов придумывать, что в комнате кроме него живут еще двое, если бы жил, как утверждает В. П. Астафьев, один. Отнести это письмо к более раннему периоду жизни Рубцова тоже не получается. Излагая свою биографию, Николай Михайлович пишет, что он «в настоящее время — студент-заочник последнего курса». А это значит, что письмо писалось не раньше лета 1968 года, то есть когда Рубцов уже отпраздновал новоселье на улице VI Армии.
Возможно, Николай Михайлович забраковал этот вариант письма и потому, что слишком сбился на свои личные дела. Слишком — для официального документа, который где-то будут записывать в регистрационные книги, на котором будут писать резолюции.
Во всяком случае, обрывается письмо неожиданно и как-то неловко:
«Среди малознакомых людей я привык называть себя «одиноким». Главное, не знаю, когда это кончится, Василий Иванович! Вряд ли я ошибусь, если скажу, что жизнь зовет к действию».
— 7 —
Таким же неожиданным и неловким, как оборванное на полуфразе письмо, был и окончательный разрыв Рубцова с Генриеттой Михайловной.
Кстати, превращение в общагу жилплощади на улице VI Армии сыграло в этом разрыве далеко не последнюю роль...
Летом 1968 года еще ничего не предвещало решительной ссоры.
После похорон Яшина Рубцов приезжал в Николу, где Генриетта Михайловна, Лена и Александра Александровна уже перебрались жить в сельсовет, поскольку «плоскокрышая избушка» окончательно пришла в негодность.
Тогда и состоялся разговор о дальнейших планах.
«Рубцов, — вспоминает Генриетта Михайловна, — звал нас переехать в Вологду, но жилья у него не было, жил в общежитии...»
По-видимому, Рубцов все-таки пообещал забрать семью в Вологду. Сдержать обещание (см. письмо Другову) не удалось, но объяснить это Генриетте Михайловне, а главное, ее матери — «теще-гренадеру», было невозможно.
Впрочем, Рубцов и не объяснял ничего. Он просто махнул рукой...
И вот 6 ноября 1968 года пришло извещение:
«В Тотемский райнарсуд обратилась гр. Меньшикова Генриетта Михайловна о взыскании алиментов на содержание ребенка, поэтому просим Вас выслать справку о Вашем семейном положении и о заработке».
На что рассчитывала Александра Александровна, подговаривая свою дочь подать на Рубцова в суд, — непонятно. Едва ли она питала какие-то иллюзии насчет рубцовских заработков... Решение было скорее импульсивным, чем расчетливым, и возникнуть могло только в атмосфере полной нищеты и безвыходности вологодской деревни. Но, хотя Генриетта Михайловна и не ждала ничего хорошего от суда, слова судьи, объявившего, что алиментов будет начислено — пять рублей в месяц, ошеломили ее.
Генриетта Михайловна прекратила судебное дело и снова попыталась восстановить прежние отношения с мужем. Через месяц он получил открытку:
«Коля, здравствуй! Поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения. Желаю тебе всего наилучшего. Суд прекратила, по какой причине, потом узнаешь. Как у тебя дела? Привет от Лены».
Известно, что на Пасху 1969 года Генриетта Михайловна приезжала в Вологду.
«Я была на курсах клубных работников в Кириллове. На обратном пути, это было в апреле, я заехала к Рубцову, он жил уже на улице Яшина. Я пришла утром. Рубцов был один. День был субботний 11 апреля. Я у него прибралась, помыла, он сходил в магазин, принес еду, я приготовила обед, и к обеду к нам пришли гости... На другой день была Пасха. Утром он принес из магазина яйца, я их сварила в луковой шелухе, они стали красными, и мы пошли к Астафьевым. Это было 12 апреля в первый коммунистический субботник».
Жена Виктора Астафьева, хотя и перепутала даты,[18] но само Светлое воскресенье и своих гостей запомнила хорошо...
«Не помню, на второй или на третий день после майских праздников... — пишет она в своих воспоминаниях, — перед обедом приходит к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается, и загадочно, и радостно. За ним вошла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная, но полная достоинства. Мы как раз пили чай и пригласили их. Войдя в кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадушечку, разрисованную яркими цветами, — такие часто продают на базаре. В ней — крашеные разноцветные яички. Заметив наше удивление, тут же выпалил радостно: «Сегодня же Пасха! А вы и не знали? Я же говорил, что они не знают, — сказал он, обратившись к своей спутнице. — Христос воскрес! — весело крикнул он. — А можно похристосоваться-то?»
Всем стало весело. Сели за стол. Разделили на части одно расписное яйцо, остальные оставили в кадушечке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гета, и указал на женщину. Я поблагодарила, поинтересовалась, откуда и когда она приехала. Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Колю взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.
Коля перестал есть и, подумав, сказал серьезно:
— У этой женщины живет моя дочь... Лена...»
Примирение не состоялось.
В своей однокомнатной квартире на улице Александра Яшина, которую ему все-таки дали после стольких мытарств, Рубцов продолжал жить свободным от каких-либо семейных обязательств человеком...
Самое время было начинать новую жизнь, тем более что теперь у него была не только квартира, но и диплом. В 1969 году Рубцов наконец-то закончил Литературный институт и защитил диплом.
Защищался он своим сборником «Звезда полей».
«Я, как заведующий редакцией русской советской поэзии издательства «Советский писатель», — писал в рецензии на дипломную работу Николая Рубцова Егор Исаев, — был у истоков этой, прямо скажем, замечательной книги. И после выхода ее в свет, я, уже как читатель, перечитывая ее, всегда находил в ней что-то новое для себя. Я помню ее сердцем. Помню не построчно, а всю целиком, как помнят человека со своим неповторимым лицом, со своим характером. Эффектного, ударного в книге ничего нет. Есть задушевность, раздумчивость и какая-то тихая ясность беседы. В ней есть своя особая предвечерность — углубленный звук, о многом говорящая пауза. О стихах Рубцова трудно говорить, как трудно говорить о музыке. Слово его не столько обозначает предмет, сколько живет предметом, высказывается его состоянием. Особенно эта черта присуща его стихам цикла, посвященного северной деревне. Да, она во многом — об уходящем. Но мимолетное прощание всегда предопределяется мимолетностью и несерьезностью встреч. И такая мимолетность не свойственна творчеству Рубцова. Он, если прощается, то обязательно любя. Он как бы печалуется любовью. А если уж встречается, то тоже для того, чтобы полюбить (выделено мной. — Н. К.). Его стихи учат чувству мучительного постоянства...»
Егор Исаев пишет в своем отзыве о стихах Рубцова, но, читая отзыв, задумываешься об отношениях Рубцова с Генриеттой Михайловной и, кажется, что слова, «если прощается, то обязательно любя» — о них...
Впрочем, почему кажется? Это так и есть. Еще раз повторим, что невозможно разделить стихи Рубцова и его жизнь... Они взаимопроникают друг в друга и наполняют друг друга необыкновенным, рубцовским светом...
А диплом Литературного института пригодился Рубцову. В сентябре его зачислили в штат «Вологодского комсомольца».
Незаметно дела налаживались, и можно было бы жить более или менее нормально, но уже кончалась сама жизнь...
ГЛАВА ПЯТАЯ
Перечень лишений, испытанных Николаем Михайловичем Рубцовым, нужно пополнить тем, что ему так и не удалось выпустить ни одной своей книги в том составе и порядке, как бы ему хотелось.
Первая книжка «Лирика» составлялась вообще без участия Рубцова.
«Я получил письмо из Архангельска, — писал он летом 1964 года. — Стихи «Русский огонек», «По холмам задремавшим» и еще многие стихи, которые дали бы лицо книжке, мне предлагают обязательно убрать из рукописи. Даже стихотворение «В горнице моей светло» почему-то выбрасывают. Жаль. Но что же делать? Останутся в книжке стихи мои самые давние»...
Книги «Звезда полей» и «Сосен шум» проходили в издательстве трудно и вместили в себя помимо рубцовских шедевров еще и те компромиссы, на которые вынужден был идти поэт, чтобы пробиться к читателю.
Говоря так, я не пытаюсь принизить заслуги первых редакторов Рубцова. Совершенно очевидно, что без их усилий встреча читателей с поэзией Рубцова не состоялась бы еще долгие годы... Но вместе с тем очевидно и другое. «Легализируя» поэзию Рубцова в советской литературе, редакторы по мере сил разбавляли зрелую лирику поэта бодрым пафосом ранних стихотворений, приглушали внутреннюю подсветку, что возникает в перекличке образов рубцовских стихов.
Наверное, в дальнейшем, получив выслугу лет, Рубцов и сам — отчасти! — исправил бы положение, убрал бы следы редакторско-цензурного насилия из своих сборников, но — увы! — жизнь его оборвалась слишком рано...
— 1 —
Я говорю об этом так уверенно потому, что в Государственном архиве Вологодской области наткнулся на интересный рубцовский автограф. Озаглавлен он — «Успокоение».[19] Далее рукой Рубцова написано тридцать девять заголовков стихов.
Совершенно очевидно, что перед нами план небольшого — около одного печатного листа — сборника или раздела в сборнике.
«1. За оконцем; 2. Жара; 3. Таковы леса; 4. Род. деревня; 5. Цветы; 6. Увядшие цветы; 7. По вечерам; 8. В обители природы; 9. Душа хранит; 10. Встреча; 11. Встреча (вторая); 12. Когда душе моей; 13. Ива; 14. Светлый покой; 15. В краю лесов, полей; 16. Захлебнулось поле; 17. Журавли; 18. В избе; 19. Душа; 20. Венера; 21. Аленький цветок; 22. Природа; 23. Гроза; 24. После грозы; 25. Слухи; 26. На реке; 27. Сентябрь; 28. Дуэль; 29. Пушкин; 30. Кедрин; 31. Тютчев; 32. Есенин; 33. Гоголь; 34. В горнице; 35. Над вечным покоем; 36. Ночь на (неразборчиво); 37. Тихая родина; 38. Пасха; 39. Есть пора».
Стихотворения — «Жара», «Родная деревня», «Цветы», «По вечерам», «Душа хранит», «Встреча», «Ива», «Журавли», «В избе», «Венера», «Аленький цветок», «Природа», «Гроза», «После грозы», «Сентябрь», «Дуэль», «В горнице», «Над вечным покоем» — свои названия не изменили.
Часть стихов обозначена в списке начальными строками: «Когда душе моей» — «В глуши»; «Светлый покой» — «На озере»; «В краю лесов, полей» — «Прощальный костер»; «Захлебнулось поле» — «Острова свои обогреваем»; «Пасха» — «Промчалась твоя пора»; «Есть пора» — «Слез не лей».
Нетрудно догадаться, что обозначенному в списке названию «В обители природы» соответствует стихотворение «В святой обители природы», «Пушкин» — «О Пушкине», «Тютчев» — «Приезд Тютчева», «Есенин» — «Сергей Есенин», «Гоголь» — «Однажды», «Тихая родина» — «Тихая моя родина».
Без особого затруднения идентифицируется стихотворение «Таковы леса». В сборнике «Лирика» так было озаглавлено стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип». Вероятно, заголовку «Увядшие цветы» соответствует стихотворение «Цветок и нива» — в заголовок вынесена усеченная первая строка: «Цветы! Увядшие цветы». Совершенно точно, из письма Николая Рубцова Сергею Багрову, отправленному в декабре 1964 года, известно, что «Философские стихи» предполагалось назвать «Душа». Без риска ошибиться можно предположить, что заголовком «Слухи» обозначено стихотворение «Кого обидел». Про слухи у Рубцова, кажется, больше нигде и не говорится... Точно так же, как и поэта Кедрина Рубцов упоминал только в стихотворении «Последняя ночь». Наверное, не ошибемся мы, предположив, что заголовком «За оконцем» обозначено стихотворение «Уединившись за оконцем».
Сложнее с заголовками «Встреча (вторая)», «На реке» и «Ночь на...».
Возможно, что заголовок «На реке» обозначает стихотворение «На реке Сухоне». Два претендента есть и на место тридцать шестого стихотворения: «Ночь на родине» и «Ночь на перевозе».
Ну и совсем уже непонятно, какое Николай Рубцов имел в виду стихотворение, говоря о встрече (второй)... У него было написано еще во время службы на флоте стихотворение «Встреча»: «Ветер зарю полощет в теплой воде озер... Привет вам, луга и рощи, и темный сосновый бор», которое кончалось словами: «И я отпускник-матрос — горжусь, что в морском дозоре бдительно вахту нес»... Однако это стихотворение настолько не соответствует уровню стихов, с которыми работал Рубцов, составляя «Успокоение», что его можно смело отбросить.
Видимо, в поисках отгадки надо идти другим путем... В списке после загадочной «Встречи (второй)» идут стихотворения «Успокоение» и «Ива», написанные летом 1964 года. Рубцов впервые воспроизводит их в письме своему руководителю Н. Н. Сидоренко. Так вот, предваряя их, Рубцов приводит еще одно стихотворение...
Поднявшись на холмах, старинные деревни И до сих пор стоят, немного накренясь. И древние, как Русь, могучие деревья Темнеют вдоль дорог, Листву роняя в грязь. Но есть в одном селе, видавшем сны цветенья И вихри тех ночей, когда нельзя дремать, Заросший навсегда травою запустенья Тот дворик дорогой, где я оставил мать. Со сверстницею здесь мы лето провожали, И, проводив, грустим уж много-много лет. Грустнее оттого, что все мои печали Кому я расскажу? Друзей со мною нет... Ну что ж! Пусть будет так! Ведь русские деревни Стояли и стоят, немного накреняясь, И вечные, как Русь, священные деревья Темнеют вдоль дорог, листву роняя в грязь...Возможно, это и есть то стихотворение, которого не достает в списке...
— 2 —
Частично стихи, включенные Рубцовым в список, публиковались в прижизненных сборниках, остальные опубликованы уже после смерти в «Подорожниках» и «Последнем пароходе». Так что в этом смысле обнаруженный мной в архиве автограф поэта ничего нового не открывает. Но вот отбор стихотворений, размещение их относительно друг друга — ошеломительно непривычны...
Николай Рубцов назвал свой сборник «Успокоение». Об успокоении говорится в двенадцатом стихотворении сборника:
Когда душе моей Сойдет успокоенье С высоких после гроз Немеркнущих небес, Когда, душе моей Внушая поклоненье, Идут стада дремать Под ивовый навес, Когда душе моей Земная веет святость И полная река Несет небесный свет, — Мне грустно оттого, Что знаю эту радость Лишь только я один: Друзей со мною нет...Все стихотворение синтаксически необыкновенно мастерски вмещено в одно предложение. Основное пространство его занимает троекратное повторение обстоятельства времени — когда... когда... когда... Само же действие вмещено в два слова — мне грустно... А дальше, еще три строки, объяснение причины грусти. Грустно не от самого одиночества, а от невозможности приобщения друзей к «немеркнущим небесам», «земной святости», «небесному свету».
Столь нехарактерная для поэзии Рубцова статичность стихотворения обусловлена замыслом. Дьявольские силы «Поезда» производят лязгающее, свистящее движение, а успокоение, обретение вечного покоя никакого движения и не предполагают.
И тут надобно вспомнить, что в православной традиции успокоение всегда воспринималось как высшая ступень нравственного совершенства человека. Отказываясь от грешной сутолоки страстей, человек обретает возможность преодолеть их, очиститься. Стремление хотя бы в старости обрести покой — заветная мечта православного человека, высший дар, который можно получить от судьбы.
Как всегда в стихах Рубцова, настоящее и будущее время смешиваются здесь, существуют одновременно. Стада идут дремать уже сейчас, река тоже несет небесный свет в настоящем времени, а успокоение только еще сойдет в будущем, но уже сейчас знает герой стихотворения эту радость.
Далее идет как бы описание прогулки. Ничего нарочитого в этом описании нет. «Иду в рубашке»... «Цветут ромашки»... «На них ложится тень ветвей»... Однако если мы вспомним «Старую дорогу»:
Навстречу им июльские деньки Идут в нетленной синенькой рубашке, По сторонам качаются ромашки, И зной звенит во все свои звонки, И в тень зовут росистые леса...обнаружится ритуально-точное повторение ключевых слов, объяснить которое случайным совпадением невозможно. Впрочем, если следовать гегелевской логике, этого мы пока еще не знаем. Так что описание летнего дня и не вызывает у читателя ничего, кроме узнавания милого каждому человеку пейзажа. Происходит безмятежно-расслабленное погружение в настоянный на запахе разогретой солнцем травы воздух июльского дня. Но одновременно совершаются и некие магические действия, и вот реалистический пейзаж начинает размываться, и в нем проступает то, что видно рубцовским глазам:
И так легки былые годы, Как будто лебеди вдали На наши пастбища и воды Летят со всех сторон земли!..Картина, что и говорить, впечатляющая.
Разбросанные в разных краях годы наших жизней соединяются в библейско-пастушьей простоте жизни.
И все... Магический сеанс завершен. Вместе с пробуждением отдаляется от нас и чудное видение. Только смутное, неразборчивое эхо доносится издалека:
И снова в чистое оконце Покоить скромные труды Ко мне закатывалось солнце, И влагой веяли пруды...Владимир Даль в качестве иллюстрации к слову «покоитъ» приводит выражение: «Они взяли к себе деда, чтобы покоить его у себя». По Николаю Рубцову, «скромные труды» покоит солнце, то есть источник света, питатель самой жизни. Если мы вспомним, что труды эти с самого начала стихотворения были связаны с солнцем, светозарный характер их становится очевидным.
Но там, где есть свет, должна быть и тьма, доброму в земной жизни всегда противостоит злое, покою — сутолока, Богу—дьявол...
Уже второе стихотворение «Жара» закрепляет тему противостояния Света и Тьмы как главную в сборнике. Начинается «Жара» с появления «вещей старухи»:
Всезнающей вещей старухе И той не уйти от жары...Стихотворное бытие этого персонажа коротко. Вещая старуха лишь обозначена как инициатор устроенного силами зла шабаша. Свист, лязганье, грохот рубцовского «Поезда» вытесняют в «Жаре» мирные приметы летнего дня:
С ревом проносятся мухи, С визгом снуют комары, И жадные липнут букашки, И лютые оводы жгут.Все стремительно, все перенапряжено, все это обрушивается на светозарный мир предыдущего стихотворения...
Страшные предчувствия томят все живое. И вот уже и барашки жалобно плачут, и лошади, топая, ржут, и даже могучий племенной бык и тот охвачен беспокойством.
Вызванная вещей старухой сатанинская сила, разумеется, появляется. И нас не должно смущать, что, ощутив ее приближение, мы тут же видим, как ускользает она, трансформировавшись в «дьявольскую силу», вдруг сообщившуюся людям.
Иначе и не бывает. Опереточная персонификация черной силы в образе черта с рогами и хвостом — мираж, самой силой зла и порождаемый для того, чтобы отвлечь внимание от главного ее местопребывания — человека. Вспомните, что и в Евангелии, где бесы даны, так сказать, в их объективной реальности, они ни разу не принимают видимых глазами очертаний. Зато «продукт жизнедеятельности» бесов, вселившихся в людей, налицо. Налицо он и в стихотворении Рубцова:
И строят они и корежат, Повсюду их сила и власть...Ну а поскольку, в отличие от Евангелия, изгнать бесов, хотя бы в тех же барашков за неимением свиней, в «Жаре» некому, то неизгнанная бесовская сила достигает тут апогея:
Когда и жара изнеможет, Гуляют еще, веселясь!..— 3 —
Вопрос о том, был ли Рубцов православным человеком, выходит за пределы его биографии, он принципиально важен для понимания эпохи, в которой жил Рубцов. С одной стороны, вся система образов в поэзии Рубцова ориентирована на православие и вне православия не осуществима... Но, с другой — в воспоминаниях о поэте практически отсутствуют даже намеки на воцерковленность Николая Рубцова или хотя бы попытку воцерковиться, предпринятую им. Нет подтверждений, был ли поэт вообще крещен...
Правда, в последнее время «исследователи» и «мемуаристы» как будто сговорились, чтобы — пусть и задним числом! — воцерковить поэта.
Рассказывают, например, что мать Николая Михайловича якобы пела в церковном хоре. В юности — в селе Спасском; будучи замужем — в Вологде. И хоронили ее тоже церковные люди.
Насчет церковных людей спорить не буду... Православная церковь — наш родной дом, и все мы, даже и позабывшие дорогу к храму, остаемся пусть и плохими, но чадами Церкви, церковными людьми...
Зато предположение, что жена партноменклатурного деятеля, выстраивающего при пении «Интернационала» по стойке смирно свою семью, поет в церковном хоре — явно из области женской фантазии.
Точно так же, на наш взгляд, достаточно наивной мистификацией выглядит опубликованная в «терровском» трехтомнике[20] телеграмма: «Дорогой Николай Николаевич Христос Воскресе — Рубцов».
Чем могла грозить в 1964 году работнику «идеологического» института, Николаю Николаевичу Сидоренко, подобная телеграмма, какими неприятностями могла она обернуться для самого Рубцова, объяснять бессмысленно. И тут могут быть два варианта: или эта телеграмма «отправлена» самими публикаторами, или же она является плодом розыгрыша каких-то рубцовских недоброжелателей... Косвенным свидетельством в пользу наших рассуждений служит и то, что в достаточно обширной переписке с Н. Н. Сидоренко Николай Рубцов ни в единой строке не сбивается на тон церковного или хотя бы думающего о воцерковлении человека...
Увы...
Никаких достоверных свидетельств воцерковленности Николая Михайловича Рубцова нам обнаружить не удалось. И хотя это тоже еще ни о чем не говорит, но все-таки с очень большой определенностью можно утверждать, что ни в детдоме, ни в Тотемском лесотехникуме, ни в Приютино, ни на флоте, ни на Кировском заводе, ни будучи студентом дневного отделения Литературного института Рубцов просто не имел возможности для тайного воцерковления.
Вся его жизнь протекала в общежитской открытости, и любая подобная попытка была бы, если и не осуждена соседями по кубрику или общежитской койке, то по крайней мере замечена. Относительная бесконтрольность появляется в жизни Рубцова уже после исключения его из Литинститута...
Кстати, единственное более или менее четкое упоминание о посещении Николаем Рубцовым церковной службы сделано Виктором Астафьевым и — увы! — как и многое другое в этих воспоминаниях, более напоминает застольную историю, чем заслуживающее доверия свидетельство...
«Я крякнул и начал пить через край котелка остывший чай, глядя в сторону церкви. И как исчез, так и появился-выплыл из береговых зарослей поэт Рубцов. Но только все было наоборот: сперва возникла и заблестела под солнцем молодая, умственная лысинка, затем лицо выявилось, вот поэт бредет уже по пояс в сияющих травах, кое-где росы не обронивших, вот в чертополохах весь означился (здесь и далее выделено мной. — Н. К.). Не видно, чтоб его водило из стороны в сторону, чтоб качался он. По лицу поэта бродил отблеск солнца и улыбка, та самая, что появляется у него в минуты блаженства в левом уголке рта.
— Здорово ночевали! — сказал поэт Рубцов, перешагивая через бревно. Обведя нас искрящимся, каким-то детски незамутненным взором, начал рассказывать, как хорошо погулял, угодил в церковь к концу службы, пение слышал, батюшка узнал его, причастил, и они с ним долго и хорошо говорили. Народ тоже, который узнавал поэта, кланялся ему.
— И знаете, ребята, — сам себе радуясь и удивляясь, сказал Коля, — у меня стихотворение пошло, запев, четыре строчки первые уже сложились».
православной красоте и глубине языка, в котором живут лучшие книги Василия Белова, Валентина Распутина, Федора Абрамова, Евгения Носова...
Вспомним о моде на иконы, на туристические поездки для ознакомления с церковными памятниками архитектуры, возникшей тогда в среде городской интеллигенции. Хотя туг, как часто бывает у интеллигенции, произошло смещение интересов: главного на сопутствующее (многих привлекала не сама православная вера, а материальная атрибутика веры) — это движение своей массовостью, а главное, осознанием православия как объективной ценности, явно не вписывалось в советские атеистические планы.
Понятно, что можно в церковь пойти и после попойки... Тут уж человек сам решает, в осуждение причащается он или во спасение, но вот то, что батюшка причастит человека, пришедшего к концу службы, весьма сомнительно... Но ведь Виктор Петрович и сам знает это, не зря у него Рубцов после церкви, после Святого причастия, в чертополохах весь означился...
Но бог с ним, с Астафьевым...
Ни к чему и нам насильно затягивать Рубцова в церковь, тем более что если даже и занялся — и слава богу! — Рубцов в последние годы жизни воцерковлением, то это все равно ничего не меняет в постановке нашего вопроса, ибо к этому времени вся поэзия Рубцова уже была проникнута духом православия...
Поэтому правильнее, на наш взгляд, говорить не о воцерковленности Рубцова, а о постижении им православия через язык, через культуру.
— 4 —
Мы уже говорили, что атеистическая тьма, сгущавшаяся над Россией, так и не сумела перебороть православной светоносности русского языка. И происходило чудо. Прошедшие через атеистические школы и институты люди, прикасаясь в работе со словом к живой стихии языка, усваивали и начатки православного мировоззрения.
Особенно ярко это проявлялось в так называемой деревенской литературе. Определение «деревенщики», казалось бы, неточное — писатели этой школы не ограничивались деревенским материалом — и даже несет в себе некий пренебрежительный оттенок, но по сути верное, если говорить о
Возвращаясь к судьбе Николая Михайловича Рубцова, подчеркнем, что его путь к православию, пролегающий не через церковь, а через русскую классическую поэзию, в общем типичен для литераторов, начинавших свой путь в конце пятидесятых годов.
Рубцов, в силу своей необыкновенной одаренности, прошел по этому пути дальше других, но все равно это был, мягко говоря, не самый прямой путь.
Сбиться с него не составляло труда, и многие, конечно же, сбивались, забредали в трясину интеллигентских компромиссов, улавливались в капканы различных вероучений. Этих искусов Рубцов, слава богу, избежал... Но душа его, уже открытая Богу, церковной защиты от натиска враждебных человеку темных сил не имела. Тут невоцерковленный Рубцов мог рассчитывать только на самого себя.
В воспоминаниях того же Астафьева можно прочитать, как находили на Рубцова темные силы, как застигнутый ими начинал возводить поэт химеры чудовищных построений, корежа при этом и свою собственную и окружающих людей жизнь. Потом он овладевал собою, сверхъестественным усилием выныривал из засасывающей темноты к свету и сразу яснел, стихал...
Со временем Рубцов научился различать приближение темных сил. Порою ему удавалось уклониться от контакта с ними, иногда и противостоять.
Но именно иногда.
Не всякий раз...
Впрочем, лучше об этом рассказано в самих рубцовских стихах...
Третьим в сборнике «Успокоение» Рубцов поставил стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип». В списке Рубцова оно обозначено заголовком «Таковы леса».
Рассуждения:
Таковы на Руси леса Достославные, Таковы на лесной Руси Сказки бабушки. Эх, не ведьмы меня свели С ума-разума Песней сладкою — Закружило меня от села вдали Плодоносное время Краткое...сделали бы честь самому толстокожему материалисту.
По сюжету сборника они идут следом за рассказом о приближении лесной нечисти, ощущаемом поэтом. Ведь не случайно он вспоминает вдруг о существовании этой нечисти:
Знаешь, ведьмы в такой глуши Плачут жалобно...И вот, когда уже затягивает душу в страшное ведьмовское кружение, герой стихотворения вполне убедительно, с материалистических позиций начинает рассуждать о причинах, ввергших его в гибельное движение. И тут не важно, насколько искренен он сейчас. Герой стихотворения обороняется от колдовских чар, притворяясь этаким бесчувственным к их воздействию материалистическим пеньком. Маскируясь, он становится неинтересен для духов тьмы, и они отходят от него...
— 5 —
В самом построении своего сборника «Успокоение» Николай Рубцов реализует те же принципы организации поэтического материала, что и в отдельных стихах.
Рассказывая исключительно о собственном духовном опыте, Рубцов никогда не настаивает, не педалирует свои мысли, не стремится придать мимолетным видениям отчетливых очертаний. Он легко забывает о заданной теме, говорит совсем о другом, и только прислушавшись, различаешь, что первоначальные мысли и ощущения никуда не ушли, лишь приняли другие очертания.
Вот и в сборнике «Успокоение» Рубцов сразу после «Лесов» ставит стихотворение «Родная деревня». Переход естественный и логичный.
Герой сборника проводит лето в деревне (в сборник Рубцов включил много стихотворений, написанных в 1966 году), странно было бы ему не вспомнить о своем детстве, не поразмышлять о жизненном пути. Впрочем, уже сама лексика:
Хотя проклинает проезжий Дороги моих побережий...не дает читателю оторваться от начавшегося разговора.
Историческая ретроспекция потребовалась поэту, чтобы ввести тему судьбы, разговор о тех ложных путях, на которые сбивается по своей неопытности человек.
Оговорюсь сразу: литературоведческий разбор стихов Рубцова дело рискованное...
Расчленение его живой поэзии может привести исследователя к путанице в причинно-следственной связи. Поэтому-то и необходимо подчеркнуть, что тот рационализм построения рубцовского сборника, о котором мы говорим, отнюдь не самодовлеющ. Он проявляется как свойство всякой гармонии.
Сама же жизнь прекрасного течет внешне достаточно беспорядочно и как бы случайно... Сожаление о пылком мальчишке, слишком поторопившемся в дорогу следом за приезжим гостем, сменяется сожалением о скошенных цветах:
И мерещилось многие дни Что-то тайное в этой развязке: Слишком грустно и нежно они Назывались — «анютины глазки»...которое уже совсем и не о цветах сожаление, а о чем-то большем, что теряем мы, хотя и пытаемся сберечь, а потом ищем и грустим о потерянном... И вот уже из многоголосия снова властно звучит тема души и вечности:
Взойдет любовь на вечный срок, Душа не станет сиротлива. Неувядаемый цветок! Неувядаемая нива!Но и это торжествующее, победное звучание не финал, а только приобщение к будущему, вечному... Это только подъем по дороге:
С моста идет дорога в гору. А на горе — какая грусть! — Лежат развалины собора, Как будто спит былая Русь.С фотографической точностью воспроизводит Рубцов Никольский пейзаж, и так же точно, как в пейзаж, вписываются развалины собора в его поэзию...
Наверное, в этом и надо искать ответ на вопрос о воцерковленности Рубцова. Душа его искала, жаждала воцерковления, она шла к церкви, но каждый раз натыкалась лишь на развалины храмов: в Николе, в Тотьме, во всех больших и малых городах и поселках, где довелось ему побывать... И, строго говоря, вся его поэзия — это попытка восстановления храмового строения, возведения церковных стен, вознесения куполов... Это всегда молитва, созидающая церковное строение, и всегда — страшное предчувствие гибели его.
И, конечно же, не случайно в сборнике «Успокоение» рядом с развалинами собора встает стихотворение «В святой обители природы».
Казалось бы, все просто... Когда сокрушены церковные стены, храмом становится весь Божий мир. Но этот пафос пантеистического оптимизма не может удовлетворить православное сознание:
Но слишком явственно во мне Вдруг отзовется увяданье Цветов, белеющих во мгле. И неизвестная могила Под небеса уносит ум...православное мироощущение легко обнаруживает прорехи в пантеистическом бессмертии, в душе его, «которая хранит всю красоту былых времен», возникает «отраженный глубиной, как сон столетий, Божий храм».
Мы уже говорили, что под десятым и одиннадцатым номерами в списке Рубцова идут стихи, обозначенные как «Встреча» и «Встреча (вторая)». Четкой идентификации поддается только одно из них:
— Как сильно изменился ты! — Воскликнул я. И друг опешил...
Стихотворение короткое — всего восемь строчек. Огорошив друга, поэт тут же, смеясь, утешает его, что, дескать: «Не только я, не только ты, а вся Россия изменилась!»
Шуточное глубокомыслие как бы и все стихотворение сводит к шутке, но категории случайности и необязательности не из рубцовской поэзии.
На роль «Встречи (второй)» мы предложили стихотворение «Поднявшись на холмах...», приведенное в письме Н. Н. Сидоренко.
К аргументам, уже изложенным нами, присовокупим несомненную перекличку этого стихотворения с другими стихами «Успокоения». Иногда эта перекличка отливается в цитатные совпадения: «Грустнее оттого, что все мои печали кому я расскажу? Друзей со мною нет»...
Удивительно точно вставлено это стихотворение в сборник.
Да, вся Россия изменилась — пусть и в шутку! — утверждалось в предыдущем стихотворении... Но вот оглядывается поэт, и открываются его духовному зрению некие старинные деревни, что «и до сих пор стоят немного накренясь...».
И, конечно же, как всегда у Рубцова, очень все непросто с этими «старинными деревнями»...
...есть в одном селе, видавшем сны цветенья И вихри тех ночей, когда нельзя дремать, Тот дворик дорогой, где я оставил мать...И вот только сейчас, вспомнив, что село, где поэт оставил мать, называется кладбищем, понимаешь, о чем стихотворение. Осознание этого вихрем врывается в читателя, переворачивая образы и наполняя беспощадной точностью детали пейзажа: и накренившиеся на склоне холма могилки, и священные деревья, что темнеют вдоль дороги на кладбище...
Выправляется даже неловкость строк:
Со сверстницею здесь мы лето проводили, И проводив, грустим уж много-много лет.Понятно, что если бы Рубцов хотел сказать о каком-то романе, который был у него, он бы сказал «мы лето провели». Нет... Речь идет не о проведении каникулярных или отпускных дней, а именно о проводах лета, вернее, о том страшном соскальзывании светлого летнего дня, когда умерла мать, в глухую, дождливую детдомовскую осень.
Обе — и шутливая, и совсем нешуточная — встречи происходят непосредственно перед стихотворением «В глуши»,[21] завершающемся повтором — из предыдущего стихотворения — строки: «Друзей со мною нет».
Констатация этого факта существенно углубляет значение предшествующих «встреч». Это встречи и невстречи... Встречаясь с друзьями, Рубцов не может встретиться с ними во взаимопонимании.
Произошедшая в поэте перемена так естественна, что ему кажется, будто переменились все вокруг. Изменившейся кажется и вся Россия. Все видит поэт новыми глазами, все сейчас ощущает иначе.
Светлый покой Опустился с небес И посетил мою душу! Светлый покой, Простираясь окрест, Воды объемлет и сушу...Стихотворение «На озере» завершается словами просьбы, смысл которой, если рассматривать стихотворение вне сборника, может показаться темным и загадочным:
Сделай меж белых Своих лебедей Черного лебедя — белым!Но лебеди уже были в рубцовском сборнике. В самом первом стихотворении, которым и открывалось «Успокоение»:
И так легки былые годы, Как будто лебеди вдали...И в следующем стихотворении «Прощальный костер» снова возникает тема прожитых лет:
Душа свои не помнит годы, Так по-младенчески чиста...— 6 —
О стихотворениях «Прощальный костер», «Острова свои обогреваем», «Журавли» можно написать отдельные книги. Наша же задача сейчас проследить взаимосвязь стихотворений в сборнике, живущих тут как единое целое.
Неизъяснимо прекрасна метаморфоза «мимолетного сна природы» из «Прощального костра» в сиротство «души и природы» из «Журавлей». Некая новая художественная реальность возникает в единстве составленных в таком порядке стихов, и реальность эта не нуждается в толковании, она воспринимается душой, она самоценна, как и сами стихи Рубцова.
Точность соединения стихов в сборнике не может не изумлять. Ничто не исчезает в мире Рубцова, все проходит свой предназначенный срок жизни...
Вот, например, стихотворение «Острова свои обогреваем»... Оно интересно еще и как попытка соединения опыта прежней, пропитанной романтикой моря, жизни с новыми духовными прозрениями...
По воде, качаясь, по болотам Бор скрипучий движется, как флот!Откуда, из каких глубин памяти всплывает этот образ? Из темных тотемских ночей, когда детдомовец Рубцов ощущал себя «сыном морских факторий»? Из тех времен, когда и спросить-то:
Как же мы, отставшие от флота, Коротаем осень меж болот?было немыслимо. Когда немыслимым представлялось отстать от большой, проплывающей мимо в ярких огнях, жизни...
Но вот прошли годы, и жизнь эта стала реальностью, и в ней открылся свой смысл, свой свет, своя тихая радость успокоения...
Острова свои обогреваем И живем без лишнего добра, Да всегда с огнем и урожаем, С колыбельным пеньем до утра...Скрипучий бор, подобно флоту, из стихотворения «Острова свои обогреваем», «по воде, качаясь, по болотам», выплывает в стихотворении «Журавли», где «меж болотных стволов красовался восток огнеликий»... И кажется, что на этих кораблях, приплывших из болотной Эллады, и принесена в «Журавли» гекзаметрическая «огнеликость».
А движение, разрастаясь широкою строкою «Журавлей», вовлекает в себя все новых участников, и вместе с этим движением разрастаются забытость, сиротство...
Вот уже и сын из стихотворения «В избе», не слышавший (или не расслышавший?) рубцовских журавлей, «заводит речь, что не желает дом стеречь», но иначе и быть не может, ведь «за годом год уносится навек»...
Судя по письмам, стихотворению «Душа» Рубцов отводил важное место в своем творчестве.
Написано оно в ноябре 1964 года, когда исключенный из Литературного института Рубцов без денег, без надежд застрял в отрезанной осенним бездорожьем от мира Николе.
Стихотворение кончается пророчеством: Когда-нибудь ужасной будет ночь. И мне навстречу злобно и обидно Такой буран засвищет, что невмочь, Что станет свету белого не видно!Сейчас, когда мы можем прочитать в воспоминаниях Людмилы Д., как «презрительно молчала» она, как «с ненавистью смотрела» на Рубцова перед тем, как совершить убийство, теперь, когда мы знаем из ее стихов, что она уподобляла себя в минуту убийства «в гневе своем урагану», описание будущей ужасной ночи 19 января 1971 года, прозрение своего смертного часа, сделанное Рубцовым, поражают предельной точностью даже в деталях.
Но пророчество на этом не завершается. Никакая преграда, даже смерть, не может остановить движения души поэта.
Но я пойду! Я знаю наперед, Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает, Кто все пройдет, когда душа ведет, И выше счастья в жизни не бывает! Чтоб снова силы чуждые, дрожа, Все полегли и долго не очнулись, Чтоб в смертный час рассудок и душа, Как в этот раз, друг другу улыбнулись...Говорить о пророчествах, а тем более толковать их в той части, что относится к жизни еще не наступившей, страшновато. А речь идет тут, конечно же, уже не об ужасе последней ночи самого Рубцова. К кому-то другому еще должен прийти «смертный час», и этому другому и желает Рубцов, чтобы у него рассудок и душа, «как в этот час» (19 января 1971 года), друг другу улыбнулись. Он сам обещает помочь в этом...
Чем дольше вчитываешься в «Успокоение», тем яснее, что и сам сборник своей конструкцией представляет недостижимое совершенство. С ювелирной точностью расположены стихи в нем, и ни одно не заслоняет, не перебивает другого. Каждое сияет во всей изначальной красоте, но вместе с тем улавливая сияние других и сообщая свое сияние другим.
— 7 —
Мне никогда не нравились рубцовские стихи о литераторах, всегда казались какими-то не по-рубцовски бестелесными. И только, кажется, в «Успокоении» вся эта вереница теней наполнилась рубцовским смыслом.
Сказав, что «В бездне таится небесной Ветер и грусть октября...», Рубцов открывает галерею своих великих предшественников. Лермонтов... Пушкин... Кедрин... Тютчев... Есенин... Гоголь... Они проходят перед читателями сборника, как бы входя в поставленную следом за ними «Горницу», где так светло от ночной звезды.
«Можно, — говорил Вадим Кожинов, — с большими основаниями утверждать, что любимейшим поэтом Николая Рубцова был совсем уж не «деревенский» Тютчев. Он буквально не расставался с тютчевским томиком, изданным в малой серии «Библиотеки поэта», и, ложась спать, клал его под подушку...
Как уже говорилось, Николай часто исполнял стихи на полусочиненные-полуслышанные мелодии. Но среди своих стихотворений он почти всегда исполнял на такой же безыскусный мотив и тютчевское:
Брат, столько лет сопутствовавший мне, И ты ушел, куда мы все идем, И я теперь на голой вышине Стою один — и пусто все кругом. И долго ли стоять тут одному? День, год — другой — и пусто будет там, Где я теперь, смотря в ночную тьму, И — что со мной, не сознавая сам... Бесследно все — и так легко не быть! При мне иль без меня — что нужды в том? Все будет то ж — и вьюга так же выть, И тот же мрак, и та же степь кругом. Дни сочтены, утрат не перечесть, Живая жизнь давно уж позади, Передового нет, и я, как есть, На роковой стою очереди.Внимательный читатель увидит, как близки эти стихи по своему стилю, по самому своему тону поэзии Николая Рубцова. Те же, кому довелось слышать эти стихи в исполнении Николая, чувствовали, что они — самое глубинное, самое интимное его достояние.
Нет сомнений, что гениальная поэзия Тютчева оказала сильнейшее воздействие на Николая Рубцова. Подчас в его стихах слышны прямые (и даже излишне прямые) отзвуки Тютчева. Скажем, такие:
В краю лесов, полей, озер Мы про свои забыли годы. Горел прощальный наш костер, Как мимолетный сон природы. И ночь, растраченная вся На драгоценные забавы, Редеет, выше вознося Небесный купол, полный славы... ...Душа свои не помнит годы, Так по-младенчески чиста, Как говорящие уста Нас окружающей природы...Менее явные отголоски тютчевской поэзии есть во многих стихах Рубцова».
Возвращаясь к «Успокоению», отметим, что «явно тютчевское» стихотворение «В краю лесов, озер, полей» тоже включено в сборник. И здесь, встав за «Светлым покоем», оно не заменимо ничем... Более того, и «вторичность» его тоже оказывается внутренне оправданной...
...Прощайте все, Кто нынче был со мною рядом, Кто воздавал земной красе Почти молитвенным обрядом...Поэт словно бы перебирает судьбы, прежде чем поведать о своей судьбе, когда:
Рукой раздвинув темные кусты, Я не нашел и запаха малины, Но я нашел могильные кресты, Когда ушел в малинник за овины...И как тут сказать, пророчество или не пророчество эта «могила в малиннике»?
У Рубцова такое точное знание смерти, что и само стихотворение «Над вечным покоем» в списке «Успокоения» располагается под тридцать пятым, очень точно соответствующим смертному возрасту поэта номером.
Когда ж почую близость похорон, Приду сюда, где белые ромашки, Где каждый смертный свято погребен В такой же белой горестной рубашке...Совпадение это легко объяснить случайностью. Как и совпадение числа четко идентифицируемых в «Успокоении» стихотворений. Их тоже только тридцать пять...
Завершая разговор о внецерковной православности Николая Михайловича Рубцова, нужно вернуться к стихотворению «На озере». Мы уже говорили, о каких лебедях идет речь в просьбе героя сделать черного лебедя белым. Посмотрим сейчас, к кому обращает свою просьбу поэт.
О, этот светлый Покой-чародей! —восклицает он, и только в следующей строчке раскрывается, что именно к «покою-чародею» и адресовано обращение:
Очарованием смелым сделай...Нет нужды доказывать, что речь тут идет не о пушкинском «очей очарованье». Преображение, о котором просит поэт, должно быть сотворено магическими чарами, «очарованием смелым». И творить эти чары должен некий «покой-чародей». Нет, не другой, а именно этот...
Говоря так, я менее всего пытаюсь представить гениального русского поэта в образе этакого повелителя духов. Нет! Если и вызывал Рубцов темные силы, то делал это неосознанно, по неосторожности проваливаясь в языческие подземелья воздвигнутого в русском языке православного храма. Разбуженные неосторожным словом темные силы действительно являлись, но объектом их внимания и воздействия становился сам поэт.
Безусловно, Рубцов и сам осознавал, что нуждается в церковной защите. Не случайно ведь в последние годы жизни появляются в его квартире иконы. Другое дело, что одних только икон было, конечно же, недостаточно.
Говоря об особом характере рубцовской православности, невозможно пройти мимо последних стихотворений «Успокоения»...
Предпоследним в сборнике поставлено стихотворение — вспомним, как появился Рубцов с Генриеттой Михайловной у Астафьевых с крашеными яйцами! — о Пасхе... Пасха — главный праздник христиан. Реконструируемая по детским воспоминаниям Рубцова картина, конечно же, мало общего имеет с пасхальной радостью, что овладевает сердцами верующих в этот светлый день...
Пасха под синим небом С колоколами и сладким хлебом, С гульбой посреди двора...Да, мы видим пасхальный день глазами ребенка: все вроде бы соответствует весеннему празднику, кроме самого главного — вся Пасха у Рубцова совершается вне церкви и без церкви.
Это только внешнее подобие Пасхи, как бы скорлупа без яйца, оболочка без содержимого. И, конечно же, не случайно, подобно бесовской свадьбе, скачущей в глубине потрясенного бора, «промчалась твоя (этой Пасхи. — Н. К.) пора».
Садились ласточки на карниз, Взвивались ласточки в высоту... Но твой отвергнутый фанатизм Увлек с собою и красоту...Строка «твой отвергнутый фанатизм» косноязычна, но она ключевая в этом стихотворении. И она удивительно точна. И, как всегда у Рубцова, не вполне ясно, откуда и каким образом происходит интервенция черного советского богоборчества, которое, разумеется, боролось не с самим православием, а лишь отвергало фанатизм служителей культа... И, как всегда у Рубцова, совершенно очевидно, что эта лживая чернота неразрывно связана и с пьяною гулянкой посреди двора, и с шумом чего-то, промчавшегося прямо сквозь твою жизнь.
О чем рыдают, о чем поют Твои последние колокола? Тому, что было, не воздают И не горюют, что ты была...Чего уж тут горевать, если не воздано было самое главное...
Стихотворение «Пасха» завершается словами: «Промчалась твоя пора». А самое последнее стихотворение начинается словами: «Есть пора — души моей отрада».
Грязь кругом, а тянет на болото, Дождь кругом, а тянет на реку, — И грустит избушка между лодок На своем ненастном берегу. Облетают листья, уплывают Мимо голых веток и оград... В эти дни дороже мне бывают И дела, и образы утрат...Такие стихи невозможно анализировать. Они сами и есть та последняя «отрада души», которая дарована была поэту на нашем ненастном берегу. Эти стихи, как и «Прощальная песня», — прощание Рубцова. Прощание со своей любимой, прощание со всеми нами:
Слез не лей над кочкою болотной Оттого, что слишком я горяч, Вот умру — и стану я холодный, Вот тогда, любимая, поплачь!Это последние слова Рубцова в сборнике «Успокоение»...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Многие друзья ощущали, как постепенно истончается жизнь поэта, многие, уже после его гибели, говорили о чувстве огромного сострадания и беспомощности от невозможности что-либо изменить.
— 1 —
В июне 1969 года, за полтора года до своей смерти, Николай Михайлович Рубцов совершил последнее свое большое путешествие... Он побывал на Ветлуге (притоке Волги) у своего товарища по институту Михаила Сизова.
«Иду по улице Продотрядников, — вспоминал тот. — Вдруг из боковой двери почты, как птенец из гнезда, вываливается вроде бы чем-то напуганный Николай Рубцов. Взъерошен и небрит, одет не по погоде в рыжую замшевую куртку, изрядно, до глянцевого блеска затертую. В руках чемоданчик, какими пользовались тогда демобилизованные солдаты или пэтэушники.
— Это ты?! — обрадовался Рубцов. — Вот хорошо. А то как бы я тебя тут нашел, в такой толпе?
— А что ты на почте делал?
— Да вот, — Рубцов сконфуженно потрогал щетину на щеках, — в поезде побриться не успел, а тут у вас такая гулянка. Вот и пошел на почту, побриться — розетка там наверняка есть. А почта и закрыта...»
«Проходили мимо веселые, нарядно одетые люди, оглядывались на него, а он, неприкаянно парясь в своей засаленной куртке, нервно и беспокойно ощущал эти взгляды. Видно, очень устал. Большой лысый череп, перевитый вздувшимися жилами, покрылся испариной. Остро, напряженно глядят темные глаза. Добрые и бесконечно ласковые в светлые минуты, они всегда мне напоминали, когда он злился, рассерженных шмелей, готовых не на шутку укусить, ужалить».
Про глаза Николая Михайловича хорошо сказано, но образ этот Михаил Сизов продолжал развивать...
Утром по старой лесовозной дороге путешественники двинулись к Бархатихе. В низинах пыльная колея переходила в лежневку, на выщербленных бревнах грелись шустрые ящерки. Пахло таволгой, сырой ольхой. На дне лесных овражков били ключи. Было сумрачно и глухо.
А просторные, поросшие ландышем и толокнянкой боры, напротив, были переполнены светом.
Проносились в сторону недальних липовых урем пчелы, и Рубцов провожал их тревожным взглядом. Срывал твердые оранжевые ягоды ландыша и собирал их в горсть. Поднимал палец и останавливался, прислушиваясь... Где-то в глубине леса тосковала желна. Михаилу Сизову казалось, что Рубцова глубоко волновал этот жалобный крик птицы.
Еще казалось, что темные оливы рубцовских глаз, всегда напряженные, отмякают в боровом свете.
«Тогда мы шли и шли по лесу, болтали о всяких пустяках, ничего серьезного, — вспоминал Михаил Сизов. — Но я уверен: если человек болтает о пустяках, о всякой «милой чепухе», значит, ему легко. Может быть, тогда, в борах, отпускало и Колю?»
Наконец лес раздался, впереди серели заколоченные избы. Ляленки. Здесь путешественники провели несколько дней.
— Какая гора у вас интересная... — сказал Рубцов, кивая на угрюмый, поросший лесом бугор, высящийся над деревней.
— Лялина гора! — сказала хозяйка-старушка. — Клады там в землянке лежат.
— Какие клады, бабушка?
— Погоди, расскажу.
И она начала рассказывать о разбойнике Ляле, о лесной девке, о молодом атамане Бархотке, о прекрасной княгине Лапшангской...
— Я, Саша, обязательно напишу об этом, — сказал Рубцов. — Только по-своему...
— Эта легенда уже в самой местности записана, — сказал Сизов. — Тут все названия такие — речка Ляленка, деревня Бархатиха. А самая распространенная фамилия — Шалухины.
— Это уже не так важно... — задумчиво проговорил Рубцов.
— А что же важно?.. Рубцов не ответил...
Ответом его стала сказка, которую он называл поэмой...
— 2 —
Мне о том рассказывали сосны По лесам в окрестностях Ветлуги, Где гулял когда-то Ляля грозный, Сея страх по всей лесной округе...Поэму-сказку, навеянную ветлугскими впечатлениями, Николай Рубцов напишет месяц спустя, в деревне Тимониха, гостя у Василия Белова.
Как наступят зимние потемки, Как застонут сосны-вековухи, В бедных избах странной незнакомке Жадно внемлют дети и старухи. А она, увядшая в печали, Боязливой сказкою прощальной Повествует им о жизни Ляли, О любви разбойника прощальной. Так, скорбя, и ходит богомолка, К людям всем испытывая жалость, Да уж чует сердце, что недолго Ей брести с молитвами осталось...
«Лесная сказка» — вполне профессиональная работа. И вместе с тем не поворачивается язык назвать «Лесную сказку» творческой удачей гениального поэта Рубцова. Сам Николай Михайлович, должно быть, тоже понимал это, но тем не менее «сказке» радовался и гордился ею. И старался, несмотря на отказ за отказом, поскорее пристроить в печать... Объяснение этому простое: Рубцов считал свою поэму первым и достаточно успешным — а это так и было! — шагом на новом поприще... Но есть и другое объяснение и оно тоже напрашивается само собой...
«Рубцов не писал сказок, далеких от его собственной жизни... — пишет в предисловии к трехтомнику Николая Рубцова, изданному в «Терре», В. Зинченко. — Эта сказка-быль про него самого, — не ожидал только, что погибнет от рук «разбойницы Шалухи», хотя и чувствовал, что тучи над ним сгущаются, хотя и говорил про ее зверские вирши: «Это патология. Женщина не должна писать такие стихи»...
Конечно, можно было бы посоветовать В. Зинченко внимательнее перечесть «Лесную сказку»[22] и убедиться, что разбойница Шалуха не убивала Лялю, который погиб на поединке с Бархоткой, а Шалуха (это в поэме тоже не сказано прямо) лишь отравила свою соперницу, юную княгиню Лапшангскую...
Но, с другой стороны, что-то есть в описании судьбы несчастной Шалухи от судьбы, которую выберет для себя убийца Николая Рубцова:
Бор шумит порывисто и глухо Над землей угрюмой и греховной. Кротко ходит по миру Шалуха, Вдаль гонима волею верховной...И, несомненно, что-то свое различал Николай Михайлович в шуме ветлугских сосен, глядя на возвышающийся над деревней холм:
Где навек почил он за оградой, Под крестом, сколоченным устало... Но грустить особенно не надо, На земле не то еще бывало.
И, конечно, никуда не уйти от того факта, что эти строки написаны Николаем Михайловичем вскоре после его поездки с Людмилой Д. в Тотьму...
Никакой логики тут нет, только неясные предчувствия, смутные опасения, которые владели Рубцовым, когда он создавал в Тимонихе «Разбойника Лялю».
Впрочем, в июне 1969 года еще впереди была встреча с Д., но и там, на Ветлуге, порою накатывало на Рубцова отчаяние...
— 3 —
«Думаю о житейском неуюте его и опять вижу Рубцова на ветлужском приплеске, на косе ослепительно чистого, точно провеянного, песка. Худое, непривычно белое тело, неестественно вспученный (печень?) живот. Длинные до колен черные трусы.
— Не загорал несколько лет, как-то не доводилось, — конфузился он, — теперь никак не осмелею. Как девушка.
Забрел по колено в воду, постоял, почерпал воду ладошкой и сразу же вышел. Лег животом на песок.
— Вот погреюсь — и хватит...»
Михаил Сизов очень хорошо описал, как, спрятавшись, кажется, от всех друзей и недругов, с какой-то роковой неизбежностью соскальзывал Рубцов в гибельную пучину...
«Алкогольное безумие только набирало обороты... В чайной — в розлив и на вынос — рекой лились водка, вермут и портвейн, пиво. Осоловелые механизаторы в грязных сапогах слонялись от стола к столу, как тени. Скопище техники — тракторы, машины возле чайной, как кони у коновязи.
Пива нам показалось мало, а тут еще встретился знакомый сотрудник из районной газеты, который тотчас приобрел «бомбу» портвейна. Она, эта «бомба», и была выпита тотчас на зеленой лужайке под акациями. Мигнуть не успели, как мой знакомый, точно за стиральную доску встал, начал мытарить Колю, а заодно и меня своими стихами... Рубцов морщился, как от головной боли, автор же этого не замечал. Автор потел, голос его дорастал до металлического звона, но не отступался. Наконец выдохся, и Коля, улучив момент, предложил сходить за второй «бомбой».
— Я сам пойду! — оборвал он наши порывы. — А вы тут посидите, еще почитайте... Хорошие стихи, — ровным, как стол, голосом похвалил он и моментом скрылся за акациями».
Рубцова долго не было, и Сизов не выдержал.
— Как бы не поколотили его, нездешнего, — забеспокоился он, — подожди здесь, а я пойду подстрахую.
И он направился в забегаловку (чайную уже закрыли) на поиски.
Рубцов стоял в густой очереди.
К прилавку было не протолкнуться, и Рубцов через головы передал Сизову одну за другой «бомбы» с чернильно-густой жидкостью.
— Фу! — выдохнул Рубцов, когда выбрались из забегаловки. — Даже плешь вспотела. А куда ты дел своего приятеля?
— А он там нас ждет, в садике. Я за тебя побоялся.
— Побоялся! Не из таких клоак выбирались. А вот человека-то ты зря одного оставил...
«Уже стемнело, — писал Михаил Сизов. — Открытая «бомба» стояла на скамейке. Рубцов сидел перед ней, поблескивающей под луной, нога на ногу, держал в руке снятый с сучка акации стакан, наполненный «чернилами», и буравил меня злыми темными глазами. Часто моргал, как будто сам не мог выдержать демонического напряжения своего взгляда, и напропалую, как теща, распекал меня...»
— Ты зачем обидел человека?.. — говорил Рубцов. — И вообще, зачем ты пьешь? Такой молодой и уже в стакан смотришь! Нет, я тебе не налью. Сам выпью, а тебе не налью. Ты же ничего еще не сделал, чтобы пить. Да... Я сделал дело. А ты — нет. Я ведь только слово могу сказать, и тебя нигде не напечатают... Ну ладно, вот тебе, выпей. И больше не ожидай. Все...
Серебрилось под луной поле. Огромная и багровая, висела она низко над елками оврага. Скрипел коростель.
— Ты иди домой, а я тут посижу, — неожиданно мирно попросил Рубцов и пошагал со своей бутылкой подальше от дороги, в молодую рожь. Уселся. Смятенно закричали ночные птахи.
Из оврага наносило горьковатым туманцем — где-то жгли костер... Сизов вздохнул и ушел спать на сеновал, долго не мог уснуть.
Он слышал, как вернулся Рубцов, его долгий, до трех часов ночи, громкий разговор с матерью.
Утром Михаил вышел помочь матери окучивать картошку. Влажная земля приятно холодила босые ноги. Рубцов, облокотившись на изгородь, хмуро наблюдал за ним. Одет Рубцов был, несмотря на разгорающийся зной, все в ту же замшевую курточку. Отстраненно смотрел в сторону, наморщив лоб. Потом опять поежился, «точно за воротник попали опилки, точно не летний зной, а осенняя неволя-непогодь на дворе»...
— 4 —
Писать о последних годах жизни Николая Рубцова занятие нелегкое и неблагодарное. Все перепуталось в эти месяцы в его жизни, и он, всегда старавшийся не смешивать литературные, дружеские и семейные дела, сейчас словно бы позабыл о своем правиле.
Он мог, ничего не объясняя, привести в гости к Астафьевым свою бывшую жену, а потом, также ничего не объясняя, бросить ее на улице и уйти с Астафьевыми к другим знакомым. Он мог ни с того ни с сего уехать на Урал, пытаясь разыскать там (почему там?) брата Альберта...
Обиды своей новой сожительницы, Людмилы Д., он переносил на отношения к друзьям — мнение о ее стихах путал с отношением к самому себе.
Но в хаосе и запутанности последних месяцев тоже прослеживается своя логика.
Так бывает, когда в конце трудного пути, почувствовав близкую передышку, расслабится человек. Тогда и торжествуют над ним темные силы, которые не могли его одолеть, пока этот человек шел.
Последние полтора года жизни Рубцова заполнены романом с Людмилой Д.
Они познакомились в общежитии Литинститута еще в 1963 году, но тогда с ее стороны особой симпатии к Рубцову не возникло, как и в апреле 1964 года, когда она снова увидела его...
«Он неприятно поразил меня своим внешним видом... На голове — пыльный берет, старенькое вытертое пальтишко болталось на нем».[23]
Правда, были еще удивительные стихи Рубцова, но это открылось Д. только через четыре года, когда в 1967 году она прочитала рубцовскую «Звезду полей».
Что думала она, на что рассчитывала, на что надеялась, отправившись в Вологду, чтобы «поклониться» гениальному поэту? Что вообще в таких случаях может думать женщина. уже перешагнувшая тридцатилетний рубеж, так и не устроившаяся в жизни, но все еще привлекательная, все еще не потерявшая надежду на какое-то лучшее устройство жизни?
Наверняка, поднимаясь по лестнице к рубцовской квартире, Д. и сама не знала, чего она хочет, чего ждет...
Экзальтация и тщеславие, самопожертвование и какая-то расчетливость переполняли ее, и, конечно же, примиряя женское тщеславие и высокое благородство, было еще и ожидание Чуда...
Она позвонила.
Дверь открыл Рубцов. «В старых подшитых валенках, еще более полысевший...» Увидев гостью, он уронил рукопись, и листочки разлетелись по коридору.
Как и должно быть в жизни, встреча оказалась не такой, как представляла ее себе Д., — все произошло обыденней и прекрасней.
В своих воспоминаниях Д. очень точно передает мысли и ощущения женщины, задавшейся целью влюбиться в Рубцова, не только в его стихи, но и в него самого...
«Утром я проснулась от гудения множества голосов, в окно каюты било солнце, теплоход вздрагивал, что-то где-то шипело. За окном была какая-то пристань. Уж не Тотьма ли? Было семь часов утра. Я быстро поднялась. Рубцов спал на верхней полке младенческим сном. Я потрясла его за плечо, он проснулся, выглянул в окно и вскочил...
Мы вышли заспанные, неумытые и влились в толпу, которая уже выливалась по трапу на пристань. Утренний холодок охватил нас, я сразу вся продрогла. Мы стали подниматься по тропинке вверх, по берегу Сухоны и остановились на очень возвышенном месте.
— А теперь я умоюсь! — сказал Рубцов и сбежал вниз к воде. Там он долго и с наслаждением плескался, фыркал. Я стояла, смотрела вокруг на солнечные зеленые дали и была благодарна судьбе, что она дала мне этот день и этого человека».
Так и начался этот роман.
Еще ничего, кажется, не произошло, но уже оказались разрушенными отношения Николая Рубцова с семьей, живущей в Никольском. Подруги запомнили спутницу Рубцова и поспешили рассказать про нее Генриетте Михайловне...
Еще только-только встретились, а уже разругались.
— Она же чернокнижница! — сказал Рубцов про Марину Цветаеву. — Ведьма... Она злая. Злая и ее поэзия!
— Как ты, Рубцов, можешь такое говорить?! — возмутилась Д. — Как ты можешь? У нее не злая поэзия, а трагическая! Ее жизнь была трагическая, и вся ее судьба — в ее стихах.
— Ну и что? — поддразнивая, сказал Рубцов. — Неужели Тарас Шевченко меньше пережил? А его поэзия добрая. Не то что у этой ведьмы.
— Не смей ее называть ведьмой! — закричала Д. — Я люблю Марину!
Повысил голос и Рубцов.
Он всегда нервничал, когда видел, что человек, которому он пытается объяснить очевидное, — помните: «он судил коллег на уровне своего мастерства, своего таланта, а это было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей...» — не желает понимать его, замыкаясь в своем упрямстве. Тем более это выводило Рубцова из себя, когда речь шла о том, что Николай Михайлович считал для себя родным и дорогим.
Д., если и не поняла, то мгновенно почувствовала это, и мгновенно перевернула все в свою пользу. Она и сейчас описывает это состояние в Николае Михайловиче Рубцове с какой-то извращенной, ничего, кроме самой себя, не желающей замечать эгоистичностью.
«На глаза его навертывались слезы, что-то давно наболевшее рвалось из его души, какое-то глухое отчаяние, что-то непоправимо трагическое слышалось мне в его горьких резких выкриках. Позднее я привыкну к такому его состоянию, оно, как яд, капля за каплей просочится и в меня и заполнит мои клетки жутью обреченности. Но тогда я видела его таким впервые».
На этот раз с приступом раздражения Рубцов справился сам.
— Люда, — вдруг сказал он. — Надо бы не пропустить Печенгскую церковь. Давно я ее не видел... И ты посмотришь.
Вот так, с надрывом, с ссорами и пьяными криками начинался этот роман...
Но иначе и не могло быть.
Людмила Д. пыталась влюбиться в Николая Михайловича Рубцова, но ничего из этой попытки не выходило.
«Рубцов еще с порога закричал: «Людочка! Это я — твой муж!» — пишет она в своих воспоминаниях. — От слова «муж» все во мне перевернулось, я вся содрогнулась: до того неестественно было слышать из уст Рубцова «я твой муж». Друг, брат, мой бедный больной ребенок, мой мучитель, мой истязатель, мой любимый поэт... Но муж?! О боже! Что я делаю?»
Д. делала то, что и было задумано. От задуманного она редко отступала... Сейчас она отправилась в Вельск, чтобы рассчитаться там и переехать в Вологду уже навсегда.
Ну а Николай Михайлович Рубцов, как мы и говорили, поехал в Тимониху гостить у Василия Ивановича Белова и писать там свою «Лесную сказку».
— 5 —
К осени Д. переехала в Вологду и поселилась с дочерью в деревне Троица, в двух километрах от города, устроилась работать в библиотеку.
«Рубцова встретила в Союзе писателей... Снова темная волна предчувствий захлестнула меня. То, что он так обрадовался встрече со мной, что засыпал меня вопросами, не радовало... Теперь я думаю, что, если бы судьба не схлестнула меня с этим человеком, моя жизнь, как и у большинства людей, прошла бы без катастрофы. Но я, как в воронку, была втянута в водоворот его жизни. Он искал во мне сочувствия и нашел его. Рубцов стал для меня самым дорогим, самым родным и близким человеком. Но... Мне казалось, будто я приблизилась к темной бездне, заглянула в нее и, ужаснувшись, оцепенела...»
Любопытно сопоставить эти воспоминания с воспоминаниями Генриетты Михайловны Меньшиковой.
«В 1970 году Лена пошла в школу, — вспоминает она. — Летом мы с ней ездили в Вологду за покупками, а заодно посмотреть, где живет папа. Прямо с парохода мы пришли к нему на улицу Яшина. Позвонили, он нам открыл, но был на одной ноге, вторая перевязана. Он замялся было, но все же пригласил. Когда мы вошли, в кресле сидела Д.
Рубцов представил ее как двоюродную сестру Люду. Но когда она ездила с ним в Тотьму, наши женщины ее описали, и я сразу узнала ее по этому описанию...»
— Очень приятно... — не протягивая руки, сказала Генриетта Михайловна. — Только я ведь знаю, Коля, что у тебя нет сестры Люды...
Возникла неловкая пауза.
— Я рада, Коля, что познакомилась с твоей женой и дочкой, — стараясь замять неловкость, сказала Д. — Кстати, она очень похожа на тебя.
— Да... — ответил Рубцов. — Все говорят, что я похож на Лену.
Генриетта Михайловна продолжала молчать, и Д. объяснила, что никакая она не сестра, просто из Воронежа проездом и сейчас уйдет, не будет мешать. Она ушла, а Генриетта Михайловна и Лена остались.
«Рубцов опять звал нас к себе, — вспоминает Генриетта Михайловна, — а Лене все было интересно, да и он очень рад был видеть ее...»
Эти воспоминания не так художественны, как у Д., но человеческой боли, человеческого тепла в них больше. И правды тоже. Впрочем, иначе и не могло быть. Читая воспоминания Д., нельзя забывать, что писались они, когда нужно было объяснить всем — и прежде всего самой себе! — необъяснимое. Не поэтому ли и проступают порою в нарисованных Д. портретах Рубцова этакие демонические черты?
Да... Конечно, были нехорошие предчувствия, были драматические срывы, но чаще многие возвышаемые до жанра трагедии сцены начинались в духе забавной, незамысловатой комедии. Примером тому может служить летняя история, после которой Рубцов оказался в больнице...
9 июня 1970 года подвыпивший Рубцов пришел к Д., когда та поливала в огороде грядки. Он вызвался помочь и начал отбирать чайник, которым пользовалась Д. вместо лейки.
— Ну до чего же ты вреден!
— Вреден? — переспросил Рубцов и тут же вылил всю воду на Д.
— Идиот! Что тебе надо от меня в конце концов?! — Д. взбежала на крыльцо и захлопнула дверь перед носом Рубцова.
Тот подергал дверь, но дверь не поддавалась...
Можно осудить грубоватость — как тут не вспомнить про детдомовское детство! — шутки Рубцова, можно понять обиду женщины, ее гнев, но так же очевидно и то, что эта сцена — милые ссорятся, только тешатся — ни с кем другим не могла закончиться так, как закончилась с Рубцовым.
Пытаясь залезть в дом, он разбил окно...
Звоном стекла и обрывается летний водевиль, сразу — без всякого перехода — начинается драма. Подбежав к окну, Д. увидела, что Рубцов лежит на клумбе, а из руки фонтаном хлещет кровь — Рубцов перерезал артерию...
К счастью, Д. не растерялась. Сбегала за фельдшером, та наложила на руку Рубцова жгут.
Рубцова удалось спасти... Назначенный срок еще не наступил — Рубцова увезли в больницу.
Давясь слезами, Д. собрала с пола осколки.
И сразу после гибели Рубцова, и многие годы спустя Д. снова и снова задавала себе вопрос, что же можно было сделать, и сама себе отвечала:
«До сих пор не знаю. Не знали, наверное, и его товарищи. А может, не хотели знать. Так ведь удобней, спокойней. Встретятся, выпьют, повеселятся, а я отдувайся за всех. Коль он живет со мной, значит, я и ответчица».
В этих рассуждениях Д., как и в документах: протоколах допросов, показаниях на суде, кассационной жалобе, — приобщенных к уголовному делу, много боли и правоты.
Боясь поссориться с Рубцовым, его друзья всегда поспешно исчезали, едва только Рубцов начинал «заводиться», но осуждать их за то, что дружбу с Рубцовым они берегли сильнее, чем самого поэта, и уходили от него, когда были ему нужнее всего — бессмысленно. Никто не имеет права требовать от человека, чтобы он жертвовал собою ради другого. Каждый человек решает это сам для себя, и Д. тоже решилась на это сама...
«Я хотела сделать его жизнь более-менее человеческой... Хотела упорядочить его быт, внести хоть какой-то уют.[24] Он был поэт, а спал, как последний босяк. У него не было ни одной подушки, была одна прожженная простыня, прожженное рваное одеяло. У него не было белья, ел он прямо из кастрюли. Почти всю посуду, которую я привезла, он разбил. Все восхищались его стихами, а как человек он был никому не нужен. Его собратья по перу относились к нему снисходительно, даже с насмешкой, уж не говоря о том, что равнодушно. От этого мне еще более было его жаль. Он мне говорил иногда:
— Люда, ты знай, что, если между нами будет плохо, они все будут рады».
Все правильно, все верно, как верно и то, что крест, взятый Д. на себя, оказался ей не по силам.
Может, ей и хотелось облегчить страдания Рубцова — наверняка хотелось! — только вот силенок для этого подвига у нее явно недоставало. Талантом самопожертвования она явно была обделена...
Пожертвовать собою ради другого человека помогает только любовь (расчетливость тут бессильна, сил человеку она не прибавляет!), и только любовь делает жертву радостной и необременительной...
Д. попыталась доказать обратное. Наверное, она и сама не понимала, что, «спасая» Рубцова, ей придется преодолевать глухое сопротивление, явное недоброжелательство его друзей и знакомых. Это ведь только в плохих книжках объединяются все, забывая свои самолюбие и амбиции, чтобы помочь товарищу. А в жизни — увы! — все происходит иначе...
— 6 —
В жизни Николая Михайловича Рубцова если и объединялись его друзья и близкие, то, кажется, только для того, чтобы сделать жизнь Рубцова еще больнее, еще ужаснее...
Замечательное свидетельство отношения некоторых влиятельных вологодских «друзей» к Рубцову — воспоминания Виктора Астафьева...
«Я, да и не только я, все мы, вологодские писатели, как-то надолго выпустили из виду гулевую парочку поэтов, и лишь стороной долетали слухи о том, что они уж и драться начали. У Д. была девочка, собиравшаяся в школу. Женщина нашла себе работу, устроилась библиотекарем на торфяном участке. Здесь же, в полугнилом бараке, при библиотеке, была и комнатушка для жилья.
Лишившаяся дома и мужа по причине любви, Д. устроилась на участке, что располагался верстах в пяти от Вологды, и облегченно вздохнула.
Но неугомонный кавалер (Рубцов. — И. К.) достал ее и на торфе.
Ну, достал и достал, что тут поделаешь, коли такая привязанность у человека и обожание непомерное, всепоглощающее. И обожал бы иль сидел бы в барачной библиотеке, книжки читал, стихи записывал, так нет ведь, его скребла творческая жила по сердцу, не давала сидеть в укромном уголке (здесь и далее выделено мной. — Н. К.), страсть нравоучения влекла к народу. В дырявых носках выйдя из-за стеллажей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бескультурье, доказывал, что лучше Тютчева никто стихов не писал и не напишет, декламировал, с пафосом, с выкриком, поэзию обожаемого им поэта.
Кончилось тем, что Д. выставила своего обожателя вон, умоляла не приезжать больше, так как из-за него она может лишиться последнего скудного куска хлеба и пусть дырявой, но крыши над головой. Не внял поэт мольбам любимой дамы, иной раз пешком тащился по грязным болотным дорогам и торфяным рытвинам на манящие огни торфяного поселка. Возлюбленная его навесила на дверь крючок и однажды не пустила кавалера в свой дом. Он ее умолял, матом крыл, ничто не действовало, тогда он пошел под окно барака, двойные рамы которого, пыльные и перекошенные, не выставлялись со дня сотворения этого социалистического жилища, от досады сунул кулаком в окошко и вскрыл стеклами вены на руке...»
Все здесь вроде бы похоже на правду... В. П. Астафьев повсюду подчеркивает, как высоко он ценил Рубцова, какая большая это потеря для русской литературы, но тогда откуда же в его воспоминаниях появляется перед нами развязный хулиган в рваных носках, который — подумать только! — набрасывается на бедных работяг-торфяников и чуть ли не силой принуждает их читать Тютчева! Ужас... До чего только не доходит вологодское хулиганье! И это вместо того, чтобы «сидеть в укромном уголке»...
Отношение Виктора Петровича Астафьева к Рубцову возмутило и саму Д.
«Мне очень странно, — пишет она в статье «Обкомовский прихвостень», напечатанной в газете «День литературы», — что Вы даже не упомянули о его больничной внешности. Как Вы упустили это, чтобы лишний раз не поиздеваться над его жалким видом в огромном синем халате, с шапочкой из газеты на голове? Создается впечатление, что Вы его вообще не видели. Во всяком случае, это не Ваш стиль. Ваш стиль вот он: «... хамство и наглость, нечищенные зубы, валенки, одежда и белье, пахнущие помойкой...» Бр-р-р... так мерзопакостно еще никто Рубцова не живописал. Сколько же затаенно-жгучей иезуитской ненависти в этом описании!..
Я точно знаю, что Вашему «радению» сам Рубцов не радовался. Он был с Вами очень осторожен. Разве могла обмануть его неимоверно могучая интуиция, утонченная проницательность истинного поэта? Любую фальшь он тут же замечал. Зная Ваш пиетет к высокому областному начальству, он Вас остерегался. Правда, однажды, не выдержав, сорвался, назвав Вас «обкомовским прихвостнем». Вы же были с Рубцовым в длительной ссоре. Разве не так? Так что не надо лгать о Ваших якобы идиллических с ним отношениях».
Н-да... Тут Людмила Д., несомненно, права. Идиллических отношений с Рубцовым у Астафьева не было и не могло быть... Но как точно заметил другой замечательный русский поэт: «Лицом к лицу лица не увидать...»
— 7 —
«Ему оставалось жить чуть меньше года, когда мы встретились в последний раз... — вспоминает Анатолий Чечетин. — Именно в это время была написана — высказана, пропета! — самая грустная и трагическая из всех его элегий.
Отложу свою скудную пищу И отправлюсь на вечный покой. Пусть меня еще любят и ищут Над моей одинокой рекой. Пусть еще всевозможное благо Обещают на той стороне. Не купить мне избу над оврагом И цветы не выращивать мне...
А пока — мы долго шли по улице Жданова, по Цветному и Страстному бульварам. Это было синим апрельским днем. И недавно выпавший снег во двориках был синий, и мокрый асфальт вдали отдавал синевой, и в умытых окнах домов отражалась шальная синева разверзшихся небес: солнечно было вокруг, ясно и еще по-весеннему свежо».
Анатолий Чечетин вспоминает, как Рубцов щурился от солнца, любуясь остатками стен Рождественского монастыря, но во всем облике его была такая гибельная усталость, от которой отдохнуть практически невозможно. Поражали болезненный желтовато-бледный цвет лица, натянутость тонкой, сухой кожи на нем, темные, еще не потухшие, но бесконечно уставшие смотреть глаза...
«После случая девятого июня, — пишет в своих воспоминаниях Людмила Д., — после того как Рубцов выздоровел и выписался из больницы, в Вологодском обкоме КПСС собрались писатели, поэты, чтобы обсудить положение дел и, может быть, как-то помочь Рубцову, попытаться его спасти. Был один выход — лечебно-трудовой профилактикой. В ЛТП нужно было трудиться, соблюдать строгий режим, вольготную домашнюю жизнь сменить на казенное житье... Рубцов взбунтовался, в ЛТП идти не хотел. От меня это совещание в обкоме он тщательно скрывал, и я о нем узнала не сразу. Но меня сразу же насторожили его пьяные горькие крики о насилии над личностью поэта, о том, что его хотят посадить в тюрьму, его сетования возмущения, что на него «катят бочку».
— Люда, меня хотят посадить в тюрьму! Меня ненавидят! Мне нет места на этой земле, кроме как в тюрьме. Я это знаю!
Как пристраивали Рубцова в ЛТП, вспоминает и Александр Романов.
Он был тогда ответственным секретарем Вологодской писательской организации, и это его вызывали в обком партии, как только заходила речь о «безобразиях», которые устраивал Рубцов.
— Почему Рубцов бездельничает? — спрашивали партийные начальники. — Может, полечить его от вина?
— Да не алкоголик он! — защищал поэта Романов. — У поэтов бывают срывы. Ведь стихи пишутся кровью...
Есть какая-то неумолимая логика метаморфозы в ЛТП темных коридоров, в которые пыталась усадить Рубцова московская братия, укромных уголков, в которых советовал поэту читать книжки Виктор Петрович Астафьев...
Снова разговор об устройстве Рубцова в ЛТП возник во время встречи писателей в обкоме партии.
«Вот мы, писатели, — пишет Александр Романов, — располагаемся за длинным столом в кабинете секретаря обкома по идеологии. Веселое оживление, как всегда, вносит Виктор Астафьев. Он чуть было не увлек разговор в совсем иную сторону, не предусмотренную секретарем обкома. Николай Рубцов скромно сидел у закрайка стола, поближе к дверному тамбуру. Я сделал краткий обзор творческих дел писательской организации и высказал наши неотложные просьбы. Писатели разговорились, в застолье потеплело.
И секретарь обкома, соглашаясь с нашими суждениями, помаленьку стал сворачивать разговор в сторону писательского пьянства. Василий Белов, воспользовавшись паузой в его мысли, вдруг вставил, что клин, свою реплику: «А обкомовцы пьют не меньше нас». И с веселой дерзостью поглядел на секретаря обкома.
Тот не то чтобы смешался, а все-таки смутился.
— Обкомовцы не шатаются на улицах, Василий Иванович! — вдруг потвердел его голос. — Как некоторые из писателей...
И поглядел на Рубцова»...
Мучительно бился Николай Михайлович Рубцов в гибельной сети последних месяцев своей жизни и не мог выпутаться из нее...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Даже если сделать поправку на погрешности человеческой памяти, все равно картина последних месяцев жизни Рубцова рисуется достаточно определенно и ясно.
Хотя Рубцов и был болен — начало сдавать сердце! — это была не смертельная болезнь. И пьянство, если не считать того, что ничего хорошего нет в пьянстве, тоже не грозило смертельной опасностью. Все было не так безнадежно и вместе с тем — увы! — гораздо страшнее...
— 1 —
С Рубцовым в конце жизни приключилась, в общем-то, самая обычная беда...
Пока он страдал, пока маялся, не имея даже своего угла, пока писал гениальные стихи, сверстники неторопливо делали большие и небольшие карьеры, обзаводились семьями, растили детей... И когда у Рубцова появилась наконец-то своя квартира, когда можно стало хоть что-то строить — ведь совсем не поздно и в тридцать четыре года завести семью! — он словно бы оказался в вакууме. Все его матримониальные заботы друзьями-сверстниками были давным-давно пережиты и никакого ни интереса, ни сочувствия не вызывали у них.
Тем более что Рубцов и не разрешал сочувствовать себе. Несмотря на все свои буйства, он был и застенчивым, и каким-то очень гордым при этом. Это в стихах мог написать он:
Поздно ночью откроется дверь. Невеселая будет минута. У порога я встану, как зверь, Захотевший любви и уюта. Побледнеет и скажет: — Уйди! Наша дружба теперь позади! Ничего для тебя я не значу! Уходи! Не гляди, что я плачу!.. И опять по дороге лесной, Там, где свадьбы, бывало, летели, Неприкаянный, мрачный, ночной Я тревожно уйду по метели... Это только в стихах мог он закричать, словно от боли: Я люблю судьбу свою. Я бегу от помрачений! Суну морду в полынью И напьюсь, Как зверь вечерний! А в жизни — нет.В жизни Рубцов никогда не позволял себе жаловаться.
Даже если приходилось просить взаймы деньги, он делал это мучительно трудно...
Еще труднее, почти невозможно было Рубцову объяснить свои поступки. Правота Рубцова — его стихи, любые другие объяснения звучали неискренне и косноязычно. Конечно, нужно всегда помнить, что Рубцов был не только очень умным человеком, но и необыкновенно тонким, остро чувствующим малейшую фальшь в человеческих отношениях. Правда, будучи трезвым, он редко давал понять, как его коробят те или иные разговоры. Рубцов всегда по мере возможности щадил самолюбие своих друзей.
Его друзья, как мы видим это, например, по воспоминаниям Виктора Астафьева, оказались в этом смысле гораздо менее великодушными...
И, конечно же, здесь нельзя забывать и о провинциальной тоске, о злой и мелочной, почти бабьей наблюдательности небольшого города — все подмечающего, ничего не пропускающего и долго-долго потом обсасывающего на разные лады новостишку скандала...
Конечно же, странный роман немолодого поэта с не очень-то молодой поэтессой, к тому же переполненный пьяными сценами, не мог не вызывать смущения, а главное — и, наверное, для Рубцова это было самым страшным — не мог не быть смешным. И, конечно же, друзья-писатели, их жены и близкие достаточно тонко подмечали все комедийные моменты, все нелепости... И тем пристальнее они следили за развитием отношений между Рубцовым и его новой женой, что в их круг таким вот образом входила женщина, способная на самые неожиданные поступки и от которой уже сейчас исходила некая чернота.
Как мы знаем по накопленному человеческим обществом за десятки веков опыту, изощренность травли, которую затеивают члены круга при появлении среди них незнакомца или незнакомки, превосходит все мыслимые ограничения и способна творить чудеса...
Я поражаюсь мужеству жены Виктора Астафьева, Марии Семеновны Корякиной, которая все-таки описала это в своих воспоминаниях:
«Возвратить долг Коля пришел не один, а вместе со своей будущей женой. Оба пьяненькие, оба наспех одетые.
— Я пришел вернуть долг! — сказал он, уставившись на меня пронзительным, не очень добрым взглядом.
— Хорошо! — сказала я. — Теперь у тебя все в порядке? На житье-то осталось? А то не к спеху, вернешь потом.
— Нет, сейчас! Вот! — Вытащил из одного кармана скомканные рубли и трешки, порылся в другом, пальто расстегнул. — А можно или нельзя мне войти в этот дом? Чтоб долг отдать... — резко, с расстановкой заговорил он.
— Конечно, Коля! Проходи! — посторонилась я.
— А она — талантливая поэтесса! — кивнул он в сторону своей спутницы, оставшейся на лестничной площадке этажом ниже.
— Возможно.
— И она же — моя жена! — Он опустил голову, что-то тяжело посоображал и опять уставился на меня в упор: — Ничего вы не знаете! Я тоже ничего знать не желаю! — Выпятился из прихожей на площадку и с силой закрыл за собой дверь».
Сцена не нуждается в комментариях. Очень точно обрисована ситуация, когда, благодушно улыбаясь, человека загоняют в безвыходное положение.
Ну, посудите сами...
Рубцов пришел со своей женщиной, но это только ему адресуется: «Конечно, Коля! Проходи!», а его спутницу, оставшуюся на лестничной площадке этажом ниже, не замечают. И даже когда Рубцов настойчиво обращает внимание хозяйки дома на нее — ничего не меняется. Вежливо, но очень определенно Рубцову дают понять, что эту женщину в этом доме не желают знать...
Можно возразить, дескать, Рубцов сам виноват. Чтобы не ставить Д. в унизительное положение, не нужно было вести ее к Астафьевым.
Это безусловно верно, как верно и то, что и во всей своей горестной жизни Рубцов тоже виноват прежде всего сам. Мог бы благополучно закончить Тотемский лесотехникум, стал бы мастером трелевочных дорог, имел бы таки приличный заработок, квартиру, семью... Неизвестно только, стал ли бы тогда великим поэтом...
Разумеется, менее всего мне хотелось бы, чтобы возможные упреки в душевной черствости адресовались Марии Семеновне Корякиной. Отношения семьи Астафьевых с Рубцовым, как мы видели из воспоминания Виктора Астафьева, были сложными, и я акцентирую внимание на той сцене только потому, что Мария Семеновна намного беспристрастнее своего супруга и мужественнее многих рубцовских друзей. Она не побоялась написать то, о чем все позабыли сразу же после его смерти.
Очевидно, что ситуации, подобные описанной Марией Корякиной, в разных вариантах повторялись изо дня в день. Положение осложнялось и тем, что Д. — не забывайте, она сама была поэтессой! — обладала достаточно взрывным характером и особенно-то подделываться, угождать, проглатывать оскорбления не умела да, наверное, и не хотела... Ну а главное — это горечь недоумения и обиды, что копилась в ней. Д. готова была жить с гением Рубцовым, но при чем тут алкаш, которого не всегда пускают с его спутницей в приличные дома?..
Неблагодарное занятие — разбираться в семейных дрязгах. Правота и неправота каждого участника семейных передряг взаимозависимы, и, как правило, осознание своей правоты рождается лишь из стремления подчеркнуть неправоту другого, и именно тогда и кончается правота одного, когда начинается неправота другого.
Конечно, можно было бы (а в своих воспоминаниях Д. этим и занимается) говорить о тяжелом характере Рубцова, о его ревности, его срывах, но ведь и Д. тоже не была ангелом и особенной кротостью не отличалась.
Главное — в другом...
Д., как это свойственно многим женщинам, и сама не понимала, что происходит с ней. Ей казалось, что ее неустроенность и его неустроенность, соединившись, сами по себе счастливо исчезнут. И совершенно забывала (или не думала вообще), что неустроенность — не только недостаток тепла, близких людей, а еще и все то лишнее, чем успел обрасти в своей неустроенной жизни человек...
Наверное, не всегда понимал это и Рубцов.
Он любил Д.
И они ссорились и расставались. И снова сходились.
— 2 —
Безрадостна хроника последних месяцев жизни Николая Михайловича Рубцова...
«Рубцов не появился у меня день, второй и третий... — пишет Д. — Таких долгих и беспричинных разлук у нас еще не бывало. Я встревожилась. На следующее утро в пятом часу раздался стук в дверь. Я кинулась открывать.
Это был Рубцов.
Я молча в него вглядывалась, стараясь понять, что случилось. Он стоял неподвижно и долгим грустным взглядом смотрел на меня. Наконец, сразу как-то заволновавшись, сказал:
— Люда, я не мог умереть, не взглянув в твои прекрасные голубые глаза...
Все это было бы мелодрамой, если бы эти слова произнес не Рубцов, а кто-то другой. Но в его устах это звучало настолько трагично, что я растерялась. Как?! Что ты хотел?! Я не сказала это вслух, но, вероятно, в моих глазах он прочел это, потому что смутился. И сразу стал деланно весел, начал что-то шутить жалко, вымученно, но под моим взглядом осекся, и горечь, необычайная горечь и усталость отразились в его лице. Передо мною стоял совершенно измученный человек. Я взяла его за руку и провела в дом, усадила на диван, разула, дала ему валенки. Сама села напротив за стол, ничего не спрашивая. Тихим голосом он произнес не более двух фраз, витиеватых и туманных. Я поняла: он пытался покончить с собой и не смог. Я смотрела на него и видела перед собой человека, отмеченного знаком смерти, человека наполовину уже потустороннего, запредельного».
Это было в начале мая, а в июне Николай Рубцов езди, в командировку в Великий Устюг.
«Утро было безоблачным и полным тепла и света, — вспоминает Анатолий Мартюков. — Мы стояли на высоком выступе великоустюжской «Горы» и наблюдали за полетом голубей. Они полетали и скрывались за густой зеленью высоких столетних тополей. Голубой ситец небес резали стрижи... С криком и каким-то птичьим весельем»...
— Ах, Великий Устюг... Редкий город... — любуясь очертаниями церковных куполов, сказал Рубцов. — Он чище Вологды... Он честнее Москвы. И тише... И выше. Я бы мог здесь поселиться...
И вдруг совсем неожиданно, с улыбкой добавил:
— Знаешь, найди мне студенточку. Могу жениться... И больше никуда — ни в Москву, ни в Вологду.
9 июня произошла уже описанная нами история «с чайником», в результате которой Рубцов разрезал вену на руке и попал в больницу, где написал одно из лучших своих стихотворений:
Под ветвями плакучих деревьев В чистых окнах больничных палат Выткан весь из пурпуровых перьев Для кого-то последний закат...Пока последний закат выткался не для Николая Михайловича, пока еще оставалось время изменить все, и, кажется, Рубцов понимал это, как понимал и то, что ничего не сможет изменить.
Нет, не все — говорю — пролетело! Посильней мы и этой беды! Значит, самое милое дело — Это выпить немного воды. Посвистеть на манер канарейки И подумать о жизни всерьез.Желание поэта «выпить немного воды» из этого стихотворения перекликается с его просьбой в «Прощании с другом»: «Так изволь, хоть водой напои»... И какая обреченность, какое глубокое осознание невозможности вырваться из клетки, если и «живая» вода тут же превращается в воду из птичьей поилки, а сам поэт — в заключенную в неволю птицу!
14 июля Д. вызвала Рубцова в Вельск.
«Я только что проснулась и одевалась. Вижу — на крыльцо взбегает мама, чем-то взволнованная. Открывает дверь и с порога кричит мне:
— Людмила, иди встречай гостя! Твой Коля приехал... На лысине хоть блины пеки!
Признаться, я растерялась.
— Так где же он?
— Да вон ходит у калитки, а зайти не решается!
— Боже, что же делать?!
Надо было встречать. Я, не торопясь, сошла с крыльца, прошла до калитки. На скамейке под березами сидел Рубцов и застенчиво улыбался.
— Ну так что ж ты? Приехал и не заходишь? Пойдем в дом!
— Я давно уже приехал, да вот неудобно было зайти.
Очень рано.
— Вот чудак! Ты же знаешь, что я здесь, так чего же стесняться-то? Пойдем, пойдем!
— А я уже весь город обошел...
Мы взошли на крыльцо, потом — на веранду.
— Здравствуй! — шепнула я ему в коридоре и поцеловала в щеку».
В Вельске Д. отпаивала Рубцова не «живой» водой, а брагой, а когда увидела, что ему это понравилось и он готов допить весь бидон, выгнала.
«Зеленых цветов не бывает, но я их ищу», — напишет 31 июля Николай Михайлович Рубцов в письме Валентину Ермакову, редактору своей новой книги стихов.
В конце сентября 1970 года, как вспоминает Генриетта Михайловна, Николай Рубцов был в Тотьме. Здесь проходил районный семинар культработников, и они встретились...
«Под вечер меня вдруг вызывают. Я вышла на улицу — передо мной стоял Рубцов. Как он узнал, что я в Тотьме?»
— Зачем ты здесь? — спросила Генриетта Михайловна.
— Приехал узнать, когда вы с Леной переедете ко мне, — ответил Рубцов.
— Мы не собираемся. Лена ходит в первый класс. Разве что весной...
— Я ведь могу жениться... — обиженно сказал Рубцов.
— Женись...—деланно-равнодушно ответила Генриетта Михайловна. — Давно пора. Хватит одному-то болтаться.
— И до весны я, может быть, не доживу...
— Доживешь... Куда денешься.
Рубцов все-таки уговорил Генриетту Михайловну уйти с семинара. Они пошли в гости...
Уже много лет Генриетта Михайловна Меньшикова (сейчас Шамахова), рассказывая о своих отношениях с Николаем Рубцовым, постоянно припоминает все новые и новые подробности и эпизоды их отношений. И делается это не потому, что она придумывает что-то, а просто для нее, человека, всю жизнь прожившего вдалеке от литературно-журналистской публики, процесс обобществления личных ощущений достаточно труден.
Но это с одной стороны...
А с другой — Генриетта Михайловна, как нам кажется, и до сих пор не до конца еще разобралась в своих взаимоотношениях с Рубцовым...
«На другой день утром мы с ним распрощались, и он ушел на пристань — в десять часов на Вологду уходила «Заря». Наш пароход шел в 19 часов. Когда мы пришли на пристань, Рубцов был там — не уехал, ждал меня.
— Я поеду с вами.
С большим скандалом купил на меня билет в каюту (до нашей пристани ехать было недолго, и поэтому билеты в каюту нам не давали). Я боялась идти с ним в каюту, но когда увидела билеты, место второе и третье, значит, кто-то едет еще, успокоилась. Ехала там бабушка. Сидели, разговаривали. Он сказал, что хорошо бы, если бы у нас был сын, Коля, и чтобы фамилия его была Рубцов. Я все прекрасно поняла, но в Николу его не пригласила».
В Усть-Толошму пароход пришел в два часа ночи. Рубцов спал. Генриетта Михайловна не стала его будить.
Она не знала, что видит Рубцова в последний раз...
— 3 —
— Ты береги себя... — сказал Рубцов Борису Шишаеву во время последней встречи осенью 1970 года. — Видишь, какая злая стала жизнь, какие все равнодушные...
В этих словах Рубцова — безмерная усталость, нездешний, как в комьях январской могильной земли, холод...
Уже в который раз — десятки раз проверенный способ! — пытался Рубцов укрыться от смертного холода в своих стихах, но и стихи уже не согревали его:
Окно, светящееся чуть. И редкий звук с ночного омута. Вот есть возможность отдохнуть. Но как пустынна эта комната. Мне странно, кажется, что я Среди отжившего, минувшего Как бы в каюте корабля, Бог весть когда и затонувшего, Что не под этим ли окном, Под запыленною картиною Меня навек затянет сном, Как будто илом или тиною...Как всегда, в стихах Рубцов ничего не преувеличивает. Сделанное им описание собственного жилища предельно точно.
«Зашел... в его квартиру, — вспоминает Василий Оботуров, — подивился пустоте, неуюту, которые, видимо, за долгие годы бездомности стали привычными для него... У стены напротив окна стоял диван, к нему был придвинут стол, в пустом углу, справа у окна, лежала куча журналов, почему-то малость обгоревших...
— Засиделся вчера долго и заснул незаметно, абажур зашаял, от него и журналы, — равнодушно пояснил Николай, заметив мой взгляд».
Предельно точно воссоздавал Рубцов и свое душевное состояние:
За мыслью мысль — какой-то бред, За тенью тень — воспоминания, Реальный звук, реальный свет С трудом доходят до сознания. И так задумаешься вдруг, И так всему придашь значение; Что вместо радости — испуг, И вместо отдыха — мучение.О чем это стихотворение?
С прежней виртуозной легкостью замыкает Рубцов образы далекой юности и нынешние ощущения, но волшебного прорыва, как в прежних стихах, не происходит. Да и какой может быть прорыв, если тонет сейчас не однокомнатная квартирка на пятом этаже «хрущобы», а сама наполненная звездным светом «горница» Рубцова?
Рубцов всегда много писал о смерти, но так, как в последние месяцы жизни, — никогда. Смерть словно бы обретала в его стихах все более конкретные очертания: «Смерть приближалась, приближалась, совсем приблизилась уже...», и отношение к смерти самого Рубцова становилось не то чтобы неестественным, а каким-то заестественным:
С гробом телегу ужасно трясет В поле меж голых ракит. — Бабушка дедушку в ямку везет, — Девочке мать говорит...Уже одна эта строфа достойно могла бы конкурировать с произведениями нарождающегося тогда черного юмора. Но Рубцов не успокаивается. Наперебой с мамой утешает девочку, дескать, не надо печалиться:
...послушай дожди С яростным ветром и тьмой. Это цветочки еще — подожди! — То, что сейчас за стеной. Будет еще не такой у ворот Ветер, скрипенье и стук...Чего уж говорить, конечно, будет, когда с треском начнут разламываться гробы, когда поплывут из могилы «ужасные обломки»...
В ожидании Рубцовым смерти страха становилось все меньше и все больше — нетерпеливости, прорывающейся порою и в стихах:
Резким, свистящим своим помелом Вьюга гнала меня прочь. Дай под твоим я погреюсь крылом, Ночь, черная ночь!Но кроме этого ожидания смерти, ничего не изменилось, по-прежнему, тяжело и безразлично, как морские волны, накатывали на Рубцова неприятности.
Осенью 1970 года в Архангельске проходил выездной секретариат Союза писателей РСФСР. Николай Рубцов отправился туда в весьма приподнятом настроении. И вот...
«Рано утром до открытия совещания вызвали к Михалкову, — вспоминает Александр Романов. — За многие годы секретарской работы еще не было случая, чтобы столь срочно потребовали меня ко главе Российского Союза писателей. Какая же надобность? Белов, Астафьев, Фокина, Рубцов, Коротаев, Полуянов, Оботуров здесь. К выступлению я готов, речь написана... В тревоге и недоумении стучу в номер и слышу: «Входите».
Сергей Владимирович хмуро возвысился надо мной и протянул руку.
— Произошло ЧП, — последнее слово от негодования повторил дважды. — Николай Рубцов нахулиганил...
— Что случилось?
— Он оскорбил женщину! Инструктора Центрального Комитета партии!
От такой неожиданности я смешался.
— Странно, — начал я защищать товарища, — к женщинам он добродушен. Это недоразумение, Сергей Владимирович. Не может быть...
Михалков прервал меня:
— Рубцов оскорбил женщину! Он шатался пьяный в коридоре, она подошла и упрекнула, а он...— тут приступ нервного заикания охватил Сергея Владимировича, — а Рубцов послал ее, уважаемую женщину, работника ЦК... — снова замялся и, округлив глаза, еле выговорил в раздраженном недоумении: Рубцов послал ее... на х..!
Тут и у меня выкатились глаза на лоб.
— Да как же так? — опомнился я. — Может, оговорили его, Сергей Владимирович?
Михалков метнул суровый взгляд:
— Если Рубцов сейчас же не извинится, мы лишим его делегатских полномочий!
Крыть было нечем. И я пошел в номер, где на смятой кровати понуро сидел Рубцов. Бледный и больной. Стало жаль его. Соседи по номеру уже, поди-ко, толкутся в буфете, а он мрачно припоминает, что было с ним вчера. Такая беспощадная самоказнь давно ведома мне. Состояние ужасное. И Коля обрадовался, увидев меня. Но я-то пришел к нему не с облегчением, не с радости, а со строгим приказом С. В. Михалкова. И кратко рассказал о только что состоявшейся встрече.
— Да я ведь, — растерянно и наивно развел руками Коля,— не знал, что она из ЦК. Я к ней и не подходил, это она меня задержала. Начала стыдить, укорять... Эх! — схватился он за голову. — Ну, выпил... С радости выпил. Я ведь Архангельск люблю. Давно в нем не был...
— Коля, Михалков велел тебе извиниться перед ней, — назвал я имя и отчество этой руководящей женщины. — Иначе лишат тебя командировочных денег, не пустят на совещание... Перебори себя, извинись...
Рубцов долго и хмуро молчал, глядя в архангельское окно. Потом встал, умылся и пошел извиняться. Он был вольным человеком в Поэзии и подневольным — в нищете» .[25]
Последние месяцы своей жизни Рубцов болел. Это замечали все, но вспоминают его друзья об этом — ведь не от болезни он умер! — как бы между прочим, как бы между делом...
«Он носками о дверной косяк околотил валенки, не спеша снял пальто, потом шапку... Пока он раздевался, я отметил худобу тела, хоть свитер и делал его плечистее» (А. Рачков).
«...Смутные за Колю тревоги и переживания делались уже постоянными, может, еще и оттого, что выглядел он часто усталым безмерно, будто очень пожилой и очень больной человек» (М. Корякина).
«Прихожу на улицу Яшина, где жил тогда Рубцов, поднимаюсь на пятый этаж, звоню условленным звонком.
Рубцов болел. На столе были рассыпаны разнокалиберные таблетки.
— Знаешь, сердце прихватывает...
С моим приходом он смахнул в стол какие-то рукописи, принес с кухни вареную картошку в мундире, селедку, початую бутылку вина.
— Хлеб есть, но черствый: я уж два дня из дому не выходил.
Так и просидели мы до вечера.
— Слушай, ночуй у меня, как-то не хочется оставаться одному.
Мы поставили раскладушку и улеглись, не выключая света, Рубцов не спал до полуночи. Не спал и я...» (С. Чухин)
Как и Сергей Чухин, многие из друзей отмечают, что в последние месяцы появился в Рубцове и страх — он боялся оставаться один в своей квартире.
«6 декабря 1970 года я получил путевку в санаторий,— вспоминает Н. Шишов. — Зашел к Рубцову попрощаться уже с чемоданом и билетом. Рубцов был чем-то очень расстроен, просил меня остаться, да так и задержал. То же самое повторилось на другой день».
И продолжались, то и дело обрывались и никак не могли оборваться навсегда изнуряющие поэта отношения с Д.
В последний раз они поссорились перед новым 1971 годом.
Д. решила уехать.
«Нужно было зайти к Рубцову за вещами... Он открыл дверь, я увидела его трясущегося, услышала мерзкий запах водки. Кругом была грязь. Свалка на столе. На постели среди смятых грязных простыней, сбитых к самой стене, ком моего белья: сорочки, блузки и даже сарафан». Рубцов был не один. На кухне сидел его приятель радиожурналист. Оказалось, он пришел еще вчера, переночевал у Рубцова и вот уже сутки они пьянствовали. Улучив мгновение, он сказал мне: «Люсенька, не бросай Колю, люби его, он бредил тобой всю ночь...»
Д. уехала. Рубцов остался один.
Лучиком в холодной, тоскливой жизни Рубцова мелькнула открытка, пришедшая из Николы. Адрес написала Генриетта Михайловна, но были там и каракули, нацарапанные рукою дочери. Лена писала, что приедет к папе в гости на Новый год.
Рубцов убрал квартиру, купил елку, подарки и начал ждать, позабыв, как трудно зимой выбираться из Николы.
«Накануне Нового 1971 года, — пишет В. Коротаев, — я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов поджидал свою дочку Лену с мамой в гости. Приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке.
Но праздника не получилось: дочь не привезли. Новый год я с Николаем Михайловичем встречал врозь. Наутро со своей невестой пришел его проведать. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели со знакомым художником и были Угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, пытался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали; но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоявшая в переднем углу...»
Было это 1 января 1971 года, и жить Рубцову оставалось всего восемнадцать дней.
— 4 —
Людмила Д. вернулась в Вологду 5 января 1971 года и сразу с вокзала поехала к Рубцову.
Он был один.
Открыл дверь и сразу лег на диван, в грязную постель. Оказалось, что накануне у него был сердечный приступ.
«Я села на диван и, не стесняясь Рубцова, беззвучно заплакала. Он ткнулся лицом мне в колени, обнимая мои ноги, и все его худенькое тело мелко задрожало от сдерживаемых рыданий. Никогда еще не было у нас так, чтобы мы плакали сразу оба. Тут мы плакали, не стесняясь друг друга. Плакали от горя, от невозможности счастья, и наша встреча была похожа на прощание...»
Потом были долгие, почти бессвязные объяснения; потом примирение.
8 января, на рождественские праздники, Рубцов и Людмила Д. пошли в загс.
«Мы шли берегом реки по Соборной горке. Был тусклый заснеженный день. На склоне у реки трепетали на ветру мелкие кустики, и кое-где на них неопавшие листья звенели под ветром, как жестяные кладбищенские венки».
Заявление в загсе не взяли — нужно было свидетельство о расторжении первого брака Людмилы.
Почти всю ночь на девятое Рубцов не спал. Искал вместе с Людмилой Д. свидетельство, потом начал вспоминать своего брата Альберта.
— Очень хочется увидеть Алика, ну прямо как перед смертью.
Свидетельство нашли уже под утро, и 9 января снова пошли в загс. Правда, с утра Рубцов ходил в больницу, и в загс собрались только к вечеру.
«Над Софийским собором плыли оранжевые облака с багряным отливом, быстро темнело, начиналась метель...»
Регистрацию брака назначили на 19 февраля.
«На обратном пути я бежала по тропинке через реку, подхваченная метелью, впереди Рубцова...»
Все это время Рубцов не пил. Врач прописал ему корвалол и валидол, и сердечные боли прошли...
Д. выписалась из Подлесского сельсовета, вместе с Рубцовым сходила в ЖКО и подала заявление на прописку, сдала свой паспорт. Забрала трудовую книжку и начала подыскивать место в городской библиотеке.
Рубцов собирался до свадьбы съездить в Москву, а после, уже вдвоем с женой, отправиться в Дом творчества в Дубулты...
Замирает сердце и перехватывает дыхание, когда читаешь описание этой — предсмертной — недели Николая Рубцова...
Так часто бывает, когда обреченный на смерть человек перед самой кончиной своей вдруг освобождается от боли, терзавшей его долгие месяцы, и близким кажется, что произошло чудо и смерть отступила...
Чуда не произошло...
В понедельник отправились в жилконтору. Здесь их поджидала неприятность — Д. не прописывали к Рубцову, не хватало площади на ребенка.
Рубцов, как всегда, вспылил. Он пригрозил, что завтра же отправится к начальнику паспортного стола, будет жаловаться в обком партии.
— Идите... Жалуйтесь... — равнодушно ответили ему, и Рубцов — тоскливо сжалось, заныло сердце! — понял, что опять на его пути к счастью встает незримая стена инструкций и правил, одолеть которую еще никогда в жизни не удавалось ему...
Рубцов собирался успеть съездить до свадьбы в Москву по делам, связанным с книгой в «Советской России». Заодно собирался отвезти в издательство и стихи Д.
Эту рукопись должна была перепечатать машинистка из «Вологодского комсомольца»... Поэтому-то из жилконторы и отправились, как и было задумано, в редакцию.
Рубцов волновался, придумывал все новые и новые кары Для бюрократов из жилконторы... Строил — хоть на полсрока, а вдвоем, поедем в Дубулты! — планы на будущее.
В центре города, на Советской улице, столкнулись со знакомыми...
В редакцию «Вологодского комсомольца» Людмила отправилась одна. Рубцов пошел с друзьями в шахматный клуб.
«18 января 1971 года, — как сказано в приговоре, вынесенном Вологодским городским народным судом, — в течение дня Рубцов Н. М. распивал спиртные напитки сначала в шахматном клубе, затем в ресторане «Север», а в последствии на квартире Рубцова Н. М.».
«Через 20—25 минут я возвратилась, и меня наперебой стали угощать вином, — вспоминает Д. — Они уже допивали. Я глотнула глоток из стакана Рубцова, он допил остатки. На Главпочтамте Николай Задумкин получил деньги, и все они отправились в ресторан. Я отказалась... Только сказала Задумкину, чтобы Колю не бросали одного, а доставили домой. Часа через два Рубцов и трое из журналистов приехали к нам уже хмельные и еще с бутылками вина. В этот вечер Рубцов играл на гармошке и пел свое стихотворение-песню «Над вечным покоем».
Приревновав Д., Рубцов начал буйствовать, и компания стала расходиться, избегая скандала.
Рубцов всегда жил больно и трудно. Даже и не жил, а, скорее, продирался сквозь глухое равнодушие жизни и порою пытался докричаться до собеседников, но его не слышали, не хотели слышать, и тогда Рубцов срывался с тормозов — вся спрессованная в нем энергия, с такой дивной, пронзительной силой выплескивающаяся в стихах, рвалась наружу, громоздя химеры пьяного бреда. Угадать, во что выльются они, какие очертания примут, за кого — депутата Верховного Совета или майора КГБ — будет выдавать себя Рубцов, оказывалось невозможным. И невозможно было принять меры, чтобы как-то обезопаситься. Окружающим начинало казаться, что они присутствуют при маленьком катаклизме, а наблюдать такое вблизи и неприятно, и не очень-то безопасно.
— 5 —
Все это так, и все же, когда Д. пытается изобразить Рубцова этаким вологодским Отелло, надо разобраться... Безусловно, многое тут выдумано самой Д... Безусловно и то, что Д. сама разжигала в Рубцове ревность, зачастую не понимая, что делает, сама заводила его на скандал...
И в воспоминаниях, и на допросах Д. всюду твердила, что Рубцов беспричинно ревновал и ревность эта оскорбляла ее, поскольку она не шибко-то и изменяла Рубцову с другими мужчинами... Правда, в стихах:
Когда-нибудь моя душа Да скинет цепи постоянства! Не нужно будет усмирять Ее капризы и порывы. Лишь изменяться, изменять Свободно, дерзко, прихотливо!она пишет о другом, но это не так уж и важно...
Ведь когда Рубцов срывался, обличая Д., речь шла не столько о плотских изменах, сколько о неверности духовной...
Рубцов не соответствовал шестидесятническим идеалам Д., и она, собираясь стать женой Рубцова, все равно продолжала предавать его. Ужимочками, улыбочками, репликами как бы отстранялась от того, что Рубцову было дороже всего.
«Целые ночи Рубцов сидел истуканом на стуле и говорил, говорил, говорил... От напряжения у меня разламывалась голова (Д. болела гриппом. — Н. К.), путались мысли. Эти дни и ночи остались у меня в памяти, как сплошной горячечный бред. Иногда я просила его:
— Коля, прошу тебя — иди спать. Ты, как ванька-встанька, тебя никак не уложить!
— Люда, послушай, что я тебе скажу...
И все начиналось снова. Это были страстные речи о том, что болело и ныло: о Родине, народе, смысле жизни, о человеческой судьбе. Казалось, открылись старые раны и они кровоточили. Никогда в жизни я не встречала человека так болезненно-страстно заинтересованного судьбою России и русского народа. Он не пекся ни о чем личном, был бескорыстен и безупречно честен. Я отлично понимала, насколько он выше и крупнее каждого из того огромного легиона называющих себя поэтами, кто личные интересы, свое собственное благополучие ставит превыше всего. Рубцов не выписывал ни газет, ни журналов, у него не было телевизора, он редко ходил в кино, но он знал главное. Его думы были крупнее и глубже того потока поверхностной информации, пропитанной духом бодрячества и наивного оптимизма. Рубцов знал, что он живет в грозный и сложный век, на тревожной планете, размеры которой щемяще невелики, если взглянуть на нее из космоса...
Я знала, что он поэт огромной лирической мощи, что имя его вслед за Есениным много скажет сердцу русского человека, но я отлично понимала и другое: Рубцов погибает от алкоголя. Это отзывалось во мне такой страшной мукой, такой безысходностью, так подавляло и пригибало меня к земле, что мне казалось, будто я несу непосильную физическую тяжесть и однажды не выдержу. Я хотела справиться с ним сама, металась, искала выход и кончалось тем, что во время его очередного психоза убегала, буквально уносила ноги. Да, он был опасен, взрывчат, в нем развилась боязнь людей, подозрительность к ним, он стал страдать манией преследования. Он был болен! А мне хотелось верить в то, что он здоров...»
Мы специально выделили слова про тревожную планету, чтобы показать, что слышала Д. в разговорах Рубцова, что из его слов доходило до нее. На тревожной планете, размеры которой щемяще невелики, Рубцов никогда не бывал... Подобные абстрактные переживания Рубцова занимали меньше всего, потому что перед глазами его был распахнут Божий мир...
Объяснить это Д. было, видимо, невозможно.
Понимала ли Д., что делает?
Едва ли... Если бы понимала, не стала бы писать об этом в своих воспоминаниях... А может, потому и пишет, что понимает... Понимает, что именно за предательство Рубцова и поднимают ее нынешние демократические издания.
Рубцов все это, разумеется, понимал, а что не понимал, то прозревал, но объяснить — мы видели, как он любил разъяснять мотивы своих поступков! — не желал. А может быть, и пытался объяснить, но... не мог сделать этого, и оттого заводился еще сильнее.
Вот и в последнюю ночь, если верить воспоминаниям Д., она попыталась уложить Рубцова в постель, но Рубцов вскочил, натянул на себя одежду и сел к столу, где стояло недопитое вино. Он закурил, а горящую спичку, шутя, кинул в сторону Д.
Спичка, разумеется, погасла, не долетев, но Д. — она всегда неадекватно воспринимала поступки Рубцова — представила себе, что горящая спичка упала на нее, и ей стало так обидно, что она чуть не заплакала. Пытаясь убедить ее, что он пошутил, что спичка все равно бы погасла, Рубцов кинул еще одну.
«Я стояла как раз у кровати... Пока он бросал спички, я стояла не шевелясь, молча в упор смотрела на него, хотя внутри у меня все кипело... Потом не выдержала, оттолкнула его и вышла в прихожую».
Рубцов допил вино и швырнул стакан в стену над кроватью. Осколки стекла разлетелись по постели, по полу. Рубцов схватил гармошку, но скоро отшвырнул и ее. Словно неразумный ребенок, старающийся обратить на себя внимание и совершающий для этого все новые и новые безобразия, Рубцов ударил об пол свою любимую пластинку Вертинского...
«Я по-прежнему презрительно молчала. Он накалялся. Я с ненавистью (выделено мной. — Н. К.) смотрела на него... Я взяла совок и веник, подмела мусор, осколки стекла. Где-то в четвертом часу попыталась уложить его спать. Ничего не получилось... Нервное напряжение достигло своего апогея, и это вместе с чувством обреченности, безысходности. Я подумала — вот сегодня он уедет в Москву, и я покончу с собой. Пусть он раскается, пусть поплачет, почувствует себя виноватым.
И вдруг он, всю ночь глумившийся надо мной, сказал как ни в чем не бывало:
— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне».
Об этом нельзя писать...
Ясно, что Людмила Д. — не Дантес и даже не Мартынов. Она убила Рубцова. Потом прибрала в квартире, надела рубцовские валенки и отправилась в милицию. Во время допроса она то плакала, то смеялась. Ее судили. Она получила срок — восемь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Но еще когда шел процесс, когда выяснялись все детали и подробности того вечера, той страшной ночи, она, словно бы стряхнув с себя оцепенение, вдруг ясно поняла, что навсегда теперь будет только убийцей Рубцова, и все последующее наказание показалось ей несущественным по сравнению с этим, главным, и она, порою даже во вред себе, начала доказывать, что не могла не убить Рубцова...
Убийца...
И какая разница, что такой осознанной цели — убить Николая Рубцова — у нее не было и не могло быть... Я имею в виду не саму ночь убийства, а всю историю их знакомства.
Когда-то в ждановско-хрущевских учебниках литературы можно было прочитать, кто двигал рукой Дантеса, кто стоял за спиной Мартынова. Эти объяснения в силу примитивности своей вызывают отторжение у нормального человека. Как-то сразу вспоминаешь, что кроме различных особ, заинтересованных в устранении беспокойных и непокорных поэтов, и сами Пушкин и Лермонтов кое-что сделали, чтобы умереть так, как они умерли...
Рубцов — тоже...
Конечно, можно проследить, как стягивается роковая петля событий, как незаметно, но неотвратимо разгорается роковой скандал — та грязная, пьяная и страшная ночь. Но все могло закончиться иначе. И кто знает, быть может, эта женщина, мечтавшая о славе Марины Цветаевой, в ту ночь на 19 января 1971 года, сама того не зная и не желая, спасала кого-то из рубцовских друзей от страшной участи...
...Об этом нельзя думать и говорить тоже нельзя. В нашей жизни все случается так, как случается... И это и есть высшая справедливость. Другой справедливости, по крайней мере здесь, «на этом берегу», как говорил Рубцов, нет и не будет...
— 6 —
— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне... — словно бы очнувшись, спокойно сказал Рубцов.
Это спокойствие — как же это ничего не было?! — и возмутило сильнее всего Д.
— Ложись, я тебе не мешаю! — ответила она.
— Иди ко мне!
— Не зови, я с тобой не лягу!
«Тогда он подбежал ко мне, схватил за руки и потянул к себе в постель. Я вырвалась. Он снова, заламывая мне руки, толкал меня в постель. Я снова вырвалась и стала поспешно одевать чулки, собираясь убегать.
— Я уйду!
Он стремительно ринулся в ванную. Я слышала, как он шарит под ванной рукой... Меня всю затрясло, как в лихорадке. Надо бежать!.. Но я не одета! Однако животный страх кинул меня к двери. Он увидел меня, мгновенно выпрямился. В одной руке он держал комок белья... Простыня вдруг развилась и покрыла его от подбородка до ступней ног.
«Господи, мертвец» — мелькнуло у меня в сознании. Одно мгновение, и Рубцов кинулся на меня, с силой толкнул меня обратно в комнату, роняя на пол белье. Теряя равновесие, я схватилась за него, и мы упали. Та страшная сила, которая долго копилась во мне, вдруг вырвалась, словно лава, ринулась, как обвал. Набатом бухнуло мое сердце.
«Нужно усмирить, усмирить!» — билось у меня в мозгу. Рубцов тянулся ко мне рукой, я перехватила ее своей и сильно укусила... Вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на котором стояли иконы. Все они рассыпались по полу вокруг нас. Лица Рубцова я не видела. Ни о каком смертельном исходе не помышлялось. Хотелось одного, чтоб он пока не вставал...
Сильным толчком он откинул меня и перевернулся на живот. В этот миг я увидела его посиневшее лицо и остолбенела: он упал ничком, уткнувшись лицом в то самое белье, которое рассыпалось по полу при нашем падении. Я стояла над ним, приросшая к полу, пораженная шоком. Все это произошло в считанные секунды...»
Вот так и случилось непоправимое...
В ту ночь соседка Рубцова проснулась от крика.
— Я люблю тебя! — услышала она крик — последние слова, которые произнес Рубцов...
Когда опрокинулся стол с иконами, одна — это был образ Николая Чудотворца — раскололась пополам...
Еще осенью, на стене библиотеки в Троице, разгораясь сиянием, замерцал крест. Сначала Д. не испугалась, внимательно осмотрела окно, проверила, куда падает тень от переплета рамы, но так ничего и не сумела понять и привела в библиотеку Рубцова. Рубцов посмотрел на крест, пожал плечами и спросил: — Ну и что?
— 7 —
Через три дня Рубцова похоронили на пустыре, отведенном под городские кладбища. Там было пусто и голо, только на вставленных в мерзлую землю шестах над новыми могилами сидели вороны.
Прощаясь с покойным, В. П. Астафьев сказал: «Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле...»
Наверное, он еще не собирался писать тогда воспоминаний о Рубцове...
В 1973 году на могиле Рубцова поставили надгробие — мраморную плиту с барельефом поэта. Внизу по мрамору бежит строчка из его стихов:
«Россия, Русь! Храни себя, храни!» —которая звучит словно последнее завещание Рубцова нашей несчастной и бесконечно любимой стране, что не бережет ни своих гениев, ни саму себя...
А сейчас поднялись, подтянулись на кладбище кусты и деревья, и уже не так страшно, не так бесприютно здесь. Впрочем, как я говорил, ходят слухи, что скоро перенесут могилу Рубцова поближе к туристским тропам, перезахоронят поэта в Прилуцком монастыре, рядом с могилой поэта Батюшкова...
Рукописи Рубцова после его смерти забрал Виктор Коротаев...
Еще остались от Рубцова старенький засаленный диван, круглый раздвижной стол, табуретки да груда пепла на кухне от сожженных бумаг.
Письменный стол Рубцова по настоянию вологодских писателей увезла в Николу Генриетта Михайловна. На столе было много непристойных надписей, и Генриетта Михайловна покрасила стол суриком, как красят в деревнях дешевую фанерную мебель.
Вещей у Рубцова было немного.
Когда открывался музей в Николе, я ехал туда в музейном фургончике, вместе с этими вещами. На коленях у меня стояла гармошка «Шуя», на которой почему-то было нацарапано «Фикрету Годже на память, на дружбу. Белов 24.Х.63», но которая принадлежала Рубцову, а рядом, на спинке сиденья лежало — такие вообще-то можно найти на любой свалке — рубцовское пальто.
Больше вещей, принадлежавших Николаю Михайловичу Рубцову, не осталось.
Зато остались его стихи...
Отложу свою скудную пищу И отправлюсь на вечный покой. Пусть меня еще любят и ищут Над моей одинокой рекой...Есть особое состояние жизни стихов после смерти их автора.
Прекрасные, а главное — вечно живые стихи Рубцова не связывались с тем, что осталось после той жуткой ночи, с тем, что фигурировало в звучащих на судебном заседании строках заключения медицинской экспертизы: «На горле трупа имеются множественные царапины. Трупные пятна имеются на животе, лице...»
И конечно, прекрасное и вечно живое победило, стихи заслонили не только ужас последних дней жизни Рубцова, но и неуют, неустроенность всей его жизни. Высвободившись из своей бренной оболочки, образ живого Рубцова начал стремительно сливаться с образом героя его стихов.
Когда я собирал материалы для книги о Рубцове, сам видел, как буквально на моих глазах замыкается этот круг, постоянно замечал, как, напрягая память, знакомые и друзья поэта вспоминают уже не того Колю Рубцова, которого они знали и помнили, а его стихи, потому что неосознанно чувствовали — Правда не в их воспоминаниях, а в его стихах... Происходило это неосознанно и чаще всего вызывалось не желанием как-то приукрасить свою роль в жизни Рубцова, а естественной потребностью человека в очищении собственной души.
Процесс этот начался сразу после смерти Рубцова, когда, как вспоминает бывший редактор тотемской районки Александр Михайлович Королев, в ответ на предложение установить мемориальную доску на интернате, где учился и жил Рубцов, можно было услышать: «А вы видели Рубцова трезвым?», как будто мемориальная доска устанавливалась именно в честь трезвой рубцовской жизни.
Сейчас такой вопрос, такие сомнения уже невозможны. Привычным в тотемском пейзаже стал бронзовый Рубцов, сидящий на бронзовой скамейке у реки, напротив бывшего багровского дома, в который он любил заглядывать...
— Я Колю всегда жалела, — рассказывала мне в Николе Лия Сергеевна Тугарина, воспитывавшаяся вместе с Рубцовым в детдоме. — Сейчас-то я у Лены спрашиваю, когда она в Николу приезжает, ты, Лена, у отца-то была в Тотьме? Не, говорит, некогда... А я, когда в Тотьму приеду, первым делом к Коле иду. Травку на клумбе порву, поговорю с ним. А этой зимой приехала — даже тропинки в снегу нету. Коля, говорю, и не приедет-то к тебе никто... И заплакала.
Я слушал Лию Сергеевну, для которой и бронзовый Рубцов остается Колей, и в памяти звучали его последние стихи:
Пусть еще всевозможное благо Обещают на той стороне. Не купить мне избу над оврагом И цветы не выращивать мне... —и тоже вспомнил Рубцова, этого путника, прошедшего по заснеженному полю наших десятилетий...
АНГЕЛ РОДИНЫ (Часть третья)
«Ангел родины незлобливой моей...»
Константин ФофановА соседи Рубцова по лестничной клетке снизу и сейчас еще, двадцать лет спустя, любят вспоминать, как он мыл у себя полы. Вначале выплескивал ведро воды, а потом начинал драить пол шваброй. Вода, естественно, протекала вниз... Однако, сколько ни скандалили соседи, разницу между палубой и полом в квартире Рубцов, похоже, так и не уловил — продолжал наводить чистоту по освоенному еще в моряцкой юности способу...
Еще вспоминают соседи о том крике Рубцова, который разбудил их утром, 19 января 1971 года...
Тридцать лет нет с нами Рубцова, и уже сорок лет, как сказано им про смерть в крещенские морозы, про ужасные обломки, что выплывут из его могилы...
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Многие большие поэты помимо поэтического таланта отмечены и даром пророчества. Способствуют этому и особая обостренность восприятия, и стремление возвыситься над бытом, а отчасти, наверное, и сама медиативная ритмика стиха...
— 1 —
Но есть поэты и поэты...
Одни и на самом деле прозревают будущее и свою собственную судьбу. Другие — не столько пророчествуют, сколько используют пророчество как некий литературный прием, позволяющий усилить эмоциональное воздействие текста.
Пророческий дар Николая Рубцова подтвержден его судьбой, и прижизненной, и посмертной...
А вот предсказание Иосифа Бродского — поэта, принадлежащего к рубцовскому поколению:
Ни судьбы, ни погоста не хочу выбирать, На Васильевский остров я приду умирать...не сбылось. Нобелевский лауреат умер, как известно, в США.
В начале этой книги мы уже проводили сравнение Рубцова и Бродского и отмечали, что в их стихах, начала шестидесятых годов, имеются почти цитатные совпадения...
Но если совпадения текстов можно объяснить некоей сознательной полемикой, то поразительное совпадение рисунка судеб подобным образом уже не объяснишь.
Вспомните, что Рубцова исключили в 1964 году из института и он должен был отправиться в вологодскую деревню, а Бродского судили тогда за тунеядство и выслали в этом же году в архангельскую деревню.
И так продолжается до 1971 года, в январе которого исполнилось рубцовское пророчество о своей смерти...
Иосиф Бродский прожил в России еще полтора года. Он покинул ее 4 июня 1972 года... Уехал за границу пожинать плоды урожая, который взрастил своим трудом и талантом еще в шестидесятые годы.
Вероятно, ни у Рубцова, ни у Бродского не возникало и мысли о каком-то диалоге... Но это не имеет никакого значения... Диалог совершался помимо их воли в стихах, и именно в контексте этого диалога и звучали пророческие стихи Николая Рубцова:
Все умрем. Но есть резон В том, что ты рожден поэтом, А другой — жнецом рожден...В жнецах, умеющих не только взрастить, но и собрать взращенный урожай, ничего подлежащего осуждению, разумеется, нет...
Просто, как утверждает Рубцов, не все рождены жнецами. Некоторые рождаются, чтобы быть пророками...
— 2 —
Да, многие большие поэты угадывали свою судьбу... Но у кого еще провидческие способности были развиты так сильно, как у Рубцова?! И дело ведь не только в том, что Рубцов совершенно точно предсказал многие события своей жизни и смерти... Он предсказал и то, что будет после его смерти...
Впервые об «ужасных обломках» я задумался, когда начались разговоры, дескать, неплохо бы перезахоронить Рубцова, перенести его могилку в Прилуцкий монастырь, поближе к туристским тропам. С этим трудно спорить. Разумеется, по месту, занимаемому в русской поэзии, Николаю Михайловичу пристойнее покоиться рядом с поэтом Батюшковым, а не на обычном городском кладбище... Но, с другой стороны, все в душе восстает против этого. И вечный покой не надо без нужды нарушать, да и рядовое городское кладбище так же неотъемлемо от рубцовской судьбы, как и крохотная однокомнатная квартирка в пятиэтажной «хрущобе» на улице Александра Яшина, которую он получил за полтора года до гибели...
Но хотя грядущее перезахоронение, возможно, и в самом деле как-то связано с предсмертными словами Рубцова о гробе, выплывающем из затопленной могилы, в последние годы все навязчивей мысль, что не это, во всяком случае не только это прозревал Рубцов, когда говорил об «ужасных обломках»...
— 3 —
Д. еще душила Рубцова, когда вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на котором стояли иконы. Все они рассыпались по полу, как обломки... Образ Николая Чудотворца — раскололся пополам...
В протоколе, составленном ранним утром 19 января, эта икона зафиксирована. Еще записаны в протоколе — разбитая пластинка Вертинского и 18 бутылок из-под красного вина...
«Я схватила правой рукой за горло Рубцова, — равнодушно, как будто не про себя, а про кого-то другого, рассказывала Д. — Двумя пальцами надавила на горло. Рубцов не хрипел, ничего не говорил (это длилось несколько секунд). Мне показалось, что Рубцов сказал: «Люда, прости. Люда, я люблю тебя. Люда, я тебя люблю». Это были три фразы, он говорил их, а не кричал. Я взглянула на Рубцова и увидела, что он синеет. Я отцепилась от него...»
Милиционеры старательно осматривали место происшествия — так теперь называлась квартира Николая Михайловича Рубцова...
Равнодушно переворачивали его тело...
Скрупулезно записывали в протокол: «На горле трупа имеются множественные царапины... На правом и левом локте имеются ссадины...»
А это — «повреждения могли быть причинены при захватывании шеи пальцами рук. Полулунные ссадины характерны для давления ногтями пальцев рук...» — из акта судебно-медицинского исследования трупа.
А это — «сам характер убийства, множественные ссадины на горле Рубцова свидетельствуют о том, что подозреваемая как бы рвала горло руками»... — из акта судебно-психиатрической экспертизы...
Страшно снова перечитывать эти подробности и вместе с тем сквозь ужас и боль с каждым разом все яснее различаешь свет...
В ту ночь соседка Рубцова проснулась от крика.
«Я люблю тебя!» — услышала она.
Это были последние слова, которые произнес Николай Михайлович Рубцов.
Обращения к Д. — «Люда!» — никто из соседей не слышал...
И снова, погружаясь во мрак и грязь убийства, думаешь, как же все-таки велика была Божия милость, явленная русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову...
Уже не раз говорилось, что Александру Сергеевичу Пушкину не попустил Господь стать убийцей. Сорок шесть часов жизни было дано Пушкину после дуэли, чтобы очиститься мучениями, покаяться, примириться и с миром отойти в жизнь вечную.
Вот так и Николаю Михайловичу Рубцову после грязного скандала, в последнее мгновение земной жизни, дает Господь возможность встать во вратах вечности не с ругательством на устах, а со словами о любви...
Воистину бесконечна милость Господня к поэтам-пророкам...
Все еще не опомнившись, Д. прибрала в квартире, надела рубцовские валенки и пошла в милицию. Во время допроса она то смеялась, то плакала...
Через три дня Рубцова похоронили на пустыре, отведенном под городское кладбище. Там было тогда пусто и голо, только на вставленных в мерзлую землю шестах над новыми могилами сидели вороны...
— 4 —
Д. судили. Срок она получила серьезный — восемь лет.
Обо всех обстоятельствах трагедии, разыгравшейся в ночь на 19 января 1971 года в Вологде, написано много.
И сейчас, десятилетия спустя, вынуждены мы снова вспоминать эти подробности, потому что действительно сбывается пророчество Николая Рубцова об «ужасных обломках», и сбывается так непоправимо страшно, что холодеет душа..
Если сопоставить показания убийцы, данные на предварительном следствии, с теми, что прозвучали во время суда, нетрудно обнаружить разночтения. Вначале Д. говорила о самозащите, напирала на то, что Рубцов собирался убить ее, и она была вынуждена защищать жизнь...
На суде она говорила, что Рубцов сам довел ее до убийства, что она и не осознавала, что она делает, когда разрывала шею Рубцова...
В воспоминаниях, которые Д. распространяла среди писателей уже после освобождения, прежние версии убийства русского поэта окрасились в цвета роковой любви, этакой любовной драмы...
Но прошло еще десять последних лет, и что же теперь?
«Теперь я, наконец, поняла, что он умер от инфаркта сердца, — пишет Д. в статье «Обкомовский прихвостень», опубликованной в «Дне литературы». — У него было больное сердце. Во время потасовки (экспертиза установила, что Д. зверски разрывала горло Рубцова. — Н. К.) ему стало плохо, он испугался, что может умереть, потому и закричал. Сильное алкогольное опьянение, страх смерти и еще этот резкий, с большой физической перегрузкой рывок — все это привело к тому, что его больное сердце не выдержало. С ним что-то смертельное случилось в момент этого рывка. После этого рывка он сразу весь обмяк и потерял сознание. Разве могли два моих пальца, два женских пальца сдавить твердое ребристое горло? Нет, конечно! Никакой он не удавленник, и признаков таких нет. Остались поверхностные ссадины под подбородком от моих пальцев и только. А я тогда с перепугу решила, что это я задушила его...»
Про женские пальцы и ребристое горло сказано не слабо... И, конечно же, тут нужно говорить не о глупости Д., а об откровенном глумлении, которым целенаправленно продолжает заниматься убийца и сейчас, тридцать лет спустя после своего преступления...
Страшна участь убийцы поэта.
Судьба Дантеса или Мартынова не может вызывать в нас сострадание, но — право же! — это печальная судьба.
И — право же! — даже некоторое уважение вызывает смирение, с каким приняли их убийцы Пушкина и Лермонтова.
Мы живем в другое время. И, замотанные нашими бесконечными перестройками и реформами, мы уже не всегда и замечаем, что нравственные нормы, по которым живет наше общество, давно сместились за ту черту, где нет и не может быть никакой нравственности; где одни только ужасные обломки; где, благодаря отморозкам с ОРТ и НТВ, ворье может доказывать, что, дескать, воруют все; где легализирована безнравственность...
— 5 —
Еще работая над повестью «Путник на краю поля», прочитал я переданные мне Глебом Горбовским машинописные воспоминания Людмилы Д. и поразился...
Безусловно, убийца Николая Рубцова исключительно сильный человек. Но поражало не только это. Поразительно было, как свободно говорила Д. о том, о чем обыкновенно не говорит никто, о чем, в общем-то, и нельзя говорить...
Я — не судья Д. Но что делать, если я не могу позабыть, как зашевелились на голове волосы, когда прочитал в аннотации к альманаху «Дядя Ваня», в котором были опубликованы воспоминания Д., что это, дескать, воспоминания близкого друга Николая Рубцова.
До сих пор я не могу позабыть жутковато-неприятного впечатления, оставшегося после просмотра фильма «Замысел» моего бывшего приятеля Василия Ермакова, в котором Людмила Д. рассказывает, как и почему убила Рубцова.
Д. убила человека.
Она — убийца.
И тут не о чем говорить...
В нашей жизни все случается так, как случается. Это и есть высшая справедливость. Другой справедливости, по крайней мере здесь, «на этом берегу», как говорил Николай Рубцов, нет и не будет.
Люди девятнадцатого века, даже такие, как Мартынов и Дантес, знали, что есть то, в чем нельзя оправдываться, а тем более оправдаться.
В наш век этого знания и понимания уже нет.
— 6 —
И тут утешает, пожалуй, только одно. Даже бунт против Божиего Промысла — и он осуществляется все-таки по воле Божиего Промысла. Читая последний, весьма объемистый сборник стихов Людмилы Д., я лишний раз убедился в этом.
Повторяю, что она по-своему искренний человек.
И в стихах она пишет не о какой-то абстрактной печали, а имея в виду конкретную и очень узнаваемую ситуацию...
Нет, я теперь уже не успокоюсь! Моей душе покоя больше нет! Я черным платом траурным прикроюсь, Не поднимая глаз на белый свет... — начинает она исповедь, но — очень все-таки искренний человек! — печаль покаяния уже в следующей строфе вытесняется патетикой, незаметно превращающей в фарс все ее надуманное покаяние:
Что та любовь — смертельный поединок, Не знала я до роковых минут! О, никогда б не ведать тех тропинок, Что неизбежно к бездне приведут!И дальше несколько искусственный надрыв: «Зову тебя, но ты не отзовешься» смягчается лирической красивостью: «Крик замирает в гибельных снегах», и, словно бы уже вне воли самой поэтессы, переживание, происходящее в душе лирической героини, вытесняется ощущениями и мыслями самой Д. ...
Быть может, ты поземкой легкой вьешься У ног моих, вмиг рассыпаясь в прах?И так внешне красиво сформулирован вопрос, что не сразу и замечаешь антиэстетичность, антиэтичность этих строк.
Вспомните очень похожий образ у Александра Твардовского:
Я — где облачком пыли Ходит рожь на холме...Но у Твардовского «облачко пыли» — «я». «Я» — убитый подо Ржевом, «я» — пришедший к вам, где ваши машины воздух рвут на шоссе, «я» — пришедший к живым в таинственный момент слияния жизни и смерти в вечную жизнь
Антиэстетичность и антиэтичность Д. в том, что «ты» в ее стихах — это убитый ею поэт Рубцов. «Ты», убитый мною, поземкой вьешься у моих ног. Может, конечно, и не слабо задумано, но уж как-то совсем не по-православному, даже не по-человечески.
Обратив поэта в прах и в жизни, и в стихах, Д. тут же пытается вознести его на небеса:
Быть может, те серебряные трубы, чьи звуки в свисте ветра слышу я, — твои уже невидимые губы поют тщету и краткость бытия...
Не надо, однако, обманываться «серебряной», воздушной красивостью этих строк. Д. если и возвеличивает прах Рубцова, то только потому, что таким образом возвышается и сама.
Эгоцентризм постепенно вытесняет из стихотворения все другие ощущения, воплощается в уголовно-блатной поэтике сочувствия и сопереживания только самой себе:
...я навек уж буду одинока, влача судьбы своей ужасный крест. И будет мне вдвойне горька, гонимой, вся горечь одиночества, когда все так же ярко и неповторимо взойдет в ночи полей твоих звезда.Человек менее откровенный, менее бесстрашный и менее бесстыдный тут бы, очевидно, и поставил точку. Все-таки все уже сказано. Раз уж решено «черным платом траурным прикрыться», то чего же еще говорить? Д. следом за этим апофеозом горечи и одиночества ставит, однако, «но», то «но», ради которого и написано стихотворение.
Но... чудный миг! Когда пред ней в смятенье я обнажу души своей позор, твоя звезда пошлет мне не презренье, а состраданья молчаливый взор.Читая эти и другие стихи Д., все время ловишь себя на удивлении, насколько все-таки неглубоки они. Казалось бы, предельная раскрытость, распахнутость в самом тайном и сокровенном, а в результате — всего лишь некое подобие мастеровитости, этакое техническое упражнение, не рождающее никакого отклика в душе. Увы... Лукавство и не предполагает ни глубины, ни ответного сопереживания.
— 7 —
Быть может, и не стоило бы столь подробно анализировать стихи Д., но разговор сейчас не только о поэзии, а о симптомах болезни, которой поражено наше общество, уже не различающее порой добро и зло. Об укоренившейся сейчас нравственной вседозволенности, при которой и возникает то, что я называю «феноменом Д.».
Только в атмосфере вседозволенности, исчезновения каких-либо моральных запретов убийство гениального русского поэта может стать неким фундаментом для возвеличивания убийцей самой себя.
Одно из интервью убийцы называлось: «Она убивала Рубцова крещенской ночью». Другое: «Цветы для убийцы Рубцова»...
Это уже почти как в анекдоте.
Идут по Москве латышские стрелки, видят памятник Пушкину.
— Это памятник Пушкину, — объясняют им. — Его Дантес застрелил.
— А почему тогда Пушкину памятник? — удивляются латышские стрелки. — А не Дантесу?
Действительно, при чем тут Рубцов? Ведь не он убил, его убили... Убийце и цветы от латышских стрелков наших демократических изданий.
Что ж... Воплотить в жизни черный юмор анекдота это тоже судьба, и ее Д. выбрала себе сама.
И как тут снова не вспомнить об «ужасных обломках»!
Но вспомним еще раз, как заканчивается это стихотворение...
Сам не знаю, что это такое... — говорил Рубцов, прозревая на четверть века вперед.
Он не знал. Не знали этого и живущие в то время его современники. Никто не знал, каким оно будет, наше время.
Это знаем мы, живущие сейчас...
И на что нам остается надеяться?
Разве только на то, что сбудется все-таки до конца пророчество поэта и «ужасные обломки» все-таки уплывут...
ГЛАВА ВТОРАЯ
Никто не знает, что нужно, чтобы родился великий поэт Как остроумно замечено, никому не пришло бы в голову выписывать из Африки эфиопа, чтобы обзавестись Пушкиным...
Странными и неведомыми путями творится Божий Промысел, являя миру великих делателей, и только отблески этого сокровенного пути различаем мы, вглядываясь в их творения, в их судьбы.
Гениальный поэт не свободен в выборе своего Пути. Предпочтение более благоприятной, менее тернистой жизненной дороги всегда оборачивается потерей самого себя. оплачивается отказом от предназначения...
— 1 —
Ни о чем так много не писал Николай Рубцов, как о дороге, о Пути. Это мог быть «путь без солнца, путь без веры гонимых солнцем журавлей», или «глухое скаканье по следам миновавших времен», или просто — такая непростая! — «Старая дорога», где «каждый славен мертвый и живой!».
Как мы уже говорили, Рубцов отчетливее других ощущал отличие истинного Пути от путей, по которым бродят не осознавшие своего предназначения люди.
На рубцовской старой дороге царят покой, мир и гармония. По этой дороге, перекликаясь с прошедшими и проходящими, перемещаются не тела и чемоданы, а души людей...
И совсем другая картина в рубцовском «Поезде». Мы еще не успели различить в «грохоте и вое», «лязганье и свисте» «непостижимые уму силы», а уже непоправимо изменился пейзаж, и мы мчимся «в дебрях мирозданья», «посреди явлений без названья», и воочию является перед нами страшный облик:
Вот он, глазом огненным сверкая, Вылетает... Дай дорогу, пеший!Все совершается так стремительно и непоправимо, что мы как бы и не замечаем (или боимся заметить?), что «он», сверкающий огненным глазом, просит нас не посторониться, а требует отдать «ему» дорогу. Ту самую старую дорогу, на которой и совершается спасение души, где «июльские деньки идут в нетленной синенькой рубашке...».
— 2 —
Больше всего Рубцов боялся «отдать» свою дорогу, страх потерять ее всегда присутствовал в нем. Этот страх прорывается во всех «вокзальных» стихах...
Даже когда крутится в голове веселенький мотивчик:
Прекрасно небо голубое! Прекрасен поезд голубой!Даже когда беззаботное настроение переполняет тебя, и на вопрос: «Какое место вам?» уже готов бездумный ответ: «Любое», когда и дальше как будто сами собой срываются с языка страшные слова:
Любое место, край любой!Так вот... Даже и тогда срабатывает спасительный страх, и, стряхнув с себя дурашливую веселость, спешит поэт исправить свою вырвавшуюся у него в эйфорийном состоянии оговорку.
— Прости, — сказал родному краю, — За мой отъезд, за паровоз. Я несерьезно. Я играю. Поговорим еще всерьез.Об «играх» Николая Михайловича Рубцова мы уже говорили... Говорили и об особом характере его «советского» — усвоенного не через церковь, а через русский язык и литературу — православия.
Сейчас надо сказать, что Рубцов отчетливо различал пути, ведущие к спасению и гибели.
И не только различал, но и воссоздал в своих стихах.
Не трудно заметить, что в отличие от движения «Поезда» движение по «Старой дороге» осуществляется одновременно с прошлым, настоящим и будущим. Эту одновременность событий легко можно проследить, как мы говорили, и, например, по стихотворению «Видения на холме», где разновременные глаголы соединяются в особое и по-особому организованное целое. В умении ощущать одновременность прошлого и будущего и заключается секрет удивительной прозорливости Николая Михайловича Рубцова.
— 3 —
Точно не известно, когда написано стихотворение «Я умру в крещенские морозы». Как вспоминает Валентина Алексеевна Рубцова, Рубцов говорил о своей смерти в крещенские морозы еще в шестьдесят пятом году, приехав к брату Альберту в Невскую Дубровку.
Предположительно в 1966 году написано Рубцовым и стихотворение «Седьмые сутки дождь не умолкает...». Интересно сопоставить эти стихи.
В «Седьмых сутках» девять строф, разбитых на три равные части. Три центральные строфы явно перекликаются с тремя центральными двустишиями стихотворения «Я умру...». Здесь те же образы затопленных могил, всплывающих гробов, ужасных обломков.
Неделю льет. Вторую льет... Картина Такая — мы не видели грустней! Безжизненная водная равнина, И небо беспросветное над ней. На кладбище затоплены могилы, Видны еще оградные столбы, Ворочаются, словно крокодилы, Меж зарослей затопленных гробы, Ломаются, всплывая, и в потемки Под резким неслабеющим дождем Уносятся ужасные обломки И долго вспоминаются потом...
Сходство столь разительное, порою переходящее в самоцитату, что естественно предположить некую взаимосвязь первого двустишия «Я умру...» с первой частью стихотворения «Седьмые сутки...», а двустишия «Сам не знаю, что это такое» — с заключительной.
Яркие зрительные образы плывущих стогов, крутящихся в водоворотах досок, заслоняют мистический смысл происходящего. Между тем уже в первых строчках:
Седьмые сутки дождь не умолкает, И некому его остановить —Рубцов подчеркивает, что речь идет о не совсем обычном дожде. Не случайно созвучие этих строк с грозным десятым стихом из седьмой главы книги «Бытия»: «Через семь дней воды потопа пришли на землю». Да и сами зрительные образы с каждой строкой сгущаются, и в них появляется несвойственная обыкновенному, пусть даже и очень сильному наводнению апокалипсичность:
И ломится вода через пороги, Семейные срывая якоря.— 4 —
Удивительно точно перекликается и заключительное двустишие стихотворения «Я умру...» с последней частью «Седьмых суток». Потоп тут продолжается:
И мужики, качая головами, Перекликались редкими словами, Когда на лодках двигались впотьмах.Что это такое? Явление новозаветных Ноев? Это впечатление подчеркнуто немногословной, библейски простой и суровой лексикой:
И на детей покрикивали строго. Спасали скот, спасали каждый дом...Но похожесть только внешняя, обусловленная лишь похожестью ситуации. Описывая события, предваряющие Потоп, книга «Бытия» говорит: «И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растленна: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле».
Об истинном пути и об извращенном мы уже говорили. Сошли ли герои рубцовских «Седьмых суток» с извращенного пути, вернулись ли на истинный? Увы... Некое внешнее сходство с последним ветхозаветным патриархом лишь подчеркивает духовную удаленность. Не раскаяние, не сокрушение о гибельности своих путей занимают мысли рубцовских героев, а — вспомните: «С надеждой и свистом промчались мои поезда!» — нелепая надежда, что, дескать, может, ничего и не произошло.
Холмы и рощи стали островами, И счастье, что деревни на холмах.Но ведь и воды потопа сорок дней «усиливались и весьма умножались», пока не скрыли и самые высокие горы. Однако герои рубцовского стихотворения не способны пока уразуметь неотвратимости грозной кары:
И глухо говорили: — Слава Богу! Слабеет дождь... вот-вот... еще немного... И все пойдет обычным чередом.И хотя сомнения в вечности покоя сопоставимы с неспособностью уразуметь неотвратимость грозной кары, от истолкования заключительных частей пророческих стихотворений Рубцова приходится отказаться, поскольку они относятся к будущему, все еще не наступившему времени, в нашей системе «вневременного» анализа с ними связаны грядущие, еще неведомые нам события. Рубцов, если наше предположение верно, прозревал их. Но и он, прозревающий, достаточно точно определить их не смог.
«Сам не знаю, что это такое...» — признается Рубцов в заключительной части стихотворения «Я умру...», но в этом признании видится не беспомощность, а какая-то удивительная рубцовская откровенность. Без видимого напряжения проникает его взгляд вперед, за пределы собственной жизни, но открывающееся там, дальше, почему-то неузнаваемо. Аналогов грядущим там событиям Рубцов не может найти...
— 5 —
Многие отмечают, что простота и незамысловатость стихов Рубцова обманчивы. Едва мы начинаем анализировать эти стихи по обычной, наработанной советским литературоведением методике, мы рискуем оконфузиться.
Горница у Рубцова — это не совсем та деревенская комната, в какой по обыкновению размещают приехавших гостей. Поезд — не тот поезд, на который садимся мы, чтобы доехать до другого города. И на рубцовской лодке, догнивающей на речной мели, не отправишься и после ремонта на рыбалку...
Во всех зрелых стихах Рубцова все эти горницы, лодки, поезда возникают на стыке дневного сознания и сна, бытия и небытия. Они, как и знаменитые рубцовские ромашки, всегда «как будто бы не те». Событие или явление вообще становится предметом поэзии у Рубцова, лишь когда выявляется его вневременная, мистическая суть.
Другое дело, что Рубцов никогда не оставляет свою работу незавершенной, он доводит свои стихи до того уровня высшей художественности, когда они становятся самостоятельными явлениями духовного мира. И тогда-то и возникает то самое говорение из души в душу, когда стихотворение независимо от того, понимаем ли мы весь пройденный в этом стихотворении его автором путь, начинает звучать в нас.
Тем не менее понять этот путь необходимо, если мы пытаемся разобраться в Пути поэта, проследить, как происходило борение света и тьмы в душе автора, постигнуть тайный смысл, явленный в его гибели.
— 6 —
У Рубцова очень необычное отношение к смерти. При одновременности настоящего и будущего смерть в его стихах размывается, существует одновременно с жизнью лирического героя, а в некоторых стихах как бы и опережает саму жизнь. Таково, например, рубцовское «Посвящение другу»... Кладбищенский пейзаж:
Замерзают мои георгины. И последние ночи близки. И на комья желтеющей глины За ограду летят лепестки...усиленный четырехкратным повтором безвозвратности: «Улетели мои самолеты», «Просвистели мои поезда», «Прогудели мои пароходы», «Проскрипели телеги мои», — отнюдь не обозначает завершения жизненного пути. И словно бы и не было желтых комьев могильной глины — так просто и буднично возвращение героя стихотворения:
Я пришел к тебе в дни непогоды. Так изволь, хоть водой напои!Но это в стихах. Самое же поразительное, что и в реальной жизни земной путь Николая Михайловича Рубцова не обрывается вместе с его смертью.
— 7 —
После гибели Николая Михайловича Рубцова почти не осталось вещей. Новый, вселившийся в рубцовскую квартиру на улице Яшина — ту самую, где в январе 1995 года повесили мемориальную доску! — хозяин рассказывал, что нашел в квартире старенький диван, круглый раздвижной стол, две табуретки да груду пепла от сожженных бумаг. Мебель эта еще долго стояла в квартире, а потом ее вынесли на помойку, поскольку никто так и не пришел за ней...
На экскурсию в последнее жилище поэта мы пришли вместе с вологжанином Вячеславом Белковым. Ни меня, ни Вячеслава новый хозяин не знал, но в квартиру пустил, показал и совмещенный с ванной туалет, и двухконфорочную, на ножках, газовую плиту на кухне, вывел на балкон, с которого кроме стены соседнего дома больше ничего не было видно.
Уже спускаясь по лестнице, мы погоревали, что не догадались захватить выпивку. Очень хотелось посидеть здесь, поговорить о Рубцове — присутствие его в нищенской квартирке ощущалось и спустя двадцать лет после смерти.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Я никогда не видел живого Рубцова. Его стихи впервые прочитал в попавшем мне уже после рубцовской смерти сборнике «Сосен шум». Стихи поразили меня не только своей пронзительной лиричностью, но и тем гулом судьбы, что отчетливо различался в шуме рубцовских сосен...
— 1 —
Еще меня поразили разговоры, что велись тогда по поводу его гибели. Поражало не столько даже обилие версий убийства Рубцова, сколько отношение рассказчиков к самому Рубцову. У одних его гибель вызывала настоящую боль, другие оставались равнодушными, третьи говорили о смерти Рубцова с нескрываемой завистью.
— Повезло ему все-таки... — услышал я от одного и ныне здравствующего поэта. — Сумел и тут устроиться... Теперь ему слава обеспечена...
Сказано было подло, но сейчас речь о другом. Что бы ни говорили о Рубцове, всегда говорили как о живом, словно Рубцов только на минуту вышел из своей жизни, как обыкновенные люди выходят из комнаты...
При всем желании ощущения эти не отнести к разряду субъективных. Точно так же, как и проблемы, с которыми сталкиваются биографы Рубцова, пытаясь описать его жизнь в хронологическом порядке.
Дело ведь тут не только в том, что Рубцов принципиально не ставил дат под своими стихами, являющимися основными событиями его жизни, и, разумеется, не в степени добросовестности самих биографов.
Нет!
Факты и события жизни Рубцова, сколь бы тщательно мы ни исследовали их, как бы размываются, начинают плыть...
Вот самый простой пример — сиротство Рубцова.
Я уже писал, что в стихах и почти во всех анкетах и биографиях Николай Рубцов утверждал, что Михаил Андрианович погиб на фронте…
А вот другой пример — учеба Николая Рубцова зимой 1964/65 года в Литературном институте... Конечно, можно открыть личное дело студента Рубцова и прочитать, что еще 26 июня 1964 года был издан приказ об отчислении Николая Михайловича, но — как это видно по письмам! — ни сам Рубцов, ни руководитель творческого семинара, ни даже ректор института об этом не знают и полагают, что Рубцов лишь переведен на заочное отделение...
Точно так же обстоят дела и с комнатой на улице VI Армии в Вологде, полученной Рубцовым по ходатайству секретаря Вологодского обкома КПСС В. И. Другова. Совершенно определенно известно, что Рубцов перебирается в свою комнату, и прописка у него на улице VI Армии тоже постоянная, и комната, как и положено новоселовской жилплощади, пустая. Но проходит несколько месяцев, и комната как-то сама собою трансформируется в общежитие, в котором проживают уже четыре человека, и она перестает быть своей для Рубцова.
Подобных порождаемых то равнодушным шелестом казенных бумаг, то воем метели, заметающей дороги, метаморфоз в жизни Рубцова не счесть. Наряду с симпатиями и антипатиями могущественных покровителей и недоброжелателей участвовали в жизни Рубцова и инфернальные, «уму непостижимые» силы, действия которых датировать невозможно, хотя бы уже потому, что прорываются эти силы при нахлестах будущего на прошлое, продолжают действовать и сейчас, когда Рубцова уже нет...
— 2 —
Весной 1990 года я жил в Доме творчества «Комарово» в номере рядом с номером Глеба Яковлевича Горбовского. Горбовский дочитывал тогда корректуру книги «Остывшие следы», где среди всего прочего вспоминал и о своей дружбе с Николаем Рубцовым в бытность того кочегаром на Кировском заводе...
Вспоминал Горбовский в своей книге и о разговоре, состоявшемся у него с Федором Александровичем Абрамовым по поводу убийцы поэта...
Д. уже вышла тогда из заключения и, не добившись понимания в Вологде, решила поискать его в Питере.
— А скажи-ка мне, Глебушка... — спросил Абрамов.— То-само, как ты относишься к ней? Ну, которая Колю Рубцова порешила? Читал ты ее стихи?
— Читал, — ответил Горбовский. — Сложное у меня чувство ко всей этой трагедии, Федор Александрович. Понимаю, стихи у нее сильные. Густые... У нее ведь и книжка отдельная выходила.
— Вот и напиши ей рекомендацию. Для вступления в Союз писателей. Напишешь?
— Не напишу.
— Вот и я... не написал. Духу не хватило...
Такой вот был разговор. Но этим он не кончился. Далее шли рассуждения об участи Д., часть которых воспроизводилась в диалоге, часть — в ремарках к нему.
Подытоживая разговор, Федор Александрович Абрамов вспомнил о заповедях: «Не убий!» и «Не судите и не судимы будете!»...
И если до сих пор рассуждения не выходили, так сказать, за рамки системы общечеловеческих ценностей, то теперь, когда отчетливо обозначился подтекст разговора, весь разговор начал окрашиваться чувством вины перед убийцей поэта.
Как это случилось?
Понятно, что совсем не обязательно было цитировать евангельские заповеди, решая дилемму: давать или не давать молодому литератору рекомендацию в Союз писателей. Произошло как бы незаметное, но принципиально важное изменение позиции. Не заметить этого изменения было невозможно, но собеседники сделали вид, что не заметили.
— 3 —
Поскольку все равно еще предстоит подробный разговор о нравственной позиции убийцы поэта, поясню, в чем тут дело.
Все последние годы и в своих стихах, и в рассказах о Рубцове Людмила Д. пытается создать образ этакой несчастной страдалицы, гонимой и преследуемой злобными недоброжелателями. И многие люди, то ли из деликатности, то ли из лени, не замечают, что это сама убийца поэта и изображает себя гонимой.
Разумеется, не каждый человек способен поддерживать дружеские отношения с убийцей. Но между отказом в дружбе и преследованием остается зазор, в который вполне помещается заповеданное нам: «Не судите и не судимы будете».
Если бы Д., вернувшись из заключения, взяла себе какой-то псевдоним и занялась литературной работой — от своих способностей все равно никуда не спрячешься! — не связанной исключительно с убийством Рубцова, то едва ли ее осудили бы за это.
Но ведь Д. хотелось совсем другого. Она не только собиралась писать стихи, не просто хотела вступить в Союз писателей. В Союз писателей ей зачем-то нужно было вступить как убийце Рубцова. И в литературу войти тоже как убийце. Разница тут весьма существенная. И применяемая к такой позиции евангельская заповедь оборачивается легализацией самого факта убийства.
И, конечно же, все эти оттенки Глеб Горбовский различал. Это ведь он написал: «Николай Рубцов — поэт долгожданный...»
И, конечно, и как другу Рубцова, и как поэту, лучше других понимающему значение рубцовской поэзии, мудро отмолчаться в том тяжелом разговоре с Федором Александровичем Абрамовым Горбовскому было нельзя. И все-таки отмолчался он, не произнес слов, которые должен был произнести.
— 4 —
Но вернемся, однако, от «Остывших следов» к их автору.
Завершив вычитку корректуры, Глеб Яковлевич отвез ее в издательство, а вечером взял у меня посмотреть сборник Николая Рубцова «Видения на холме», только что выпущенный в «Советской России».
В этой книге Глеб Яковлевич и нашел адресованное ему, но так и не отправленное письмо Николая Михайловича Рубцова...
«И после этой, можно сказать, «сумасшедшей мути», — писал из шестьдесят пятого года Рубцов, — после этой напряженной жизни, ей-богу, хорошо некоторое время побыть мне здесь, в этой скромной обстановке и среди этих хороших и плохих, но скромных, ни в чем не виноватых и не замешанных пока ни в чем людей...»
Кончалось же запоздавшее на четверть века письмо словами: «Вологда — земля для меня священная, и на ней с особенной силой чувствую я себя и живым, и смертным».
И вот так получилось, что это запоздавшее письмо вроде как бы и не запоздало, а пришло к адресату вовремя.
Как-то погрустнел Глеб Яковлевич, сделался задумчиво-рассеянным. Пару раз заводил со мной разговор о письме дескать, вот, получил письмо... В книге прочитал... А ведь не знал про него, нет... Да, получается, что вот теперь, когда сдал книгу, пришло оно...
Может быть, если бы я знал о разговоре в «Остывших следах», отправленных в типографию, я и сумел бы поддержать беседу, но — увы! — «Остывших следов» я тогда еще не читал и не очень-то и понимал, чем это смущен и озабочен Глеб Яковлевич, отчего сделался вдруг печален и рассеян.
Кончилась эта рассеянность плохо. На следующий день Глеб Яковлевич Горбовский запил. Запил после двадцатилетнего перерыва.
Пить, разумеется, нехорошо, но давно замечено, что многие без этого дела не то чтобы портятся, но так... в душе какая-то штучка заедать начинает. Так что не рискну судить, чего больше — вреда себе или пользы — приобрел Глеб Яковлевич Горбовский, покинув правильную жизнь.
С одной стороны, оказался он в результате на старости лет один, в комнатушке, в коммунальной квартире. А с другой стороны, так и ничего, живет, снова замечательные, как и в молодые годы, стихи пишет...
— 5 —
А вот другой, похожий на этот случай...
Еще в конце восьмидесятых, работая в Рубцовском фонде в архиве, наткнулся я на не отправленную Николаем Михайловичем телеграмму.
«Вологда Ветошкина 103 квартира 32 Белову
Дорогой Белов Вася Ничего не понимаю прошу прощения По-прежнему преклонением дружбой =
= Рубцов =
Вологда. Проездом. Н. Рубцов».
Этот рубцовский автограф не воспроизводился до меня скорее всего потому, что он ничего не добавлял к достаточно хорошо известным фактам. О дружбе Рубцова с писателем Василием Ивановичем Беловым и так было известно.... Точно так же, как и о глубоком уважении к его творчеству.
Если бы телеграмма хотя бы была датирована, то можно было бы кое-что уточнить в хронологии, но — увы! — дата на заполненном рубцовскою рукою бланке отсутствует.
А без даты что же? Понятно, что, видимо, накануне выпившим был Николай Михайлович. Что-то сказал. Может быть, даже и сделал... Утром побежал на почту, написал на бланке текст извинения, но не отправил. Может, застеснялся. А может, и денег не нашлось.
Все понятно...
И хотя за эти годы мне не раз доводилось встречаться с Беловым на различных собраниях, как-то даже и не приходило в голову рассказать о найденной телеграмме. Рассказал я про нее Василию Ивановичу в 1996 году на юбилейных торжествах в Вологде. Рассказал в качестве примера того, как остро переживал Рубцов свои промахи.
Реакция Белова, признаться, удивила меня...
— А где эта телеграмма? — спросил он. — У вас?
— Как она может быть у меня, Василий Иванович?! — удивился я. — Она в ГАВО хранится. Фонд пятьдесят первый. Опись номер один. Дело триста восемьдесят три...
— Ну, да... Да... — сказал Василий Иванович и, как мне показалось, немного погрустнел.
Потом разговор за столом перешел на другую тему, и только, возвращаясь в гостиницу, сообразил я, что прямо-таки в буквальном смысле побывал сегодня почтальоном. Прямо на квартиру адресата принес отправленную Рубцовым телеграмму...
И похоже, похоже было — пусть уж простит меня Василий Иванович за это предположение! — хотя и подзадержалась телеграмма в пути, но для адресата значения своего не утратила. Похоже было, что почему-то очень важным было для него рубцовское извинение.
— 6 —
То, о чем пишу я, испытывали и другие люди, прикасавшиеся к бумагам Николая Михайловича Рубцова.
Дочь Александра Яшина — Наталья, сопровождая публикацию («Наш современник», № 7, 1988 год) писем Николая Рубцова отцу, пишет:
«Перечитывая письма Николая Рубцова к моему отцу Александру Яшину, я переживала за обоих так, словно один только написал их, а другой только что получил. И я обращаюсь к Рубцову, как к близкому, давно знакомому:
Дорогой Николай Михайлович! Только что (так случилось) я получила Ваши письма, написанные моему отцу, и мне хочется Вам ответить... Все мы живем и знаем, что после смерти письма некоторых людей будут нужны всем, и Вы сами читали письма любимого вами Тютчева, но писали все равно лично тому или другому человеку, не думая об издании их. Так бывает при жизни, но когда человек уходит — все меняется. И теперь все получат Ваши письма. Они как весточка от Вас — утешение, и скорбь, — что вас нет...
Рубцов умер и давно (столько всего случилось за это время), и совсем недавно, многие помнят его... Совсем недавно, а уже стихи его разыскиваются, легенды о нем слагаются, словно он жил не пятнадцать лет тому назад, а сто пятьдесят или еще раньше, когда по крошечным отдельным сведениям воссоздают облик и обстановку жизни поэта. А может быть, всегда так бывает: жив человек — все цело в его руках, умер и все рассыпается, все искать надо... Но и собирается какой-то другой облик. Забывается все неприглядное, очищается, хочется только стихи читать, а вернись человек — и опять трудности вернутся... Наверное, и в воспоминаниях человек встает более светлым, потому что наша недоброта, эгоизм, суетливость, заземленность мешали видеть в нем при жизни свет и красоту его. И всегда укором будут стихи Рубцова: вот я какой, а вы не заметили, а вы разделили во мне человека и поэта, а это одно целое во мне — неделимое...»
— 7 —
Трудно не согласиться с этими словами Натальи Александровны Яшиной. Но главное тут о письмах Рубцова, которые и сейчас многие годы спустя, «как весточка от Вас — утешение, и скорбь — что вас нет».
Странно, но и сейчас, десятилетия спустя, доходят рубцовские письма до своих адресатов, и участвуют в их жизни так, как будто и не было страшной январской ночи 1971 года, и Николай Рубцов продолжает оставаться между живыми...
Об этом и думал я в январе 1996 года, возвращаясь от Baсилия Ивановича Белова в гостиницу.
Тогда и начал припоминать я и другие странности, на которые раньше не обращал внимания...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
2 мая 1996 года в поселке Невская Дубровка Валентина Алексеевна Рубцова (жена Альберта Михайловича) рассказывала о своем сне, который увидела в январе 1971 года:
«Будто в Москве я... Стою на главной площади, на самой главной. Большая такая площадь, может быть, Красная. И
народу на ней битком. И очень мне странно, молчит весь народ. Только крестится... А я подошла и спрашиваю:
— Чего вы не разговариваете?
А меня толкают в бок и грубо отвечают:
— Что, не видишь?
— А чего я видеть должна?
— Гроб стоит!
— Дак я вижу гроб! Только чего плакать-то?! Гроб-то пустой. Никого нет в гробе!
И проснулась...
А буквально через три дня письмо пришло из Вологды... Софья Андриановна сообщила, что убили Николая. Женщина какая-то убила... Не знаю уж, чего мне Москва приснилась тогда? Может, потому, что из Москвы его хоронить приезжали?»
— 1 —
— А вы сами-то были когда-нибудь в Москве? — спросил я.
— Нет... Только в кино видела... Да еще Николай Рубцов про нее рассказывал... Он перевода оттуда ждал, сказал, что наш адрес оставил...
— И что? Для Николая Михайловича на ваш адрес приходили какие-нибудь письма?
— Нет... — покачала головой Валентина Алексеевна. — Вообще ничего не было. Одно время он долго жил, гонорара ждал... Переживал очень, что я тратилась. Он ведь понимал все, видел, как живем-то... Погоди, говорил, Валентина, гонорар придет, рассчитаюсь с тобой... Дак я ему говорю, не беспокойся ты, придет, я перешлю тебе перевод. Но нет, так и не пришло ничего... Мне так жалко Николая было, что я даже на завод его хотела устроить. Жить, говорю, у нас будешь, потом в общежитие устроишься... Нет, говорит, тогда я стихов писать не смогу. Так и уехал... А перед отъездом сказал, как он погибнет, в лютые морозы... И даже заежился, так холодно ему стало. Брось ты, говорю, помирать собираешься, дак рассчитаешься... Задумался он чего-то, а потом засмеялся и сказал: ты, Валентина, не беспокойся. Я и умру, а все равно рассчитаюсь... Вон там он стоял и говорил это...
И она повернула голову к окну, возле которого стоял Николай Михайлович Рубцов, когда зачем-то начал рассказывать Валентине Алексеевне о крещенских морозах, в которые предстоит умереть ему.
И замерла...
Может, увидела что-то из давних лет своими глазами, способными сейчас смотреть только в прошлое...
— 2 —
Валентина Алексеевна уже мало что видела тогда...
Испорченные еще во время работы на заводе имени Воскова глаза потухли, и по квартире, в которой Валентина Алексеевна жила одна, она ходила по памяти, и больше всего боялась, что в освободившуюся от соседей комнату поселят новых жильцов.
Поставят табуретку не там, и все... Заблужусь и в комнату дороги не найти будет... Так и останусь в коридоре ночевать...
Впрочем, в квартире чисто, прибрано, посмотришь и не скажешь, что здесь живет слепой человек... И сама Валентина Алексеевна была аккуратно одета, причесана и впечатления беспомощного человека не производила.
Странно только, как поворачивала она во время разговора голову, как бы ушами наблюдая за собеседниками...
Ну а перед невидящими глазами вставали видения минувших лет...
Здесь, в комнате, где сидели мы, и встречались братья Рубцовы, сюда приезжал Николай Михайлович Рубцов к Альберту, когда работал на Кировском заводе, и потом, когда учился в Литературном институте, когда после перевода на заочное снова оказался без прописки и без жилья.
Помню, луна смотрела в окно. Роса блестела на ветке. Помню, мы брали в ларьке вино И после пили в беседке.
Николай Михайлович вообще очень любил брата.
Недаром столько времени искал его. Правда, нашел он не старшего брата, а младшего.
Хотя младшим был Николай, но в отношениях с Альбертом он всегда чувствовал себя старше. Об этом вспоминают все, знавшие Рубцовых. Это чувствуется и в стихах Рубцова, посвященных брату...
— А вы знаете стихи Николая Михайловича о брате? — спросил я у Валентины Алексеевны.
— Нет... — покачала головой она. — Я вообще не очень
интересовалась стихами. Тот стихи пишет, этот... Мне Николай и не читал никогда стихов. А с Альбертом они часто о стихах говорили...
— А Николаю Михайловичу нравились стихи брата?
— Он говорил, у тебя, Олег, мысли глубокие... Ты даже меня превосходишь тут, но тебе учиться надо... А Альберт ему про Кольцова толковал... Дескать, тот ведь неграмотным был...
И тут же рассказала, как жаловался на отца Альберт, вспоминая свою жизнь в няньках.
— Продуктов-то тогда много было в подвале. Как же можно начальнику мимо продуктов... А Альберту не всегда хватало поесть. Если к столу не попадет, то и ходит голодный...
Обида у Альберта на отца была...
Но если Николай Рубцов обижался, что отец бросил его, не взял из детдома, когда появилась возможность, то Альберт обижался как раз потому, что отец взял его к себе. Неоднократно рассказывал, что в детдоме обратили внимание на его музыкальные способности и уже оформляли в училище, когда приехал отец со светлоглазой мачехой. Она только что родила и сразу потребовала няньку.
Наверное, тогда Альберт радовался, что возвращается в семью, но когда вырос, начал жалеть об упущенных возможностях.
Нет... В жизни он не был неудачником...
Все получалось у него.
Он легко осваивал любое мастерство, овладел десятками специальностей, хорошо играл на баяне и пел, на гулянках пользовался неизменным успехом — «как-то так повернется, как-то так посмотрит, что сразу всю компанию берет на себя».
И с семьей было благополучно — Валентина Алексеевна родила ему и сына, и дочь. И квартиру дали, но...
Все равно и с годами не мог успокоиться Альберт Михайлович и, уже сделавшись отцом двоих детей, продолжал томиться несбывшейся, непрожитой жизнью.
Пока стояла зима и было холодно, он еще держался, жил с семьей в Невской Дубровке, работал на здешнем мебельном комбинате, но с приближением весны несбывшаяся жизнь начинала томить Альберта.
— И чего я ему ни говорю, как ни уговариваю, как ни убеждаю... — рассказывала Валентина Алексеевна, — а все равно, хоть и соглашается со мной, а обязательно или потихоньку, или как, но уедет.
География странствий Альберта — вся страна. Он работал в Дудинке и в Донецке, в Воркуте и в Тюменской области... Был грузчиком, работал в забое шахты, собирал кедровые орехи на Алтае.
— У мамы, в Приютино, огород был... — рассказывала Валентина Алексеевна. — Дак мы поедем его копать. Ну, Альберт тоже покопает маленько, а потом обопрется на лопату и встанет. Мы его уже обкопаем всего, а он стоит задумавшись. Мама отвернется и потихоньку плюнет, чтобы я не видела. Нашло, говорит, опять...
— А какой он был, Михаил Андрианович? — завершая расспросы о взаимоотношениях братьев Рубцовых с отцом, спросил я. — Добрый? Злой? Умный? Глупый?
— Нет, не злой... — покачала головой Валентина Алексеевна. — И хотя я немного его знала, но, по-моему, умный...
— А пил много?
— Выпивал, конечно... Но не сказать, чтобы сильно. Вот курил много, да...
— 3 —
Это сейчас, рассказывая о встрече с Валентиной Алексеевной Рубцовой, группирую я материалы, а в разговоре воспоминания об Альберте мешались с воспоминаниями о Николае Рубцове. Братья не расставались друг с другом в воспоминаниях Валентины Алексеевны, и как-то так получалось, что дальнейшая судьба Альберта выпадала из повествования. Я долго не мог понять, что же стало потом с ним. В конце концов решил, что Валентина Алексеевна все-таки развелась, и спросил, когда это случилось.
— Почему развелась? — обиженно возразила Валентина Алексеевна. — Я по всем документам замужем за ним.
И так это было сказано, что смутился я, сконфуженно забормотал, дескать, да-да, конечно, понятно... Хотя ничего мне не было понятно.
— А какие-то документы Альберта Михайловича остались? Если бы посмотреть их, кое-что можно было бы и в биографии Николая Михайловича уточнить...
— Какие документы? — удивилась Валентина Алексеевна.
— Ну, не знаю... — сказал я. — Трудовая книжка, например.
— Трудовая книжка?! — Валентина Алексеевна невесело засмеялась. — Да у него и паспорта не было, не то что трудовой книжки...
Она не могла видеть, как вытянулись наши лица, но удивление наше различила и, подумав, рассказала еще одну историю про супруга.
Тогда на Альберта было подано на алименты. Подавала не Валентина Алексеевна, а ее заведующая, которая ее «пожалела».
— Рыжая, — сказала она, — толку у тебя нет, одна при живом муже детей растишь. Я оформила тебе документы. Будешь теперь алименты получать.
— Я сама-то и не подала бы... — сказала Валентина Алексеевна. — Мне его жалко было. Ему и самому не на что жить, какие тут алименты... А его поймали. В общем, привезли в Кресты. Год заключения хотели дать, за укрывательство от алиментов. Меня тогда вызвали во Всеволожск, сказали, что поймали его. А я отказалась от исполнительного листа, хоть и ругали меня очень. Мы, говорят, ищем, деньги государственные тратим, а когда нашли, вы — на попятную... Не, говорю, чего он платить будет? Да мне и не надо... Раз завела детей, надо самой вырастить...
— А почему вы говорите, что паспорта у него не было? — осторожно напомнил я.
— Дак он сам потом рассказывал. Где его поймали, он, подрядившись, орехи собирал. Пришел в контору деньги получать, а там исполнительный лист. 188 рублей высчитали. Вот он вышел из конторы и паспорт тут же в канаву выкинул от досады. Его однажды три года не было, а потом приехал, устроился на работу и только уже после объяснил, что взяли его, как бомжа, да в милиции пожалели. Сказали, езжай туда, где в лицо тебя знают, получи документ...
В рассказе Валентины Алексеевны о своем супруге-летуне временная последовательность отсутствовала. Одна история налезала на другую, но переспрашивать было неловко, да и ни к чему. С таким мужем трудно быть счастливой в семейной жизни. Пришлось Валентине Алексеевне побиться, чтобы вырастить детей.
— А в каком году умер Альберт Михайлович? — спросил я.
— А что?! Он умер?!! — испугалась Валентина Алексеевна. И снова долго убеждали мы ее, что не знаем ничего о смерти Альберта Михайловича, просто из ее рассказа возникло такое ощущение. Ведь если не развелся и не умер, то должен был бы объявиться как-то.
— Нет... — покачала головой Валентина Алексеевна. — Последние двадцать лет ничего не слышала о нем. Вначале еще ждала, а сейчас нет. Сейчас дак и ни к чему уже приезжать ему. Мне бы только теперь не подселили никого, а то не знаю, как с соседями слепая жить буду...
— Не подселят... — пошутил мой спутник, Николай Тамби. — Николай Рубцов все-таки здесь бывал... Эта квартира как музей должна стать.
Не знаю насчет музея-то... — сказала Валентина Алексеевна. — Меня-то куда тогда? Экспонатом разве...
Потом вздохнула тяжело и добавила:
А вообще они оба талантливые были. Им и жизнь особая нужна была...
— А я слышал, что Николай Михайлович на Урал ездил брата искать... — сказал я. — Вы не слышали ничего об этом?
— Не-е... — покачала головой Валентина Михайловна. — Чего его на Урале искать? Вроде он и не был никогда на Урале...
— Значит, Николай Михайлович не говорил вам об этом?
— Не... Первый раз от вас слышу...
— А вообще Николай Михайлович замкнутый был?
— Да уж не сказать, что простой. Он не разговорится спроста-то. И все время стихи в голове держал. Я никогда не видела, чтобы он на бумаге строчил чего, но лиричный парень был. Я умру, говорил, а за Альберта ты не беспокойся, он дольше проживет... Но он это не в стихах, в разговоре говорил... Задумался чего-то и сказал. А потом засмеялся. Но я, говорит, долго не проживу... Вон там он стоял и говорил это...
— 4 —
Этот разговор с Валентиной Алексеевной Рубцовой состоялся 2 мая 1996 года, а через два месяца Николай Тамби показал мне газету «Невская заря» с заметкой о пожаре в поселке Невская Дубровка.
Горел дом 1 по Советской улице... Два человека погибли... Шесть семей осталось без крова...
— А Валентина Алексеевна как? — спросил я.
— Ее сын к себе забрал... В Гатчину куда-то...
— А причину пожара установили?
— Это у Ивановых, которые сгорели, пожар начался... Они поминки справляли... Девятый день или сороковой... Не знаю... Жалко, что рубцовский дом сгорел... Меня как по сердцу ножом полоснуло, когда я про пожар услышал.
— Жалко... Теперь, видно, Советскую улицу никогда в улицу Рубцова не переименуют... Напрасно и хлопотали мы...
Однако тут я ошибся. Не напрасными оказались хлопоты...
«АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НЕВСКАЯ ДУБРОВКА
Всеволожского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09. 10. 96. № 76 Об узаконивании названия улицы Николая Рубцова
Руководствуясь планом привязки участков индивидуальной застройки, Генеральным планом поселка Невская Дубровка и с целью увековечить память выдающегося поэта современности Николая Рубцова, проживавшего в Невской Дубровке, в том числе и на улице 2-ой Пятилетки.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дать название улице с домами литером «б» по Весенней и с домами № 5 и № 7 по улице 2-ой Пятилетки — Николая Рубцова.
2. Считать по улице Николая Рубцова:
дом № 1 — Кочкина В. Л. дом № 2 — Наджафовой Т. О. дом № 3 — Мельникова М. В. дом № 4 — Борисова С. А. дом № 5 — Пеглина В. А. дом № 6 — Сусловой Л. В. дом № 7 — Вавилова А. А. дом № 9 — Штрака Н. В.
3. Согласовать проект застройки и названия улицы с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Всеволожского района.
4. Контроль за исполнением возложить на Григорьеву Т. В.
Глава администрации А. Г. Русс»
Ну что ж...
Пусть и не центральная Советская улица, а только окраинные улицы 2-й Пятилетки и Весенняя приняли имя Николая Михайловича Рубцова, но и это уже было прорывом блокады — в Санкт-Петербурге городская администрация долго не давала разрешения даже на установку мемориальной доски Рубцову...
Уже после переименования улицы в Невской Дубровке именем Николая Рубцова назвали библиотеку на улице Шотмана в Санкт-Петербурге, на Кировском заводе повесили мемориальную доску...
И, конечно же, знаменательно было, что совершился этот прорыв именно в Невской Дубровке, на том самом легендарном Невском пятачке, где начался в 1944 году прорыв блокады Ленинграда.
Об этом и говорили мы на митинге и потом, когда во дворе обгоревшего рубцовского дома 1 по Советской улице накрыли стол...
О том, что случилось здесь несколько месяцев назад, никто не говорил. Страшно было...
— 5 —
А следы Альберта Михайловича Рубцова разыскать все-таки удалось. Уже когда версталась эта книга, Сергей Лагерев, руководитель сургутского клуба Рубцова, сообщил мне, что наконец установили, где и когда умер Альберт. Случилось это 12 ноября 1984 года в селе Горнослинкино Уватско-го района Тюменской области.
Все можно понять и объяснить... И вроде бы, учитывая неуспокоенность, внутреннюю неустроенность Альберта Михайловича Рубцова, ничего загадочного нет в его загадочном исчезновении в Уватском районе Тюменской области. Это, так сказать, закономерный итог судьбы, избранной им. Странно другое.
Странно, с каким неуклонным постоянством размывается смертный рубеж в жизнях самых близких Николаю Михайловичу Рубцову людей...
Отец, хоронить которого начал Николай Михайлович еще с детдомовских времен...
Брат, словно бы растворяющийся в пространствах страны, которые так манили его.
Странно и то, как точно соответствует смерть их важным событиям в жизни и судьбе Николая Рубцова... Мы уже говорили, что смерть Михаила Андриановича Рубцова совпадает с рождением у Николая Рубцова дочери, когда из сироты, брошенного отцом, Рубцов сразу превращается в отца, бросившего свою дочь...
Смерть бомжа Альберта Рубцова всего на два месяца опережает день, когда именем его младшего брата назовут улицу в Вологде. Точно так же, как и дом Альберта в Невской
Дубровке, в котором бывал Рубцов, тоже сгорает за два месяца до переименования улицы.
И отец, и брат — из юности поэта.
— 6 —
Оттуда, из юности, берег которой казался Рубцову затянутым мглою, и Таисия Александровна Голубева, с которой прощался Рубцов, когда уходил служить на флот..
Не вовремя мы пришли — еще не исполнилось сорока дней после смерти мужа Таисии Александровны — но она побеседовать согласилась.
Чуть смущаясь, чуть посмеиваясь над собою девятнадцатилетней, рылась она в альбоме, вспоминая давние пятидесятые годы.
Увы... Рубцов не мог вместиться в девичий проект семейного счастья, и Тая поспешила оттолкнуть его от себя. Николай Рубцов не был героем ее девичьего романа. Не было любви с ее стороны, было обычное, не слишком-то и поощрительное отношение девушки к своему поклоннику в ожидании, пока появится более достойный соискатель руки и сердца...
Таисия Александровна — слава Рубцова еще так и не дошла до Приютина — только из наших рассказов и узнала тогда, каким большим поэтом стал он.
Тем не менее запомнила она его очень отчетливо.
И это и удивляло сильнее всего....
Только дома, прокручивая магнитофонную пенку, догадался я о секрете этой памятливости.
Рубцов очень сильно напугал свою возлюбленную...
Испугал, когда читал свои переполненные ревностью стихи, приехав на побывку с флота.
Испугал своими письмами.
— С армии-то когда приехал, дак идет по дороге с чемоданом, а я убежала из дома, спряталась...
Испугал Рубцов Таю и когда явился к ней замужней, чтобы увидеться в последний раз.
— Знаете, какой он пьяница потом был? Он в таком виде приезжал, что мы перепугались даже. Весна же, а он — в валенках, из кармана бутылка торчит. И говорит моему мужу: выйди, мне поговорить с ней надо. А я говорю: нет!
Чего нам разговаривать. Николай тогда посмотрел на моего мужа и пальцем ему погрозил. Смотри, говорит, из-под земли достану, если только обидишь ее.
В разговоре Таисия Александровна несколько раз повторяла, как испугал ее Рубцов.
И тут, чтобы правильнее понять природу этого страха, надо сказать о Приютино, где выросла Таисия Александровна.
Среди приютинцев были пьяницы и почище Рубцова. Были и дебоширы, были и уголовники. И наверняка не раз и не два оказывалась приютинская девушка Тая в куда более опасных, чем с Рубцовым, ситуациях, попадала в более серьезные переделки.
Так что едва ли пьяный мужик в мокрых валенках с бутылкой в кармане мог настолько напугать ее, чтобы она и сорок лет спустя отчетливо помнила свой страх...
И не понятно, почему испуг вызвали у нее обращенные к мужу слова: «Если обидишь, из-под земли достану...»
Да и что, казалось бы, в этих словах?
Стершаяся, превратившаяся в присловье от частого употребления формула клятвы...
Но — в этом и состояло свойство рубцовской судьбы — все затертые присловья, проходя через него, обретали свою первозданную магическую силу.
— 7 —
И вот, пока мы сидели у Таисии Александровны и разговаривали о Рубцове, стараясь не смотреть на прикрытую ломтиком хлеба рюмку на телевизоре, изо всей силы старались мы не думать о мистике действа, совершающегося сейчас помимо нашей воли.
Случайным было совпадение, что мы заехали к Таисии Александровне, когда еще не исполнилось и сорока дней после смерти ее мужа, достать которого, если что, Рубцов грозился и из-под земли.
Случайным... Но ведь и все закономерное тоже осуществляется через достаточно случайные обстоятельства...
И как бы ни объясняли мы происходившее, но бесспорно, что Николай Михайлович Рубцов своими стихами, разговорами о нем снова появился в этот день у своей первой возлюбленной, как и в тот день, когда только начиналась ее супружеская жизнь, появился как раз тогда, когда семейная жизнь Таисии Александровны закончилась...
И снова почувствовала Таисия Александровна тревогу, которая — она всегда ощущала это — исходила от Рубцова.
Разумеется, она сдержала ее в себе, и только когда я спросил, можно ли перефотографировать снимки, подаренные Николаем Михайловичем перед призывом на флот, не выдержала.
— Возьмите навсегда... — вытаскивая фотографии из альбома, сказала она. И добавила уже с настойчивостью: — Возьмите. Мне они не нужны...
ГЛАВА ПЯТАЯ
За свою жизнь я написал несколько десятков книг, но, пожалуй, ни одну не писал так, как повесть о жизни Николая Михайловича Рубцова — «Путника на краю поля».
— 1 —
Первый раз я прочитал стихи Николая Рубцова в начале семидесятых, когда с одинаковым увлечением читал прозу Алексея Ремизова и Михаила Булгакова, Александра Солженицына и американскую фантастику, Александра Твардовского и Исаака Бабеля, стихи Осипа Мандельштама и романы Михаила Шолохова. И все же и в том неразборчиво-беспорядочном чтении Рубцов не смешивался ни с кем.
Я не сравнивал — кто больше... Рубцов был ближе...
Через несколько лет мне — еще в рукописи! — довелось прочитать сборник воспоминаний о Рубцове.
В холодной комнате литинститутской общаги, не отрываясь, от начала до конца проглотил всю объемистую рукопись. Присутствовал тут и профессиональный интерес, но еще больше было щемяще-жуткого узнавания.
Узнавались тонущая в заснеженной грязи дорога на Вологду и заросший травой купол церкви...
Сырые питерские переулки и мрачные бараки Липина Бора... Шумные московские пивные и темные омуты Толшмы...
И понятно было, что знание пейзажа и обстоятельств — из рубцовских стихов, но эта простая и такая очевидная мысль тут же и ускользала в щемяще-томительном узнавании. Словно в омут, затягивало в рубцовскую судьбу.
И долгие годы копился материал, и я все откладывал работу, убеждая себя, что еще надо поработать в этом архиве, кое-что уточнить...
Видимо, многим литераторам знакомо гнетущее ощущение, когда давит собранный материал, к работе над которым никак не можешь приступить. И никакие самоуговоры насчет дополнительных сведений, которые необходимо добыть, не облегчают тяжести.
В результате книгу я написал, и написал очень быстро, меньше чем за месяц. Оставалось только перепечатать ее, и этой работой планировал я заняться в Доме творчества. Но до начала путевки оставалось еще две недели, и я решил съездить на родину Николая Михайловича...
Книга вчерне была завершена, и ехал я, во-первых, для того, чтобы не отвлекаться на другую работу, а во-вторых, так сказать, для протокола, чтобы рассказывать потом, дескать, как же, как же... бывал и я там... И интернат, где Рубцов вырос, видел; и по Спасо-Суморинскому монастырю, где так и не выучился Николай Михайлович на мастера лесовозных дорог, побродил; и на холме, на который взбегал в своих стихах Рубцов, тоже посидел.
Однако в школьном музее, в Тотьме, обнаружилось сразу столько неизвестных мне материалов, что под этой тяжестью рухнул весь продуманный в Питере «протокол».
С утра я сидел в Тотемской школе, а после обеда бродил по городу, записывая воспоминания знакомых Николая Михайловича. И день ото дня разбухала папка с дополнительными материалами.
С ужасом смотрел я на нее — предстояло заново начинать работу, которую считал сделанной...
— 2 —
Состояние дискомфортности усиливалось за счет общего возбуждения, в котором пребывала в те дни Тотьма.
Семьдесят пять лет исполнялось местному краеведческому музею. К юбилею решено было открыть еще два филиала — Музей Николая Рубцова в Никольском и Музей Федора Кускова — отважного морехода, основателя знаменитого «Форта Росс» в Калифорнии...
Открытие Музея Федора Кускова неожиданно вылилось в международное мероприятие. Из американских университетов потянулись в Тотьму тамошние «кусковцы», подключилась и московская пресса.
Когда же пронесся слух, что в мероприятиях примет участие посол США Мэтлок, возбуждение достигло наивысшей точки. Городок начали скрести и красить, асфальтировали улицы, разгребали копившиеся десятилетиями свалки возле дивных тотемских соборов... Сразу тесно сделалось в тотемских гостиницах.
На меня, успевшего еще до мэтлоковского переполоха занять отдельный номер, вновь прибывшие смотрели с завистью и почтением, явно принимая за какую-то важную птицу. Поскольку к тому времени я сумел перепачкать в асфальте — о, этот безбрежный тотемский ремонт! — брюки, то чувствовал себя под оценивающими взглядами журналистов не слишком уютно.
А туг еще поползли по Тотьме слухи, дескать, НЛО видели над Николой...
Только и слышно было в очередях:
— Мэтлок едет... НЛО летал...
Сейчас вспоминать об этом смешно, но тогда и Мэтлок, и НЛО, и книга, которую надо было писать заново, сливались воедино. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не разговор, свидетелем которого довелось мне стать.
Я пристроился к длинной очереди, над которой, перемешиваясь с жарой и запахом асфальта, витало:
—Мэтлок... НЛО... Мэтлок...
И тут, не выдержав, взорвался мужичок в замызганной, наброшенной на голое тело фуфайке.
— Какое еще НЛО придумали, — заматерился он. — Пошли вы...
— Филя! — попытались урезонить его другие мужики. — Чего это нашло-то на тебя? Мэтлок едет, а ты так некультурно выражаешься...
— А-а! — Филя заматерился еще отчаяннее. — Я этого Мэтлока, та-та-та, хотел... К нам Иван Грозный, говорят, приезжал, и то, та-та-та, ничего, а вы, та-та-та, Мэтлок говорите...
Сказать, что, слушая возмущающегося в пивной очереди Филю, я вспомнил знаменитые рубцовские стихи:
Мир такой справедливый, Даже нечего крыть... — Филя! Что молчаливый? — А о чем говорить?было бы неверно.
В наброшенной на голые плечи фуфайке тотемский Филя словно прямо из стихотворения Николая Михайловича Рубцова и явился.
Как ни странно, но встреча эта сразу успокоила меня...
Действительно, вот ведь невидаль — новый материал для книги появился! Вернувшись в гостиницу, я раскрыл папку и принялся за работу. И уже через час стало ясно, что напрасны были мои страхи. Новый материал совершенно естественно вставлялся в уже написанную книгу.
То, о чем писал я, размышляя над стихами Рубцова, обретало документальное подтверждение, наполнялось голосами людей, знавших поэта...
И рассказываю я эти подробности не из желания поделиться своим опытом писания биографических книг, а чтобы подчеркнуть, что я не столько писал эту книгу, сколько узнавал ее, вчитываясь в стихи Рубцова и воспоминания о нем, разговаривая с людьми, знавшими поэта, роясь в архивах, вглядываясь в пейзажи, знакомые мне по его стихам... Вся книга «Путник на краю поля» как бы существовала уже, и я только собирал ее воедино...
— 3 —
Из Тотьмы я отправился в Николу, где до сих пор цело двухэтажное здание интерната, в котором вырос Николай Михайлович, где сохранились на берегу Толшмы развалины собора, возле которых любил сидеть он, где до сих пор живет Генриетта Михайловна Меньшикова, «женщина, у которой...— так представлял ее сам Рубцов знакомым — живет моя дочь Лена».
Генриетта Михайловна — сверстница Рубцова. Знакомы они были еще в детдоме, куда Генриетта Михайловна попала, когда посадили ее мать.
Всю жизнь, почти безвыездно, провела Генриетта Михайловна в своем селе, где летом горели от зноя небеса, а осенью покрывались под звездным светом прозрачной ледяной пленкой забытые болота, где зимой заметало вьюгой дороги и в тяжелых сугробах тонули деревенские дома...
Никуда и не пыталась бежать Генриетта Михайловна от шепота ив у омутистой Толшмы, от жалобных криков болотных птиц, от здешнего оловянного неба...
Здесь родила Лену. Здесь ждала Рубцова.
Здесь «в плоскокрышей» избушке ее матери провел Рубцов, быть может, самое трудное в его жизни и самое плодотворное в творчестве время — зиму 1964 года, когда его исключили из Литературного института.
Потом был полный разрыв, даже вражда, но ненадолго. Скоро отношения выровнялись. Отношения отца и матери одной дочери...
Пожалуй, ни одной из женщин не причинил Николай Михайлович Рубцов столько огорчений и неприятностей, как Генриетте Михайловне, и уж наверняка ни одна из женщин не ждала его так спокойно и терпеливо.
Иногда она приезжала в Вологду, иногда Рубцов приезжал в Николу. В последние годы Генриетта Михайловна уже ничего не требовала от Рубцова, ни о чем не просила. Просто ждала.
Когда Рубцова убили, из Союза писателей пришла телеграмма: «Скоропостижно скончался». Генриетта Михайловна приехала на похороны, потом приезжала на суд, потом — по настоянию вологодских писателей — увезла в Николу письменный стол Рубцова. Несколько лет он стоял у нее в доме, затем, покрасив, чтобы не видно было неприличных надписей, Генриетта Михайловна передала его в музей.
Она вырастила дочку — Елену Николаевну Рубцову. Вышла замуж... У Генриетты Михайловны есть дети и от нового брака.
— 4 —
Договориться о встрече с Генриеттой Михайловной заранее я не смог и, побродив по Никольскому, отправился к ней домой.
Генриетта Михайловна только что вернулась с молокозавода, где она работала... От одежды резко пахло молоком, и этот запах поначалу мешал, путал разговор.
А поговорить хотелось о Рубцове, о том, как создавались в Николе его стихи, ну и, конечно, о взаимоотношениях с самой Генриеттой Михайловной. Этой темы я боялся больше всего...
Все-таки очень уж деликатное дело — расспрашивать женщину о семейных отношениях с не расписанным с нею мужчиной. Впрочем, опасения мои, как оказалось, были напрасными.
Когда после витиеватого вступления я все-таки спросил, почему Генриетта Михайловна, подав осенью 1968 года на Рубцова в суд на алименты, уже к весне сама прекратила это дело, — моя собеседница ничуть не смутилась.
— Почему? — переспросила она. — Что произошло? А ничего... Судья объяснила мне, что я пять рублей по алиментам получать буду... Такие у него тогда заработки были...
Разумеется, задавая вопрос, я и не рассчитывал услышать в ответ историю о романтической встрече и примирении, но и подобной простоты тоже не ожидал. Как-то не вписывалось это объяснение в мои представления о Рубцове.
И, пытаясь усвоить открывшуюся мне простодушно-беспощадную истину, я упустил инициативу в разговоре.
И, к счастью, упустил.
Потому что, не смущаемая книжными вопросами о судьбе и предназначении, Генриетта Михайловна начала просто рассказывать то, что я и шел сюда услышать.
— Да я и не хотела на алименты подавать... — говорила Генриетта Михайловна. — Мать подговорила. Ну а когда она узнала, сколько мы будем получать, тоже уже не говорила больше об алиментах.
Я торопливо записывал рассказ Генриетты Михайловны о ее жизни с Рубцовым, и в памяти все звучали и звучали слова рубцовской «Прощальной песни»:
Так зачем же, прищурив ресницы, У глухого болотного пня Спелой клюквой, как добрую птицу, Ты с ладони кормила меня. Слышишь, ветер шумит по сараю? Слышишь, дочка смеется во сне? Может, ангелы с нею играют И под небо уносятся с ней... Не грусти! На знобящем причале Парохода весною не жди! Лучше выпьем давай на прощанье За недолгую нежность в груди. Мы с тобою как разные птицы! Что ж нам ждать на одном берегу? Может быть, я смогу возвратиться, Может быть, никогда не смогу...У этого шедевра нет и никогда не было посвящения... И вместе с тем адресат его более очевиден, чем у любого другого рубцовского стихотворения...
Разумеется, нельзя отождествлять лирического героя с автором, но героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. В этом стихотворении поражает не только магия горьковатой печали, но и почти очерковая точность нищенского Никольского быта.
Читаешь стихотворение и видишь заплывшую грязью Никольскую улицу, видишь мать Генриетты Михайловны — пожилую женщину, ощущаешь ее — мать придет и уснет без улыбки — безмерную усталость.
С беспощадной и совсем не лирической точностью вписаны здесь и все перипетии романа Николая Михайловича с Генриеттой Михайловной. Целомудрие горькой правды и делает это стихотворение шедевром русской любовной лирики.
— 5 —
Я так и не решился спросить у Генриетты Михайловны о «Прощальной песне», связывает ли это стихотворение с собою...
Но я слушал бесхитростный рассказ о «семейной» жизни Николая Михайловича, и он очень точно соединялся с продолжающими звучать стихами...
Конечно, Николай Михайлович и Генриетта Михайловна не подходили для совместной семейной жизни.
Рубцов был жестоко точен не только в стихах.
Это ведь не Мария Корякина придумала про «женщину, у которой растет моя дочь». Это сам Рубцов так и представил Генриетту Михайловну Астафьевым.
Но ошибочно полагать, что смущала Рубцова деревенскость Генриетты Михайловны или ее неразвитость.
В «Прощальной песне» претензии лирического героя к своей подруге сформулированы гораздо более глубоко:
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится, точно в бреду...
Этого Генриетта Михайловна не знала, она действительно, как явствовало из ее рассказа, не слышала, не различала зловещего топота, раздающегося за спиной Рубцова. И не потому, что не хотела услышать, а потому, что не могла.
Впрочем, мистической окрашенности судьбы Рубцова не Различает Генриетта Михайловна и сейчас. И порою поражает даже, насколько искренне и честно ее непонимание. Никогда, ни раньше, ни теперь, Генриетта Михайловна и не пыталась сделать вид, что понимает, не пыталась изобразить понимание.
Подобная негибкость, разумеется, не самое приятное качество в спутнике жизни, но, с другой стороны, только так, не замечая злого настигающего топота, и можно было бы одолеть страшные и темные силы, что преследовали поэта на его жизненном пути. И тут, конечно, не Генриетта Михайловна виновата, что Рубцов все равно не мог не замечать, не слышать «чудных голосов», льющихся из лесной гущи... Да и не желал ведь Рубцов обретать спасительную глухоту.
— 6 —
Оставшееся до отъезда из Никольского тогда время я просидел на берегу Толшмы у развалин церкви, где некогда любил сидеть и Николай Михайлович Рубцов.
Часть церковного здания местные умельцы перестроили в пекарню.
Не знаю почему, но рядом с этими развалинами вспоминались не те стихи Рубцова, что писал он о разрушенных белых церквах, о лежащих под горой развалинах собора, а совсем другие, написанные им незадолго до смерти...
Сколько было здесь чудес, На земле святой и древней, Помнит только темный лес! Он сегодня что-то дремлет...Эти стихи, наверное, о самом сложном. О смысле творчества, о назначении поэта в Божием мире... Поскольку известно ведь:
Все умрем, Но есть резон В том, что ты рожден поэтом, А другой — жнецом рожден... Все уйдем. Но суть не в этом...Душа Николая Михайловича Рубцова тосковала, что забыты чудеса святой и древней земли. Эту мысль снова и снова повторяет он в стихах...
А сколько там было щемящих Всех радостей, болей, чудес, Лишь помнят зеленые чащи Да темный еловый лес!Это последняя строфа стихотворения «Что вспомню я?». А начинается оно со ставшего привычным для зрелого Рубцова предощущения близкой смерти:
Все движется к темному устью, Когда я очнусь на краю, Наверное, с резкою грустью Я родину вспомню свою.В античном мире считалось, что существует особая разновидность богов, называемых гениями. Гении опекали не только семьи, но и целые города, местности, страны. Жители Рима, к примеру, скрывали имя гения своего города, чтобы жители других городов не переманили его к себе.
Естественно, что у православного человека эти наивные языческие представления могут вызвать лишь улыбку. Тем не менее некую параллель мы наблюдаем и в самом православии.
В православной традиции епархиальный архиерей «есть, как ангел для своей епархии. Ангелы посылаются за хотящих наследовати спасение, и он поставлен Духом Святым служить спасению целой епархии... через епархиального архиерея продолжается в епархии ток священнической благодати».
Один знакомый священник рассказывал мне, что после кончины митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна как будто бы и воздух изменился в епархии, служить в церкви стало как-то иначе...
Советское внецерковное, усвоенное через культуру и язык «православие», может быть, и ощущало присутствие «чудес на земле святой и древней», но увидеть их и узнать не могло, ибо помрачалось само зрение.
И, наверное, в такие минуты помрачений, действительно, ощущал себя вскормленный на хлебах, выпеченных в церквопекарне, Рубцов неким, почти апокалипсическим подобием вечернего зверя.
Я помню, как с дальнего моря Матроса примчал грузовик, Как в бане повесился с горя Какой-то пропащий мужик... Деревня... Пригород... Город...Это не просто определения местностей, в которых протекала жизнь Рубцова, это различные состояния его души.
Перебираясь в город, он словно бы впитывал в себя энергию «Поезда»...
Быть может, если бы Рубцов был прозаиком или имел в городе семью, необузданная энергия, бушевавшая в нем, съедалась бы в постоянной работе, в житейских заботах Но — увы! — энергия Рубцова оставалась невостребованной и, замутненная, она прорывалась порою, материализуясь в фантомы пьяных выдумок.
Протрезвев, судя по воспоминаниям, Рубцов стихал, стыдился своего пьяного безобразия, становился нежен и ласков, легко просил извинения и получал его, был извиняем, отчасти по тому свойству русского характера, которое всегда позволяет сохранять надежду и мгновенно забывать о неприятностях, едва только замерцает свет надежды. По этому же свойству русского характера, раскаиваясь, Рубцов и сам прощал себя, понимая, что не согрешишь — не покаешься, догадываясь в глубине души, что и не было бы без погружения в черноту той жажды, той неутолимой тоски по небесному свету, что заполняет его стихи.
И с годами развивалось в Рубцове столь свойственное стремление русского человека все время снова и снова испытывать себя.
Это свойство проявилось еще в юности, во времена учебы в Тотемском лесотехникуме, когда, пробравшись в полуразрушенный храм, взбирался Рубцов на карниз и шел по нему на головокружительной высоте. В одном месте карниз был проломлен, и нужно было перепрыгивать через пролом. Рубцов прыгал.
Но это мальчишечьи испытания. Теперь, будучи взрослым, он испытывал не столько свою смелость и ловкость, а саму душу. И, как положено в таких случаях, все ограничения и барьеры, отчасти под воздействием алкоголя, снимались.
Незадолго до своей кончины Вадим Валерианович Кожи-нов напечатал в журнале «Проза» (аудиозапись О. Ворониной) воспоминания о встрече с Рубцовым, которые я слышал от него еще лет двадцать назад...
«В 67-м году в издательстве «Советский писатель» у Рубцова выходила книга. Издательство тогда находилось на Пушкинской площади. Я пришел туда получать какой-то свой гонорар, а Рубцов получал часть своего — за книгу. Для него это были гигантские деньги — жил-то он почти всегда без зарплаты... Вот он и говорит, смотри, мол, сколько денег получил: зайти бы сейчас в Клуб, а не пускают, так нельзя ли туда как-нибудь украдкой пробраться? Я знал, что есть еще один вход — через ресторан, вернее, через кухню. Кон троля там никакого не было и мы пробрались... Думали, что присядем где-нибудь в уголку и никто там опального Рубцова не заметит. Но на наше несчастье оказалось, что в ресторане были заняты все столы, кроме одного, стоящего посредине. Вообще не особенно приятно, да и Рубцов побаивался быть узнанным. Но тем не менее нам пришлось сесть за этот стол. И только мы там расположились, только по рюмочке успели выпить, как входит соученик Рубцова по литинституту, какой-то кавказец. Я его не знал. Он подходит и садится за наш стол. А в Рубцове была такая интеллигентность особая: он сам никогда бы не подсел к столу, не спросив разрешения. У него даже есть стихотворение, где рассказывается, как он сидит в ресторане «Поплавок» в Вологде, к нему подходят друзья и просят разрешения присоединиться. Особая такая деревенская интеллигентность. Попадая в большой город, люди ее часто теряют, но он сохранил и поэтому был возмущен подобным вторжением, так что в конце концов не выдержал и сказал: «А чего ты, собственно, сел? У нас тут разговор...» Знакомец его, страшно разъяренный, крикнул: вот ты, мол, меня гонишь из-за стола, а сам мне рубль должен. Рубль тогда были деньги. Сто граммов водки в ЦДЛ стоили рубль двадцать, а уж пива-то можно было бутылки три купить... На это Рубцов выгреб из кармана большую пачку денег — несколько сотен, а то и тысячу — и швырнул обидчику в лицо. Тот вскочил, собираясь броситься на него с кулаками, но тут уж я вмешался: ты что, говорю, хочешь, чтобы нас всех сейчас в милицию забрали? Рубцов и так сюда с трудом вошел, а ты здесь скандал устраиваешь. В другом месте, говорю, разберетесь. Это подействовало, приятель Рубцова удалился, чертыхаясь. Но замечательная сцена была потом».
Напомним, что разыгралась эта сцена посреди ресторанного зала и полюбоваться ею могли все. И понятно, что первым движением Кожинова было поскорее уйти, он сказал об этом Рубцову, но Николай Михайлович запротестовал.
— Нам же еще за столик расплатиться надо... — проговорил он. — Как же мы так убежим, не расплатившись?
В этом месте повествования Вадим Валерианович всегда совершенно резонно замечал, что это был как раз тот редчайший случай, когда официанты только довольны были бы, что посетители ушли, не расплатившись, — вокруг столика была рассыпана весьма приличная сумма денег.
Тем не менее снова сели за столик. Выпили еще по рюмке водки. Из-за соседних столиков с нескрываемым интересом следили, ожидая дальнейшего развития событий.
Альтернатива, как поясняет Кожинов, была. Можно было встать и уйти, оставив деньги разбросанными по полу. Так сказать, кавказский вариант сюжета...
Можно было пойти и по другому пути — просто и деловито собрать деньги. Конечно, снижение драматургии ситуации с кавказских высот до грешного асфальта столицы вызвало бы снисходительные усмешки зрителей, но в конце концов дело-то житейское, именно так большинство зрителей и поступило бы...
Рубцов нашел другой путь...
Вадим Валерианович вдруг увидел, как Рубцов начал медленно сползать со стула. Но не упал. Встал на четвереньки и начал ползать вокруг стола, собирая разбросанные деньги. Брюки его задрались, и теперь уже все без исключения разглядели рубцовские опорки, надетые прямо на голые ноги.
Со свойственным человеку, выросшему в интеллигентной московской семье, пониманием народного характера Вадим Валерианович Кожинов трактовал поступок Рубцова почти в традициях святоотеческой литературы.
«Я тогда не сразу понял, что он совершил яркий поступок. Есть такое выражение: «Смертию смерть поправ». Вот и Рубцов, будучи так унижен, решил унизиться еще больше: плевать, дескать, мне на вас, смотрите. И этим ползанием он себя как бы возвысил. И действительно, к концу уже не хохотали. Люди осознали, что все не просто так, что-то тут происходит... И несколько раз в жизни он поступал подобным образом — именно большим унижением выходил из и без того униженного состояния».
Разумеется, объяснить поведение Рубцова можно и не прибегая к святоотеческим реминисценциям. Достаточно вспомнить ужасающую нищету жизни Рубцова, чтобы понять, что сожалел он все-таки не о своем поступке, а о деньгах. Ведь не просто деньги рассыпались сейчас по полу, а месяцы и годы его жизни, его творчества... И понятным становится, какую обжигающую ненависть должен был испытывать Рубцов к завсегдатаям цедээловского ресторана, по сути дела, спровоцировавшим его своим презрительным вниманием на необдуманный поступок.
И все равно... Какие бы объяснения ни придумывали мы, эти объяснения не способны ничего объяснить в состоянии поэта, когда только и остается, что сунуть морду в полынью и напиться, подобно зверю вечернему...
И — увы! — никакие изощренные объяснения не способны соединить этого Рубцова с автором «Прощальной песни».
Они несоединимы, как полюса магнита, и опять же, как полюса магнита, не существуют друг без друга...
— 8 —
В испытаниях, которым подвергала его черная, врывающаяся в него в городе сила, Рубцова спасало только отношение к этому испытанию себя как к игре.
Испытания эти каким-то удивительным образом не превращались в жизнь, и жизнь текла своим обычным порядком. Вернее, это Рубцову казалось, что жизнь продолжает течь своим обычным порядком, едва он прекращает игру в испытания. На самом деле Рубцов, даже в состоянии опьянения, мог прекратить злую игру, но он забывал, а возможно, и не мог вообразить, что окружающими его игра воспринята слишком всерьез и они уже не могут выйти из нее без ущерба для себя...
Наверное, так и было...
И даже страшная ночь с 18 на 19 января 1971 года тоже начиналась с игры в испытания.
Как пишет Д., посреди ужаса и кошмара Рубцов словно очнулся и спокойно сказал:
— Давай ложиться спать...
Но тогда не сумела очнуться Д.
Или — не захотела очнуться...
В стихотворении «Что вспомню я?» Рубцов сказал, о чем он будет вспоминать на краю жизни...
Что вспомню я? Черные бани По склонам крутых берегов, Как пели обозные сани В безмолвии лунных снегов. Как тихо суслоны пшеницы В полях покидала заря, И грустные, грустные птицы Кричали в конце сентября.Перекличка этих строф с «Прощальной песней» очевидна. И зная сейчас, что со своей необыкновенной проницательностью предвидел Николай Михайлович Рубцов вспомнить на краю, можно отгадать, к кому или к чему обращены были его последние слова и почему только сама убийца и услышала в них свое имя...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Я жалею сейчас, что не записывал в свое время циркулировавших по Ленинграду рассказов о гибели Рубцова.
— 1 —
Поскольку тогда, в начале семидесятых, никакой информации по этому поводу не публиковалось, слухи обрастали самыми невероятными подробностями и превращались как бы в самостоятельный фольклорный жанр. И, как и положено в фольклоре, порою из рассказов исчезал сам Рубцов, оставался только рассказчик, только его представления о Рубцове.
А представления эти были разными.
Иногда восторженные, иногда скептические. Порою же рассказчику так и не удавалось сдержать переполняющую его ненависть к Рубцову.
Тогда это удивляло меня.
Каким бы неприятным и тяжелым в общении ни был человек, но ведь он погиб, его нет, кого теперь ненавидеть?
Но с годами нашлась отгадка и этому. Эта ненависть к Рубцову не была ненавистью к конкретному человеку. Это была тяжелая и безысходная ненависть к самой его поэзии, сделавшейся голосом России, к самому голосу нашей земли. Живой голос, явленный в стихах Рубцова, мутил сознание его недругов.
Разумеется, у Рубцова никогда не было недостатка в защитниках. Биографы Рубцова зачастую сознательно обходили важные моменты рубцовской биографии, «забывали» не вмещающиеся в концепцию документы и свидетельства...
Жизнь настоящего Рубцова в эти биографии — увы! — тоже не вмещалась. И в результате работы эти не столько опровергали культивируемую в среде «прогрессивной» интеллигенции ненависть к Рубцову, сколько питали ее...
— 2 —
Я уже говорил, что никогда не встречался с Рубцовым, но, работая над книгой «Путник на краю поля», часто видел его в снах. И сны эти всегда начинались со смутного и тревожного ощущения предстоящей потери...
Во сне не нужно разговаривать. Во сне видишь чужие мысли, видишь пространство вечернего, затянутого дождевыми сумерками поля, видишь, как. кого-то выносят из общежитской драки, спасают, выручают... Видишь и самого спасателя — человека с широким, уверенно-добрым лицом — такие лица бывают только у очень сильных, у безусловно уверенных в своей правоте людей! — лицом, которое от выпитого вина становится еще шире и добрее.
Этот человек добродушно улыбается и не обращает внимания, как судорожно дергается на его плече спасаемый им человек. Не замечает, убаюканный своей добротой, как . больно и безжалостно бьет по лицу «спасенного» им поэта чернявый паренек, вьющийся сзади злою осой...
А «спасенному» поэту даже и отвернуться невозможно, и лицо не прикрыть, потому что руки зажаты рукою спасателя — человека с таким уверенно-добрым лицом.
И только струйкой бежит из разбитого носа кровь, и я вижу это, но — так всегда бывает во сне! — не могу закричать, исчез голос, исчезает пространство, затянутое сыроватой полутьмой осеннего поля, в которой уже невозможно различить ни пути, ни самого себя. И только знобящим, сырым сквознячком доносятся в сон чьи-то слова, обрывки каких-то разговоров...
— Да для нас-то, братцы, и Россия не Россия ведь... Нам хорошо, вот и она, значит, хороша... А есть ведь и другая, братцы вы мои, Россия. Такая, что плакать хочется... Да-да! Выйти осенней ночью за село и заплакать, как волку завыть, братцы вы мои...
И какой-то неясный шум — то ли чавканье сырой земли под ногами, то ли бульканье разливаемой водки... А потом снова:
— Ну, вот... Ну, видишь... Выпил и хорошо... Все хорошо, все отлично, братцы вы мои, будет! А разволновались-то... Разволновались-то...
И снова возникает во сне Рубцов. Он идет рядом, но темно и неясно его лицо, и я не знаю, слышит ли он доносящиеся в сон голоса... А мне кажется, что я узнаю их.
Узнаю голос такого сильного, такого доброго человека, широкое лицо которого, когда он выпивал, становилось только еще шире и добрее от выпитой водки... Сколько раз я сидел за одним столиком с ним и, слушая его, завидовал умению не стесняться, делать то, что считаешь нужным делать.
И каждый раз, глядя на него, хотелось покаяться мне, что вот, дескать, ведь и добрые мы, и умные по-своему, но стесняемся говорить, потому что не принято так говорить, стесняемся и жить, потому что не принято так жить. И только украдкой как-то и вспоминаем себя; вспомним и спрячем подальше от чужих глаз... Да что чужих?! Сами от себя прячемся на всякий случай...
И только в деревне да вот здесь, на краю поля, на краю жизни, и вспоминаем главное, что нужно было помнить всегда.
И уже непонятно во сне, чьи это голоса... Неразличимо лицо человека, с которым иду по темному осеннему полю. Просто знаешь (так всегда бывает во сне), что рядом — Рубцов. Знаешь, что, когда живешь, не слушая самого себя, можно пропустить, не заметить свою смерть. А смерть этого не прощает никому...
Но даже во сне отчаянно страшно, когда убивают...
— 3 —
Д. возникла тоже откуда-то из сонного кошмара.
Я только что вернулся из Москвы, прилег отдохнуть, и тут и зазвонил телефон.
— Это Людмила Д... — услышал я в трубке.
Тогда начали печатать в газетах мою повесть «Путник на краю поля», и опубликованные в «Литературном вестнике» отрывки и явились поводом для звонка. Еще не совсем проснувшись, я услышал, что мною искажена правда в описании убийства Рубцова и, кроме того, нарушено ее, Д., авторское право...
Насчет второго пункта — вопрос щекотливый.
Действительно, при описании убийства Рубцова я воспользовался переданной мне Глебом Горбовским машинописной копией воспоминаний Д.
Для меня эти воспоминания были прежде всего свидетельскими показаниями, и как-то и мысли не возникало, что я нарушаю авторское право. Кстати сказать, я до сих пор не могу решить для себя вопрос, распространяются ли нормы авторского права на свидетельские показания убийц о совершенном преступлении, можно ли к этим «произведениям» относиться как к обыкновенному литературному произведению, все права на которое принадлежат лишь их автору. Насколько известно мне, подобных прецедентов раньше не возникало... Я так и ответил Д.
Еще я поинтересовался (это действительно чрезвычайно интересовало меня с профессиональной точки зрения) в чем, по мнению Д., ошибся я, описывая ее отношения с Рубцовым?
— Во всем... — услышал я ответ.
— Ну а конкретно... В чем именно?
— Вы читали мои стихи?
— Нет... — признался я. — Не удалось.
— Какое же вы имеете тогда право уничижительно писать о них? — возмутилась Д.
— Но, простите... — запротестовал я. — О ваших стихах я нигде не писал. У меня в повести всего одна фраза по этому поводу. Дескать, по слухам, она писала неплохие стихи... В чем же тут ложь? В чем уничижение ваших стихов?.. По-моему, как раз о стихах-то написано очень даже корректно и уважительно. Разве это оскорбление — сказать, что стихотворение неплохое?
Ответ Д. ошеломил меня.
— По сравнению со мной Рубцов был в поэзии мальчишкой! — сказала она.
На этом и закончился наш телефонный разговор. Никаких последствий он, естественно, не имел. Карательные санкции Д. ограничились только руганью в мой адрес в предисловии, предваряющем публикацию ее воспоминаний в газете «Криминальный вестник».
Тем не менее стихи Д. я, конечно, отыскал и прочитал.
— 4 —
Странные чувства вызывает ее сборник «Крушина» (тот самый, что некоторое время украшал витрину в Музее Рубцова в Николе)...
Откровенная пошлость: «Когда глаза мои шалят, намеренно волнуя плоть мужскую...», хитроватая расчетливость: «Какие бы характеристики вы ни давали мне, глумясь, все зеленей легенды листики, все удивительнее вязь. Судьбы из тайного и явного, где тень и свет переплелись, загадка монстра своенравного и роль изгоя удались...» — мешаются в этом сборнике с действительно искренними и невеселыми прозрениями:
Так, значит, в молчании сила? Без стона свой крест пронести и дар, что в себе затаила, в загадку судьбы возвести...Порою Д. самоупивается мрачным величием своего положения:
Опора лишь в самой себе, в своем немыслимом позоре, в своей немыслимой судьбе...Порою начинает жаловаться, плакаться на свою горькую долюшку:
Лишите и хлеба и крова, утешусь немногим в пути. Но слово, насущное слово дайте произнести!И тут не важно, конечно, что ни хлеба, ни крова никто не пытался лишить Д.
Напротив...
По сравнению с другими преступниками, совершившими, как и она, убийство, ее дела устроились очень даже неплохо. Освободившись по амнистии в Год женщины, Д. сумела — а с ее статьей тогда это было очень непросто! — устроиться в Ленинграде. Причем не на тяжелой лимитной работе, а по прежней, библиотечной, специальности...
Но, повторяю, это не так уж и важно. Поэтесса готова утешиться немногим, а немногое — категория, как известно, чрезвычайно субъективная. И тут уж лучше сразу заняться «насущным словом», право произнести которое и отстаивает она:
Заройте, как женку Агриппку, на площади в Вологде, но души моей грустную скрипку не затоптать все равно!На первый взгляд кажется, что эта строфа повторяет, так сказать, перепевает содержание первой. Но если приглядеться внимательнее, то замечаешь, что движение происходит, и весьма существенное. Мотив покаяния как-то незаметно трансформируется в созерцание себя, кающейся.
Ненавязчиво, но очень твердо и отчетливо подчеркнута и скромная красота души поэтессы — «души моей грустную скрипку», и мученический венец, сияние которого различает она над своей головой.
И после этого совсем уж нетрудно перейти от покаяния к обличению. Нормальному человеку, разумеется, сделать это непросто, но если очень любишь себя, если даже мысль о себе, страдающей, разрывает душу, то отчего бы и нельзя?
Зачем же стараетесь всуе, какая вам в том корысть и трепетную и живую душу мою зарыть спокойно, упорно, умело, согласно чинам и уму? Зачем оставляете тело? Оно без души ни к чему!Здесь очень важна последовательность состояний. Когда Д. сравнивала себя с Агриппкой, речь шла вроде бы о том, что души ее грустную скрипку не затоптать все равно. И вот, пожалуйста, в целых двух строфах поэтесса изображает нам, как ее незатаптываемую душу все-таки затаптывают. И как бы — поэтесса, во всяком случае, ощущает это! — нехорошим людям удается затоптать ее душу. Зачем же иначе срываться на крик: «Зачем оставляете тело? Оно без души ни к чему!»? Противоречие очевидное, но для Д. для последующего развития ее мысли совершенно необходимое.
Противоречие это позволяет перейти к прямой антитезе своего греха:
От боли мне нет исцеленья, вину свою ввек не простить... и греха, совершаемого против нее: но нет тяжелей преступленья, чем по миру тело пустить.С последним утверждением трудно не согласиться, но прежде чем сделать это, отметим, что поэтические опыты Д. прямо-таки напичканы шулерскими приемами.
Вот и тут... Даже если и допустить, что по свойственному Д. состраданию к самой себе она ощущает настороженность и нежелание общаться с нею людей, как затаптывание своей души, то все равно ведь этот грех пока лишь совершаемый. Ее же грех — грех реальный и совершенный. А дальше — неуловимое движение рук, и вместо шестерки на столе оказывается туз! — исчезает куда-то и сослагательное наклонение, и весь стих заполняется уже ясным, зримым образом этакого нового Франкенштейна, в которого превратили поэтессу затоптавшие ее душу люди.
Душегубство — страшный грех.
В православной России душегубами называли убийц, лишивших свои жертвы не только жизни, но и предсмертного причастия и тем самым поставивших души своих жертв в сложное положение — на Суд, против своей воли, они должны явиться нераскаянными.
В остальных случаях слова «душа» и «гибель», как правило, сопрягались в православной традиции через местоимение «свой». Если чужую душу человеку погубить весьма затруднительно, то свою погубить очень легко.
Д. и это как бы неведомо.
Личный опыт (она загубила чужую душу) Д. распространяет на всех недостаточно доброжелательно относящихся к ней людей. Она называет их душегубами и искренне верит в это. И проливает слезы над собой несчастной, душу которой пытаются загубить:
Как будто печальная тризна, поминки самой о себе. Как страшно!Страшно... Но еще страшнее, что это не вызывает раскаяния, а обращается в обвинения окружающих, в защиту самой себя. Финальные строки — как вспышка ярости, торжества:
Но я ведь любима была и любима сейчас, поэтому неуязвима, неуязвима для вас!— 5 —
Еще более, так сказать, документально антитеза себя, «невинной убийцы», и преступных обвинителей реализована Д. в стихотворении «Суд».
На суде, как известно, Д. твердила, что задушила Рубцова, защищая свою жизнь от посягательств злобного маньяка-изувера. Со слезами на глазах рассказывала она о зажженных спичках, которыми бросал в нее Рубцов (о том, что ни одна спичка не долетела до нее, она естественно умолчала).
— А почему спичек не нашли на полу? — спросил судья.
— Я подмела пол, когда задушила его... — ответила Д.
И снова принялась рассказывать, как Рубцов сорвал с нее одеяло и открыл балконную дверь, чтобы простудить ее...
— Вы говорили, что, защищаясь, укусили его за руку? — роясь в бумагах, спросил судья.
— Да...
— Но при осмотре трупа Рубцова никаких следов укуса не обнаружено...
Мы приводим эти кусочки судебных диалогов, потому что в полемике с этим судебным расследованием и возникло стихотворение «Суд».
Судья у Д. изображен «злобным маленьким гномиком», который тщится что-то понять и не может сделать этого в силу своей умственной ограниченности.
Внезапно строя вопросы, как из-за угла нападал, и глаза сворачивал к носу, в ответах узрев криминал.Портрет нарисован, что и говорить, не слишком лестный. Зато в автопортрете Д. уже не пользуется шаржевой техникой, тут никакой карикатурности нет, все монументально, пронзительно-лирично...
Я, в горе своем замыкаясь, как в шаль, завернулась в позор.Автопортрет особенно выигрывает на фоне судьи, который «властью своей упиваясь, злорадно (подчеркнуто мной. — Н. К.) прочел приговор», на фоне «толпы», издающей «торжествующий вой». Избранная на автопортрете поза настолько комфортна для Д. (какой же, интересно, позор ощущала Д. на суде, если легко обращала его в шаль, которой можно укрыться, в которой можно пригреться?), что она не замечает прорывающихся помимо ее воли ноток этакого блатного, слезливого сочувствия к самой себе.
Все здесь — только блатная поза.
Совсем и не собирается Д. замыкаться в горе, наружное смирение необходимо ей, чтобы изготовиться к неожиданному прыжку на своих обидчиков:
В тюрьму? О, как скучно и длинно гудит этот весь балаган! В тюрьму? Ну а если невинна, как в гневе своем ураган ?!Самооправдание полное и безоговорочное...
Ну, какие, спрашивается, могут быть предъявлены ей обвинения, если она — сама стихия, вершащая приговор высших сил?
Вообще, стремление противопоставить себя обществу, подчеркнуть свою неподвластную человеческим законам суть так или иначе прорывается и в других стихах Д.
Закон суров, но это есть закон, а я древнее всякого закона.С упорством, переходящим в назойливость, снова и снова подчеркивает Д. свою как бы и не совсем человеческую суть:
Всем страхом своим, всей жутью, всем мраком к тебе тянусь.Или: «Я, рожденная в полночь...», или: «В меня вторгся неведомый дух», «Мне лишь одно известно, что хитрый бес вошел в мое ребро».
Порою Д., как бы приглядываясь к себе, замечает в себе нечеловеческое:
Мои поступки так странны, мой путь так неразумно вьется, и дух бунтарский сатаны во мне, как прежде, остается,порою — «Ладья, вперед! Хоть к Люциферу» — в порыве дерзкой удали стремится она вырваться в запредельное, но она всегда думает об этом, всегда соотносит себя с силами мрака, постоянно ощущает себя частью этих сил.
— 6 —
Разумеется, если бы за спиной Д. стояла другая судьба, к ее признаниям можно было бы отнестись с долей скепсиса, зачислив их на счет той столь характерной для небольших поэтов кокетливости, когда авторы готовы приписать себе какие угодно пороки, нацепить какие угодно демонические побрякушки, лишь бы оказаться замеченными в общей массе стихотворцев.
Но судьба Д. — не выдуманная судьба, тьма и мрак ее — настоящие. И спасительный скептицизм здесь уже не срабатывает. Читаешь ее стихи, и в какой-то момент (недаром покойный Виктор Коротаев различал в стихах Д. «медвежий рык») становится действительно страшно. Происходит это, когда понимаешь вдруг, что это, в общем-то, и не совсем стихи. Приемы художественной условности, отделяющие автора от героев и в результате позволяющие автору осмысливать их поступки и признания, в стихах Д. сведены к минимуму и порою совсем отсутствуют. Ее стихи — только лишь ритмически контролируемый поток самовыражения.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
3 января 1996 года Николаю Михайловичу Рубцову исполнилось бы всего только шестьдесят лет. Не исполнилось.
19 января 1996 года был другой юбилей — четверть века со дня его смерти.
— 1 —
Рубцовский праздник в Вологде тогда отмечался с размахом.
Пригласили гостей и из Москвы, и из Питера, и из Мурманска... Отслужили панихиду на могиле Рубцова, открыли мемориальную доску на доме, где он жил. Вершиной праздника должно было стать открытие Мемориального музея в Никольском.
Отправились туда на трех автобусах, но в Тотьме, пока осматривали Тотемский музей, пока заезжали в Спасо-Суморинский монастырь, пока обедали, конечно, подзадержались и в Никольское приехали уже в сумерках...
И сначала показалось, что мы прямо в рубцовское стиховорение: В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь! Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь...и въехали... Однако послушать шум полыньи нам не дали. Была составлена официальная программа, и по программе сейчас шел осмотр музея.
— 2 —
С музеями Николаю Михайловичу, как и с квартирами, не везло. Идея такого музея витает уже лет двадцать, и в Никольском тоже уже дважды открывали рубцовский музей, но ничего не получилось. Нам предстояло открыть музей в третий раз.
Денег на этот раз на музей не пожалели. Сделали его в этаком абстрактно-урбанистическом стиле — обилие стеклянных объемов, увеличенные в размер стен фотографии, хитро раскрашенные потолки, эффектная подсветка...
В таком интерьере с успехом размещаются выставки промышленных товаров, но судьба поэта — увы! — не развертывалась по музейным модулям. Не хватало простоты Рубцова, задушевности...
Ну и, конечно, доконала последняя витрина...
В стеклянном параллелепипеде на невысокой площадке лежали три «Крушины» Людмилы Д. и кусок колючей проволоки. Такой вот незамысловатый, но весьма многозначительный и эмоционально нагруженный финал в экспозиции...
С эмоциональностью никакой промашки не вышло. Забегая вперед, скажу, что и во время застолья впечатления от этой витрины не угасли и между тостами за столом вспыхивали инициативы, дескать, надо бы вернуться в музей, вынести из витрины книжки Д. и... Далее мнения инициативщиков расходились. Одни предлагали выносом книг и ограничиться, другие настаивали на сожжении.
Глава местной администрации благожелательно выслушивал разговоры и тех и других, а затем терпеливо разъяснял, что нынче другое время, нынче плюрализм мнений, как известно, демократия и свобода, и если это было в жизни Рубцова, то скрывать не нужно.
Я в этой дискуссии участия не принимал, пил обманчиво-легонькую клюквенную водку и наблюдал, как напротив меня окучивает местный вологодский писатель молоденькую поклонницу Рубцова...
Самое ужасное заключалось в том, что если бы даже и вынесли книги убийцы поэта из музея, это ничего уже не меняло. Надругательство над его памятью уже совершилось... Я уже говорил, что по-настоящему значение поэзии Рубцова начало осознаваться только после его смерти. Многие лучшие его стихи были опубликованы только в семидесятые годы. Рубцов был мертв, а поэзия его продолжала расти и набирать силу. И что-то зловещее есть в стремлении Д. и иже с нею совершить второе убийство Рубцова...
Разумеется, попытки эти заведомо безрезультатны. То, что осталось нам от Рубцова, неубиваемо, бессмертно...
— 3 —
С рассказом о Никольском застолье я забежал вперед.
Хотя мы и приехали в Николу уже затемно, хотя и нужно было этой же ночью вернуться в Вологду, наш полководец Виктор Коротаев целеустремленно вел теряющее по пути отдельных бойцов (кое-кто сразу на выезде из Тотьмы залег в проходе автобуса и уже не вставал) войско сквозь все испытания.
Нас, приехавших в Николу на трех «Икарусах», оказалось значительно больше, чем местных жителей, и клуб оказался переполненным. В зрительный зал было не войти, и весь вечер я просидел в фойе рядом с Василием Оботуровым, автором интересной монографии о Рубцове.
Время от времени мы выходили покурить на улицу, постояли на крылечке клуба, рассматривая темное небо, украшенное ярко горящими крещенскими звездами, слушая далекий собачий лай...
Не было собак — и вдруг залаяли.
Поздно ночью — что за чудеса! —
Кто-то едет в поле за сараями,
Раздаются чьи-то голоса...
Прочитал вдруг вслух Оботуров стихотворение, которое вспоминал сейчас и я.
— 4 —
Стихотворение это, как и все в поэзии Рубцова, удивительное. Оно начинается словно бы в сонных сумерках подсознания человека, разбуженного ночным лаем собак...
Если вспомнить, что невидимая езда, смутные, доносящиеся из лесной чащобы или из темноты поля голоса в рубцовской поэзии не обязательно предвестники реальной встречи, а чаще всего — сигнал опасности при сближении с враждебными силами, то становится понятной закрадывающаяся при чтении этих стихов тревога. И этой подсознательной тревогой, вопреки логике непосредственного дневного переживания встречи, и объясняется столь странная при встрече с друзьями недружелюбность:
Не было гостей — и вот нагрянули.
Не было вестей — так получай!
Но и в уже вырвавшемся из сонных видений сознании сохраняется настороженная тревога, и хотя и ясно, что это не потусторонние силы обрушились на тебя, а твои друзья, их вторжение продолжает восприниматься как вторжение инородного, ненужного. И так будет до тех пор, пока не произойдет нового привыкания, пока не пойдет все по знакомому и привычному кругу нашей русской жизни, чтобы в который уже раз:
И опять под ивами багряными Расходился праздник невзначай.И за кого, как не за нас, неведомо зачем, в общем-то, приехавших в зимних сумерках в далекое село, заступается Рубцов в своих стихах, приискивая свои, рубцовские объяснения нежданному визиту:
Ты прости нас, полюшко усталое, Ты прости как братьев и сестер: Может, мы за все свое бывалое Разожгли последний наш костер. Может быть, последний раз нагрянули, Может быть, не скоро навестим...Чрезвычайно характерно, что поэт не перед домашними своими за причиненное беспокойство, не перед людьми, а перед полем извиняется за ненужность своих друзей здесь, под «гаснущими ивами», за разлад, что возникает с их появлением в мире, за нарушение сосредоточенного и ясного покоя природы...
Ну а дальше все и пошло так, словно мы в стихотворении Рубцова и оказались. Из клуба радушные хозяева повели нас ужинать.
Было уже совсем темно. Только ярко горели над Николой звезды да посверкивал синими искорками чистый снег. Морозец усиливался, и, торопливо шагая в темноте, я так и не разобрал, куда нас привели: то ли в столовую, то ли еще куда.
— 5 —
Здесь и случилась еще одна встреча. В группе Никольских женщин увидел я Генриетту Михайловну Меньшикову.
Подошел, поздоровался, напомнил о нашей встрече пять лет назад, потом рассказал, что в издательстве, где переиздавался тогда «Путник на краю поля», решили включить в книгу и стихи Рубцова. Лене, как наследнице, начислили гонорар по этой книге и попросили меня отвезти в Питер. И так получилось, что привез я деньги, как раз когда Лена родила третью внучку Николая Михайловича. Такое вот совпадение получилось.
— Ишь ты... — одобрительно проговорила Генриетта Михайловна. — Получается, что он как бы внучке своей и послал подарок.
— Да... — подтвердил я. — Как раз к рождению внучки и подгадали эти деньги.
Вокруг нас толпились люди, разговор наш с Генриеттой Михайловной был самый простой, никаким дополнительным смыслом свои реплики мы не нагружали, но по разговору получалось, что Николай Михайлович продолжал следить за жизнью своей дочери, словно и не отмечали мы нынче печального четвертьвекового юбилея.
— Да... Любил он Ленку-то... — сочувственно вздохнула спутница Генриетты Михайловны. И, посмотрев на распахнувшиеся в зал двери, в которые устремился народ, потянула Генриетту Михайловну: — Пошли, Гета...
— Да не знаю я... — смущенно ответила Генриетта Михайловна. — Гости там будут... Удобно ли?
И мне захотелось сказать, что кому же еще положено сидеть за празднично-поминальным столом, если не ей, но замешкался, общее движение разъединило нас, и так и остались эти слова несказанными, а снова я увидел Генриетту Михайловну уже в зале, когда ни к чему было говорить их...
— 6 —
Ну а застолье удалось на славу.
Говорили положенные в таких случаях тосты, потом разгорелась дискуссия по поводу книжек Д. в музее, потом, перекрикивая всех, поднялся из-за «непрезидиумного» конца стола поэт Петр Камчатый и звучно прочитал свое стихотворение, порядок окончательно нарушился, стало шумнее и вольнее, в общем, как писал Рубцов, «праздник расходился», и вот уже заиграла в фойе гармошка, азартно затопали там, пустившись в пляс, гости.
И конечно, еще пили, и говорили, и читали стихи, и тотемский мэр громогласно успокаивал народ, дескать, не надо торопиться, если кто и отстанет от автобусов, то не страшно — в тотемской гостинице и обогреют и приютят бесплатно...
Тем не менее все-таки погрузились в автобусы и двинулись в путь, правда, проехали совсем немного, остановились в поле... Оказывается, было без пяти минут двенадцать и нужно было встречать старый Новый год.
И снова пили, снова водили хороводы, увязая в глубоком снегу, снова провозглашали тосты, и горел костер, и темные тени метались возле него, и летели искры в черное звездное небо...
И кто-то засомневался было, хорошо ли вот так напропалую гулять, все-таки двадцать пять лет со дня смерти, но тут сразу:
— Не умер Рубцов... Сегодня же только 13 января... Не умер...
— 7 —
А потом снова расселись по автобусам и снова двинулись в путь. И уже не пройти было по автобусу, в проходе еще прибавилось павших «бойцов», а за окном бежали в темноте покрытые снегом поля с редкими затерявшимися в темноте огоньками. Поля сменялись чернеющими лесами, потом снова вырывался автобус в поля...
И сквозь хмель все еще звучали в памяти некончающиеся стихи:
Под луной, под гаснущими ивами Посмотрели мой любимый край И опять умчались торопливые, И пропал вдали собачий лай...И сквозь дремоту как-то рассеянно думалось, что последние строки, построенные на очень точном описании вспыхивающего и затихающего по мере продвижения машины по деревенской улице собачьего лая, снова возвращают читателя в зыбкую полуреальность, из которой и возникло стихотворение.
И что было — реальные люди приезжали в гости, или просто возникло и пропало окутанное сонной дымкой видение — уже не разобрать, не вспомнить...
Растворенность в пейзаже, абсолютное ощущение природы столь развиты в поэзии Рубцова, что порою и герой их становится подобным озеру или полю в наползающих на него сумерках, и если бы могло чувствовать поле или озеро, то такими и были бы ощущения — то ли тень облака промелькнула в воде, то ли ночная птица пролетела, по-прежнему дрожит в лунном свете вода, и не разобрать ничего в этом дрожании. Заглядевшись в лунный свет на воде, сияющий из стихов Рубцова, и задремал я в нашем притихшем автобусе...
На следующее утро в гостинице, когда вспоминали мы эту поездку, меня уверяли, что никакого костра не было, никто не разводил его...
Ну как же не было, если отчетливо помню я и красноватые отсветы огня на снегу, и искры, улетающие в темное звездное небо... Что же это было, если не костер?
Москва — Ленинград — Вологда — Трускавец — Тотьма — Никольское — Пицунда — Переделкино — Санкт-Петербург
1988-2000 годы
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. М. РУБЦОВА
1936, 3 января — В селе Емецке Северной области (ныне Архангельская область) в семье Михаила Андриановича Рубцова родился сын Николай.
1937 — Семья Рубцовых переезжает в Няндому.
1940 — В возрасте шестнадцати лет умерла от менингита старшая сестра Николая Рубцова — Надежда.
1941, 14 января — Рубцовы переезжают в Вологду. Михаила Андриановича назначили начальником Военторга в Кащубе.
1942, 26 июня — Умерла Александра Михайловна, мать Николая Рубцова.
Июль — Михаила Андриановича Рубцова призывают в действующую армию.
Сентябрь — Николай Рубцов принят в Красковский дошкольный детский дом Вологодского района Вологодской области.
1943, 20 октября — Николая Рубцова переводят в Никольский детский дом Тотемского района Вологодской области.
Осень — Николай Рубцов начинает учиться в школе.
1946, 20 июня — Николай Рубцов награжден похвальной грамотой за успехи в учебе и примерное поведение.
1949 — Николай Рубцов редактирует школьную стенгазету.
1950, 12 июня — Николай Рубцов закончил семь классов Никольской неполной средней школы.
Лето — Николай Рубцов пытается поступить в мореходное училище в Риге. 13 августа — Рубцов поступает в Тотемский лесной техникум.
1951, ноябрь — Николай Рубцов вступает в члены ВЛКСМ.
1952, лето — Закончив два курса Лесотехникума, Рубцов забирает документы и уезжает в Архангельск.
12 сентября — Рубцов зачислен угольщиком на тральщик РТ-20 «Архангельск».
1953, июль — Николай Рубцов увольняется с тральщика и едет в город Кировск, поступает здесь в горно-химический техникум.
1954, лето — Рубцов гостит у своей возлюбленной Татьяны Решетовой в селе Космово Вологодской области. Поездка Рубцова в Ташкент.
1955, январь — Рубцов бросает учебу в горно-химическом техникуме. Март — встреча с отцом и братом Альбертом. Рубцов устраивается слесарем-сборщиком на испытательный полигон в поселке Приютино под Ленинградом. Осень — Николая Рубцова призывают в армию. Попал он для службы на Северный флот.
1956, март — 1959, ноябрь — Рубцов служит на эсминце «Острый» матросом.
1957, осень — Рубцов едет в Приютино в отпуск.
1958— Стихи Николая Рубцова опубликованы в коллективном сборнике «На страже родины любимой».
1959, февраль — Стихи Рубцова напечатаны в первом номере флотского альманаха «Полярное сияние».
Май — Рубцов попал на операцию в мурманский госпиталь. Осень — Рубцов демобилизовался с флота.
30 ноября — Рубцов устраивается на Кировский завод в Ленинграде.
1960 — Рубцов посещает занятия в литобъединении «Нарвская застава». 1961 — Рубцов перешел работать шихтовщиком в копровый цех завода.
Вышел коллективный сборник «Первая плавка» со стихами Рубцова.
1962, 24 января — Николай Рубцов читает стихи на вечере молодой поэзии в ленинградском Доме писателей.
1 июня — 13 июля — Борис Тайгин изготовил тираж (шесть экземпляров) сборника Николая Рубцова «Волны и скалы». 21 июня— Рубцов закончил среднюю школу № 120 рабочей молодежи.
23 августа — Приказ о зачислении Николая Рубцова, как успешно сдавшего вступительные экзамены, в Литературный институт имени А. М. Горького.
29 сентября — Умер Михаил Андрианович Рубцов. Причина смерти — рак желудка.
1963, 20 апреля — Родилась дочь Николая Михайловича Рубцова и Генриетты Михайловны Меньшиковой — Лена. 29 октября — Обсуждение стихов Рубцова в Литературном институте на семинаре Н. Н. Сидоренко.
4 декабря — Рубцов первый раз отчисляется из Литературного института.
25 декабря — Рубцов восстановлен в институте.
1964, июнь — подборки стихов Николая Рубцова опубликованы в журналах «Юность» и «Молодая гвардия».
Рубцов во второй раз отчислен из института. Август — Подборка стихов Николая Рубцова в журнале «Октябрь».
Конец ноября — Николай Рубцов участвует в работе областного семинара молодых литераторов в Вологде.
1965, 15 января — Николай Рубцов восстановлен на заочном отделении Литературного института.
9 июня — Рубцов подписал договор с «Советским писателем» на издание своей книги «Звезда полей».
В Северо-Западном книжном издательстве в Архангельске вышел первый сборник Николая Рубцова «Лирика».
Ноябрь — В журнале «Октябрь» опубликованы стихи «Добрый Филя», «Тихая моя родина» и другие.
1966, май-июнь — Рубцов едет в командировку на Алтай. Подборки в журналах «Знамя», «Юность»...
1967, лето — Вышла книга «Звезда полей». Рубцов участвовал вместе с вологодскими писателями в поездке по Волго-Балту на агиттеплоходе.
1968, 19 апреля — Николай Рубцов принят в Союз писателей СССР. Осень. Получил прописку и место в общежитии на улице VI Армии в Вологде.
1969 — Рубцов получил однокомнатую квартиру на улице Александра Яшина.
23 мая — Рубцов получил диплом об окончании Литературного института им. А. М. Горького.
23 июня — В Вологду к Рубцову приехала Д., его будущая убийца. В Архангельске вышла книга «Душа хранит».
1970, 9 июня — Рубцов порезал стеклом вены на руке и попал в больницу.
1971, 19 января — Ночью убит Николай Михайлович Рубцов.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Поэтические книги Н. М. Рубцова
Волны и скалы. — СПб., 1998, репринтное воспроизведение самодельной книжки, изданной Б. Тайгиным в 1962 г.
Лирика. —Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1965.
Звезда полей. — М.: Сов. писатель, 1967.
Душа хранит. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969.
Сосен шум. — М.: Сов. писатель, 1970.
Зеленые цветы. — М.: Сов. Россия, 1971.
Последний пароход. — М.: Современник, 1973.
Избранная лирика. Сост. В. Оботуров. — Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1974.
Первый снег (Для младшего школьного возраста). — Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1973.
Подорожники. Сост. В. Коротаев. — М.: Мол. гвардия, 1976.
Стихотворения (1953—1971). Предисл. В. Кожинова. — М.: Сов. Россия, 1977.
Избранное. Сост. С. Викулов и В. Оботуров. — М.: Художеств, лит, 1982.
Стихотворения. Сост. В. Кожинов. — М.: Сов. Россия, 1983.
Посвящение другу. Сост. В. Оботуров. —Л.: Лениздат, 1984.
Стихотворения. Сост. В. Оботуров. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983.
Стихи. Сост. В. Кожинов. — М.: Художеств, лит, 1988.
Видения на холме. Стихи, переводы, проза, письма. Сост. В Коротаев. — М.: Сов. Россия, 1990.
Русский огонек. Стихи, переводы, воспоминания, проза, письма в 2 т. Вступ. ст. В. Коротаева. — Вологда: Вести, 1994.
Вологодская трагедия. Сост. Н. Коняев. — М.: Эллис Лак, 1997.
Последняя осень. Стихи, письма, воспоминания. Сост. В. Калугин. — М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.
Собрание сочинений: В 3 т. Сост. В. Зинченко. — М.: Терра, 2000.
Литература о Н. М. Рубцове
Кожинов В. Николай Рубцов. — М.: Сов. Россия, 1976.
Оботуров В. Искреннее слово. — М.: Сов. писатель, 1987.
Белков В. Неодинокая звезда. — М.: Б-ка журн. «Мол. гвардия», 1989.
Коротаев В. Козырная дама. — Вологда, 1991.
Сафонов В. Повесть памяти. — М.: Воен. изд-во, 1992.
Коняев Н. Путник на краю поля. — М.: Роман-газета, 1993.
Белков В. Жизнь Рубцова. — Вологда, 1993.
На вершине земли Кольской: Рубцовские чтения в г. Апатиты. — Мурманск: Мурм. отд-ние Всерос. Фонда культуры, 1994.
В мире Рубцова... Вып. 1 — 10.
Николай Рубцов: Время, наследие, судьба. Лит.-худож. альм. № 1—3. Сост. ред. С. Сорокин. — СПб.: Со-Ва, 1994.
Коняев Н. Ангел Родины. — Ростов-н/Д: Феникс, 1998.
Котюков Л. Демоны и бесы Николая Рубцова. — М., 1998.
ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ
Николай Рубцов
Мать поэта — Александра Михайловна Рубцова
Отец — Михаил Андрианович Рубцов
Музей Н. М. Рубцова в Никольском
Детдом, в который поместили Николая Рубцова. Здесь он жил с 1943 по 1950 год
Брат — Альберт Михайлович Рубцов. 1954 год
Николай Рубцов с воспитательницами детдома
Воспитатели
Валентина Алексеевна Рубцова. Май 1996 год
Воспитанники
Николай Рубцов среди детдомовцев
Похвальная грамота ученика третьего класса Н. Рубцова
Усадьба Олениных «Приютино». Здесь размещалось общежитие артиллерийского полигона
«Приютино». Николай с племянницей Ольгой
С «приютинскими» друзьями
В строю. Рубцов — второй слева
Учетная карточка члена ВЛКСМ
В увольнении
Одной семьей. Рубцов — во втором ряду, четвертый слева
В минуты отдыха
Вспоминая вологодские частушки
Старший матрос Рубцов
Дембель
Аттестат зрелости Н. М. Рубцова
Общежитие на Севастопольской улице. г. Ленинград
Н. Рубцов в редакции многотиражки «Кировец». Слева направо: В. Тресвятский, Н. Рубцов, З. Барымова, В. Горшков
Рубцов читает стихи
Рубцов в Литературном институте
Фото на память
Фото на память
Тотьма. Деревянный дом. XIX век
Н. Рубцов и В. Коротаев
Егор Исаев
На могиле отца. Осень 1962 года. Слева от Н. Рубцова — Софья Андриановна Рубцова, крайняя справа — мачеха Женя
Справа налево: Николай Рубцов, Анатолий Передреев, неизвестный
Николай Рубцов со студентками Литературного института. Рядом с ним — Валентина Телегина
Книга Ф. Тютчева, которую подарил Рубцову Станислав Куняев. С этой книгой Николай Михайлович не расставался до самой смерти
Вологодские писатели в Вытегре летом 1967 года. Стоят: А. Романов, В. Коротаев, Н. Рубцов, В. Белов, Д. Голубков, А. Яшин, Л. Беляев, Г. Соколов. Сидят: С. Чухин, Б. Чулков
Дочь Лена: школьница
Дочь Лена: взрослая
В хорошем настроении
Никольское лето
Николай Рубцов и Сергей Багров в с. Николы летом 1964 года
Письмо Николая Рубцова Станиславу Куняеву
Храм—пекарня в с. Николы
Раздумья поэта
Литфондовский билет Николая Рубцова
В гостях у Астафьевых
А. Сушинов, А. Шилов, Н. Рубцов
Поют Н. Рубцов и композитор А. Шилов
В редакции «Вологодского комсомольца»
С художницей Генриеттой Бурмагиной
Книги Н. Рубцова
И. Астафьев, В. Коротаев, М. Корякина, Н. Рубцов, В. Астафьев
В последний год жизни
Б. Чулков и Н. Рубцов
В. Лидин вручает Н. Рубцову диплом об окончании Литературного института им. А. М. Горького
Под ветвями больничных берез
В зимнем сквере
В краеведческом музее
Завещание
Могила Н. Рубцова
Василий Белов на строительстве музея в с. Николы. 1985 год
Ст. Куняев, А. Передреев и В. Кожинов на «Старой дороге» Н. Рубцова. Берег Сухоны. 1985 год
Памятник Николаю Рубцову в Тотьме
Примечания
1
Вологодская и Архангельская области были объединены тогда в одну Северную область. Разделение произошло в 1937 году.
(обратно)2
Деревня в Вологодской области. (Прим. ред.)
(обратно)3
По смутным и невнятным воспоминаниям Галины Рубцовой получается, что тетка забрала только ее, и у тетки она «мыла полы, стирала...». Альберт же был отдан в ФЗУ.
(обратно)4
Красково — усадьба, где родился писатель Гаршин.
(обратно)5
«Стихия света, — писал В. В. Кожинов, — создает внутреннюю, глубинную музыкальность рубцовской лирики».
(обратно)6
Стихотворение цитируется по книге В. Кожинова «Николай Рубцов», серия «Писатели Советской России». М., 1976. С. 47.
(обратно)7
В 1960 году унесло в океан советскую баржу. 49 дней военнослужащие А. Зиганшин, Ф. Поплавский, Н. Федотов, А. Крючковский болтались в океане, пока их не спасли американцы.
(обратно)8
Машинописный сборник Н. М. Рубцова «Волны и скалы» выпустил Борис Тайгин. К. Кузьминский попросил свою мать скопировать его на «ундервуде». Так был сделан еще один «тираж» первой рубцовской книжки.
(обратно)9
Вестник РСХД, № 97.
(обратно)10
Архив Литературного института им. А. М. Горького, опись № арх. дело № 1735, связка № 116.
(обратно)11
«Русский Север». 1997. 14 января.
(обратно)12
Сценарий «Новогодней сказки» был написан Рубцовым в соавторстве с А. Черевченко, и на долю Рубцова пришлось семьдесят рублей гонорара.
(обратно)13
Бывший секретарь Сталинградского обкома ВКП(б), преподаватель истории.
(обратно)14
Кстати не тот ли это метрдотель, с которым, судя по воспоминаниям Валентина Сафонова, схлестнулся Рубцов в начале декабря? И спутники Рубцова? Кто они?
(обратно)15
Кстати, шокирующая многих в воспоминаниях С. Багрова реплика Н. М. Рубцова: «Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться» — нуждается в пояснении. Генриетта Михайловна и ее мать «сенокосили» для колхоза. Участие Рубцова в этой работе ничего бы не изменило, все равно бы женщин заставили идти на покос.
(обратно)16
Про эту избу, воспетую впоследствии Николаем Рубцовым, вспоминает и Генриетта Михайловна Меньшикова: «Коля все хотел купить Домик. За деревней около мастерских была столовая, стояла она у оврага, вот он все и хотел ее купить...»
(обратно)17
Стихотворение «Старая дорога» было опубликовано в «Алтайской правде» 30 августа 1966 года.
(обратно)18
Пасха в 1969 году была 13 апреля.
(обратно)19
ГАВО. Фонд 51, б/у, опись 1, дело № 362.
(обратно)20
Рубцов Н. Собр. соч. в 3 т. М: Терра, 2000.
(обратно)21
Этот заголовок появился у стихотворения при публикации в газете «Вологодский комсомолец» в августе 1968 года и явно носит маскировочный оттенок. Хотя в редакции молодежной газеты и восхищались стихами Николая Михайловича, но все-таки это был орган обкома комсомола, и совсем не комсомольское стихотворение Рубцова пришлось замаскировать под пейзажную зарисовку... Название прижилось. В сборнике «Сосен шум» Николай Рубцов повторяет его, но, составляя план «Успокоения», забывает о придуманной маскировке. Может быть, сделано это подсознательно — Рубцов составляет свой сборник, и внимание его занимает смысл стихов, а не их маскировка.
(обратно)22
В тексте «Лесной сказки», включенном в составленный и отредактированный В. Зинченко трехтомник, пропущено четверостишие:
— Где княжна? — вскричал разбойник Ляля Сквозь тугой порыв лесного гула. И сказал Бархотка, зубоскаля: — Вечным сном княжна твоя уснула... (обратно)23
Воспоминания Людмилы Д. цитируются по машинописному тексту, переданному убийцей поэта Глебу Горбовскому. Хотя они и опубликованы сейчас в газете «Криминальный вестник» и альманахе «Дядя Ваня», но в них (разговор об этом впереди) внесены некоторые изменения в соответствии с тем, как Д. сама представляет теперь себе и пытается представить другим смысл совершенного ею преступления. Я считал и продолжаю считать воспоминания убийцы поэта прежде всего документом. Этот подход и не позволяет мне пользоваться откорректированными свидетельствами. Наша задача — воссоздание объективной картины трагедии.
(обратно)24
Кроме Д., бытом Николая Рубцова занимался В. П. Астафьев. Он описывает в своих воспоминаниях, как ходил с ним по магазинам, подбирая Рубцову одеяла и подушки, чашки и ложки и даже шторы на окна и картинку на стену.
(обратно)25
Вероятно, именно этот эпизод и послужил В. П.Астафьеву материалом для создания истории о квартирном соседе Рубцова, инструкторе обкома КПСС. Никаких других открытых столкновений с партаппаратчиками у Николая Михайловича, выдававшего себя иногда за сына значительного партийного работника, неизвестно.
(обратно)

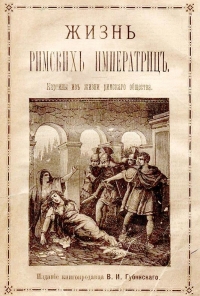

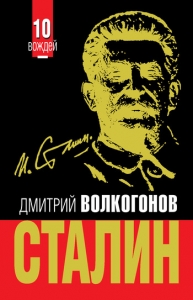

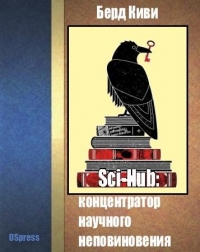
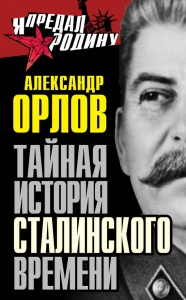
Комментарии к книге «Николай Рубцов», Николай Михайлович Коняев
Всего 0 комментариев