Антанас Венцлова В поисках молодости
ОТ АВТОРА
Бежит время. С каждым годом его остается все меньше. А когда посмотришь назад — дорога идет через годы, события и исчезает за далеким горизонтом детства. Эта дорога началась от порога родной избы и поначалу вела в близлежащее село, потом — в большие города, чужие страны, к незнакомым людям. Жизнь не скупилась на тяжелые часы, но наделила прекрасными друзьями, дала минуты счастья. Я немало работал, мечтал, искал. Времена выдались тяжелые, подчас даже трагичные, — времена опасностей, бурь и переворотов. Но человеческая память, к счастью, не любит хранить неприятности, куда ярче сохраняет она солнечное и радостное. Может быть, поэтому в моей книге тоже больше таких минут…
Шли дни и годы, и мне все больше хотелось вернуться в прошлое, найти молодость — свою и своих друзей, которые, как хотелось бы мне, с улыбкой и хорошими чувствами прочитают эту книгу.
Мое поколение редеет с каждым годом. Нет в живых ближайших друзей — Пятраса Цвирки,[1] Саломеи Нерис,[2] Йонаса Марцинкявичюса,[3] Казиса Боруты, Винцаса Жилёниса, Йонаса Шимкуса.[4] Некоторые из них собирались описать путь своего поколения, но не успели. Другие умерли молодыми — им и в голову не приходило писать мемуары. Я тоже долго откладывал эту книгу. Но, тяжело захворав несколько лет назад, я впервые понял — ничья жизнь не вечна. И вот я отложил в сторону другие работы и описал то, что увидел за свою жизнь.
Мемуары должны быть правдивыми. Но, по моему глубочайшему убеждению, они могут и должны быть субъективными. Я не собирался писать ни истории Литвы, ни хроники общественных движений. Я хотел написать только о себе, о своих друзьях и знакомых. А вместе с тем в той или иной степени всплывет и эпоха, в которой мы жили. Личная жизнь — моя и моих друзей — здесь не заняла много места только потому, что немало действующих лиц или их близких живы. А это требует от мемуариста не только такта, но иногда и просто молчания.
Не все описанные мною люди, да и я сам, во всем безупречны. Я рисовал их такими, какими знал, — без искусственных украшений и ненужной «героизации». Я думаю, они не рассердятся на меня за это, как не должны бы рассердиться и их почитатели. Я старался быть точным в каждой подробности, и лучше недосказать (если говорить это, по моему мнению, рано), чем сказать неправду.
Полагаю, читатель поймет, что в книге такого характера нельзя искать оценки жизни и деятельности того или другого писателя. Различные люди здесь затронуты лишь настолько, насколько сталкивался с ними автор.
Эта книга — продолжение «Весенней реки». Если первая книга написана как повесть и основана часто на памяти автора, то сам материал этой, новой, диктовал иную форму — документальную, а местами и публицистическую. И ту и другую книгу я писал, стараясь смотреть на события и людей прошлого глазами тех лет (кроме некоторых замечаний в скобках). Пускай читатель не удивляется, когда и я и изображенные мною люди многого не знают и не понимают того, что мы так хорошо понимаем сейчас.
И «Весенняя река» и эта книга должны были показать путь моего поколения из деревенской темноты к культуре, свету, творчеству, который вел нас к изменению общественного строя, к социалистической революции. Путь был долгий, извилистый и трудный. Если читатель почувствует повороты и трудность этого пути, я буду считать, что добился своей цели.
А. ВенцловаВ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Если есть на свете счастливые люди, то один из них — я! И правда, мне невероятно повезло. Кто мог подумать, что, уехав из деревни неделю назад с восемью литами в кармане, я буду уже чиновником и окажусь в Каунасе, на втором этаже здания Министерства сельского хозяйства! Я сижу и скучаю. Но скука скоро кончится, начнется работа! Так утверждал референт Гасюнас, энергично расхаживая по двум небольшим пустым комнатам, в одной из которых стояли наши столы. Он искал места для шкафа с делами, для других столов, за которые сядут столь же счастливые юноши, как я, — канцеляристы департамента земельной реформы!
Расхаживая по комнатам, референт время от времени оказывался у своего стола, садился и от скуки принимался листать какое-нибудь дело или комплект «Правительственных ведомостей». Он удивился, увидев, что я пишу стихи, и попросил прочитать ему что-нибудь. Немного смущаясь, я продекламировал что-то о сумеречных переулках, и он меня похвалил:
— Ничего… Но, знаешь, надо бы про родину или про бога вставить. Майрониса читал?
Майрониса-то я читал, но спорить не решился и что-то буркнул себе под нос.
— Я тоже иногда пописываю в газеты. В «Утро». Раньше работал в Кретинге и посылал заметки, а теперь пишу статьи о земельной реформе. Хочешь почитать?
Он вынул из портфеля статью — странички в полторы.
— Ну как? — спросил Гасюнас, когда я кончил читать. — Нравится?
— Ничего, — ответил я, — но я бы исправил немного стиль.
Референт не обиделся — мои замечания ему даже понравились. После этого я каждую неделю правил его статьи. Мой авторитет в глазах референта сильно возрос. Он начал меня величать «знатоком языка».
В один прекрасный день из типографии начали свозить пакеты и сгружать в наших пустых комнатах. Развязав один из них, референт извлек несколько «Актов о передаче земли», напечатанных на плотной голубой бумаге. Это были бланки, которые придется заполнять нам, канцеляристам. Потом они отправятся к нотариусу или в ипотеку, их зарегистрируют в книгах и выдадут новоселам, которые получили землю после раздела поместий.
— Это тоже моя работа. Посмотри, — подал мне бланк референт.
Я с первого же взгляда заметил, что бумага кишит странными, неправильными фразами, словно какой-то невежда перевел их с иностранного языка. Я вежливо высказал эту мысль референту. Он попросил меня по своему усмотрению исправить документ. Прокорпев полдня (фразы были запутанные и непонятные), я кое-как выправил бумагу. Сев за свой стол, референт серьезно вникал в мои поправки, почесывал плешивую макушку, ходил с бланками в другие комнаты, кому-то показывал, с кем-то советовался. Несколько дней он был задумчив, а из кабинета директора департамента земельной реформы вернулся даже в полном унынии.
— Эх, черт возьми, — сказал он. — И не мог ты раньше приехать, тогда бы мы вдвоем…
Я не совсем понял, что бы мы вдвоем сделали, но было ясно, что бланки никуда не годятся. Полкомнаты было завалено ими, а из типографии все еще везли и везли.
Однажды утром я пришел на службу, и увидел, что в обеих комнатах топятся печи. Стояло лето, а печи гудели, в них бушевало пламя. Референт уничтожал неудачные документы…
А наши пустые комнаты заставили новыми столами и стульями. Вскоре за ними уселись молодые люди — свежеиспеченные чиновники, принятые в новый отдел «Документов о земельной собственности». Земельная реформа подходила к концу.
Некоторое время спустя напечатали новые бланки документов о собственности. Мы научились заполнять, их. Дело было несложное: взять дело соответствующего поместья (в министерстве имелось дело на каждое разделенное поместье) и написать каждому новому владельцу земли все необходимые данные — где находится участок, когда выделен, каков размер, какая почва, где проходят межи.
Новые мои сослуживцы оказались такими же первокурсниками, как и я. Кто собирался изучать право, кто медицину, а кто, вроде меня, гуманитарные науки. Скоро начало учебного года, и все мы с нетерпением ждали его, как начала новой своей жизни, ни минуты не сомневаясь (во всяком случае, я не сомневался), что нас ждет что-то необыкновенное.
Наконец-то настал день, которого мы так ждали. Отпросившись с работы, мы побежали в здание университета, что на улице Мицкевича. Увы, мы опоздали: просторный актовый зал был битком набит студентами. Лишь встав на цыпочки, я увидел впереди, на возвышении, профессоров, сидящих за длинным столом. Но меня тут же оттеснили от двери, и до меня доносились лишь отдельные слова. Кажется, говорил ректор:
— …Наша альма-матер… Свет науки, и только свет науки… Взять крепость науки… Я приветствую всех, кто жаждет…
Чем дальше, тем трудней удавалось уловить слова ректора. Несколько раз прогремели аплодисменты, потом говорил еще кто-то. По слухам, ректор сегодня пожимает руку каждому новому студенту, иначе говоря — фуксу. Было бы недурно, чтобы он и мне пожал! Увы, не только я остался за дверью, не только меня обошли рукопожатием.
Ладно, не попал в аудиторию, и дело с концом. Все равно теперь начнутся невероятные дни — новые друзья, лекции профессоров, полные мудрости, споры студентов и идейные сражения! И я вспомнил письма Казиса Боруты, которые он, студент уже с прошлого года, писал мне зимой из Каунаса. Одно из этих писем накрепко засело у меня в памяти.
«Я вступаю в сражение, — писал мне Казис, — между рабством и свободой. Правда, здесь мы сталкиваемся с вопросом насилия: всех вести к социалистическому порядку, как ксендз ведет души в рай. Не будь насилия в мире буржуазного рабства, я бы, может быть, колебался, что делать, но теперь — нет! С другой стороны, тут еще и дело прогресса. Останавливать или толкать вперед. Я требую — вперед, особенно потому, что этот прогресс вперед должен вести к освобожденному Человеку и Труду. Если не так — к черту прогресс… Но люди сами делают историю, если люди так хотят, то так — будет».
Правда, не все мне было понятно в письмах моего друга, но нельзя же сомневаться, что эти письма — отражение нового мышления, студенческих дискуссий, поисков неспокойного ума. Теперь и я окунусь в эту атмосферу исканий и переоценки ценностей!
Приехав в Каунас и обосновавшись в комнатке на Короткой улице, я начал читать стихи Эмиля Верхарна о городах, капитале, восстаниях, деревне в бреду. Тогда в мои руки попал томик его стихов, переведенный на русский язык Брюсовым. Я читал и романтические «Мистерии» Кнута Гамсуна, и «Ингеборг» Бернгарда Келлермана — эти книги утоляли жажду мечты, тягу к новому и неизвестному… (Роман Келлермана «Девятое ноября» я еще в гимназии начал переводить на литовский язык.) Интересовался я и Ильей Эренбургом, полным скепсиса и едкой иронии над буржуазией, над опустошенной войной и все еще не очнувшейся Европой, томящейся под духовным гнетом. После книги Эренбурга «А все-таки она вертится», где автор предрекал, что роман будущего может иметь не больше шестидесяти страниц, восхищался красотой машин и зданиями Корбюзье, я читал изданные в Советском Союзе книжицы об экспрессионизме, футуризме, Маяковском и вольном стихе.
Я жил в полном одиночестве у старой польки, которая приносила мне по утрам горячий чай, а деньги требовала вперед. Не получив жалованья, недели две питался одним хлебом, потому что не было денег. Одолжить было не у кого — летом в Каунасе не оказалось никого из знакомых…
Заметив, что я сильно истощал, референт Гасюнас спросил однажды:
— Ты, часом, не заболел ли? Тебе, братец, следовало бы знать, что для студента чахотка — прямой путь в могилу. Не выкарабкаешься!
Я стеснялся сказать ему истинную причину своей худобы, надеясь как-нибудь дотянуть до первой получки.
Я гулял по городу, который мне казался настоящим великаном. Да, Каунас пришелся мне по душе! Одна Лайсвес-аллея чего стоит! Идешь, идешь, и все конца не видно. А какой вид с Зеленой горы или с горы Витаутаса! Площадь Ратуши, Алексотас, Неман, Нерис — может ли быть что-нибудь прекраснее! Вечером я забирался на холм, глядел на город, где робко вспыхивали первые лампы позднего вечера, и мне хотелось говорить строками Верхарна, полными шума, гула, движения, романтики… и я писал стихи, до одури декламировал их сам себе, посылал своему старому другу Костасу Стиклюсу в Мариямполе, в «Волны Шешупе», которые он издавал…
Но Каунас только с виду был прекрасен, величествен, необычен. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что через весь город тянется конка; на углах стоят извозчики с обшарпанными пролетками; по улицам снуют разряженные в пух и прах чиновники и спекулянты; на каждом шагу к тебе протягивают руки сморщенные, сгорбленные старушки, пожилые люди, жалующиеся на безработицу; по вечерам не только в укромных улочках старой части города, по которым я возвращался в свою комнатку, но даже посередине главного бульвара тебя останавливали юные девушки, невероятно размалеванные, нахально предлагая свои услуги. До поздней ночи в городе гудят рестораны и кабаки. Из их дверей то и дело на улицу вываливаются пьяницы. Кажется, что людей этого сорта здесь тьма-тьмущая.
«В городе, где разжиревшие буржуа носятся на автомобилях, много народу дохнет с голоду в подвалах», — писал я в одном из писем своему другу учителю Винцасу Жилёнису, и эту фразу я, без сомнения, не выдумал. Куда отчетливей, чем в городе моего детства Мариямполе, на каждом шагу бросались здесь в глаза контрасты богатства и нищеты, роскоши и бедности.
Многие из моих сотрудников оказались атейтининками. Принимая в министерство новых чиновников, их порядком просеивали. По правде говоря, я сюда угодил по недоразумению и оказался белой вороной. Дело обстояло так. Выбравшись в Каунас, попрощавшись с родными и приехав в Мариямполе, я случайно встретил перед гимназией своего бывшего директора. Это был мрачный, неразговорчивый, но прямой и даже добрый человек. Когда я однажды написал для него, преподавателя литературы, домашнюю работу о значении христианства, в которой как следует прошелся по инквизиции и прочим гнусностям, директор не возвратил мне этой работы, хотя в классном журнале и поставил пятерку. Лишь позднее я понял, как чутко он тогда отнесся ко мне. И вот сейчас, встретив меня на улице, он спросил, почему я не на летних учительских курсах. Я ответил, что собираюсь в университет, только не знаю, как и что… Он повел меня к себе домой и черкнул записку в Каунас — начальнику управления земельной реформы, своему брату. Видно предчувствуя, что мои взгляды не совсем сходятся со взглядами правящей партии христианских демократов, он посоветовал мне на прощанье:
— Только не лезь в политику… В политику, говорю, не лезь…
По-видимому, он куда лучше меня понимал, что за штука политика и почему она не к лицу молодому студенту, добивающемуся места.
Как я уже говорил, большинство моих сослуживцев в министерстве оказались атейтининками. Увидев мои стихи, они покачивали головами, а один прямо сказал:
— Какие-то левые, не наши… Откуда ты их взял? Кто тебе их дал?
Такое неверие в мой талант меня оскорбило:
— Как это — кто дал? Я сам их написал! И не понимаю, почему они левые…
— Знаешь, такими стихами лучше не бахвалиться, — сказал атейтининк. — Разве можно так про бога?
Я сунул свои стихи в карман и решил больше их дуракам не показывать. Несколько стихотворений послал Костасу Стиклюсу, а другие — в оппозиционные газеты Каунаса.
Оказалось, что мои сочинения каунасские газеты берут и печатают без особых трудностей. Совсем недавно в оппозиционной газете я напечатал длинную статью о журнале «Борозда». Этот журнал издавали старые писатели, и он мне не нравился. Вот я и выложил откровенно все, что думал как о самом журнале, так и о некоторых уважаемых его авторах. «Восьмой номер «Борозды», если сравнить его с первым, сделал большой шаг… назад, — писал я. — Больно это говорить, но это неоспоримый факт. То же литературное убожество, как и в прежних номерах, если не больше. Содержание — сплошь сочинения «пенсионеров» (по выражению Ю. А. Гербачяускаса[5])…»
Дальше я принялся за Майрониса:
«В этом номере на видном месте дебютирует Майронис своими стихами «На холме Пуне». Раньше лирику Майрониса мы читали с превеликим удовольствием и душевным подъемом. Увы, нельзя этого сказать о его последних сочинениях. Майронис — романтик. Ему и теперь трудно забыть свой романтизм, хотя… устарел и Майронис и идеи майронасовских времен. Современная жизнь требует от писателя иного, чем несколько десятков лет тому назад… И в новых его произведениях уже нет того огня, они выцветшие, туманные и больше не соответствуют требованиям жизни и искусства наших дней».
В этом, пожалуй, не было ничего нового, о Майронисе тогда было модно так писать. Гораздо хуже, что под статьей я подписался собственной фамилией и для вящей торжественности прицепил к ней словечко «студ», то есть студент.
Майронис, старый заслуженный поэт, которого читали целые поколения, которого читал и любил я сам, почувствовал себя задетым моей статьей и ответил на нее в журнале.
«…Обычно я не люблю отвечать на критику, — писал он, — потому что знаю: она не может ни прибавить, ни отнять достоинства автора… Лучший ценитель произведений — время.
Но на этот раз мне слишком больно. О заслуженном профессоре с тридцатилетним стажем студент отзывается свысока, менторским топом. Пускай! Это дело воспитания. В наше демократическое время это не в диковинку, не стоит принимать близко к сердцу.
…Я ведь романтик, для которого Мицкевич, Пушкин, Гёте остаются образцами даже в отношении формы. Но нынешних требований жизни и искусства (или нашего критика) этим не удовлетворишь…»
Стоит ли объяснять, что впоследствии, набравшись ума-разума и почувствовав, что необдуманное слово может не только ранить, но и убить человека, я от души сожалел о несерьезных, грубых, даже наглых своих словах, которые так задели старого поэта. К сожалению, при жизни поэта я не смог исправить свою ошибку. Думаю, что сделать это никогда не поздно, и потому пишу эти строки.
В те годы в Каунасе очень популярным был Юозапас Альбинас Гербачяускас, приехавший из Кракова и преподававший в университете польский язык и литературу. Тогда в литературной прессе появились его странные сочинения, которые кое-кому поначалу показались даже революционными. По этой же рецензии видно, как я расценивал статьи Гербачяускаса.
«Гербачяускас — чудной человек, — писал я. — Может быть, он и оказался бы значительным художником, если б смог справиться со своим стилем. Но пока этого не видно. Его писания — окрошка из слов и мыслей, в которой трудно разобраться. Когда Гербачяускас садится писать, он… думает мало, а пишет, что на язык подвернется… Ю. А. Гербачяускас идет по «нашей литературной республике», заранее предупредив всех: «Женщины по пути не изнасилую, а вот с нищим на кладбище переночую. Убийце велю убить черта, а блуднику суну за пазуху змею. Птицам и зверям скажу проповедь, а людям повелю плясать на кладбище… Женюсь на цыганке и буду жить ворожбой… Я буду бродягой в нашей литературной республике… А будучи бродягой, я все увижу, все узнаю — стану лучшим критиком». По словам Гербачяускаса, в Литве «один хочет быть автомобильным гудком, другой — велосипедом, третий — паровой лошадью (Пегас надоел), четвертый — полицейской дубинкой, пятый — трубой фабрики Тильманса, шестой — асфальтом тротуара и т. д. и т. п.».
С Гербачяускасом, как и со многими другими тогдашними знаменитостями, я познакомился позднее…
А теперь вернемся в министерство, куда я спешил каждое утро, как раньше в гимназию. В полутемных коридорах, не видевших света дня, уже слонялись чиновники. Потом они сидели за столами и писали, писали, писали, лишь изредка выходя в коридор покурить и поделиться событиями своей монотонной жизни.
С раннего утра в коридорах толпились крестьяне. Они сидели на скамьях, жевали твердый сыр или крутые яйца, курили вонючие трубки, громко вздыхали. Большинство приехало сюда за правдой — то их обошли при разделе поместья, то участок оказался маленьким, с плохой землей или вообще неудобный, то вначале дали, а потом сосед донес, что он не ходит в костел, и участок передали другому. Крестьяне ходили из отдела в отдел, рассказывали о своих бедах, просили исправить непорядки. Некоторые приехали на последние гроши из дальних мест поездом, другие на лошадях и входили в министерство с кнутом под мышкой. Некоторые пытались давать взятки чиновникам, чтобы быстрее решилось дело. Взятки были скудные — несколько литов или ком масла, сыр; что ж еще может дать бедняк новосел? Такие взятки брал тоже бедный чиновный люд — сторожа, канцеляристы. Неужто возьмет два лита референт или директор департамента, который пропивает или проигрывает в карты за, вечер целую сотню?
Листая дела разделенных поместий, я обнаруживал самые любопытнейшие документы. Прежде всего мне бросалось в глаза, что ко многим крестьянским прошениям прилагались справки от ксендзов, органистов или ризничих, удостоверяющие, что такой-то крестьянин — добрый католик и заслуживает получения земли.
А какие там бывали истории! Поджоги и убийства из-за земли, из-за денег, тяжбы из-за наследства, жадность, зависть, доносы на ближайших родственников, обвинения в том, что они враги ксендзов и коммунисты, у которых надо отобрать землю. Самые интересные просьбы и жалобы я переписывал для себя, надеясь использовать их в какой-нибудь повести. Позднее я даже начал такую повесть, озаглавив ее «Земельная реформа». Но материала все было мало, да и другие причины помешали завершить труд.
В наш отдел валом валили крестьяне, желавшие побыстрее получить документы о земельном наделе. Одни надеялись заложить свои участки в Земельном банке и получить ссуду, без которой не жизнь, а горе и слезы. Другие, едва получив документы, продавали участок помещику, генералу или крупному хозяину и со всей семьей уезжали в Бразилию. Я часто видел толпы уезжающих на вокзале. Много контор занималось вопросами эмиграции и вербовки на плантации Южной Америки. Торговля людьми шла, как говорится, полным ходом. Поговаривали даже о том, что в Каунасе и других городах набирают девушек из бедных семей в публичные дома Южной Америки, — агенты находили способ, чтобы переправить их из Литвы.
Бывала у нас и другая публика — члены сейма, решившие заступиться за своих избирателей, богатые люди, желавшие докупить земли и заинтересованные в том, чтобы быстрее завершить сделку. К референту изредка заходил настоящий пережиток прошлого — светлейший князь Йонас Гедиминас Бержанскис-Клаусутис, герба Помян, как он подписывался. Старик служил, кажется, в Министерстве финансов. Он просиживал у нас четыре — пять часов, в который раз излагая референту историю своего рода со времен Гедиминаса и показывая какие-то старые бумаги. Видно, для этого человека все счастье и смысл жизни были в его генеалогии.
Позднее мне рассказали про Бержанскиса-Клаусутиса, что он в свое время послал царю по случаю коронации поздравление и подписался светлейшим князем, хотя не имел ни малейшего права на этот титул. Вскоре из царской канцелярии пришла торжественная благодарность от самого Николая II, адресованная «светлейшему князю такому-то». Этим простейшим способом человек получил желанный титул…
В университете начались лекции. Сбежав с работы, мы иногда даже утром оказывались там на какой-нибудь час, чтобы получить в книжке подпись или даже прослушать лекцию, а все вечера проводили в университете. Лекции поначалу проходили лишь на втором этаже здания по улице Мицкевича. Здесь в широком коридоре в перерывах толпились студенты — кто с длинной шевелюрой, на манер старинных поэтов, кто с короткой стрижкой, кто в щегольском костюме при галстуке и белоснежной манишке, кто в залатанных штанах, в башмаках, давно не видевших щетки. Были здесь и студентки — молодые и пожилые, красивые и некрасивые, худые и пухленькие, одетые по последней каунасской моде и в дешевых ситцевых старомодных платьях…
В те годы порядок в университете был совсем не похож на нынешний. Студенты, поступившие в разные годы, вместе слушали одни и те же лекции. В начале и конце семестра университет был битком набит юношами и девушками — все охотились за подписями профессоров в своих зачетных книжках. Потом аудитории и коридоры пустели, студенты ходили только на интересные лекции любимого профессора. На нашем факультете было много обязательных дисциплин, лекции читали с утра до позднего вечера (по вечерам аудитории заполняли студенты, служившие в различных учреждениях), и лишь одиночки кончали университет в четыре года, хотя это и полагалось. Экзамены студенты держали, когда им было угодно и когда они договаривались с профессором. Поэтому многие посещали университет добрый десяток лет, и в коридорах можно было встретить студентов уже не первой и не второй молодости.
На факультете теологии и философии тоже проходили гуманитарные науки (на отделении философии), только в несколько иной окраске. Здесь требования были меньше, предметов не так много, и для того, чтобы окончить учение, достаточно было трех (потом четырех) лет, — клерикалы ускоренным методом готовили себе смену.
Мы стремились в аудитории, желая как можно скорей услышать, что нам расскажут люди, о которых мы знали давно, но еще не видели их.
Самым интересным из профессоров был, без сомнения, Винцас Креве-Мицкявичюс. Кто из нас не читал его «Преданий старых людей Дайнавского края», «Шарунаса», замечательных рассказов — «Пастух», «Селедки», «Бабушкины горести»? Мне казалось, что я увижу крупного, рослого человека, говорящего звонко, оглушительно смеющегося. И как я удивился, когда в аудиторию вошел невысокий человечек, меньше любого студента! Держался он бодро; когда он встал за кафедру, мы видели лишь его голову — крупную, красивую, с зачесанными наверх волосами, бледное лицо с голубыми усталыми глазами. О польской литературе Креве говорил свободно, не глядя в записи, чувствовалось, что свой предмет он знает назубок. Особенно меня поражала его память. Он читал наизусть длиннейшие отрывки из произведений своих любимых поэтов — не только Мицкевича или Словацкого, но и тех, о ком я даже не слышал. Таким же образом он читал и русскую литературу, и здесь он декламировал отрывки, — видно, все перечитано им не раз и все известно. Он читал и восхищался, — казалось, нет на свете ничего прекрасней этих поэтов.
Миколас Биржишка,[6] которого мы уже знали по гимназическим учебникам, написанным запутанным слогом, читал лекции о старой литовской литературе. Взобравшись на кафедру, нацепив пенсне, время от времени поглаживая седую бородку, он говорил как заведенный — монотонно, скучно, ничего не подчеркивая; все казалось какой-то нескончаемой молитвой, и нас одолевала зевота. Громкое имя профессора вскоре разочаровало нас, хотя в своих лекциях он приводил много фактов и материалов.
Балис Сруога, недавно вернувшийся из Мюнхенского университета, поэт, стихами которого мы восхищались, прежде всего привлекал наше внимание своей внешностью. Он был еще молодой, очень высокий, худой, в гольфах, в зеленом френче с оттопыренными карманами. Читал он о немецком романтизме, поминал Тика и Клейста, Эйхендорфа и Шлегелей, цитировал «Северное море» Гейне и стихи других романтиков. Все это казалось нам очень мудрым, хоть и не всегда интересным. Позднее я слушал курс русской литературы, который тоже читал Сруога. Говорил он глуховатым голосом, редко поднимая глаза от текста, — он заранее писал свои лекции.
Многих из нас очаровал Владас Дубас,[7] преподававший французскую литературу. Первую лекцию, об Анатоле Франсе, он читал в большой аудитории университета. Невысокий, по виду иностранец (нам казалось, что он похож на француза), Дубас говорил не громко. Но он тут же увлек своих слушателей смелыми характеристиками, интересными деталями, мастерским построением фразы, в котором чувствовалась большая литературная культура, хорошая эрудиция, умение не только заинтересовать, но просто приковать внимание.
— Анатоль Франс, — начал свою первую лекцию Дубас, — это папа безбожия. Это Вольтер двадцатого века. Это парижский дьявол. Да, это настоящий парижский дьявол… — После таких фраз нельзя уже было пропустить его лекций. Мало того. После его лекций хотелось самому прочитать «Восстание ангелов», «Боги жаждут» и «Кренкебиля» Анатоля Франса, — недавно умерший писатель, уже классик французской литературы, стал близким и интересным для нас.
Под влиянием Дубаса я уже в первые годы в университете прочитал «Исповедь» Руссо, заинтересовался Бальзаком и Флобером, Гюго и Золя. И если французская литература стала для меня на всю жизнь предметом глубокого изучения и любви, то самую большую роль в этом сыграл профессор Дубас. На старших курсах мы с большим интересом прослушали лекции Дубаса о поэзии трубадуров и труверов, о Вольтере, Бодлере, Мопассане. Отличный знаток своего предмета, на каждые каникулы ездивший во Францию, профессор был одним на тех людей, которые в значительной степени сформировали мой вкус, усилили протест против духовного рабства, предрассудков, отживших взглядов.
Мне очень правился Юозас Тумас. Он был доцентом — этот экспансивный седой писатель. Но, разумеется, прежде всего он был Вайжгантас — автор «Дядей и теток». «Просветов», многочисленных рассказов. Представитель старшего поколения, имя которого часто упоминалось в истории Литвы конца XIX — начала XX века. Тумас не избегал бесед со студентами, переходящих почти в дружбу. Хотя он был ксендзом, но держался не как священник, любил ввернуть крепкое словцо.
Преподавал он довольно скучный материал — в основном незначительных писателей последних десятилетий XIX века. Говорил иногда увлекательно, с различными подробностями рассказывал биографии. А иногда ему и самому становилось скучно…
Тумаса мы любили, потому что знали, что можно не только заговорить с ним в перерыве, но и зайти к нему на квартиру у костела Витаутаса, где он служил настоятелем, и смело поделиться с ним своими бедами.
Курс литовского языка вначале преподавала седая красивая женщина София Чюрлёнене-Кимантайте, вдова знаменитого художника. В ее устах родной язык казался нам еще приятней.
Между тем в университете не все было ладно. Росла ненависть между атейтининками, которых опекали власти, и левыми студентами — социалистами. 8 ноября в большой аудитории университета состоялось объединенное собрание социалистических студенческих организаций, выступавших против смертной казни (недавно был расстрелян солдат-коммунист Н. Юбилерис). Собрание вел мой друг Казис Борута. Атейтининки попытались сорвать собрание, и левые студенты ответили гневными возгласами. Не найдя других аргументов, атейтинники попытались доказать патриотизм кулаками. Началось настоящее побоище. У Казиса разбили очки, без них он ничего не видел и не мог дальше вести собрание.
После драки Боруту и целый ряд других левых студентов исключили из университета. Некоторых арестовали и засадили на месяц, на три в Каунасскую каторжную тюрьму.
Я считал их героями, пострадавшими от реакции. Мне казалось, что узники в темных душных камерах страшно несчастны. Узнав, что разрешается свиданье с заключенными, я в первый же день, когда это стало возможным, отправился в тюрьму. Если забыть про железные двери, все показалось куда обыденнее, чем я представлял. Надзиратели провели меня в комнату, разделенную надвое металлической сеткой. За сеткой уже стояли знакомые и незнакомые студенты. Среди них был и Казис Борута. Увидев меня, он обрадовался, а я так растрогался, что не мог вымолвить ни слова. Однако я тут же успокоился, потому что мой друг казался веселым. Он рассказал мне, что в тюрьме очень интересно — жаль, что меня нет с ним. Едва я успел передать университетские новости, как полицейские приказали прекратить разговор и увели заключенных, а я, на минуту прикоснувшись к таинственному, страшному и привлекательному миру, покинул тюрьму и оказался на улице Мицкевича.
Настроение, царившее на том памятном собрании, заразило все студенчество. Об этих событиях горячо спорили и атейтининки из нашего министерства. Примерно в эти дни в студенческой газете «Представитель социалистов» появились пародии на гимн атейтинников и студенческий гимн «Гаудеамус». Вместо слов гимна атейтининков «Кто ж нам лучи золотые дает?» было «Кто ж нам объедки и крошки дает?». Не знаю почему, у атейтининков из моего отдела закралось подозрение, что эти пародии написал я. По правде говоря, пародии мне понравились; я даже их переписал для себя. Может быть, эти мои записки попали в руки соглядатаев и возбудили подозрение. Вскоре меня вызвал директор — атейтининк Вайнаускас — и заявил, что я могу подать прошение об уходе с работы: в министерстве нет места «для врагов государства и церкви». Врагом государства я себя не чувствовал, однако в тот же день составил прошение, и назавтра меня уже не было в министерстве. Ни в собрании, ни в драке я не участвовал (правда, это произошло случайно), но стал для кого-то козлом отпущения.
Я мучительно переживал эту несправедливость. Лишь позднее я понял, почему меня уволили «по собственному желанию». Если бы меня просто выгнали, я мог обжаловать начальнику управления земельной реформы. Он был приличным человеком и вряд ли согласился бы с моим увольнением. В министерстве царили нетерпимость, ненависть к инакомыслящим. Так или иначе, я стал безработным. «Буду писать в газеты», — решил я, хотя уже знал, что на это не проживешь. Что ж, не пропаду, хоть поголодать и придется…
ПЕРВАЯ КНИГА
Уже несколько дней над Каунасом шелестел холодный пронизывающий дождь. Сидя за своим столиком в комнатушке на Короткой улице, я глядел в окно, по которому бежали струйки воды. За окном раскачивались голые сучья деревьев, поодаль возвышались стены монастыря бенедиктинок, и на башне костела надоедливо, сонно бренчал небольшой колокол. За мутной сеткой дождя виднелись лачуги бедного люда за рекой. Когда смолкал колокол, кругом становилось тихо, как в могиле.
Я уже давно безработный. Жалованье канцеляриста — не бог весть какое. В университете меня не освободили от оплаты за обучение, пришлось выложить 75 литов за семестр. За комнатушку тоже драли семь шкур. К счастью, пока служил, я приобрел туфли, костюм, потому что старая одежда до того износилась, что хоть не показывайся в ней ни в университете, ни на службе. А теперь я опять гол как сокол. Хозяйка, которая каждое утро приносила мне чайник с кипятком, наверное, не знала, что вся моя еда — кипяток и кусок черствого хлеба.
Целыми днями я читал и писал. Писал письма друзьям, статьи, стихи. Работа эта утоляла мой голод. Кое-что я посылал в «Волны Шешупе», а Костас Стиклюс добросовестно снабжал меня газетой, в которой я находил свои материалы. Посылал я сочинения и в каунасские газеты, но здесь они появлялись реже. Я уже был научен и не ходил в редакции за гонораром — знал, что услышу:
— Начинающим не платим.
Или:
— Для вас, юноша, большая честь у нас печататься… Мы же вам создаем рекламу.
Реклама? На что мне эта реклама? Лучше уж дали бы несколько литов, я бы купил немножко масла, белого хлеба, благоухающей колбасы, заглянул бы в студенческую столовую на Лайсвес-аллее. Но редакторам такая мысль не приходила в голову.
Кто-то посоветовал попросить кредит в столовой, — когда будут деньги, я расплачусь. Но мне было стыдно идти и просить милостыню. Шли дни, я уже чувствовал, что голова кружится, ноги заплетаются, я так истощал, что даже боялся смотреть на себя, когда проходил мимо зеркальных окон.
Поздняя осень тянулась мучительно долго. Рассвет наступал поздно, в комнате было холодно и сыро, потому что хозяйка перестала топить печь, едва только я не заплатил за очередной месяц. Ночью я дрожал под легким одеялом, из которого торчала пакля. Не помогали ни пальто, ни прочая одежда, которой я укрывался. Раза два удалось стрельнуть несколько литов у новых университетских знакомых — у тех, кому везло больше; но время шло, долг я возвратить не мог и, заметив своих кредиторов, обходил их стороной.
Не хотелось даже ходить в университет. Я забегал туда только погреться, но в душных коридорах еще сильней кружилась голова. Времени у меня было хоть отбавляй, и я исходил все незнакомые каунасские переулки — печальный, без друзей. В голове тяжело ворочались мрачные мысли. Казалось, я никому не нужен в этом мире и это будет тянуться вечно. Откровенно говоря, подчас мне не хотелось даже жить. Раздобыв где-нибудь деньги, я покупал дешевые папиросы и курил без конца. Не так донимал голод, и становилось теплее.
Теперь я часто бродил по Старому городу, по рынкам, где столики были завалены дешевой галантереей и едой. В магазинах и лавчонках по вечерам зажигался свет, из открытых дверей столовых и дешевых ресторанов несло прокисшей капустой, пахло свежим хлебом, мясом, и от этих запахов мне становилось невмоготу. Я уходил на мост через реку и, опершись на перила, долго глядел в темную бесшумную воду, и мне казалось, что спасение уже близко…
Спасение и впрямь оказалось ближе, чем я думал. Однажды меня остановил на улице чиновник Министерства сельского хозяйства агроном Юстинас Страздас,[8] которому я когда-то отредактировал рукопись. Тогда он остался доволен моей работой. Теперь он удивился при виде моей бледности и худобы и сказал, глядя добрыми черными глазами:
— Приходи завтра ко мне (он дал свой адрес), потолкуем. Скажу прямо, у меня для тебя работенка.
И вот на следующий день после полудня (было воскресенье) я оказался на Зеленой горе, на улице Капсу. Улочки здесь немощеные, грязные, у заборов заполненные водой канавы. Кое-где возвышаются новые, в основном деревянные дома. Вот поодаль от улицы в просторном дворе диковинный дом с высокой узкой крышей. Он-то мне и нужен.
Пришел я вовремя. Служанка несла в столовую обед. Хозяин представил меня молодой красивой девушке с коротко остриженными волосами, и я немного удивился, поняв, что это его жена. Женщина внимательно посмотрела на меня. Я покраснел. Наверное, она дивилась моей худобе.
В столовую вошла еще одна пара — старшая сестра хозяйки со своим мужем, землемером. Они тоже поздоровались со мной, и вскоре мы сидели за таким столом, какого я вообще не видел на своем веку.
Скорее всего, мне так только показалось. Я изо всех сил старался сдерживаться, чтобы хозяева не подумали, что я голоден, но это мне удавалось с великим трудом.
Разговор этих людей ничем особенным не отличался. Но мне понравилось, что они держались степенно и просто. Они старались и меня вовлечь в разговор, но это не удавалось — я слишком мало их знал и не хотел посвящать их в свои заботы. Хозяин дома не объяснял причину моего увольнения из министерства, хотя она ему была хорошо известна. После обеда он сообщил, что пишет большую книгу по агрономии. Работа для него непривычная, дается с трудом — он не учился в литовской школе. Может быть, я помогу ему подготовить эту книгу к печати? За это он мне предоставит комнату и питание — я смогу у него жить, пока книга не будет готова, а если захочу — и дальше.
Я чуть не подпрыгнул от радости. Чего же еще желать! Я тут же согласился, тем более что видел благосклонные взгляды хозяйки дома и прочих домочадцев. Все словно радовались появлению нового жильца. Надо ли рассказывать, что в тот же вечер я перебрался на новое место с маленьким чемоданчиком, в котором помещались все мои вещи и библиотека. Библиотека состояла из «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда, Эмиля Верхарна, одного тома «Истории западной литературы» Когана и какой-то книжки Маяковского. Был в ней и первый сборник стихотворений Боруты «Ал-ло!», который он мне только что подарил.
Я был счастлив, оказавшись среди этих людей. Я никогда не слышал от них грубого слова, грязного анекдота, не замечал жадности, зависти, ненависти.
Моя комната была больше прежней, ее недавно оштукатурили, покрасили в светло-желтый цвет. Правда, в ней было прохладно, но теперь я спал под теплым, одеялом. Питался я так, как никогда прежде. Моих новых хозяев поначалу наверняка поражал мой аппетит (ели мы за одним столом) — ел так, что за ушами трещало. Работа над рукописью была несложной, и я легко с ней справлялся. Свободного времени хоть отбавляй, и я теперь чаще появлялся в университете, а однажды даже попал в театр. Правда, театр уже не поразил меня так, как тогда в Мариямполе, когда я увидел мистерию «Все люди»…
Утром мой хозяин и землемер пешком уходили в министерство (путь был долгий, через всю Зеленую гору, а автобусы еще не ходили). Я оставался дома один с обеими женщинами. Они занимались своими неотложными делами и охотно вступали со мной в разговор. Вскоре я знал подробно жизнь обеих семей и всех их знакомых. Моя хозяйка была гораздо моложе мужа, почти моих лет. Поэтому у нас было достаточно тем для разговоров — о книгах, фильмах, университете.
Я печатал в газетах стихи и статьи и, наверно, поэтому завязал знакомство с университетскими литераторами. Еще в первый год я встречал в коридорах университета уже немолодого студента Юозаса Петрулиса, прогрессивного, трудолюбивого человека, позднее прославившегося пьесой о поэте Страздасе — «Против течения». Познакомился с Аугустинасом Грицюсом,[9] Пранасом Анцявичюсом и Юозасом Балдаускасом.[10] Грицюс, компанейский парень, печатал в «Литовских ведомостях» свои веселые фельетоны и даже подарил мне свою книгу, озаглавленную «Цинципер». Анцявичюс, рыжий, с одутловатым красным лицом, писавший статьи под псевдонимом Ф. Рогуза, был с большим самомнением. Балдаускас, небольшого роста, начитанный человек, которого позднее мы нарекли «Китайской энциклопедией», Грицюс и я составили небольшую компанию. Собирались мы в комнате у Грицюса, решив выяснить все проблемы литературы и искусства. Эти сходки продолжались недолго. Несколько докладов для этих сходок подготовил Балдаускас. Один из таких докладов мы слушали терпеливо и долго. Но когда Балдаускас наконец закончил, Анцявичюс взъерошил свои рыжие кудри, облизал пухлые алые губы и буркнул:
— Ну и чепуху же ты порешь, братец… Подумай, ведь современная социал-демократия… Каутский и Плеханов… Неужто ты считаешь нас дураками, если начал с Адама и Евы?!
Балдаускас вскочил, принялся спорить, доказывать, что в нашей компании не он, а кто-то другой дурак. Анцявичюс еще больше покраснел, и мне казалось, что они как петухи вот-вот вцепятся друг другу в гребень. Но Грицюс их кое-как успокоил, мы мирно разошлись, и на этом все кончилось.
Статьи Анцявичюса становились все злей, хоть и не отличались глубиной мысли. Скажем, весной 1926 года я прочитал такие его изречения:
«Пока Парнас литовской литературы не очищен от таких неудачных карикатур, как Майронисы, Гиры, Кирши,[11] хорошо блуждать в романтическом тумане. А большая часть общества, не видя разницы между молитвенником, псалмами грешного царя Давида и творчеством упомянутых поэтов, зажмурившись, тянет святые песнопения».
Бойким критиком оказался Анцявичюс!
Однажды он потащил меня не то в клуб, не то в кабак на втором этаже дома по Лайсвес-аллее. В отдельном кабинете сидели перед графином водки Казис Бинкис[12] и Антанас Ремидис.[13] Когда мы вошли, Бинкис встал, подал руку и пригласил к столу.
— А, этот? — сказал он, узнав мою фамилию, — видно, что-то вспомнил. — Надеюсь, футурист?
Я не знал, могу ли себя называть футуристом, и что-то буркнул. Бинкис налил нам с Анцявичюсом по рюмочке и поднял свою. Больше он нам, кажется, не предлагал, и я смотрел на его смуглое красивое лицо с выразительными темными глазами. Лицо было худое, нервное, губы иронически кривились.
Казис Бинкис славился как самая романтическая и колоритная фигура среди каунасских писателей.
Многие рассказывали, как Бинкис несколько лет назад стал владельцем автомобиля. Поэт первым из литовских литераторов завел собственную машину. Это был старый драндулет — потрепанный форд. Бинкис торжественно восседал сзади, а шофер возил его по Лайсвес-аллее. Форд страшно тарахтел и плевался дымом. Бинкис останавливал машину перед учреждением и, сунув под мышку портфель, придав лицу солидность, входил в дом. Потом ехал дальше. В следующем квартале, в нескольких десятках метров, история повторялась сначала. Так поэт катался до конца месяца, пока не пришлось платить жалованье шоферу. Денег не оказалось, и Бинкис расстался не только с шофером, но и с фордом.
Бинкис говорил что-то о «Четырех ветрах»,[14] потом стал утверждать, что такие поэты, как Майронис, Сруога, Кирша, давно мертвы, что молодежи с ними не по пути. Немногим лучше он отозвался о Креве-Мицкявичюсе и о Вайжгантасе. «Писатели, вышедшие на пенсию», — сказал он, напомнив мне о статье Гербачяускаса, которую я раскритиковал.
— Теперь время молодежи, — сказал Бинкис. — Живые идут с нами.
Да, нет ничего лучше и интереснее литературы! Я был в этом убежден. Весь свой досуг я теперь посвящал стихам. Писал о Каунасе, писал о природе, любви — о том, без чего не может обойтись не только молодой, начинающий поэт. Читал всю новую художественную литературу, брал книги из библиотеки или сидел в университетской читальне. Расхаживая по комнате, гуляя по улице, я читал стихи — Маяковского, Есенина, Блока, Верхарна и нового знакомого, Бинкиса. Каждый из этих поэтов по-своему волновал и восхищал меня. Мне казалось, что мир стал бы куда беднее, не окажись в нем голосов поэтов.
Вскоре мое увлечение заметил агроном Страздас. Прочитав мои стихи, он сказал однажды:
— Послушай, а что, если нам издать твои стихи отдельной книгой? Как ты думаешь?
Господи! Это же самое большое счастье для поэта — увидеть свои стихи не просто в газете, а в книге, которая потом стоит в витринах, которую листают незнакомые люди, качают головой и говорят: «Как хотите, но в таланте этому человеку не откажешь…»
— Разумеется! — воскликнул я. — Но как их издашь? На это нужны немалые деньги.
— А ты зайди в типографию, поспрашивай. Не думаю, чтобы это дорого стоило. Книгу ведь будем издавать небольшую, верно?
— Не знаю, получится ли…
— Гонорар будет, если книга принесет доход… Ну, а типографские расходы я уж как-нибудь покрою.
Опять удача! И впрямь, везет ли кому-нибудь больше, чем мне! Выгнали со службы, казалось, придется ноги протянуть, а то и домой вернуться, в деревню, и распрощаться со всеми мечтами об образовании и литературе. Но все переменилось, и я живу, как обеспеченный человек. К тому же новая удивительная улыбка судьбы!
На следующий день я обошел три типографии. Самой доступной оказалась крохотная типография на улице Лукшиса. Ее хозяин Иоселявичюс, полистав мои рукописи, что-то измерял за маленьким столиком, подсчитывал строки, смотрел на меня печальным взглядом и снова подсчитывал. В открытую дверь виднелась крохотная комнатушка. В ней стояли за высокими кассами наборщики. Тут же была и плоскопечатная машина, приводившаяся в действие рукой. По-видимому, владелец был заинтересован в заказе, и мы еще в тот же день договорились. Я сказал, что подписать договор зайду завтра, посоветовавшись со своим издателем.
Примерно через неделю я получил из типографии свои стихи — набранные и оттиснутые на длинных полосах бумаги. О, как прекрасно пахли эти полосы, когда я правил гранки первой книги! Вскоре книгу смакетировали. Пока еще не было обложки, потому что юный художник, ученик Художественного училища Йонас Бурба,[15] разговорчивый и шумный жемайтиец, все еще не был доволен своими проектами и каждый день рисовал что-нибудь новое. Книга должна была называться «В сумеречных переулках». Надо было и на обложку дать что-то мрачное и трагическое. Художник с жаром говорил:
— Я бы мог состряпать какую-нибудь ерунду. Но самолюбие не позволяет, понимаешь? Обложка должна быть первый сорт, ясно? Книга будет стоять в окне, все ее увидят и оценят сперва меня, только потом тебя…
Здесь он вдруг запел: «Ach, du, lieber Hans, was machst du!»,[16] завершив куплет нецензурным выражением. Потом взял стул и принялся колотить по его сиденью щеткой, а мне велел бренчать звонком велосипеда, стоявшего в углу. В комнате поднялся грохот и жуткий трезвон.
— Хозяин дома каждый день требует деньги за комнату. Вот я и начал для него такие футуристические концерты закатывать. Слыхал про итальянского футуриста Маринетти?
Бросив щетку, Бурба взял с примуса закопченную сковороду и принялся колотить по ней какой-то железякой. Я все еще трезвонил. Но никто не пришел ругаться («Наверно, в город ушел, черт, — сказал художник, — на сей раз хватит…»), мы прекратили свой футуристический концерт и снова принялись дружески обсуждать эскизы обложки.
В один прекрасный день обложка была закончена. На ней изображалась мощенная булыжником улочка с фонарями и большой бублик, висящий над лавкой. Обложка напоминала картины Добужинского и выглядела сносно.
Прошла еще неделя. И вот я возвращаюсь на улицу Капсу с небольшим пакетом. Вынимаю из него свою книгу и не могу на нее насмотреться — до того она мне нравится, трудно даже поверить, что ее написал не кто-нибудь, а я! На первом же экземпляре я пишу дарственную надпись своему издателю и, когда он возвращается со службы, вручаю ему книгу. Он листает книжицу, читает мое посвящение, улыбается. А я объясняю:
— Типография сама доставит весь тираж в магазин «Фонда печати» на Лайсвес-аллее. А там мне сказали, что прийти рассчитаться за проданные экземпляры можно три месяца спустя…
Один экземпляр книги я послал брату Пиюсу, который уже работал учителем, другой — знакомой девушке татарке Стасе в Алитус, надписал по экземпляру новым своим друзьям Ляонасу Скабейке и Казису Инчюре.[17] Один экземпляр послал Казису Боруте в Вену, где он жил, выйдя из тюрьмы, еще один — в деревню учителю Винцасу Жилёнису. Это занятие было очень приятным — казалось, что моей книге все обрадуются не меньше, чем я сам…
На следующий день я шел по Лайсвес-аллее, останавливаясь у витрин книжных магазинов. Моя книга, скорее всего, уже выставлена, и прохожие с любопытством смотрят, что это за новый поэт… В окне магазина «Фонда печати», где-то в уголке, среди брошюр, затесалась и моя книжица, но — боже мой! — ее просто трудно заметить. В других магазинах ее вообще нет. Я захожу в книжный магазин у собора и спрашиваю, — нет, про такую книгу они не слышали… Почувствовал себя неловко. А мне казалось, что книгу тут же все будут хватать, вырывать друг у друга из рук и прочитают залпом… Черт подери, ведь такие «Сумеречные переулки» могут перевернуть весь мир… Но дни шли, и мир оставался на своем месте.
В какой-то газете появилась первая рецензия на мою книгу. Довольно холодная. Несколько плоских слов похвалы и перечисление недостатков — пессимизм, несамостоятельность, перепевы старого. Вторая рецензия. Нет, эта куда дружелюбней. Упреки тоже есть, но зато хоть похвалили как следует молодого автора. Редакция молодежной газеты просит у меня фотографию. Некоторое время спустя я получаю эту газету, и там меня превозносят, словно я — литовский Верхарн, мне даже смешно. И фотография помещена, как настоящего поэта. А в одном журнале — большая статья, где не только мою книгу, но и меня самого смешали с грязью. Я читаю статью и чувствую, что краснеет даже затылок, — оказывается, выпустив этот сборник, я совершил гнусное преступление, навеки покрыл себя позором, который уже не смыть. Критик взбешен, считает меня полным ничтожеством, а мою поэзию — «взбрыками шального жеребца» и «воем немощного щенка на ночном ветру». Сравнения мне кажутся смешными, но в общем статья убивает — да, что может быть ужаснее, чем написать такие стихи… В другом журнале я читаю статью нашего профессора Креве, в которой упоминается разгромная рецензия. Креве говорит, что рецензия, кажется, написана «старшим братом шального жеребца» и что «человеку было бы стыдно так писать». Его слова меня немного утешают, но не настолько, чтобы я быстро забыл эту непристойную рецензию, которая меня обдала густой вонючей грязью.
Правда, мои знакомые и друзья на все это обратили мало внимания. Ляонас Скабейка и Казис Инчюра откровенно, по-дружески излагали свое мнение о моей книжке, и это мнение было скорей положительным. Неплохо оценил ее и Винцас Жилёнис. Студенты нашего факультета стали относиться ко мне как к молодому поэту и уже приглашали на литературные вечера.
Очень не хватало Казиса Боруты. Он бы сказал мне свое мнение, и с ним было бы куда легче отражать нападки критиков. Он смелый, самостоятельный, он бы никому не дал меня в обиду. Я всегда чувствовал себя с ним, как со старшим братом… Теперь мы очень часто писали друг другу, и каждое его письмо для меня было светлой новостью, глотком свежего воздуха, новым зарядом энергии.
Я написал Казису про встречи и разговоры с поэтами «Четырех ветров», и он мне ответил:
«Приятно слышать, что литературные братья в Каунасе зашевелились после моего отъезда. Мне даже в Вене стало беспокойно…
О Каунасе я вспоминаю часто.
Говоришь, выйдут «Четыре ветра»? Пустые россказни, брат. «Четыре ветра» давно живой труп, и таким, как Бинкис и компания, их не оживить. Могли оживить мы, молодые, но ни у кого не было настоящего желания. Да и к черту оживление трупов, если можно пустить в свет новый журнал».
Очутившись в большом европейском городе, Казис не мог привыкнуть к нему. В письмах он жаловался на городской шум, на мещанство и тупость венских обывателей.
«Скорей всего, летом или осенью приеду в Литву… 1) худо себя чувствую, 2) не могу приняться за дело как следует, прошла даже охота ехать во Францию, да и немецкий мне надоел… В Литве буду искать общества не столько честных, сколько смелых парней, чтобы как следует поднять шум: на всех столбах вывесить манифест и потом начать гастроли по всей Литве со скандалами». «Если приеду в Литву, устроим мастерскую слова: сами научимся работать и других научим», — писал он в другом письме.
Прошло несколько месяцев, настала весна. Моя работа над книгой хозяина кончалась. Мне стало неудобно пользоваться его комнатой и питанием. Взяв свой чемоданчик, однажды я отправился пешком в город. Несколько ночей спал то у одного, то у другого приятеля. Попытался ночевать и в садике городского театра на скамье, но отсюда меня выгнал полицейский. Наконец в Старом городе, на улице Даукши, я получил место в студенческом общежитии, в одной комнате с Ляонасом Скабейкой и Адомасом Грибе. Они были хорошие ребята, закоренелые безбожники, Ляонас к тому же молодой поэт, вроде меня. Жили мы дружно, душа в душу… Денег не было ни у одного из нас, лишь изредка удавалось заработать лит-другой случайными уроками.
Я зашел в «Фонд печати» узнать, как расходятся мои «Сумеречные переулки». Порывшись в различных книгах, бухгалтер сказал, что эти «переулки» совсем не расходятся и только занимают место на складе. Если я хочу, могу забрать весь тираж. Больше я туда не заходил.
НАДЕЖДЫ
По Вильнюсской улице тарахтели крестьянские телеги, катились обшарпанные извозчичьи пролетки, грохотали грузовики и лишь изредка проносились легковые машины. А наша узенькая улочка Даукши была заполнена замурзанными детьми, которые вопили на все голоса — то радостно, то печально. По узким тротуарам ходили бабы с корзинами, рабочие таскали мешки с мукой и складывали в лавке под нашими комнатами. Дом кишел крысами. Когда я поздно вечером возвращался из города, они носились по коридорам и прятались за углами. А ночью целыми полчищами забирались к нам в комнату из всех щелей и прыгали через наши головы, словно дрессированные кошки. Они были большие, жирные, нахальные. Не раз ночью, не вытерпев, мы выскакивали: из кроватей, затыкали щели в полу и, принимаясь избивать непрошеных посетительниц, укладывали на месте добрый десяток.
Ляонас Скабейка с отвращением глядел на убитых крыс.
— Меня от них тошнит, — говорил он, сидя в одной рубашке на кровати, — смотреть на них не могу.
Мы ложились в постель и старались заснуть. Ляонас уже не мог спать. Вытаскивал из-под кровати деревянный ящик, отпирал его, вынимал толстую тетрадь в черном блестящем переплете, раскрывал ее, долго смотрел и потом начинал писать. Я не слышал, когда он ложился.
Стихи Ляонаса в газетах и журналах я видел еще в мариямпольские годы. Уже тогда он мне казался интересным поэтом. Познакомившись в университете, мы нашли много общего, хоть он и не отличался разговорчивостью. По коридорам университета Ляонас ходил очень медленно, поглядывая на всех ослепительно голубыми глазами. Он казался необычайно чистым и опрятным, в споры ни с кем не вступал. Было ясно, что он постоянно о чем-то думает. Его печатали многие журналы. Полуночные площади, кварталы позора, трагическая любовь, мученья, разочарование, горе — все это волновало в его стихах.
Теперь, когда в Каунасе все оживила весна, когда даже в нашу большую мрачную комнату ветер приносил ночью в открытые окна свежие запахи из загородных садов, мы с Ляонасом много гуляли — по узким улочкам, по горе Витаутаса, вдоль реки. Мы говорили о поэзии, о литературе, о жизни и смерти. Он перестал верить в бога еще в Шяуляйской гимназии, а то и раньше, он с сарказмом говорил о клерикальном режиме, о наглости атейтининков, о народной темноте, в которой он тоже обвинял клерикалов. Пожалуй, символическая система образов Скабейки лучше всего выражала настроение, в котором мы тогда жили. Здесь был протест против нищеты, против несправедливости, но ни ему, ни мне не были тогда до конца понятны причины всех этих явлений.
Этой весной люди, которых мы встречали в университете, на улицах, на рынках, были настроены по-новому. Это настроение, пожалуй, можно назвать надеждой и ожиданием. Приближались новые выборы в сейм. В газетах различные партии, вовсю поносили друг друга, политических деятелей то смешивали с грязью, то возносили до небес — смотря по направлению газеты.
В нашем общежитии жило немало атейтининков, и они, зная наши взгляды, не могли спокойно пройти мимо нас в коридоре — особенно братья Бальчюнасы, отъявленные драчуны, поговаривали, что нам пора уносить ноги из общежития, а то они за себя не ручаются… Адомас Грибе узнал где-то, что Бальчюнасы собираются устроить нам погром. Хоть мы с Ляонасом и не испытывали особенного страха, Грибе, не доверяя замку нашей двери, на ночь подпирал ее столом, табуретками и прочей утварью, чтобы вооруженные палками атейтининки не могли к нам ворваться.
— Не думайте, это не шутки, — говорил он нам. — Помните, что было в прошлом году в университете. Такие и убить могут…
Но в общежитии в последние дни атейтининков стало меньше: многие из них участвовали в митингах, ездили по селам и занимались агитацией. Возвращались они злые, унылые или взбешенные, понося левых и всех сплошь обзывая большевиками.
Как известно, на выборах 1926 года клерикальный режим, несколько лет правивший Литвой, рухнул. Народ надеялся на свободу, лучшую жизнь и голосовал за крестьян-ляудининков[18] и социал-демократов. Мы тоже с надеждой встретили выборы в сейм. Было весело, что настал конец господству клерикалов и что начнется что-то новое…
Собрав зачеты у профессоров, я уехал домой, в Трямпиняй. Кончился первый год моей жизни в Каунасе. Что он мне дал? В науках я продвинулся немного. За этот год я вроде даже и не поумнел. Зато мне пришлось пожить совсем самостоятельно. Пришлось испытать многое. Я столкнулся с подлостью, ложью, но встретил и замечательных людей. Появились новые друзья, в том числе такой прекрасный человек, как Ляонас. Главное, из печати вышла первая моя книга. Пусть и небольшая, пусть критика встретила ее по-разному (может, так и надо). Но я уже знал, что эта книжица для меня первая, но не последняя. Я уже собирал стихи для нового сборника и ждал случая его издать.
О, как я истосковался по деревне и родным! Трямпиняй встретила меня цветущими лугами, волнующимися хлебами, шелестом берез на Часовенной горке. В глазах рябило от небесной синевы, и на душе было покойно и легко при виде зелени сада, рослых лип у ворот двора, пчелиных ульев, которых, после смерти отца, было уже меньше… Меня тянуло в поля — хотелось посмотреть на дали с нашей горки, манило озеро, звали к себе друзья юности. Как выросли младшие братья Пранас и Казис! И Аготеле стала больше. Все они прыгали от радости, увидев меня, а я рассказывал им, что видел и слышал в Каунасе. Моя жизнь казалась им такой необыкновенной и интересной! Университет, Лай-свес-аллея, Зеленая гора — все для них было сказкой! А мама смотрела на меня ласково и печально. Когда я ел, она садилась рядом, рассказывала о себе, о нашей семье и соседях и все повторяла:
— Ешь, ешь побольше. Голодаешь там, в городе… Вижу ведь, побледнел совсем…
Я ел и рассказывал, что в последнее время — да, немного хуже, зато зимой я жил у одного агронома — там мне было совсем хорошо. Ничего, потом я наверстаю. В городе так уж заведено — то тебе везет, а то нет, и ничего тут не попишешь… Мама объясняла, как трудно стало дома, когда Юозаса взяли в армию. Пиюс уже работал учителем, правда, недалеко от дома, иногда он приходил помочь. Теперь, летом, его вызвали на какие-то курсы в город. Тетя Анастазия поселилась со своей подругой-богомолкой в Гражишкяй у костела, и дома прекратились постоянное ворчанье и упреки, к которым все привыкли… Забеле стала высокой, пригожей девушкой. К ней со всех сторон съезжались женихи, но, поняв, что приданое будет небольшим, куда-то исчезали — наверное, отправлялись в дальние приходы на поиски приданого…
Стояли теплые дни. Как мог, я помогал в полевых работах. В полуденную жару с деревенскими парнями мы купались в озере. Все это было просто прекрасно! Парни поначалу стеснялись меня, но, увидев, что я, став студентом, остался старым их приятелем, снова запросто общались со мной.
По воскресеньям мы ходили в Любавас. Здесь я встречал старых приятелей — Антанаса и Пранаса Янушявичюсов, Зосе Якубельскайте, дочку огородницы из Любаваса, которая теперь тоже начала учиться в Мариямполе, дочек арендатора Александравского поместья — Анеле и Броните — белокурых начитанных девушек. Мы вместе ходили на вечеринки, танцевали, пели и даже попробовали поставить «Нерасторжимый узел» на гумне в Любавасе.
Люди постарше спрашивали у меня о переменах в политике, но сам я еще не успел почувствовать этих перемен. Здесь люди тоже ждали, что новый сейм и новая власть облегчат всем жизнь… В конце июля я вдруг получил письмо от Казиса Боруты. Оказывается, он только что вернулся из Вены. Ему не понравилась «новая власть» и каунасские настроения. Он писал:
«Второй день, как в Каунасе, но настроение: или застрелиться, или за границу сейчас же воротиться».
Мой друг обещал приехать в Трямпиняй. Кроме того, он писал:
«Четвертую ночь не сплю, а теперь побегу к Жюгжде,[19] Петренасу,[20] Бинкису и другим по делам журнала. Если журнала не будет, я, пожалуй, откажусь от любой работы в Литве и поскорее уеду обратно».
Кажется, несколько дней спустя я увидел Казиса в нашем дворе. Надо ли рассказывать, какой радостной была наша встреча?! Меня интересовали жизнь и учение в Вене. Я понял, что Казис разочарован Веной — ничего близкого он там не нашел, только бюргерскую тупость, а про учение он отказался говорить, заметил только, что куда ни плюнешь в Вене — все равно угодишь в доктора философии. Этих докторов там развелось столько, что они даже брадобреями работают.
Победа ляудининков и социал-демократов на выборах в сейм не радовала Казиса, но я так и не понял, какой политический и общественный строй ему по душе. Он рассказывал, что в Вене подружился с каунасцем Марком Аронсоном, тоже, кажется, доктором филологических наук, большим знатоком литературы. Аронсон собирается переводить стихи литовских поэтов и составить целую антологию. Казис уже писал мне, что Аронсон перевел несколько моих стихотворений. Это была новость — тогда мы не привыкли еще к переводам на иностранные языки.
Мы советовались, что надо делать нашим молодым поэтам, ненавидящим клерикализм и прочую реакцию. Правда, Казис скептически относился к Ляонасу, хотя я ему и доказывал, что тот настроен против реакции, да и как поэт интересен. Фамилии многих молодых поэтов мне, как и Казису, были известны лишь по газетам. Все они напечатали первые стихи, но всех объединяли общие или сходные убеждения. Мы интересовались их творчеством и мечтали: как хорошо было бы всем познакомиться и создать литературную группу или коллектив, в котором мы бы росли сами и помогали другим. Казис, в свою очередь, тосковал по общественной шумной работе и мне снова говорил о поездках по Литве, о литературных митингах (не вечерах, которые потом вошли в моду, а именно митингах), о манифестах молодых поэтов и т. д. и т. п.
Мысли Казиса, без сомнения, были очень интересны, но мне казалось, что их трудно осуществить. Во-первых, нас было мало. Во-вторых, мы еще, в сущности, были не писателями, а желторотыми юнцами, делавшими первые шаги в литературе. Сумеем ли мы привлечь на свою сторону широкого читателя, сможем ли дать ему то, чего он сейчас ждет?
Казис уехал. Мои каникулы тоже внезапно кончились. Кто-то сообщил мне из Каунаса, что в Министерстве сельского хозяйства, после падения министра-ксендза Миколаса Крупавичюса, или, как его называли, Миколаса Черного (он носил большую черную бороду), настали новые времена. Клерикалы и атейтининки, раньше возомнившие себя всемогущими, теперь дрожат как осиновый лист. Я бы мог не вернуться на службу, откуда они уволили меня, но, обдумав положение и поняв, что без службы мне будет трудно нормально учиться, я уехал в Каунас и вскоре действительно вернулся в министерство. Там, как и раньше, пришлось отсиживать шесть часов, но заботы о комнате, питании и даже одежде, кажется, кончились — жалованье мне положили больше, чем раньше, когда я был канцеляристом.
В министерстве были совсем иные веяния, и я писал своему брату Пиюсу:
«Теперь в нашем министерстве настоящий переворот: некоторых господ (клерикалов) разогнали, других собираются гнать в шею… Надо думать, что при новом правительстве будем жить лучше, чем при старом. Некоторые деятели из нашего министерства уже отданы, под суд за растрату. В министерстве у всех дрожат поджилки».
Я вернулся на Зеленую гору к Страздасу, где когда-то жил. Дом, как и тогда, встретил меня радушно. Стояло лето. На большом участке цвели цветы, росли какие-то овощи, а дорожка от калитки до дома с обеих сторон была обсажена кукурузой, редкой для Литвы в то время культурой. Высокая кукуруза шелестела. Меня встретили жильцы дома — молодая жена Страздаса, ее сестра с мужем, — как будто я член их семьи, вернувшийся издалека. Я вошел в свою старую комнату (после моего переезда на улицу Даукши она стояла пустой), сложил на столике книги и рукописи. Открыл окно. С улицы повеял теплый ветер, напоенный густым запахом цветов.
Я сидел за столом в своей старой комнате и думал: как хотите, а все-таки я счастлив.
ПЕРЕЛОМ
В недостроенном доме оборудовали несколько новых комнат. Осенью в них появились жильцы. Наверху обосновался наш «ученый» студент из Шяуляй Юозас Балдаускас. Внизу в одной комнате несколько учеников Художественного училища, в другой — двое служащих Министерства путей сообщения. Один из них учился в консерватории, привез старинное желтое пианино и иногда, созвав нас в комнату, тряся головой на длинной шее, так вдохновенно пел старинные романсы об очах черных или песенки Вертинского, что наши женщины слушали и вздыхали, а мы хлопали в ладоши и просили петь еще.
Среди учеников Художественного училища был высокий худощавый Стасис Ушинскас,[21] всегда очень аккуратный и гладко выбритый Людвикас Стролис[22] и невысокий, подвижный, остроумный парень с встрепанной шевелюрой — Витаутас К. Йонинас.[23] Утром, еще лежа в кровати, мы уже слышали в коридоре или на дворе звонкий голос Йонинаса. Каждый день он тянул одну и ту же песенку:
Эх, раз, еще раз, Еще много, много раз!..За пение никто на него не сердился, — наоборот, мы были довольны: не глядя на часы, знали, что пора вставать.
Юозас Балдаускас расхаживал вокруг дома, держа в руках английскую, латинскую или греческую книгу, и часами не отрывал от нее взгляда. Его губы беззвучно шевелились. Бывало, что нечаянно он выходил на улицу и, все так же устремив глаза в книгу, оказывался на другом конце города. Достаточно было его о чем-нибудь спросить, как он невнятной скороговоркой высыпал такую кучу сведений, что я просто диву давался, как они умещаются за невысоким морщинистым лобиком. Росту он был невысокого, толстоват, видел плохо, поэтому вскоре начал носить очки.
В доме Страздасов, где жило много экспансивных людей, фантазеров, не было недостатка в приключениях и шутках.
Однажды уже зимой приятели по какому-то поводу принесли из города бутылку водки и несколько бутылок аникшчяйского вина. Непьющий Балдаускас до того развеселился, что опрокинул в своей комнате железную печурку, в которой горел уголь, и едва не поджег дом. Как раз перед этим он сшил новый костюм. Теперь в этом костюме он и выбежал во двор. Вскоре мы услышали ужасающий лай и вопли Балдаускаса. От новых штанов нашего «ученого» остались только жалкие клочья…
Бросив свой приход, приехал из провинции в университет изучать право брат моего хозяина, пожилой ксендз. Ему было около шестидесяти, но он сохранил веселый нрав и любил неожиданные шутки. Однажды, когда служанка вошла в столовую с подносом, на котором дымился кофе, ксендз ужасным голосом закричал:
— Бросай!
Служанка вздрогнула и выронила поднос. Разбились тарелки, разлетелись масло, хлеб, помидоры, выплеснулось кофе. Ксендз положил перед служанкой крупную ассигнацию, и та, оправившись от испуга и почистив платье, ушла в город покупать новую посуду. А мы, продолжая хохотать над столь оригинальным завтраком, отправились на службу.
Университет я посещал в основном по вечерам, отсидев день на службе и немного отдохнув. Теперь наши занятия проходили в бывшем доме Министерства, финансов. На первом этаже помещались наши аудитории, на втором — часть аудиторий, профессорская и комнатка декана Креве, а наверху — факультет теологии и философии. Аудитории крохотные, коридоры — не разойтись. Посидишь час-другой, и уже начинает кружиться голова, особенно в тех аудиториях, где преподают обязательный курс. Тем, кто являлся первым, доставались сидячие места. Остальные толпились у стен и вокруг кафедры. Хорошо, если можно открыть окно. Но если на дворе дождь или метель, студенты теряли сознание, и некоторых приходилось выносить в комнату сторожа и там приводить в чувство. Впоследствии многие студенты заболели туберкулезом.
Руководство нашего факультета добивалось нового помещения, но все было напрасно. Мы видели, как в комнатку декана заходил какой-то генерал. Мы узнали, что они сцепились из-за помещения: Креве требует, а генерал не дает. Студенты рассказывали, что однажды генерал настолько вспылил, разговаривая с упрямым Креве, что вытащил из кобуры револьвер и положил перед собой на стол. Но Креве тут же извлек из кармана браунинг (как я говорил, он сам был маленького роста) и тоже брякнул перед собой на стол. Генерал смутился и убрал револьвер. Тогда и Креве спрятал свой браунинг.
Вскоре я убедился, что подобные посещения лекций лишены всякого смысла. Все равно не удается даже вести записей. Тем более что многие преподают так, что все можно найти в книге. Куда лучше пойти в университетскую библиотеку, которой руководил большой книголюб, библиограф профессор Вацловас Биржишка,[24] внимательно прочитать книгу или взять ее домой.
Но некоторые профессора преподавали так интересно, что нельзя было пропустить ни одной их лекции. Дубас читал теперь курс о Шарле Бодлере. Из его лекций мы многое узнали не только о французском романтизме, — лекции были настоящими трактатами о поэтическом искусстве, создании образов, метафоре, композиции стиха, обо всем том, что полезно знать молодому поэту. Эти лекции слушал не только я, — моего друга Ляонаса Скабейку и других молодых поэтов привлекал демонизм Бодлера, его странный характер. Дубас говорил о Бодлере с вдохновением, и было ясно, что он сам просто влюблен в автора «Цветов зла». Он читал нам по-французски и тут же переводил десятки удивительных произведений — «Балкон» и «Падаль», «Картины Парижа» и многие стихи, за которые поэт в свое время привлекался к суду. Поэзия отчаяния, насыщенная образами страданий и бунта, чем-то перекликалась с нашими днями. Нас ведь тоже окружал город, даже, как нам тогда казалось, большой город — с пивными и задымленными ресторанами, с лачугами бедняков, в которых они рождались, жили, болели и умирали, с притонами проституток.
Новое правительство принялось за какие-то реформы. Народ легче вздохнул, рабочие начали создавать организации. Появились новые газеты и журналы, они писали откровеннее — о правлении клерикалов, о продажности их власти, о расхищении казны, спекуляциях. В нашем министерстве пересматривали дела по разделу поместий. Оказалось, что землю получили многие из тех, кто не имел права на нее, но позаботился о рекомендациях ксендзов и органистов. Если еще не успели выдать документы (ведь собственность священна и неприкосновенна!), землю иногда отбирали и отдавали новым кандидатам — безбожникам, сторонникам социал-демократов и ляудининкам, которые помогли этим партиям недавно прийти к власти.
По-видимому, я приобрел какую-то известность как поэт, потому что группа «Четырех ветров» пригласила меня на литературный вечер, который состоялся поздней осенью в зале консерватории. Небольшой зал был битком набит слушателями. Я сразу же заметил красивую седую голову охотника за талантами Юозаса Тумаса-Вайжгантаса. Был и Винцас Миколайтис-Путинас — худощавый, с зализанными волосами, в пенсне. Мог ли я еще в прошлом году мечтать о том, что мне придется читать свои произведения таким ценителям? Меня охватила робость, но вечер уже начался, на сцену один за другим поднимались участники. Стоя за кулисами, я слышал, как с волнением говорит о новой литературе Бинкис. Римидис декламировал длинную поэму, которую я уже слышал в прошлом году. Публика аплодировала каждому. Мрачно читал непристойности про «икры как свеклы» Юозас Жянге,[25] лысеющий гусарский лейтенант Швайстас[26] читал длинную и скучную повесть. Что-то читал и я — сбиваясь, стараясь отчетливо выговаривать слова.
Некоторое время спустя вышел из печати второй номер «Четырех ветров», в котором утверждали, что произведения Римидиса, Жянге и мои «передают настроение этой группы». Под заголовком: «Долой прокисший национальный романтизм! Долой бесцветный символизм!» — большими буквами было написано:
«Вся литературная власть советам «Четырех ветров!»
Это была дань времени…
…Бежали дни. Как-то в середине декабря мы пришли на службу и увидели, что здесь царит суматоха. Чиновники толпились в коридорах, под запыленными лампочками, и тревожно разговаривали. Кто-то принес газету. Передовая называлась: «Нация может быть спокойна»… Только что заговорщики разогнали сейм и скинули правительство «истинной демократии». Все волновались, каждый знал, что снова начнутся увольнения. Большая политика мало кого интересовала.
Пронеслась страшная весть о расстреле четырех коммунаров. Одного из них, Каролиса Пожелу,[27] я видел несколько раз осенью в коридорах университета. Этот серьезный человек все время о чем-то напряженно думал и улыбался только глазами, но все равно привлекал к себе всеобщее внимание. Он светился энергией и какой-то простотой. Казалось, что его серьезное красивое лицо вдруг преобразится, он рассмеется от души, весело, и его глаза заискрятся радостью. Четверо расстрелянных были обвинены в подготовке коммунистического переворота. Даже в нашем министерстве в это поверили лишь самые темные чинуши. Было ясно как день, что новая власть стремится оправдать свой незаконный шаг и выступить в роли героев, «спасших нацию от большевистского произвола», как писали в те дни газеты, поддерживавшие новую власть. Более прозорливые каунасцы уже тогда поняли, что, опасаясь рабочего движения, буржуазия ухватилась за открытую диктатуру.
ЕЩЕ ОДИН ГОД
«Атмосфера здесь собачья, особенно после 17 декабря», — писал я Винцасу Жилёнису в Расяйняй, где он работал учителем. В Каунасе мне стало не по себе. Казис снова уехал в Вену. Правда, он частенько писал. Грицюс, мой товарищ по первому курсу, вместе с участником «Четырех ветров» Петренасом уехал в Париж. Все больше антифашистски настроенной молодежи оказывалось за решеткой. Мой товарищ по гимназии Йонас Норкус присылал мне письма сперва из Каунасской каторжной, потом из Мариямпольской и Вилкавишкской тюрем. В чем он провинился, если его целыми месяцами держат в заключении? «Скажи каунасским художникам, — писал мне Йонас, — чтобы они приходили в тюрьму за вдохновением. Здесь уж умоется их почерневшая «муза» и расцветет их талант». Это был упрек старшим писателям, а в какой-то степени и нам, — ведь мы в это трагическое для народа время не могли найти слов, чтобы бороться с начавшимся гнетом.
Каким бы ни был строй в стране, все равно, война или мир, — жизнь всегда идет своим чередом, люди рождаются и умирают, любят и ревнуют, жертвуют собой ради других и заботятся о своей выгоде.
Миновала зима. Я много читал. Анатоль Франс и Ромен Роллан стали моими любимыми писателями. Скептицизм и эрудиция Франса, вера в жизнь, идея дружбы народов, любовь к миру, гуманизм Роллана привлекали и восхищали меня. Я не забросил и поэтов, старых знакомых — Верхарна и Бодлера. Читал Уайльда и Эдгара По. Книги будоражили воображение, показывали, как сложны и жизнь и искусство, вызывали интерес к психологии человека.
В июне я впервые в жизни спустился на пароходе из Каунаса в Клайпеду вместе со студенческой экскурсией, на пароходе было весело, смех сменялся песней, а песня — новыми раскатами смеха. Я смотрел на зеленые берега, затянутые голубой дымкой, на которых виднелись хутора, стада, работающие люди. Вечером я стоял на палубе и почти до утра прислушивался к журчанию воды за бортом. Видел, как зажглись и под утро угасли звезды. Рождались новые образы — романтические, полные тоски.
Пароход миновал Юрбаркас, Смалининкай, Тильже.
На рассвете мы вошли в Куршский залив. Водная гладь замерцала словно зеркало. Пароход причалил к берегу в Юодкранте и по заливу направился к Клайпеде. Из голубоватого тумана высунулись башни, показалась набережная, у которой пыхтели пароходы, буксиры и прочие обитатели моря, беспокойные уже в этот утренний час.
Из Клайпеды на автобусе мы добрались до Паланги. Вечное море блестело и тревожно дышало, возвышаясь движущейся и мерцающей стеной. Опьянев от его красоты, мы шли босиком по пляжу, то собирая в песке янтарь, то глядя на чаек, которые с оглушительным криком носились над водой. Вдалеке плыл большой пароход — виднелась лишь палуба и трубы, из которых валил густой дым. Мы долго провожали его глазами, потом гуляли в лесу, поднялись на гору Бируте, ходили по парку. Красота здешних мест очаровала меня — я не мог себе представить, даже увидев Неман и его берега, Куршский залив, что в Литве есть такой прекрасный уголок.
Летом я снова очутился в Паланге. На этот раз я поехал туда поездом.
Я познакомился с молодым поэтом Йонасом Шимкусом. Высокий, смуглый парень говорил на жемайтийском наречии. Оказалось, что он читал мои стихи и статьи в газетах, даже сборник «В сумеречных переулках» купил, хотя не все ему там нравится. Он сам издал в Клайпеде книжицу стихов со странным названием — «За дверью», которую не преминул подарить мне.
Шимкус закончил лишь четыре класса прогимназии и хотел учиться дальше, но не знал как, потому что его отец-сапожник не мог помогать ему. Теперь Йонас работал канцеляристом в той же прогимназии, которую кончил. Он показывал мне Палангу и дивился моему восхищению. Потом он повел меня в прогимназию и устроил в одном из классов на соломе, где спала молодежь, приехавшая со всех концов Литвы, — о больших удобствах люди моего тогдашнего возраста не мечтали. Я был рад встретить в Паланге Стасе. Моя радость пошла на убыль, когда я узнал, что она приехала сюда с атейтининками на какой-то их праздник. И впрямь позднее я почти не видел ее — то она слушала мессу у горы Бируте и ходила к причастию, то вместе с другими в сумерках шествовала с факелами вдоль берега. Когда я стал подшучивать над этим, ее карие глаза сверкнули злостью, и я прикусил язык…
Йонас Шимкус спрашивал меня о Казисе Боруте, Ляонасе Скабейке, Казисе Инчюре и других молодых поэтах, которых я хорошо знал. Мы говорили, что неплохо бы молодым поэтам завести свой журнал, как об этом мечтал Казис. Но эта мечта казалась далекой и несбыточной…
Вернувшись в Каунас, я встретил Казиса, который снова приехал из Вены. Не было конца нашим разговорам. На время он поселился у меня. Иногда мы разговаривали ночь напролет — о поэзии, жизни, угрозе фашизма, о любви и снова о поэзии. Мы читали друг другу свои новые произведения, и Казис как-то сказал:
— Если уж не журнал, то хоть издательство давай организуем.
— Издательство? На это ведь нужен капитал… Да и рукописей нет.
— Чепуха, — ответил Казис. — Начнем работу, и капиталы сами потекут. А насчет рукописей — первым изданием оттиснем мои «Песни о плакучих ивах», потом новую твою книгу, а тут к нам прибегут и другие молодые писатели.
Мой приятель Йонас Бурба нарисовал скачущего коня — эмблему нового издательства. Вскоре появился второй сборник моего друга, украшенный этой эмблемой. Кто платил за него в типографии, я так и не узнал. Потом я подготовил и сдал в типографию «Райде» сборник «Рассвет на улицах». Одна из работниц типографии сама набрала текст и смакетировала — осталось лишь оттиснуть и сброшюровать книгу. «Рассвет на улицах» осенью вышел из печати.
В Вену Казис возвращаться не собирался и уехал в Тельшяй, в еврейскую гимназию. Учителей тогда не хватало; в гимназии меньшинств — еврейской, польской или русской — место получить было легче, и мой друг решил попробовать учительского хлеба…
Примерно в то же время вспыхнуло так называемое Таурагское восстание. Социал-демократы, ляудининки и эсеры попытались свергнуть режим Смотоны и Вольдемараса, а точнее — националистического офицерства. Эта попытка провалилась, после нее начались массовые аресты по всей Литве. И не только аресты, но и расстрелы. Мой друг на короткое время угодил в тюрьму, а потом оказался в эмиграции в Риге.
Оставшись в Каунасе, я все еще думал о старой идее — издать журнал. Его можно было бы назвать так же, как и наше, по сути дела не существующее, издательство — «Зеленый ветер». Эту мысль горячо одобрил Ляонас Скабейка, ее поддержали Йонас Шимкус, которого только что выгнали с работы в Паланге, и еще несколько человек. Без сомнения, горячо ухватился за эту идею и Казис. Как мы будем что-либо издавать, не имея ни цента за душой, почему-то никому даже в голову не пришло. Каждый знал, что свои первые книги поэты издают на собственные или одолженные деньги. Именно так мы собирались выпустить первый номер журнала, а дальше видно будет…
Сообщения о будущем журнале и его сотрудниках попали в печать. Это почему-то взбудоражило представителей «Четырех ветров». Издав в прошлом году всего лишь второй номер своего журнала (газетного формата), они снова надолго почили на лаврах. Бинкис, которого я встретил на улице, накинулся на меня:
— Что это за «Зеленый ветер»? Не лучше ли будет «Голубое дуновение»? Отрыжка символизма, вот что! Эх, мальчики, не распыляйте сил…
Какие силы мы собирались распылять, я так и не понял. Некоторое время спустя появился третий номер «Четырех ветров». Мы читали его и пожимали плечами. Сотни людей были загнаны в тюрьмы, на печать надели намордник, в общественной жизни крепли фашистские тенденции, а в «Четырех ветрах» один поэт распевал:
О, солнце подлое, Косматый гад! Едва ты всходишь, Кругом разврат! …………………………. А этот мерин — Черный бес. Вчера промерял Ржаньем лес. Девка — корова, Парень — бугай. Его с этой лярвой Поди поймай!Другие поэты (скажем, Тильвитис[28]) писали интереснее и талантливее, но цинизм и разнузданность «Четырех ветров» меня все больше коробили. Листая журнал, я увидел статью, в которой разгромили Шимкуса, мой «Рассвет на улицах» и других молодых поэтов. Мне казалось, что это месть «Зеленому ветру».
Хорошо еще, что окончательно выяснились позиции. Казис послал протест Бинкису против этой статьи. «Четыре ветра», — писал он мне из Риги, — соизволили сделать строгое заявление через Ю. Петренаса. Посмеялся я вволю. И если мои письма их раздражают, то я послал им еще одно письмо, чуть построже, вежливо обозвав их ослами». Казис, который когда-то чего-то ожидал от «Четырех ветров», решил не иметь с ними больше дела.
Литературная жизнь в Каунасе захирела. «Литовских книг как не было, так и нет, — писал я Винцасу в Расяйняй. — Так что и писать о них нечего. Холодно, мрачно, неприютно… Словно ночью в лесу, где воют волки, а не в родной стране».
А Казис мне писал, что вскоре в Риге выйдет из печати новый сборник его стихов «Литва крестов». Название показывало, что сборник говорит о наших днях, о трагических буднях…
Мой литературный кругозор понемногу расширялся. Я читал пьесы Франка Ведекинда и Георга Кайзера, повести Шницлера, Флобера и Мопассана… Голова пухла от новых замыслов.
В коридорах университета я встречал задумчивого человека, приехавшего из Риги. Это был Юстас Палецкис,[29] издававший в Риге иллюстрированный журнал «Науяс жодис» («Новое слово»). Этот журнал охотно печатал произведения молодых поэтов. С Палецкисом мы разговаривали о латышских писателях, которых он переводил.
Осенью состоялся литературный вечер по каунасскому радио, в котором участвовал и я. Этот факт я упоминаю потому, что подобный вечер по тем временам был в диковинку, — кажется, лишь группа «Четырех ветров» недавно устроила свой «поэзоконцерт». Мы, начинающие писатели, собрались в крохотном домике радиостанции на горе Витаутаса, ужасно волновались, встав перед микрофоном, — мы еще не могли привыкнуть к мысли, что радио входит в жизнь, как уже вошли автомобиль, самолет; что и нам со временем придется выступать по радио сотни раз.
В уже знакомом зале консерватории тоже состоялся вечер «самой молодой группы писателей», на котором я прочитал отрывок из повести «Земельная реформа».
Редактор журнала «Начала и подвиги», известный поэт Фаустас Кирша, пригласил меня встретиться и поговорить. В кафе «Метрополь» я увидел за столиком интеллигентного человека в очках, с трубкой в зубах, в белоснежном воротничке и галстуке бабочкой. За столиком сидела и его подруга (о подругах поэтов читатели обычно осведомлены лучше, чем поэты об этом думают), оперная певица красавица Мариона Ракаускайте, и поэт из группы «Четырех ветров» Пранас Моркус[30] (правда, написавший мало стихов), сидел молодой критик Пятрас Юодялис,[31] напечатавший в последнем номере «Четырех ветров» несколько интересных статей, автор «Письма Фаустасу Кирше». Меня встретили по-дружески. Передо мной оказалась чашка кофе (кофе кипел тут же на столике, на спиртовке). Собравшиеся листали антологию европейских поэтов на немецком языке, в которой были помещены переводы стихов Кирши. Поэт не скрывал своей радости — мало кто из наших поэтов тогда удостаивался перевода на иностранные языки.
Вскоре завязалась оживленная беседа. Фаустас Кирша с волнением рассказывал, как трудно в Литве издавать литературный журнал. В своем журнале он печатает в основном критику, но охотно бы помещал и хорошую прозу, и поэзию. Он перешел к моим стихам, похвалил некоторые из них (оказывается, он знаком с обоими моими сборниками) и сказал, что я могу стать хорошим прозаиком, судя по «Земельной реформе». Я краснел — похвала казалась незаслуженной. Фаустас Кирша пригласил меня сотрудничать в его журнале. Он сказал, что хочет наряду с писателями старшего поколения — Креве, Вайжгантасом, Гербачяускасом, Сруогой — печатать и молодых. Я ответил, что у молодых есть свои взгляды, которые не всегда совпадают с мнениями старших писателей, и Кирша усмехнулся, вспомнив о моей давнишней статье, в которой я «раздолбал» Майрониса:
— Что ж, это было искренне… Почему бы не знать старикам, что о них думает молодежь?
Вспомнив свою статью, я покраснел еще больше и промямлил, что считаю ее своей ошибкой.
— Кто из нас не писал того, о чем потом приходилось сожалеть? — сказал Кирша.
Для первого знакомства он написал мне на своей книге стихов несколько слов: «На память о первой встрече на земле — через туман к солнцу». Наверное, потому мне запомнился этот автограф, что он очень уж хорошо выражал всего Киршу.
Мариона Ракаускайте казалась мне удивительно красивой. На ее оживленном, чуть подкрашенном лице сверкали (я ничуть не преувеличиваю — правда, сверкали!) нежные глаза. Тонкая белая рука с браслетом и перстнем изящно держала чашку кофе. Певица говорила глубоким голосом, вставляя английские словечки (она вернулась из Америки). Она поглядывала то на меня, то на Юодялиса; казалось, что она хочет понравиться. И она мне очень нравилась — я впервые видел такую женщину.
Мы непринужденно беседовали о жизни, поэзии, славе. Кирша задумчиво сказал:
— Вот мы живем, мучаемся, пишем, мечтаем… И я подчас думаю, что ведь наступит время, когда нас не будет и всю нашу жизнь втиснут в несколько холодных, равнодушных строк энциклопедии… И это будет конец…
(Фаустаса Кирши давно нет в живых. И, думая о нем, и не только о нем, я с болью вспоминаю эту печальную философию…)
Пранас Моркус говорил о последнем номере журнала Кирши, спорил с певицей о какой-то роли, и казалось, что наш разговор его совсем не интересует.
Когда мы с Юодялисом вышли из кафе, то разговор сам собой зашел о Фаустасе Кирше. Да, поэт — культурный, воспитанный человек. Но я знал, что в его журнале сотрудничать не буду. Меня привлекали другие идеи, другие замыслы. В моем кармане лежала новая книга, которая меня волновала, возбуждала вихрь новых чувств — печали, гнева и протеста. Я чувствовал, что литература — как эта маленькая книжица, на обложке которой был виден костел, провода и повешенный человек, — должна кричать, протестовать против фашизма, против зверств и насилия. Это был сборник стихов Казиса Боруты «Литва крестов», который я только что получил из Риги. Я уже знал наизусть почти весь этот сборник.
«Вышла «Литва крестов» Казиса Боруты, — писал я Жилёнису, — это, по моему твёрдому убеждению, лучший наш поэтический сборник. Сюжеты — трагические события последних дней, с демонической силой воплощенные в слове. Вся наша литературная компания едва не плакала, когда я прочитал одним духом сборник в нашем кружке. Огромное впечатление. Я нисколько не преувеличиваю».
Перед выходом этой книги Казис писал мне: «Моя учеба закончилась. К такому выводу я пришел вчера. Теперь начинаю думать о чистом профессионализме, точнее — о теории литературной техники, о конструктивном реализме… По всей Европе это носится в воздухе». Он упоминал своего нового приятеля — латышского художника Струнке,[32] который нарисовал обложку для его «Литвы крестов».
Стояла осень. Кружились несомые ветром над землей красные, желтые листья. Я снова приехал домой — на свадьбу Забеле. Юозас уже вернулся из армии. Раздобыв где-то котлы и змеевики, он гнал в кухне самогон. Собравшиеся вокруг котлов соседи пробовали крепкий первачок. Пиюс в углу избы прилаживал диковинный аппарат, которого не видывал никто окрест, — детекторный приемник. Приемник примитивный, из наушников раздавались то слова, то музыка. Но каждый, заходивший в избу, рвался к нему и слушал волшебные звуки, льющиеся неизвестно откуда. (На следующее лето на каникулах я видел в Любавасе такую картину. В открытом окне Верхней лавки играло радио, и люди говорили, что это дьявольское наваждение. Но вдруг музыка замолкла, и ксендз начал мессу. Услышав знакомый псалом, бабенки бросились на колени тут же, на рыночной площади, и принялись креститься. Все окончательно убедились в том, что без божьей воли радио работать не будет…)
Свадьба была веселее, чем когда-то у Кастанции. За столом снова сидел жених с ленточкой и веткой руты в петлице. Высокий, худощавый человек с прусской границы, от озера Виштитис. Он громко рассказывал, сколько заработал денег, выкапывая со своего поля камни, которые зимой он возил в Германию через замерзшее озеро. Рядом сидела наша Забеле, юная, с румяным красивым лицом, в фате. Подружки пели песни, от которых Забеле становилось грустно, и она вытирала глаза белоснежным платком. Жукайтис снова говорил речи, соседи и родные, съехавшиеся со всех сторон, ели и пили, в избе кружились пары. Теперь и я, научившись в гимназические времена танцевать, приглашал деревенских девушек, и свою двоюродную сестру Онуте Веливите, приехавшую издалека, с маминой родины. Онуте, нежная, красивая девушка, рассказывала, что собирается уезжать в Америку и там выйти замуж за своего жениха, который сейчас живет в Мариямполе, но тоже отправится с ней в дальние страны…
Кончался учебный год. Без особого усердия я посещал университет. Оказалось, что мудрости здесь было куда меньше, чем я ожидал. Намного больше я находил ее в книгах, которые просто пожирал без устали… Да, только книги, только друзья, и прежде всего Казис, влияли на меня; преподаватели (кроме одного-двух) не оказывали на меня влияния. Я немало печатался в журнале «Молодежь», публиковал пародии на поэтов в сатирическом журнале «Домовой».
Я опубликовал несколько стихов по мотивам поездки в Палангу. В одном молодежном журнале я увидел свою фотографию и следующий дифирамб:
«Певцом хаотичного, шумного, ни днем, ни ночью не смолкающего гула фабрик и грохота трамваев, певцом скрипки, плачущей в ресторанах и кабаках, певцом жалобного смеха и слез проституток, торгующих своим телом, певцом всего хаоса, именуемого городом, явился…»
Как вы думаете, кто же явился? Я с удивлением прочитал, что этот поэт — я. Кстати, трамваев в Каунасе не было, лишь тощая кляча таскала обшарпанный вагон конки от вокзала до ратуши.
А в конце года в большой аудитории университета состоялся так называемый суд над «Четырьмя ветрами». За столом восседал председатель суда Миколас Биржишка, появились и представители «Четырех ветров». Собравшиеся выступали с пылкими Речами, обвиняли и свидетельствовали. Чувствовалось, что движение «Четырех ветров», когда-то привлекшее молодежь своим протестом против главенствующих литературных направлений — романтизма, эстетизма, символизма, — выдохлось, сошло на нет. Петренас пытался изображать человека, руководящего большим и славным коллективом, но всем было ясно, что коллектива давно нет — одни из его членов перестали писать, другие погрязли в бульварной печати. Не дожидаясь конца суда, представители «Четырех ветров» высокомерно встали со своих мест и торжественно покинули зал. Когда они ушли, суд объявил приговор — приговорил «Четыре ветра» «к пожизненным каторжным литературным работам».
К каторжным литературным работам большинство этих писателей не привыкли, и лишь самые способные из них нашли позднее верный литературный путь. А большинство кануло в безвестность, унося с собой не только талант, но и раздутое самомнение, неясные, надуманные идеи.
Уже не хотелось идти туда, куда шел этот отряд способных литераторов. Полная безыдейность (хотя поначалу они и изображали левых художников), формализм, стилистическая изысканность, кроме того, богема, пьянство, слабоволие, которые мешают литературной работе, — все это уничтожило группу…
Нам, молодым, нужно было найти новый путь. Но какой? Да и кого причислить к молодым? Казис, Ляонас Скабейка, Бутку Юзе (по правде, я не был знаком с этим поэтом, но знал, что он значительно старше нас), Йонас Шимкус, недавно приехавший учиться в Каунас, Казис Якубенас,[33] Костас Гелвайнис-Корсакас,[34] Бронис Райла?[35] Да. Но сможем ли мы создать серьезную группу, не слишком ли разношерстная компания собралась и по политическим убеждениям, и по литературным вкусам? Все это было неясно. Надо было организоваться, наладить общее дело. Хотелось верить, что в литературу мы пришли для того, чтобы работать с каждым днем лучше, серьезней, сильней.
ЛИТЕРАТОРЫ И ДРУГИЕ
В толчее университетских коридоров, в тесноте аудиторий, где на лекциях студенты сидели друг у друга на голове, в духоте студенческой столовой, на вечеринках и танцах постепенно завязывались новые знакомства и дружба. Одним из новых моих знакомых оказался Бронис Райла.
Его стихи и статьи я встречал в «Культуре» и других журналах. Они меня заинтересовали. И когда Райла появился в университете, я не мог не обратить внимания на этого коренастого парня с бледным красивым лицом (студентки посматривали на него с восхищением). Разговаривал Райла смело, не боялся спора, часто выступал на студенческих собраниях. Эта его черта понравилась мне. Сам я был стеснительным и чувствовал, что часто у меня не хватает смелости в спорах. Писал Райла тоже хлестко, особенно полемические статьи. Он был начитан, неплохо владел немецким языком. На студенческих вечеринках он пел тенором то «Ой, Галина, ой, дивчина», то «От Севильи до Гренады». С ним никогда не бывало скучно. Как говорится, он годился и «для танца, и для молитвы». Правда, молитва тут не к месту, потому что Райла был безбожником, даже называл себя социал-демократом; любил насмехаться над ксендзами и таутининками,[36] поговорить о социализме. Он считал себя великим донжуаном и смачно рассказывал о женщинах и выпивках, хотя мне казалось, что свои похождения он несколько преувеличивает. Но не эти рассказы привлекали меня к Райле. Мне нравилось, что он внимательно следит за новой литературой, любит ее не меньше меня, пишет стихи, правда, тяжелые, надуманные, но все равно более новые и интересные, чем у романтиков и эпигонов символизма. Это нас сблизило. Мы начали встречаться, читать друг другу свои стихи, обсуждать книги, вместе ругать романтиков, символистов и даже футуристов. Обоим нам хотелось написать что-то новое, значительное, хотя ни один из нас не знал, как это сделать.
Я часто встречался со старым приятелем Скабейкой. Он тоже собирался издавать первый сборник стихов. Он долго ломал голову и все не мог найти подходящее название. Вспомнив, с каким вниманием Скабейка (как и я) слушал лекции Дубаса о Бодлере, зная настроение самого Ляонаса, я предложил назвать сборник «Под крыльями черного ангела». Ляонасу название понравилось. Вскоре вышла небольшая книга с эмблемой «Зеленого ветра» — скачущим конем. Критика отзывалась о ней разноречиво — кто ругал, кто хвалил. Без сомнения, важнее всего было то, что Скабейка окончательно вошел в литературу. Потому что поэт, который печатает свои произведения лишь в периодике, даже по тем временам считался недостаточно серьезным.
Хотя еще недавно поэзия Ляонаса нравилась мне, постепенно я немного разочаровался в ней и писал Винцасу Жилёнису: «Я совсем склонился к реализму, и мне уже не нравится его абстрактный символизм. Но у него есть образы широкие, дьявольски мощные в эмоциональном отношении — да и в музыкальном. Везде чувствуется музыка. Настоящий Вагнер. Некоторые стихи лишают сна».
Я помню туманное утро, когда мы с Ляонасом шли по берегу Немана в старой части города, по рельсам узкоколейки, и прямо навстречу нам с грохотом из тумана выскочил паровоз. Мы едва успели соскочить с рельсов. Потом нам казалось смешным, что мы столь легко могли оказаться калеками или умереть. Я помню снежную зимнюю ночь, когда мы стояли на Панемунском мосту, глядели вниз на черную воду и говорили о поэзии и смерти.
Смерть казалась далекой, за высокими горами времени, и мы говорили о ней не как о реальности, а как о поэтической теме. Смерть была темой его пессимистического стихотворения, отразившего еще не осознанный протест против несправедливого общественного строя… Жить нам тогда хотелось, как никогда.
Потом он переехал на проспект Витаутаса, а я — на Зеленую гору.
Погожее утро. На проспекте Витаутаса пахли кладбищенские деревья, утонувшие в утреннем тумане. Мы с Райлой шли мимо дома, где жил Ляонас. Нам в голову пришла идея. Разнесся слух, что в Каунас должен приехать Константин Бальмонт. Скабейка жил как раз по пути на вокзал, куда мы шли, чтобы выпить пива. Мы подошли к зеленым деревянным домишкам и оглушительно зазвонили. Звонили до тех пор, пока Скабейка не проснулся и не открыл дверь в одной сорочке.
— Черт возьми! Думал, что полиция! Чего так растрезвонились?
— Одевайся, скорей одевайся!
— С ума сошли? Зачем мне одеваться?
— Одевайся. Важное дело. Когда оденешься, скажем. Видя серьезные наши лица, он тут же оделся.
— Мы узнали, что этим утром приедет Бальмонт. Идем на вокзал — посмотрим, что за птица. Вчера поздно вечером получили известие, даже не успели в газетах сообщить.
— Правда? Пошли скорей. Еще не поздно?
— Надо поспешить. Можем опоздать.
Мы побежали на вокзал. В вокзальном буфете потягивали пиво несколько журналистов. Как всегда, у стойки вертелись сомнительные личности — агенты охранки. Мы сели за столик и заказали пиво. Спустя некоторое время Скабейка, видя, что мы преспокойно попиваем пиво и беседуем, спросил:
— Когда же приходит поезд?
— Какой?
— На котором приедет Бальмонт. Мы расхохотались.
(Когда через год в Каунас действительно приехал Бальмонт, нам даже не пришло в голову пойти его встречать.)
Смеялись мы поначалу вдвоем, а потом присоединился и Ляонас.
— Эх, типы, хорошо же вы меня надули!.. — сказал он, допивая пиво.
Веселые и довольные мы вернулись назад.
* * *
Страшно хотелось увидеться с Казисом, который так и жил в Риге. За чтение «Литвы крестов» угрожали штрафом в пять тысяч литов, но книжонка, несмотря на эти угрозы, довольно широко ходила по рукам в Каунасе. Казис в письмах приглашал меня приехать. И вот в феврале я очутился в Риге. Казис с женой, в прошлом сестрой милосердия, с которой он, кажется, жил уже в Вене, отвез меня с вокзала в большой дом, в огромную комнату. Явно не хватало мебели, и мы с великим трудом уселись за расшатанным столиком. Жена Казиса, добрая спокойная женщина, кажется, старше его на несколько лет, очень о нем заботилась. Зная латышский язык, она помогала Казису общаться с местным населением, хотя в Риге без особого труда можно было договориться по-русски. Казис радовался популярности «Литвы крестов» в Каунасе. Он сказал, что основал издательство «Буря» и готовит альманах под тем же названием, в котором будет сотрудничать Витаутас Монтвила и еще кое-кто (видно, Казису трудно было набрать сотрудников). Он хотел непременно напечатать мою «Земельную реформу» и всячески уговаривал продолжать ее. Его жена кормила нас шпротами и прочими рыбками. Чтобы отпраздновать встречу, мы выпили даже по рюмочке горькой.
Казис говорил, что его издательство опубликует целую серию антифашистских книг, сперва его самого, а потом Бутку Юзе, Жвайгждулиса[37] (в том числе переведенную им поэму Блока «Двенадцать»). Все это привлекало и радовало меня. Казис еще больше вырос в моих глазах.
Самой Ригой, насколько я понял, Казис был недоволен — и здесь полно мещан и бюргеров, которые заботятся лишь о своей теплой конуре. Но в Риге, что ни говори, политические условия легче, латвийская общественность с симпатией относится к литовским эмигрантам, убежавшим от Сметоны и Вольдемараса. Эмигрантов много, они уже ссорятся, обвиняя друг друга в неудачах Таурагского восстания, и ищут, кто так легко, без сопротивления, отдал власть из рук «настоящей демократии» фашистам. Казис с горечью вспомнил о рижском «конгрессе» эмиграции, который показал политический авантюризм и моральное падение многих из них. Кроме эмигрантов в Риге, без сомнения, действуют и агенты сметоновской охранки.
Кажется, опасаясь этих агентов, он не хотел водить меня по городу. А я впервые оказался в столице Латвии и жаждал как следует осмотреть ее. Город показался мне больше и внушительнее Каунаса. Обширные парки, правда, в это время года без листвы, широкая незамерзшая Даугава, по которой плыли пароходики и буксиры, готика Старого города, музеи — все это поражало меня, видевшего лишь Мариямполе, Клайпеду и Каунас.
Однажды вечером Казис повел меня в так называемый «клуб художников», где-то в Старом городе. Открыв кованую дверь, мы очутились в готических сводчатых комнатах, от которых веяло глубокой древностью. Под сводами висели стилизованные фонари, а за столиками сидели латышские писатели, художники и актеры. Все это казалось романтичным. К нам подсел еще не старый человек с длинной гривой, которую он постоянно отбрасывал назад. Он подал мне худощавую руку с длинными пальцами и представился:
— Никлаус Струнке.
Струнке в то время был одним из виднейших латышских графиков. С ним была его жена. Мы выпили по чашке кофе с коньяком, и друг Казиса, который, как мне сказали, оформлял и его книги, делился последними рижскими новостями. Потом он заговорил о Чюрленисе, которого обвинял в технических недостатках, но считал большим художником. Показывал балетмейстера за соседним столиком, который, по его словам, нюхал кокаин, и спрашивал, что такое фашистская власть. Он сказал, что по рассказам Казиса трудно ее себе представить.
Потом мы выпили еще несколько рюмок коньяку и, развеселившись, покинули клуб. Струнке хвалил Казиса и благодарил меня, что я его посетил, — тот давно уже рассказывал о моем предстоящем приезде.
Вернувшись в Каунас, я довольно быстро получил и альманах «Буря». В начале альманаха была напечатана моя «Земельная реформа». Это меня очень обрадовало. Дальше были помещены произведения Боруты и Монтвилы, переводы Есенина, Уитмена, латышских писателей, статьи Марка Аронсона, самого Боруты и других. Если употребить современное выражение, альманах политически не имел ясного направления. Но он был антифашистским и выражал в стихах и статьях недовольство положением, сложившимся в Литве.
Мы получили из Риги и другие произведения Казиса, изданные издательством «Буря», — «Дом № 13» и «Мутный ветер над пашнями». Первая книга являла собой небольшой гротескный роман, в котором Казис изображал «подвиги» литовской охранки. Сам заголовок недвусмысленно указывал, о чем шла речь в романе (в Каунасе в доме № 13 по Лесной улице находилось здание охранки — туда попадали многие арестанты, где их избивали и пытали). Сборник рассказов «Мутный ветер над пашнями» был полон протеста против фашизма. Эти книги с жадностью читали все, к кому только они ни попадали.
В университете, наряду с уже раньше основанным обществом студентов-гуманитариев, был организован кружок студентов-литераторов. Некоторое время я был в нем председателем. Собрания проходили нерегулярно, на них каждый, кто хотел, читал свои творения или просто выступал. Поначалу у кружка не было четкого идейного и эстетического направления. Пожалуй, только с осени, когда кружок переименовали в «Экспресс» (так назывались мои стихи, вошедшие в сборник «На улицах рассвет»), мы стали острее критиковать романтиков и символистов, пропагандировать «модернизм», который для нас самих еще не был понятен. Одни из нас все больше склонялись к умеренному реализму, другие говорили о конструктивизме, экспрессионизме и других «измах», вычитанных из случайных книг. Юозас Балдаускас, всесторонний знаток, читал нам доклады о формальном методе в литературоведении и о конструктивистах. Другие же шпарили «лекции» о немецком романтизме и Новалисе…
На собрания кружка, чтобы послушать «поэтов» и прозаиков», приходили не только литераторы, но и посторонние люди — любознательные студентки. Бывали писатели из города.
Одним из самых интересных членов кружка был Пранас Моркунас.[38] Этот белокурый человек с круглой плешью, значительно старше нас, когда-то был добровольцем буржуазной армии. Он ходил в длинной поношенной солдатской шинели, в гимнастерке. Считая наиболее значительной деятельностью для человека тушение пожаров, Моркунас служил в пожарной команде. Услышав сигнал, днем и ночью он хватал сверкающую каску пожарного и спешил на место бедствия. Он обожал литературную работу и за мизерную плату переводил для различных издательств книги, которые в те годы легче всего было издать: «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма, «Лицо во мраке» Эдгара Уоллеса и других.
Весной 1928 года кружок студентов-литераторов начал издавать газету «Студент». Это была небольшая газетенка в 8—12 страниц, которую организовал даже не кружок, а несколько активных парней. Первую скрипку в ней играл студент-гуманитарий, о котором раньше никто не слышал, — Генрикас Блазас.[39] Это был очень высокий и очень худой человек, в очках, с высоким лысым лбом, испорченными зубами. Он был не без способностей, профессора предрекали ему будущность ученого. Блазас был красноречив, он мог говорить часами и ничего не сказать. Я познакомился с ним, когда он уже сидел в комнатке деревянной лачуги по улице Донелайтиса, в редакции «Студента», и готовил к печати второй номер. Интерес к газете был большим. В первых же номерах редакция сумела привлечь в число сотрудников некоторых профессоров. Владас Дубас писал легкомысленные новеллы про влюбленных студенток (тем, кто знал его как серьезного ученого, это, пожалуй, было неприятно). Балис Сруога публиковал остроумные статьи по вопросам культуры. Часто писали Гербачяускас, иногда даже Казис Бинкис. Газета публиковала интервью с виднейшими писателями того времени — Вайжгантасом и Киршей, Бинкисом и Вайчюнасом,[40] Гирой и Миколайтисом. Каждый писал все, что хотел. Мне газета нравилась потому, что в ней можно было довольно свободно (разумеется, насколько позволяла цензура) высказываться по вопросам университетской жизни и культуры. Правда, уже в первых номерах Балис Сруога в неподписанной статье громил Костаса Корсакаса за его статью в «Культуре», а сам Блазас и кое-кто еще выступали за чистое искусство. Но мы относились к «Студенту» как к общей трибуне различных (только не клерикальных и не фашистских) взглядов, и нам казалось, что все идет как надо.
Летом в Каунасе организовали сельскохозяйственную выставку. Рядом с Дубовой рощей настроили павильонов, конюшен и курятников. Деловые фирмы понаставили киосков, разукрасив их во все цвета радуги. Не только жители Каунаса ходили по выставке, — крестьяне, приехав ее осматривать, пили теплое пиво прямо из бутылок, остановившись у павильонов пивзаводов, закусывая привезенными из дома сыром и скиландисом (домашней колбасой). Радиоцентр Варнаускаса транслировал музыку, а когда она смолкала, раздавался голос:
— Покупайте печенье фирмы «Неаполь»… Печенье фирмы «Неаполь»… Суперфосфат — лучшее удобрение… Откармливайте свиней на бекон…
Выставку открыл сам президент Сметона. У центрального павильона стоял среднего роста хилый человечек интеллигентной внешности, с бороденкой, во фраке, держа в руке черный блестящий цилиндр. Вокруг него толпились офицеры, несколько не особенно элегантных дам — наверное, президентша и министерши. Вокруг тесным кольцом стояли полицейские и охранники и никого не подпускали поближе. Я стоял неподалеку и хорошо слышал слова его превосходительства. Сметона говорил о древней Литве, о ее величии и мощи. Потом он сказал, что теперь Литва маленькая, но и такая, мол, годится для нас… («Удивительно, самый скромный правитель Европы», — подумал я). Президент отметил, что Литва — сельскохозяйственная страна (эта его фраза стала столь популярной и комичной, что шутники за рюмкой вечно ее повторяли) и что надо поднимать сельское хозяйство, выращивать хлеб и откармливать свиней…
…Может быть, я бы и не описал этой выставки, но она запомнилась мне потому, что полдня я провел на ней с интересным человеком — художником Пятрасом Калпокасом.[41] Веселый, с гривой седеющих волос, Калпокас шел по выставке, окруженный журналистами, студентами и случайными людьми. Мы где-то встречались раньше, и, увидев меня, он махнул рукой, приглашая к себе. Я пристал к веселой компании.
Прежде всего Калпокас пригласил нас в павильон «Рагутиса» и заказал всем пиво.
— Пейте, сколько хотите… Платить не придется. Оказывается, художник изготовил для пивзавода «Рагутис» по случаю какого-то праздника огромную кружку пива и за это получил право пить пиво этой фирмы, когда угодно и сколько угодно.
— Я хотел провести пиво к себе в дом, — рассказывал Калпокас. — Устроил бы кран у кровати. Просыпаешься и сразу наливаешь себе…
— Ну и как? — полюбопытствовали мы. — Провели вам пиво?
— Нет, не провели, собаки, чтоб они этим пивом подавились!.. Ненароком обмолвился, что у меня каждый день будут гости…
— Маэстро, маэстро… — ухаживал за нами усатый кельнер «Рагутиса» в белом переднике, нося на стол всё новые кружки с пенящимся пивом, а мы поднимали их за здоровье маэстро.
К слову Калпокас рассказал нам историю, случившуюся с ним в Италии.
— Однажды отправился я с одним итальянским полицейским в горы. Он шел собирать налоги у людей, а я — за компанию. Заходим в хижину. Крестьяне с испугом смотрят на государственного человека. Денег нет, налоги платить нечем. Но есть вино. И носят нам вино, а мы сидим и поем «О, соле мио!..»…Соберемся уходить, еще и подарки дают — курицу со связанными ногами. Так и идем мы по деревне, обвесившись курами — одних через плечо перебросили, других полицейский прицепил к пуговицам мундира… Под вечер я, как более трезвый, веду полицейского, а он падает во все стороны, да и только. Вдруг поскользнулся на горной тропе — слышу, куры со страшным кудахтаньем несутся во все стороны…
— Убился полицейский? — спрашиваем.
— Не взял черт! — отвечает маэстро. — Когда с горы летел, куры поддержали…
Выйдя из павильона «Рагутиса», мы расхаживали с маэстро по выставке.
Пятрас Калпокас пользовался в Каунасе любовью, популярностью и известностью. Сам он любил шутки — незлобивые, они никого не обижали. О нем рассказывали такой случай. За Укмергским шоссе он выстроил дом странной архитектуры — не то замок, не то склад. И вот стоит он как-то у своего дома, а мимо идет человек. Не выдержал прохожий и спрашивает:
— Скажите, пожалуйста, а чей этот дом?
— Хотите с владельцем познакомиться?
— Нет, — замычал прохожий. — Просто интересно…
— Могу вас проинформировать. Живет здесь странное семейство. Его фамилия — Калпокас, жены — Дубенецкене, а дочки — Юозапайтите… Правда, лучше с такими не связываться?
Теперь мы следовали дальше с Пятрасом Калпокасом. Он останавливался у киосков, где были выставлены образцы конфет и шоколада, говорил по-итальянски речь, и в каждом киоске маэстро одаривали сластями. Перепадало конфет и нам.
Набрав конфет и всякой чепухи — игрушек, гвоздей, печенья, мы, наконец, оказались у киоска бисквитной фабрики «Неаполь». Маэстро долго говорил по-итальянски, спел «Смейся, паяц», наконец стал декламировать терцины «Божественной комедии», но владельцы киоска притворились, что его не узнают, и ни песни, ни речи не оказали никакого воздействия. Попросту говоря, мы ничего не добились. Потом мы отправились в радиоцентр Варнаускаса. Здесь маэстро встретили дружелюбно и вручили ему полную бутылку итальянского вина. Прислонившись к стене радиоцентра, маэстро пил, пока бутылка не опустела.
Тогда он попросил самого Варнаускаса разрешить ему выступить по радио.
— Просим, маэстро, просим… — Варнаускас уступил ему место перед микрофоном.
Пятрас Калпокас пространно благодарил различные фирмы, которые столь щедро снабжали своими изделиями его и его друзей. Потом продекламировал что-то по-итальянски и стал последними словами поносить фирму «Неаполь», ее владельцев и все ее изделия. Ругань разносилась из громкоговорителей по всей выставке. Варнаускас поначалу спокойно слушал, но потом понял, что дело может окончиться плохо, и силой оттащил маэстро от микрофона. Но маэстро уже сам устал, сел в углу студии за столик, подпер голову рукой и крепко заснул…
После этой короткой вставки пора вернуться к прерванному повествованию. За короткое время я написал несколько довольно больших рассказов. Это были «Настазе», «Каунасская поэма» (которую я позднее назвал «Выстрелом в департаменте»), «Вниз по лестнице». В этих рассказах, особенно в «Каунасской поэме», было немало деталей, которые я заметил, работая в Министерстве сельского хозяйства. Я принес «Каунасскую поэму» в редакцию «Литовских ведомостей», ее сразу же напечатали. В министерстве многие читали этот рассказ и тут же занялись поисками прототипов. Кое-кого из них можно было узнать, особенно одного референта. И референт вдруг стал со мной преувеличенно вежливым и холодным. В этих рассказах я, без сомнения, занимался сюжетными и стилистическими исканиями. В них переплеталось то, что я знал, с тем, что я себе представлял. «Конец парня» был написан запутанными, нарочито сложными, даже комичными фразами: «По асфальту неба ветер волок окорок тучи». Это казалось образным. Однако этот стиль быстро надоел. В «Настазе» я бросился в лирику и занялся остросексуальной темой, которая мне, молодому наивному юноше, казалась отважной, «эпатирующей» мещан и прокисших эстетов. Но я ошибся и сам дал случай этим мещанам посмеяться. В рассказе «Вниз по лестнице» мне хотелось изобразить нездоровую атмосферу города, которая отравляет даже самых невинных. Может быть, глупо самому комментировать слабые свои сочинения, но хочется вспомнить и заново пережить все, чем я тогда жил. Я уже собирался издать первую свою прозаическую книгу и, закончив новый рассказ «Человек между пилами», собирался ее так назвать. Но прошло еще немало времени, пока эта книга вышла из печати.
Мои рассказы печатали «Студент» и другие газеты. Хоть и редко, некоторые редакции начали платить мне гонорар. Мои знакомства и связи стали шире; меня как стилиста ценили агрономы, много их статей и книг прошло тогда через мои руки. Это была скучная работа, но она делала меня независимым, разрешала учиться, больше думать о литературе, меньше дорожить службой, писать. Я удивился, когда заметил, что уже второй месяц подряд могу отложить про запас несколько десятков литов. Балис Сруога писал в «Студенте», что собирается организовать экскурсию в Альпы, и я мечтал об этом путешествии.
Кажется, осенью 1926 года я пришел к своему товарищу по гимназии Антанасу Янушявичюсу, который жил в общежитии, и застал у него незнакомую девушку. Янушявичюс был родом из той же волости, что и я, и, хотя я был атеистом, а он — верующим, мы дружили во время каникул, да и в Каунасе довольно часто встречались. Девушка была в очень скромном, даже гимназического покроя платье. Она посмотрела на меня большими глазами. Мне показалось, что она прекрасна. Она была красива той неповторимой красотой юности, которая почти отнимает дар речи у молодого человека. Это случилось и со мной, когда приятель представил меня Саломее Нерис, сказав, что я тоже пишу стихи. Я был ошеломлен, и, когда приятель ушел в коридор за кипятком, оставив меня наедине с Нерис, я не знал, что говорить. Не потому, что я уже считал ее великой поэтессой, но потому, что этой незнакомой девушке раскрыли мой секрет. А она смотрела на меня теплым взглядом больших глаз и, кажется, совсем не осуждала меня за то, что я пишу стихи. Она меня о чем-то спросила, я от волнения покраснел — я не привык говорить с девушками. Это было тем более трудно, когда передо мной за столиком сидела поэтесса, которую печатали многие газеты и фамилию которой хорошо знали все, кто интересовался литературой.
Янушявичюс долго не возвращался, мне поневоле пришлось отвечать, и мы успели выяснить, на каких факультетах учимся, где кончали гимназию. Нерис сказала, что читала мои стихи, но умолчала о своих впечатлениях. Она расспрашивала, много ли я написал, что читаю, и, когда мой приятель вернулся с металлическими кружками, наполненными кипятком, мы уже разговаривали с Нерис, как старые, добрые друзья. Моя робость испарилась, и мы все попивали кипяток, в котором плавали чаинки. Сахар мы ели вприкуску, чтобы было дешевле. Я то и дело посматриваю на новую знакомую, мы разговаривали об университете и профессорах. Нерис расспрашивала меня о Креве, Тумасе, Сруоге, и я предложил ей прийти к нам их послушать.
Мы вместе покинули комнату Янушявичюса. Оказалось, что Нерис намного ниже меня, и теперь, когда мы шли по Лайсвес-аллее, я видел обращенное ко мне ее лицо. Я подумал, что хорошо бы подружиться с такой девушкой, но мы уже подошли к улице Даукантаса, и она, подав мне руку, сказала:
— Мы встретимся, правда? Мы ведь учимся в том же здании.
Кажется, под впечатлением первой нашей встречи я посвятил Нерис стихи, напечатанные в сборнике «На улицах рассвет».
Как и раньше, я много читал. В мои руки попадали классики, писавшие четко, последовательно, понятно, воссоздававшие широкую картину жизни, проникавшие в психологию персонажей. Но читал я также, например, «Голый год» Бориса Пильняка и другие его произведения. Эти книги были написаны удивительно запутанным стилем, — за смесью метафор, сравнений, за обрывками фраз иногда трудно было уловить мысль автора. Да и сама мысль была запутанной, без логической последовательности. Каким путем идти? Кто прав? Классики пишут прекрасно, ничего не скажешь, — но они не наши современники. Пильняк и другие пишут по-новому, не так, как все, но они сами закрывают себе путь к читателю — их могут одолеть только чудаки или такие любители, как я. «Я считаю, — писал я Райле летом 1928 года, — что для прозы изысканность стиля — как собаке пятая нога. Простой, естественный рассказ. Иногда могут быть номера, цифры, переходы на другую строку. Но ничего лишнего! Хороший пример — Эренбург. Раньше он проповедовал конструктивизм, а сейчас пишет стилем Толстого».
И еще из того же письма — чтобы показать настроения тех лет.
«Мы с тобой осенью устроим новый «поэзо-концерт», от которого зачихают все академические крысы. Цитадель мещанства надо взорвать пироксилином нахальства, если уж иначе нельзя».
Я читал и остроумнейшую книгу Корнея Чуковского «От Чехова до наших дней», и воспоминания Айседоры Дункан, и Есенина, и «Графа Монте-Кристо». Не только от нетребовательности и отсутствия плана — меня подстегивал голод новых впечатлений, новых знаний. Желание разобраться в новых проблемах литературы и искусства заставляло читать теоретические труды — «Теорию прозы» Шкловского, «Культуру и стиль» Иоффе. Правда, в этих книгах я обнаружил не столько марксизм, который меня все больше интересовал, сколько формализм и вульгарную социологию. Но эти книги заставляли думать, не успокаиваться.
…У Казиса дела обстояли плохо. Моему непоседливому другу стало жарко и в Риге. Осенью, в октябре, я получил от него письмо, написанное в поезде Берлин — Вена: «В Берлине просидел около недели. Остаться не удалось. Полицейские, гады, выгоняют. Еду в Вену, сам не знаю зачем. Хотел поехать в Париж, но не впускают. Настоящий нужник эта Европа: куда ни ткнешься, одно и то же… Получается, что лучше было бы уж в Каунасской тюрьме. Жаль, что добрые люди не позволили мне туда угодить. Там бы я продолжал свой «Дом № 13».
Что же случилось? Возможно, латвийская охранка заинтересовалась деятельностью Казиса. Скорее всего, не без помощи литовской политической полиции — давно уже известно, что охранки соседних стран часто помогают друг другу охотиться за революционерами… В голову лезли всякие мысли. Было жалко бездомного друга, который нигде не может найти спокойного места. Еще сильнее становилась ненависть к тому строю, который изгнал моего друга из Литвы и заточил в тюрьмы много молодежи.
Недели две спустя я снова получил письмо — уже из Вены. «…Я устал, рассеян, душа без места…» Но Казис все равно не забывал о литературной работе. Он просил прислать ему новые газеты и журналы. «…Надо исподволь проникать в «Культуру», это единственный журнал, который читают в деревне». И снова тоска: «О, эта литовская деревня! Она мне снится».
Как мне понятны и близки чувства Казиса! Может быть, не с той остротой, как в первый год жизни в Каунасе, но все равно я по-прежнему мучительно чувствовал, что лишился своей деревни, что вокруг меня — тупые, опустошенные люди, карьеристы, бегущие туда, откуда им помахали деньгами. И жизнь и любовь у них — серые, плоские, ничтожные… Пойдешь в университет — серая скука, заглянешь в кафе Конрадаса выпить кофе — сидят напыжившись крысы желтой печати и воображают, что от них зависит судьба если не мира, то хоть Литвы. Проституирование мысли, идей, совершенно такое же, как проституирование тела на Неманской. Хотелось издеваться над жизнью этих ничтожеств в своих книгах.
Хотелось искать нового, экспериментировать, написать то, чего еще никто не написал. Втроем — Райла, Моркунас и я, — коллективно обсудив план и потом, разделив между собой отдельные главы, мы написали повесть с торжественным названием «Panterral explositor», — как можно судить по заглавию, это была история одного американского мультимиллионера, который изобрел способ уничтожить мир. Фантастика и приключения переплетались в повести с наивной критикой капиталистического мира и разоблачением его жестокостей. Повесть вскоре показалась нам неудачной, и мы ее уничтожили. Много лет спустя я узнал, что в 1924 году чешский писатель Карел Чапек написал на подобную тему роман «Кракатит».
Осенью я пришел в большую аудиторию университета на вечер памяти Льва Толстого. Долго и скучно говорил Миколас Биржишка. Но особенно запомнилось нам выступление Винцаса Креве-Мицкявичюса. Он недавно побывал в Советском Союзе на юбилее Толстого. Теперь он рассказывал свои впечатления о той стране, о которой мы так мало знали, сталкиваясь обычно лишь с самыми дичайшими слухами.
— Увидев комсомольцев, я убедился в том, что это честная, открытая, идейная молодежь, — говорил Креве. — Они пользуются широким правом критиковать то, что подлежит исправлению в их строе. Жизнь студенчества просто завидная. Здания университетов прекрасные, студенты живут в роскошных общежитиях, шестьдесят процентов из них получают стипендии… советская власть укрепляется. Молодое поколение поддерживает ее… Вообще жизнь молодежи и состояние учебных заведений в СССР оставили у меня благоприятные впечатления. В этом отношении мы стоим куда ниже их.
Услышать такие слова с университетской трибуны, да еще из уст одного из популярных профессоров, было дело необычное, особенно сейчас, когда Литву сковал фашизм. Новые правители Литвы искали вдохновения в Италии, в доктринах Муссолини, в подвигах чернорубашечников. Мир Востока, Советский Союз был чужд, враждебен, ненавистен для них. И тут один из самых знаменитых писателей выступает с совершенно новыми, смелыми мыслями. Нет, конечно, его слова не превратили нас в комсомольцев! Его речь прозвучала, и многие тут же забыли о ней. А в более поздние годы, когда я все больше разочаровывался в существующем строе, когда душа и ум тревожно искали истину, слова Винцаса Креве оказали на меня большое влияние.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ШАЛОСТИ
На Зеленой горе я прожил почти до конца 1928 года. Но всему приходит конец. Сообщение с центром было неудобным. Автобусы не ходили. Возвращаясь поздно вечером домой по немощеным улицам, я слышал жуткие крики пьяниц. На краю города жила беднота, неподалеку находилась знаменитая «Бразилка» — район вконец обнищавших людей. Для многих алкоголь оставался единственным утешением в беде. Осенью целый день улочки были в тумане, а вечером, возвращаясь из города, я вечно опасался полных воды канав. Вместо тротуаров, рядом с канавами лежали какие-то доски.
До центра приходилось добираться пешком. Для молодых это было веселой прогулкой. Но мы чувствовали свою отрезанность от Каунаса. Женщины, жившие в нашем доме, все чаще мечтали не только о кино или театре, но и о балах в «Метрополе». Как только моим хозяевам удалось продать дом (он был построен большей частью в долг, и хозяин надеялся расплатиться, получив гонорар за книги по агрономии), мы перебрались в дом на углу улиц Гедиминаса и Жемайчю. В новом каменном доме Страздасы сняли квартиру с центральным отоплением (это была редкость в Каунасе по тем временам). Здесь получил комнату и я. Жизнь сразу стала удобней — в нескольких шагах и университет и служба.
Я встретил на улице Теофилиса Тильвитиса, и он пообещал зайти ко мне. Мы уже вместе участвовали в литературных вечерах, но видел я его редко — я служил в одном учреждении, он — в другом (в налоговой инспекции), по вечерам я находился в университете, которого он не посещал. Тильвитис был высокий, краснощекий человек, он вечно улыбался. Его ярко-голубые глаза глядели спокойно, с добротой. Но в них почему-то не чувствовалось остроумия, которое ключом било из его «Трех гренадеров», где молодой поэт так удачно пародировал видных поэтов, романтиков и символистов, что нельзя было без улыбки читать эту книжицу. Уже вышла и его футуристическая поэма «Распродажа души» — угловатая, острая, смелая книжка, далекий отзвук раннего Маяковского. Тильвитис на самом деле любил Маяковского, да и все представители «Четырех ветров» постоянно вспоминали, читали и декламировали его.
Встретившись на улице, мы заговорили о Маяковском, которого я читал еще в Мариямполе. Обоих нас Маяковский интересовал не как поэт Октябрьской революции, а как новатор формы. Нам казалось, что наша задача — громить при помощи новой формы отживших романтиков и неоромантиков, как в свое время Маяковский громил эстетов и символистов типа Бальмонта.
Выяснилось, что Тильвитис тоже не любит клерикалов. Я уже слышал, что они выгнали его из гимназии. Прочие его взгляды для меня оставались неясными, да я ими и не интересовался — Тильвитис привлекал меня как поэт.
Он говорил о жизни, о непонятных силах, которые заставляют человека любить. Тильвитис был еще не женат тогда и смотрел на брак очень серьезно и считал, что через него должен пройти каждый настоящий мужчина. Мы говорили и о театре, об опере — Тильвитис в то время мечтал о карьере актера или певца и даже где-то учился этому.
О литературной работе мы говорили мало. Тильвитиса не интересовало то, что я пишу, и я не посмел показывать ему свои произведения (я тогда писал рассказ «Человек между пилами»).
Мне показалось, что с этим талантливым, своеобразным поэтом сблизиться нелегко, — от него исходит какой-то холодок. Тильвитис тогда был на устах у всех, кто интересовался литературой и поэзией. Обо мне этого нельзя было сказать.
…Условия в университете по-прежнему были невыносимы. Как и раньше, мы теснились в первых двух этажах небольшого здания, а на третьем находился факультет теологии и философии. Я часто встречал товарища по гимназии Антанаса Янушявичюса. Он был атейтининком и даже редактором их журнала. Разговаривать с ним становилось все труднее. Я видел молоденькую студентку, которая торопливо пробегала в окружении почитателей по лестнице, — Саломею Нерис, с которой я сам недавно познакомился.
Изредка поднимался по лестнице на теологический факультет Майронис — дородный, очкастый человек, у которого уже мало осталось поэтической легкости и вдохновения. Все литературные вопросы мы обычно обсуждали на лестничной площадке, и довольно часто в наши споры встревал вспыльчивый седой человек — Юозас Тумас. Любителей литературы становилось все больше. В разговорах стал участвовать Антанас Мишкинис[42] — любитель ввернуть острое слово. Он уже тогда боготворил Казиса Бинкиса и считал его лучшим литовским поэтом. Появился низенький, веснушчатый Йонас Александравичюс,[43] который подписывал свои стихи псевдонимом «Коссу». Прихрамывая, ходил по коридорам на переменах Бернардас Бразджёнис,[44] писавший слабые эпигонские стихи, еще не похожие на его яростные апокалиптические вирши.
Университетская жизнь, чем дальше, тем больше погружалась в рутину. После нескольких лекций в душных аудиториях кружилась голова, и хотелось бродить по городу, полному осеннего тумана или снежинок, в мелькании которых мчались извозчичьи сани. Обдавали теплом рестораны и кабаки, сверкали заграничными товарами витрины магазинов… Мимо шли люди. Одни торопились, другие тащились медленно, потирая руки без перчаток… Было скучно, постыло, хотелось движения, шума, неожиданных шалостей…
Случай вскоре представился. Приближалось 15 февраля — семилетний юбилей университета. Дата не особенно внушительная — обычно студенты праздновали ее, сложившись на пиво в ресторане, неподалеку от нас. В этом году «Студент» напечатал специальную статью, в которой призывал всех прикинуть, чего не хватает студенчеству, что ему нужно, и тем или иным образом все высказать. Высказать, конечно, не в стенах университета, а публично, на улицах и площадях.
Но правде говоря, я забыл о 15 февраля, но, проходя мимо Центрального здания университета, увидел уже на улице огромную толпу студентов. Они о чем-то горячо рассказывали, спорили, размахивали руками:
— Полиция… Представляешь, гады, нас — бананами… Арестовали…
Оказывается, студенты, то ли послушавшись призывов «Студента», то ли вняв чьим-то уговорам, сегодня утром собрались в актовом зале университета. Здесь они устроили митинг, а потом повалили толпой на улицу. Одни хотели спокойно пройти по Лайсвес-аллее, другие собирались двинуться к театру и потребовать, чтобы удешевили билеты для студентов. Так или иначе, толпа была большая, и она прошагала по центральной улице до перекрестка, у которого находился полицейский участок. Из участка выскочили полицейские и стали нагло разгонять студентов. Безоружные студенты вступили в схватку с полицией — началась драка. Власти таутининков как огня боялись любых демонстраций, и это шествие им, наверное, показалось чем-то серьезным. Полиция оказалась сильнее и разогнала студентов. Многие вернулись в университет, притащив с собой с улицы одного «заложника» — полицейского.
Я вошел в большую аудиторию, где студенты один за другим поднимались на трибуну, протестуя против полицейского произвола. Сказалось, что несколько студентов уже сидели под арестом. Кто-то потребовал избрать делегацию и послать ее в участок с требованием выпустить арестованных.
Я стоял на виду, и меня тоже избрали в делегацию. В нее попали и Райла и еще несколько студентов. Когда мы вошли в участок, мы увидели сидящего за столом приземистого начальника Гоштаутаса — краснолицего, с бычьей шеей. Зло взглянув на нас, он промычал:
— Какого черта? Демонстрация, да?
— Мы требуем отпустить арестованных товарищей! — сказал я, сделав шаг вперед.
— Ах вот как! Вы уже требуете? Бунтуете, да?
Он тут же вызвал полицейского и велел запереть нас в канцелярии.
Мы долго сидели в неуютной комнате, курили, рассказывали анекдоты. За стеной страшными словами ругались пьяные проститутки. Зарешеченное окно выходило во двор, за дверью стоял полицейский с винтовкой. Нас клонило ко сну, но делать было нечего — мы взобрались на канцелярские столы и задремали. Поутру нас отпустили домой.
У меня был билет на дневной спектакль. В перерыве я увидел в фойе Тумаса и подошел к нему:
— Профессор, вчера полиция арестовала наших товарищей… Блазас и другие сидят в кутузке. Вы не могли бы замолвить словечко, чтобы их выпустили?..
Тумас явно нервничал, он даже покраснел.
— Знаю, знаю, — раздраженно сказал он. — Демонстрация против власти… А Блазас всем студентам затуманил мозги.
Я объяснил, как все получилось: студенты, не вынося духоты в аудиториях, вышли, чтобы спокойно пройтись по улицам, и тут полиция… Потом мы пошли требовать, чтобы отпустили друзей, и тогда Гоштаутас нас, как каких-нибудь бандитов…
Тумас слушал меня и постепенно отходил. Вскоре он уже хохотал. Ему показалось смешным, что студенты сами арестовали полицейского и затащили в университет.
— Что поделаешь, голубчик, после спектакля придется идти к коменданту… Что они там, на самом деле… Молодежи не понимают….
Обретя надежду, что друзья будут выпущены, я вернулся в зал досматривать последнее действие.
Но товарищей не выпустили. Мало того. Ночью кто-то долго стучал в нашу дверь. Наконец служанка открыла, и в мою комнату вошли два охранника. Одного из них, с выпяченной челюстью, я часто видел на Зеленой горе, когда там жил. Они велели мне встать и одеться, а сами стали рыться в моих книгах, переворошили чемоданчик под кроватью, прощупали постель. Разбуженный среди ночи, я чувствовал себя неважно. Мы вышли на улицу. Перед домом стоял вооруженный полицейский. Страха я не испытывал, было смешно и мерзко. «Вот как ведут себя у нас со спокойными гражданами», — думал я. Меня отвели на Лесную улицу, в здание охранки. Сидевший за столом субъект зевал, курил, потом долго меня расспрашивал о том, что я знал и чего не знал, и, составив протокол, велел мне подписаться.
Под утро полицейский повел меня в какой-то двор у гарнизонного костела. Миновав двор, мы оказались в длинном коридоре, в одной стене которого было несколько дверей, а в каждой двери — крохотное оконце. Другой полицейский, дежуривший у столика, отпер одну дверь и втолкнул меня в камеру, которая была битком набита людьми. Скорчившись на нарах вдоль стен, а кто и лежа просто на полу, все спали. Когда я вошел, кто-то открыл глаза:
— О, доброе утро, еще один к нам! Что слышно в городе?
Я увидел Блазаса, Райлу (его, как и меня, арестовали во второй раз) и еще нескольких студентов нашего факультета. Были тут и незнакомые лица. Меня встретили шутками и прибаутками, уступили краешек скамьи. Я чувствовал себя сносно, даже вскоре перестал ощущать страшную духоту.
В углу камеры сидел молодой студентик Шоломас Абрамивичюс. Он угощал всех сахаром, который вчера принесла его мама. Блазас серьезно сказал:
— А ты, Шоломас, не бойся. Они только смеются, что тебя расстреляют… Без суда у нас никого не расстреливают. Вначале суд, а потом, если уж надо…
Камера хохотала. Оказывается, кто-то сказал, что первокурсника Шоломаса, которого вместе с другими случайно задержали во время демонстрации, расстреляют, и это так напугало паренька, что тот стал звать маму. Мама вчера, как нарочно, пришла, принесла ему сахар и еще что-то. Шоломаса выпустили в коридор, и, когда он бросился в мамины объятия, полицейский крикнул:
— Нельзя, нельзя, — и грубо растащил их, чем привел Шоломаса в еще большее смятение.
Позавтракав густой и вязкой кашей, мы сидели в камере. Делать было нечего. Кто-то придумал, что для того, чтобы убить время, каждый должен рассказать о своей первой любви. Истории были всякие — то длинные и сентиментальные, то циничные, выдуманные, но все равно время шло быстрее.
Днем в соседнюю камеру привели юную девушку. Кто-то увидел ее сквозь окошко в коридоре, а потом кто-то процарапал дырочку в дощатой перегородке, и вскоре завязалась беседа с красавицей. Она плакала и рассказывала, что ее без вины арестовали. Она служила в Каунасе у какой-то барыни, которая обвинила ее в воровстве. От надзирателя мы узнали, что девушка заражена и ее повезут в Алитус лечиться. По правде говоря, она этого и не скрывала…
Потом в коридор вошел следователь. Снова вызывали по одному из камеры в коридор, допрашивали у столика, составляли протоколы. Все это было похоже на игру. Как будто старались убедить себя и нас, что мы — какие-то важные государственные преступники.
Ночью нас донимали клопы, мы лежали в одежде, где кому повезло — одни на нарах, другие прямо на грязном полу. Хуже всего, что нечем было дышать, и мы то и дело просились в уборную, чтобы в коридоре втянуть в легкие хоть несколько глотков чистого воздуха.
Родные и знакомые, узнав, где мы сидим, стали пересылать передачи. И моя хозяйка, добрая Страздене, на следующий день прислала мне белого хлеба, масла и сыра. Продуктами мы делились, и никто не оставался голодным.
Просидев так четыре или пять суток, мы вышли на волю. В коридоре нам вернули галстуки, перочинные ножики, даже деньги. По-видимому, охранке и полиции не удалось сделать из нас политических деятелей — слишком уж наивные юноши оказались случайно в одной камере.
Выпустили нас под вечер. Улицы оказались удивительно прекрасными, в воздухе кружились снежинки, звенели бубенцы извозчиков, в белой вьюге сверкали окна магазинов… Удивительно легко дышалось — казалось, что в легкие втягиваешь не воздух, а мед. Кто-то из нас предложил отметить освобождение в ресторане Урбонаса. Мы сложились и заказали приличный ужин.
Вернувшись в университет, мы узнали, что его руководство получило письмо от министра просвещения, в котором содержались обвинения против тридцати трех студентов (в кутузке сидело почему-то лишь тринадцать). В университете был устроен суд. Прокурором был назначен проректор Винцас Чепинскис. Свою обвинительную речь он начал довольно сурово, но чем дальше, тем мягче становились его обвинения. Профессор начал доказывать, что студенты живут тяжело и скученно, что в аудиториях не хватает воздуха — поэтому не удивительно, что они вышли на улицу пройтись. В конце своей обвинительной речи проректор предложил нас оправдать — позднее я понял, что таким образом он протестовал против грубого поведения полиции и попытки властей наказать нас. В конце концов университетский суд назначил одним из нас, так называемым зачинщикам, выговор до мая месяца, а тем, кто шел требовать, чтобы выпустили арестованных, — выговор на две недели.
В министерстве я узнал, что с первого марта могу не приходить на работу. От благосклонных сотрудников я узнал, что министерство получило данные от охранки о моей поездке в Ригу и встрече с эмигрантом Борутой. Охранке не понравилось также, что моя «Земельная реформа» вышла в альманахе под его редакцией. А теперь — новый случай, который-де показал меня в «истинном свете». Мне снова посоветовали подать заявление о том, что я ухожу из министерства «по собственному желанию». Так я покинул Министерство сельского хозяйства во второй и последний раз.
Работа в этом учреждении обогатила меня — я узнал многое. Я почувствовал скуку и серость чиновничьей жизни, узнал убогие развлечения моих сослуживцев, их мечты продвинуться и увеличить свое жалованье. Кое-кто из моих бывших друзей, уже успевших записаться в неолитуаны, заметно поднимался по лестнице карьеры, а некоторые становились даже референтами, занимая места уволенных чиновников, работавших во времена «истинной демократии». Мы до сих пор вспоминали с ехидством старого референта времен христианских демократов, безграмотного Боркиса, который по ночам резался в карты и пил, а потом, придя в министерство, обнимал в своем кабинете стол и спокойно храпел. Он не проснулся, даже когда пришли новые власти, чтобы его сменить. Теперешние неолитуаны были бойчее, элегантнее, но, пожалуй, наглее атейтининков. А взятки у мужиков они брали не хуже их — ведь и им надо было не только жить (на это жалованья бы хватило), но и покрасоваться, и выпить, а то и завести любовницу… Я без сожаления покинул эту среду, твердо решив не уезжать из Каунаса, не бросать университета. Я уже мог, хоть и с трудом, прожить на гонорары.
Два раза в неделю мне надо было отмечаться в полицейском участке. Когда я пропустил несколько таких визитов, начальник участка в бешенстве начал пугать меня тюрьмой. Власти не хотели оставлять меня в покое.
Атмосфера вокруг была мерзкая. В начале мая Каунас, да и не только Каунас, потрясло неслыханное известие — перед театром было совершено покушение на премьер-министра Вольдемараса. Вольдемарас уцелел, погиб лишь его адъютант Гудинас. Поначалу не было ясно, кто произвел покушение. Охранка хватала каждого подозреваемого. В суматохе были арестованы даже клерикалы, но их вскоре выпустили. Позднее выяснилось, что одним из тех, кто участвовал в покушении, был студент Александрас Восилюс,[45] родом из Мариямполе. Я вспомнил, что еще в третьем классе гимназии часто встречался с учениками, жившими в деревянном доме по другую сторону двора. Одним из них был Андрюс Булота[46] (позднее участник гражданской войны в Испании), а другим — как раз этот Восилюс. Это были серьезные пареньки примерно моих лет, они вечно читали на балконе своего дома толстые книги, и я не сблизился с ними лишь потому, что они на следующий год переехали в другой дом. Потом мы уже редко встречались…
Теперь Восилюса поймали в лесу, у границы. Он был тяжело ранен, — чтобы не сдаваться живым, он попытался подорваться на гранате. В Каунасе говорили, что его подвергли жестоким пыткам и, наконец, расстреляли. Я ходил по городу, видя все как в тумане, а по ночам не мог заснуть.
Тюрьмы снова заполнили левые. Арестовали Витаутаса Монтвилу. Военный суд приговорил его к 10 годам каторжной тюрьмы. К тому же сроку приговорили и начинающего поэта, студента-юриста Казиса Якубенаса. Становилось все мрачнее. На улице сразу же после покушения я встретил Гербачяускаса. Он взял меня под руку и сказал:
— Вот, вот, видите, окно вышибли… Теперь чистый воздух войдет… Вот увидите…
Но Гербачяускас ошибся. Реакция просто бесилась, гнет становился все сильнее. Рассказывали, что один влиятельный гуманист с великим трудом получил аудиенцию у Вольдемараса и заявил ему, что общественность возмущена жестокими репрессиями против молодежи. Вольдемарас ему ответил:
— Ладно, расстреляем еще десяток, и будет порядок…
Придя к власти, фашисты сразу же пролили кровь четырех коммунаров. После Таурагского восстания кровь продолжала литься дальше. А теперь опять… Нет, плохо было в Литве, плохо было и в Каунасе…
СУД НАД РОМАНТИЗМОМ
Хоть я и побывал в кутузке, хоть меня и уволили со службы, я все равно оставался председателем студенческого литературного кружка «Экспресс». Кружок уже давно задумал дело, которое должно было расшевелить не только студентов, но и профессоров. 3 марта 1929 года в большой аудитории университета мы устроили суд над литовским романтизмом.
Зачем? Как? Почему? Не только сейчас, но и тогда возникали подобные вопросы у тех, кто читал объявления в газетах. По правде говоря, для нас самих тоже не была совсем ясной цель суда. Мы просто все сильней чувствовали, что так называемый романтизм, которого так много было в сочинениях Людаса Гиры, Казиса Инчюры, Броне Буйвидайте[47] и многочисленных их последователей — отжившее явление; в дни, когда в Литве все бешеней орудует фашизм, не нужно и вредно писать о каких-то колдуньях, не имеющих ничего общего с жизнью. Подобный романтизм мы и решили осудить. Псевдоромантизм восхваляла печать католиков, да и таутининков. Его было хоть отбавляй в сочинениях «освободителей Вильнюса».[48] Даже Тумас прославлял романтизм в лекциях и статьях, собираясь сделать его главенствующим литературным направлением. А для нас фальшивый романтизм все больше становился предметом насмешек. Конечно, мы так не относились к старому романтизму конца XIX века, когда прославлялись родной язык и древность. Мы были против его воскрешения в условиях жестокой диктатуры, когда он легко превращался в Шовинизм и помогал борьбе с прогрессивными идеями.
И вот в большой аудитории университета за длинным столом сидит сухощавый бородатый профессор в пенсне. Это председатель суда Миколас Биржишка. Рядом с ним судьи, профессора Пранас Аугустайтис, Владас Дубае, писатель Юозас Швайстас и я. Участвуют также обвинители, защитники, эксперты, свидетели сторон. Словом, есть что послушать любителю сенсации. Аудитория набита битком.
Речи были самые разные. Одни касались того, что нас заботило, другие выказывали свое красноречие, призывая на помощь древность, поминая немецких романтиков, Адама Мицкевича, и удивлялись, как можно вообще выступать против романтизма. Все было свалено в одну кучу — и литературные движения XIX века, и поэзия современных графоманов, и исторические произведения Винцаса Креве, и эпигоны Майрониса. Каждый излагал то, что ему взбрело в голову.
Публика разошлась, выражая свое недовольство, тем более что приговор суда тоже не был обнародован — его опубликовали в газетах лишь несколько дней спустя. Приговор предписывал установить над литовским романтизмом «гласный надзор критики».
Самой интересной части суда публика не видела и не слышала, потому что она состоялась в тот же вечер в ресторанчике, около государственного театра, в одном из дворов Лайсвес-аллеи, в так называемом «Божеграйке». Студенческий литературный кружок устроил на деньги, собранные за билеты, ужин для участников. Когда мы пришли в ресторанчик, там еще никого не было, лишь на столах блестела водка в графинчиках и живописно расположились селедка в масле, окорок, колбаса и прочая закуска.
Первым из участников суда прибыл Тумас. Мы почти не надеялись, что этот седой писатель посетит столь несерьезное заведение. Но он пришел. Лишь стоячий воротничок показывал, что он ксендз.
— Проголодался, голубчики, — сказал он.
Долго не ожидая, он сел к столу и принялся закусывать. Мы предложили водки, но Тумас потряс головой. Ел он с превеликим аппетитом и, лишь насытившись, поднял голову и бросил несколько слов о суде:
— Плохо организовали, голубчики… Как вы этот романтизм осудите, раз он всюду нужен…
Кто-то из студентов попытался не согласиться с Тумасом, но он словно не расслышал или не захотел вступать в спор.
Пришел Гербачяускас, — как обычно, в широкополой шляпе, в развевающейся крылатке.
— Так-то так, святой отец, — обратился он к Тумасу. — Лучше бы своих старушек исповедовал, а не о литературе говорил…
Тумас немного покраснел:
— Иногда, голубчик, со старухами интереснее, чем с некоторыми писателями…
Потом Тумас встал, подал всем руку и сказал:
— Завтра с утра у меня работа, голубчики… Вы свободнее, вот и веселитесь.
И ушел — быстро, энергично.
Все проголодались, так что никого не пришлось упрашивать. За столом заметно оживились.
Гербачяускас славился тем, что умел гадать по руке. Не раз на своих лекциях в университете, когда гас свет и студенты зажигали свечу, когда таинственные тени бегали по стенам аудитории, Гербачяускас, словно древний маг, проводил рукой по длинной седой гриве, брал руку какой-нибудь студентки в свою тощую ладонь со страшно длинными и страшно худыми пальцами и принимался излагать прошлое и будущее девушки.
Сейчас первым подставил руку Гербачяускасу Юозас Швайстас, довольно видный в то время беллетрист, ходивший в военной форме (кажется, он был капитаном).
— О, могу вам сказать, что вы родились под знаком овна… — серьезно сказал Гербачяускас, поведя пальцем по ладони Швайстаса.
Все прислушались, что же дальше скажет хиромант, а Бинкис, сидевший по другую сторону стола, воскликнул:
— Иначе говоря, под знаком барана! Поздравляю!..
Все рассмеялись, а Швайстас густо покраснел. Он сидел, поглядывая исподлобья на Бинкиса, а тот, наполнив рюмку, толкнул ее через стол к Швайстасу и сказал:
— Давай чокнемся, родившийся под знаком барана!..
Швайстас не вытерпел. Он был самолюбив, вдобавок служил офицером, а в то время офицеры значили куда больше простых смертных. Так что Швайстас вскочил, покраснел еще больше, задрожал, и мы увидели, что он вытаскивает из кармана револьвер. Конечно, мы со всех сторон набросились на него, стали успокаивать, и некоторое время спустя удалось посадить его на место. Но Бинкис не мог успокоиться и продолжал отпускать остроты в адрес Швайстаса. Швайстас встал и, хлопнув дверью, ушел. Позднее он мне рассказывал, что действительно едва сдержался, не пустив Бинкису пулю в лоб. Да, Швайстас был самолюбив. Швайстас ушел, а ужин продолжался. Теперь сцепились Гербачяускас с Бичюнасом.[49]
— Да, да, господин Бичюнас, вы написали «Утонувшие миллионы»… Да, да, я читал… И знаете, что я вам скажу?.. Вместе с вашими «Утонувшими миллионами» утонул весь ваш творческий багаж.
Лысый как колено Бичюнас, повернув к Гербачяускасу круглое лицо, с которого никогда не сходила какая-то лицемерная улыбка, спокойно уставился на него сквозь очки:
— Лучше уж утопить свой творческий багаж, чем его раскрыть, как вот вы сделали, и оказалось — ничего нет…
Снова потерпев поражение, Гербачяускас накинулся на студента Пятраса Лауринайтиса:[50]
— Да, да, господин Лауринайтис, я читал ваш ответ на мой «Вопрос к юности». Вы назвали свою статью «Ответом старости». Говорите, что мы уже одной ногой стоим в могиле. А знаете, на что похож ваш портрет? Брыкается теленок на лугу…
— А почему не брыкаться, если ноги молодые и здоровые?.. — невозмутимо ответил Лауринайтис, потягивая сигатеру в длинном мундштуке. — Вы не думайте, господин Гербачяускас, что мы, молодежь, — это собачки, привязанные к вашей конуре девятнадцатого века…
Таким вот образом беседовали в тот вечер писатели старшего поколения и студенты. Я заметил, что Гербачяускас влюблен в свои мнения и не терпит малейших противоречий. Тогда он пускает в дело самые грубые выражения. Пьяный редактор «Студента» Блазас долго спорил о литературе с не менее пьяным Гербачяускасом. Гербачяускас твердил, что наша литература уже исписалась, что нет новых тем, Блазас же доказывал, что молодежь возродит литературу, а исписались только старики…
Постепенно от споров перешли к песням. Потом снова начались беседы о литературе и искусстве, где переплетались странные и наивные, хитроумные и глупые теории, но все труднее было следить за разговором.
Разошлись мы поздней ночью. Кто-то сказал:
— Если бы эту беседу перенести в университет, она бы оказалась во сто крат интереснее суда над романтизмом.
«Никто ничего не понимает. В мозгах какая-то каша. Критикуют друг друга, все сваливают в одну кучу. Неужели нам это теперь нужно? Нет, только не это», — думал я по пути домой. Я знал, что литературу так создать нельзя. И нельзя такими методами бороться против реакции.
К ПОРТРЕТУ ТУМАСА
Однажды Тумас вбежал в аудиторию не в духе. Еще в коридоре он начал хлопать в ладоши. Студенты, поднимая страшный шум, опрометью бросились на места.
Тумас забрался на кафедру, но студенты еще долго шумели, делили места, а из коридора вбегали все новые. Тумас волновался. Его ноздри дрожали, он то и дело поправлял очки. Круглое розовое лицо выражало недовольство.
— Голубчики, нет дисциплины! Чтоб все сидели на местах, когда я прихожу! Кто опоздает, выгоню вон, голубчики!
Едва Тумас выговорил эти слова, отворилась дверь аудитории и тихо вошел лингвист Талмантас, близкий знакомый Тумаса. Лектор сурово посмотрел на вошедшего, оглядел его с головы до ног и крикнул:
— Вон, голубчик!
Талмантас, ничего не понимая, пожал плечами.
— Вон, сказано!
Талмантас смутился, еще раз пожал плечами и убежал. На перерыве доцент ходил вместе со своим знакомым по коридору и выяснял недоразумение.
— Нужна дисциплина, голубчик!
* * *
Тумас проводит коллоквиум. Аудитория набита битком, студенты протягивают зачетки.
— Как называлась первая литовская ежедневная газета?
Краснощекая, голубоглазая студентка пытается отгадать:
— «Заря», «Колокол», «Сообщение о распространении евангелия»…
Нет, Тумас не согласен! Тумасу становится не по себе. Он спрашивает вторую, третью студентку. Все как будто сговорились, несут чепуху.
— «Страж родины», «Эхо Литвы», «Утро»…
Ни одна не может отгадать, как на самом деле называлась злополучная первая литовская ежедневная газета.
— Позор, голубчики! — морщится Тумас. — Я понаписал для вас всяких, книжонок, голубчики, поиздавал на свои деньги, да этих книжонок никто не покупает, их уже крысы съели, голубчики, а вам лень почитать, какая газета!.. Думайте как хотите, голубчики, но это уже просто…
И Тумас, употребив неожиданно крепкое выражение, которое всех поразило и даже ошарашило, покидает неприятное ему общество.
* * *
Тумас поднимается на кафедру и зевает:
— Спать охота, голубчики.
И все-таки начинает говорить. Тема лекции очень уж скучная — какой-то старый автор молитвенников. Скучно и Тумасу, и его слушателям. Но все-таки Тумас героически пытается говорить о «вратах, отверзтых в вечность», «огнях в руке души христианской», и чем дальше, тем больше сон одолевает не только слушателей, но и преподавателя. Вдруг Тумас поднимает голову, еще раз зевает, машет рукой и, хоть не прошло даже и получаса, говорит:
— Пошли спать, голубчики, хватит! Надоело и мне и вам! Никудышный из меня профессор, голубчики!
Восхищенные откровенностью преподавателя и благодарные студенты гурьбой бегут в коридор.
* * *
В год, когда выходил «Третий фронт», наш сотрудник Костас Корсакас сидел в Шяуляйской тюрьме «за политику», как тогда говорилось. В Каунасе было получено известие, что его здоровье пошатнулось, и, долго не ожидая, мы начали искать способа, чтобы вызволить его из тюрьмы. Старшие писатели (Креве, Сруога и другие) решили подать коллективное прошение писателей о помиловании Корсакаса. Мне поручили поговорить по этому поводу с Тумасом, так как мы уже были с ним немного знакомы.
Я еду в Старый город, в дом у костела Витаутаса. Поднимаюсь на второй этаж. Звоню.
Дверь открывает сам Тумас. Мы здороваемся.
— Ну, цицилист, садись. Что скажешь?
— Вы, наверное, знаете, профессор, что Костас Корсакас сидит в тюрьме. Писатели решили подать прошение об амнистии.
— За что его держат? За большевизм?
— Вроде бы.
— Ну и что же я должен сделать?
— Очень просто, профессор. Я думаю, и вы подпишете прошение.
— Чтобы выпустили большевика?
— Он тяжело болен. Я думаю, для вас должно быть все равно, католик он или большевик.
— Таких стрелять надо! — воскликнул Тумас.
Я выпучил глаза:
— Вы так думаете?
— Брат, раз уж кто взял в руки власть, приходится стрелять. Иначе не удержишь.
— Но вы же власти не брали!
— Нет, знаешь, прошение подписывать не стану. Я же таутининк. Верно? Ясно? Как я могу подписывать прошение, чтоб выпустили большевика? А, голубчик?
Мне кажется, что дело проиграно.
— Знаешь что, давай говорить начистоту. Подписывать я не могу. Я — таутининк, голубчик. Зато прошение отнесу, куда надо, и словесно попрошу, чтобы отпустили. Ты лучше зайди к Майронису и Якштасу.[51] Их подписи много значат.
Хорошо. Я иду к Майронису. Снова поднимаюсь на второй этаж (почему-то в Каунасе все большие люди живут на втором этаже). Звоню.
За дверью шаркающие шаги. Сам Майронис открывает мне дверь. Я немного оробел. Никогда в жизни я с ним не разговаривал. Передо мной лучший поэт Литвы! С Тумасом дело другое. Тот сразу тебя понимает и говорит в лицо, что думает. Майрониса я не знаю. Я здороваюсь, собираюсь начать разговор.
— Если собираете пожертвование, то я не подаю, — начинает сам Майронис.
— Нет, не за пожертвованием, — несмело оправдываюсь я.
— Если за вспомоществованием, тоже не подаю. Сегодня уже трое приходило.
— О нет, нет, я совсем по другому делу.
Наконец Майронис пускает меня через порог. Почему-то я осмелел, инцидент перед дверью меня развеселил, и я стоя (садиться не предлагают), второпях излагаю свое дело.
— Нет, нет, я в подобные дела не вмешиваюсь. Это не мое дело. Не подпишу.
— Вы должны понять, — пытаюсь объяснить я. — Человек болен. Молодой, способный человек. Если его не выпустят из тюрьмы, он умрет.
— Нет, это не мое дело. Я с ним незнаком.
— Я верю, что вы незнакомы. Без сомнения, он человек другого поколения и других убеждений, но вы должны подписать хотя бы из писательской солидарности.
— Где он пописывает?
— Печатается в «Культуре».
— Не знаю. «Культуру» не читаю. Не подпишусь.
Якштас, Тумас, Майронис — соседи. Все они живут неподалеку от Ратушной площади. Несколько минут спустя я стою перед дверью Якштаса. Звоню.
Майорониса я хоть знал в лицо. Якштаса даже не видел ни разу. Дверь открывает маленький худенький старичок и, подняв голову в очках, с удивлением смотрит на меня. Я сказал: «Добрый день». Он не ответил (позднее узнал, что надо сказать: «Слава Иисусу Христу»). Не говоря ни слова, показал на кабинет — я пошел. Молча указал на стул — я сел. Он уселся по другую сторону стола напротив меня. Оба молчим. Набравшись смелости, я излагаю дело. Ни слова. Подаю ему прошение — ни слова. Берет. Читает. Читает долго, приблизив листок к глазам. Видно, что читает несколько раз. Я начинаю беспокоиться. Неужели и здесь мое посещение окончится провалом? Но Якштас встает. Уходит в соседнюю комнату. Спустя какое-то время приносит мое прошение. Молча вручает его. Я беру — бисерным почерком написано: А. Якштас. Я благодарю, вкладываю прошение в конверт. Встаю. Маленький человечек смотрит на меня печально, подняв голову.
— Надо выпустить, — говорит он так тихо, что я едва слышу его, стоя по другую сторону стола. — Жаль мальчика. Способный мальчик. Я писал в Шяуляй, чтоб ему помогли деньгами. Не знаю, помогли или нет. Надо выпустить. Жаль мальчика.
Поблагодарив, я ушел от человека, который всегда казался мне каменным или изрыгающим пламя ненависти ко всем человеческим слабостям, ко всем безбожникам и социалистам.
* * *
Я встретил Тумаса на Ратушной площади. Видно, вышел прогуляться поутру. С карнизов собора, с крыш домов капает тающий снег.
— Здравствуй, голубчик! Красивая весна, да? Как дела?
— Спасибо, профессор. Дела идут неплохо.
— Ну, а как с Корсакасом? Я поговорил о нем. Выпустили?
— Большое спасибо за хлопоты. Выпустили.
— А знаешь, молодец парень этот Корсакас. Читал его новую статью про Якштаса. Ну и дает он ему! Молодец! И так серьезно, по-мужски! Сколько ему лет?
— Еще несовершеннолетний.
— Молодец. Ей-богу, молодец!
* * *
— Читал «Улыбки бога» Гербачяускаса?
— Нет, не достал — конфисковали.
— Зайди ко мне, у меня есть.
Прихожу. Получаю «Улыбки бога».
— Вы сами читали, профессор?
— Читал.
— Интересно?
— Чепуха на постном масле.
— Почему?
— А потому, голубчик, что этого Гербачяускаса не разберешь. Он не знает, чего хочет. Сегодня он поляк, завтра — литовец, послезавтра — черт знает кто. Один день — католик, другой — безбожник. Не нравится мне он.
— Разумеется, его идеи стары, как первая половина девятнадцатого века. Но все-таки он у нас произвел фурор.
— Каждый дурак может произвести фурор. Самое обыкновенное сквернословие. Почитай. Плеваться будешь. Да и вообще чудак человек этот Гербачяускас. Погоди, я тебе покажу, что он писал еще до войны о литовской литературе.
Тумас вытаскивает выписки из какой-то польской брошюры или статьи Гербачяускаса. Читает. И правда, Гербачяускас сильнее всех ругает Майрониса, Якштаса и, кажется, самого Тумаса. Зато о Яунутисе Венуолисе (таким тогда был псевдоним Гербачяускаса) отзывается, что его творчество — это необыкновенное «rytmiczność a melodyczność słowa».[52]
Тумас хохочет.
— А в «В царских тюрьмах» Капсукаса[53] читал?
— Нет. Не могу достать.
— Непременно прочитай. Отличный стиль. Ну, знаешь, и дает нам, старикам, — всяким буржуям. Зато стиль просто прелесть! Интересная книга. Заходи как-нибудь, дам. Сейчас нет. Дал почитать. Только принеси Гербачяускаса, голубчик. Не люблю, когда книг не отдают. Тут ко мне из провинции учительница приезжала. Плакала, умоляла, чтобы я дал старую подшивку «Стража родины». Дал, вот и зачитала, стерва. Думаешь, вернет? А теперь «Страж родины» — редкость.
* * *
Художник Йомантас[54] как-то рассказывал:
— Когда в Вильнюсе в тысяча девятьсот восемнадцатом году провозгласили советскую власть, то я остался в столице. Остался и Тумас. Некоторое время спустя я встретил Тумаса и спрашиваю:
«Ну, святой отец, как тебе нравятся большевики?» «А знаешь, голубчик, приличные ребята. С ними можно работать!»
— Что пишешь, уважаемый? — спрашивает меня Тумас.
— Да вот, то да се.
Я давал ему почитать еще не искромсанный цензурой свой рассказ «Человек между пилами» (в «Третьем фронте» цензура пропустила только половину этого рассказа).
— Ах да, твоего «Человека между пилами» прочитал. Опасные вещи пишешь, голубчик.
— Какая тут опасность? Цензор целую половину вымарал.
— Видишь ли, ты пишешь прокламацию. Если кто пишет глупую прокламацию, это чепуха, голубчик. А у тебя выходит такая, что приходится чиркать. Что ты думаешь — прочитаешь, и хочется хватать палку и лупить буржуев.
— Неужели и вам захотелось?
— Ей-богу. Я бы тоже не пропустил, будь я цензором.
* * *
У Тумаса, настоятеля костела св. Витаутаса, любили сочетаться браком те из литовских интеллигентов, которые почему-либо считали себя безбожниками. Тумас не требовал, как другие ксендзы, предбрачной исповеди, и эта уступка, скорее всего, привлекала к нему интеллигентные парочки, ищущие пути к семейной жизни.
Один из представителей такого рода интеллигенции, художиик-карикатурист И. Мартинайтис, рассказал следующую историю.
— Выбрав подругу жизни, я отправился к Тумасу жениться. Сперва я зашел к нему домой. Принял он нас хорошо, спросил, о чем полагается, что полагается — записал. Вместе пошли в костел. Когда мы очутились на улице, Тумас увидел на набережной кошку, которая поймала воробья — еще живого, трепещущего — и собиралась его ликвидировать. Оставив нас, молодоженов, у костела, Тумас поднял палку, на которую опирался (он чувствовал себя не совсем здоровым), и далеко по набережной погнался за кошкой, чтобы отнять у нее воробья. Какое-то время спустя он вернулся к нам, усталый, запыхавшийся, вспотевший. С грехом пополам соединив нас брачными узами, он попрощался, пожелал нам счастливой жизни, а сам пошел домой. После этого он захворал и вскоре умер.
— Позднее, — рассказывал художник, — когда я вспоминал об этом происшествии, меня всегда мучили укоры совести, — может быть, и я своей женитьбой, против своей воли, оказался одним из виновников смерти Тумаса…
* * *
Я был на похоронах Тумаса. Неужели это Тумас? В том ящике, который окружили юноши в фуражках — неолитуаны, поднявшие бутафорские шпаги? Зачем этот маскарад? Зачем фуражка неолитуана на гробу? Но шла толпа, — казалось, на похороны Тумаса пришел весь Каунас, — и гроб, покачиваясь, поплыл дальше. Я стоял на углу. Невероятно длинное шествие двигалось бесшумно, и я вспомнил ту жуткую картину Чюрлениса, на которой плывет над озером лес склоненных черных знамен…
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД
О, как я ждал начала июля! Уже несколько месяцев, как мы знали, что летом 1929 года нам предстоит необыкновенное путешествие. Мы скуднее питались, отказались от новой одежды, экономили каждый лит. Но литов все равно было мало. Я съездил к брату Пиюсу, который теперь работал неподалеку от Каунаса, — он обещал немного одолжить. Наконец необходимая сумма была собрана. Конечно, наше путешествие так и осталось бы мечтой, если бы не тогдашний порядок, по которому различные государства предоставляли большую скидку студентам при поездке по железной дороге. Мы собирались в Альпы. А там общества альпинистов тоже добились различных скидок и льгот для студентов.
В одно прекрасное утро мы, тринадцать человек (по мнению Сруоги, счастливое число), собрались на Каунасском вокзале. Мы были с чемоданами, а Сруога взвалил на плечи рюкзак, набитый колбасами, салом, путеводителями, картами. В руке он держал ледоруб. На нем была брезентовая куртка — так будем выглядеть и мы, когда окажемся в Альпах…
Поезд, наконец, тронулся, и мы долго махали руками Каунасу, который оставался позади.
И правда, поездка оказалась удивительно интересной. Когда впервые переезжаешь границу своей страны, кажется, что там, за рубежом, сразу начнется что-то невероятное. Уже Пруссия впечатляла нас: кирпичные дома под красными крышами, тучные стада на помещичьих полях, хорошо возделанная земля, пузатые бюргеры на остановках. Вошедший в поезд контролер горланил, выпятив грудь:
— Ihre Fahrkarten![55]
Он брал билет у каждого пассажира, брал не просто, а словно выполнял дело огромной государственной важности или религиозный обряд, прокалывал в нем круглую дырочку и с такой же торжественностью возвращал. На перронах ходили продавцы с тележками, и пассажиры покупали сосиски с горчицей, положенные на бумажные тарелки. Другие продавцы развозили газеты, которые мы покупали прямо из открытых окон вагона. Все проходило серьезно, без шума, галдежа, толкотни, столь характерных для наших станций.
А Берлин! Вот где настоящий город! Мне стало смешно, что я когда-то писал стихи о нашем Каунасе как о большом городе. Поезд все шел и шел, поначалу по бесконечным предместьям, застроенным домиками наподобие собачьих конур (это были дачи неимущих берлинцев); потом мимо окон пролетали большие дома, улицы, площади. Другие поезда неслись над домами, над нашими головами. В воздухе висел дым, дрожали железные балки, открывались и снова исчезали перспективы новых улиц. Наконец, когда поезд остановился, перед нами открылся людской муравейник. Не поймешь, куда и зачем люди бегут. На станцию влетали и вылетали все новые и новые поезда, и казалось, что все здесь — движение, движение, движение. На вокзале на каждом шагу висели надписи — где вход в здание вокзала, где выход в город, где пересадка на подземный поезд — унтергрунд. Немецкий порядок не позволял колебаться ни минуты.
Да, это был город что надо! Когда мы вышли на привокзальную площадь, толпа не уменьшилась. Берлинцы шли, ехали на трамваях, в одноэтажных и двухэтажных автобусах. Каждую минуту толпы берлинцев выплевывал из-под земли унтергрунд, а в другую щель они, словно муравьи, снова ныряли в подземную станцию. На домах, прямо на стенах, были нарисованы гигантские рекламы. Хорошо, что я все вывески понимал и сразу знал, где банк, где гостиница, где ресторан или закусочная Ашингера. Короче говоря, мы оказались в Берлине.
Когда мы пригляделись, он оказался серым или красным, как казарма. Дома выглядели одинаково, улицы походили друг на дружку. Люди лишь на первый взгляд казались элегантными. В толпе то и дело встречались инвалиды на костылях или в колясках — калеки войны. Но немецкий порядок чувствовался даже и в этом: последний нищий прятал свои заплаты.
Вечером мы ходили по городу и дивились его величине, блеску и красоте. После дождя липы на улицах зеленели ярче, а в мокром асфальте, словно в реке, отчетливо отражались красные, синие, зеленые огни реклам, фары исчезающих вдали машин, рой искр от трамвайной дуги на повороте. Город ночью жил другой, фантастической жизнью. Улицы кишели проститутками. Они нахально приставали к прохожим и уводили их в открытый ресторанчик, в дома, над которыми горели красные фонари. Где-то играла музыка, визжал саксофон, пахло кофе и вареными сосисками.
Еще по дороге из Каунаса Сруога сказал нам:
— Ребята, не видеть в Берлине Цоо — это то же самое, что вернуться с ярмарки, не выпив пива…
И впрямь, зоопарк немецкой столицы поразил нас чрезвычайно. Это было, пожалуй, самое богатое и интересное заведение подобного рода в Европе. Слоны и верблюды, антилопы, носороги и медведи… Так много тут было разных зверей, что глаза уставали смотреть на них. Я долго следил за жуткой картиной — исполинский удав проглотил поросенка. Отчетливо было видно, как поросенок путешествовал по телу удава. В теплом иле лежали крупные крокодилы, по камням ползли гигантские черепахи, огромные ящерицы посматривали на нас розовыми глазами, змеи лениво свешивались с высохших деревьев пустыни, словно поджидая жертву.
Потом мы вошли в аквариум. В стенах были оборудованы бассейны под различным давлением. Здесь за стеклом плавали фантастические рыбы, морские звезды и медузы, похожие на студень, росли странные розовые, лиловые растения, алые как кровь кораллы. Все, что я видел до сих пор лишь в книгах; теперь ожило со всей яркостью, и природа мгновенно раздвинулась, расширилась, поражая красками и формами, разнообразием и неповторимой красотой.
Поразили нас и некоторые музеи. Самый незабываемый из них — этнографический — с исполинскими статуями богов Южной Америки, с вигвамами индейцев, с картинами из жизни народов Африки и Азии.
Но нашего руководителя тянуло из Берлина. Он мечтал показать нам свой университетский город Мюнхен, который он просто обожал. Да, Мюнхен — совсем другой город, чем Берлин! Южный, старый, где хорош прекрасный парк, музеи и художники. Бессмертной красотой повеяли на нас огромные музеи искусства — Старая и Новая пинакотеки и Глиптотека. Здесь я впервые увидел картины и скульптуры, пользующиеся мировой славой. Огромные полотна Рубенса и мыслящие, чувствующие лица Рембрандта, Рафаэля и Леонардо да Винчи, бюсты греческих богов и героев, коричневые вазы и амфоры…
Уже и раньше наш руководитель, едва только поезд останавливался на длительный срок, исчезал на минутку и возвращался, став разговорчивей. Теперь, очутившись в городе своей юности, он снова почувствовал себя студентом. Выпив, он становился веселым и беззаботным. Однажды, когда мы сидели в каком-то ресторане, попивая удивительный бокбир, мы увидели в дверях очень высокого и очень дородного человека.
— Оскар! Оскар! — воскликнул Сруога. — Это он — мой старый друг!
Оскар, не замечая нас, прижимал к своей невероятно широкой груди официанток и целовал их в щеки или прямо в губы, а они таяли. Увидев Сруогу, он обрадовался, подошел к нам и подал каждому свою огромную, крепкую ручищу. Это был человек, сменивший множество рабочих профессий — извозчика, пекаря и других. Это был широко известный писатель, автор автобиографического романа «Мы — пленные» и других книг, которого в то время обычно называли баварским Горьким, — Оскар Мария Граф. Он сел за наш стол; они со Сруогой дружески глядели друг на друга, хлопали друг друга по плечу и делились воспоминаниями. Да, наш знакомый был настоящим великаном. Люди, сидевшие за соседними столиками, аплодировали ему, а официантки несли пиво и старались угодить. Сразу было видно, что писатель пользуется невероятной популярностью, что все его знают и любят. Мы узнали, что он — желанный гость в любой мюнхенской пивной, потому что там, где появляется Оскар Мария Граф, сразу оказываются толпы его почитателей, а это — заработок для владельцев. Писатель может в любом ресторане бесплатно пить сколько угодно пива…
Улучив минуту, Райла затянул песню, кажется «От Севильи до Гренады». Выслушав ее до конца, Оскар Мария Граф сказал:
— Поздравляю вас! Вы замечательно пели! Говорят, певцы — самые добрые, — он сделал паузу, — и самые глупые люди.
Теперь он попытался обнять и расцеловать наших спутниц, но те, демонстрируя литовскую невинность, с визгом вырывались из объятий великана. Видя, что ему с ними не справиться, Оскар Мария Граф снова обратился к Райле:
— Спойте мне, пожалуйста, истинно литовскую песню, например «Волга, Волга, матка русска».
Его сведения о литовском фольклоре были не из глубоких.
Райла еще что-то пел, наш новый знакомый добродушно улыбался нам, пил с нами пиво и снова пускался в воспоминания со Сруогой.
Вечером, велев всей группе отдыхать, Сруога взял нас с Райлой на вечернюю прогулку по Мюнхену. Мы блуждали по улицам католического города, из ниш домов смотрели на нас то мадонна, то какой-нибудь святой. Мы заходили в огромные корчмы, названные именами то святого Матфея, то святого Фаддея. Здесь, за огромными столами из толстенных дубовых досок, сидели баварцы. Они пили из огромных кружек пиво и пели:
Trink, trink, Brьderlein, trink. Lass doch die Sorge zu Haus, Trink, trink, Brüderlein, trink, Zieh', deine Stirn nicht so graus, Meide dein Kummer und meide dein Schmerz, — Dann ist das Leben em Scherz![56]В просторных дворах кабаков стояли пивные бочки. Поставив на них кружки, немцы веселились и здесь. Казалось, что это самое серьезное их занятие. Немцы с одутловатыми лицами, немцы с огромными животами — все они пели и пили, пели и пили, словно сошли с ума. В одной пивной нам показали сонного человечка, перед которым тоже стояла кружка пива. Сруога объяснил нам, что это художник. Он ждет победителя, того, кто, не выходя из кабака, выпьет двадцать литров пива. Тогда художник напишет его портрет и вывесит на стене. А победитель после этого сможет до конца своих дней бесплатно пить пиво в этом кабаке. Но героя все еще не находилось — до сих пор только один немец выдул восемнадцать литров пива, не выходя из пивной.
Сидя в каком-то ресторане, слово за слово мы поссорились со своим руководителем. Сруога вдруг обиделся, поднялся из-за стола и выбежал в дверь. Поняв, что мы плохо поступили, мы с Райлой тоже погнались за ним. Шел сильный дождь; разбрызгивая воду, летели автомобили; на углах улиц возвышались полицейские. Сруоги не было видно. Мы разбежались в стороны, и вскоре кто-то из нас увидел высокую мужскую фигуру. Да, это был Сруога! Он шагал по тротуару, расстегнув плащ, без шапки. Мы погнались за ним, но он так быстро переставлял свои длинные ноги, что мы никак не могли его догнать.
Увидев идущую навстречу женщину, Сруога расставлял руки и пытался ее поймать. Женщины с воплем разбегались. А мы все бежали за поэтом (да, профессор снова почувствовал себя поэтом!) по нескончаемым улицам Мюнхена, пока наконец не заблудились и не забыли, в какой стороне наша гостиница. Дождь перестал. Мы встретили каких-то немцев и спросили у них, куда нам идти. Они подробно объяснили дорогу и спросили, откуда мы. Узнав, что мы из Литвы, они сказали:
— Ja, ja, Litauen… Voldemaras… Ein tüchtiger Mensch…[57]
— Черт подери! — выругался Райла. — И тут эту бестию знают, да еще считают приличным человеком…
На следующий день болела голова, а нам пришлось осматривать самое интересное в этой стране — еще не совсем оконченный в те годы так называемый Большой Немецкий музей. Под землей устроены угольные и соляные копи в натуральную величину. В огромных залах показано, например, развитие транспорта от примитивных носилок и повозок до новейших автомобилей, автобусов и трамваев — все в натуральную величину. Нажмешь кнопку, и трамвай едет по залу. В таких же залах показано развитие авиации от крыльев Икара до новейших самолетов, потом залы, посвященные музыке, книгам и многому другому. Не то восемь, не то пятнадцать километров надо пройти по всем залам музея. Удивительная панорама развития цивилизации. Такой мне больше нигде не довелось видеть!
Потом мы поехали к большому баварскому озеру — Штарнбергерзе. Сойдя на маленькой станции, мы увидели не первой молодости лысого человека. Он стоял выпятив грудь, расставив кривые ноги в зеленых обмотках. Подойдя к нам, он спросил, откуда мы. Потом отвернул лацкан своей полувоенной куртки и показал довольно редкий в то время знак, который потом, несколько лет спустя, завоевал такую зловещую популярность. Это была свастика. Человек заявил, что настанет время, когда Германия разгромит Францию и поставит на место евреев. О наших краях он не упоминал, — видно, что Литва и славянский мир были слишком далеки от него, баварца.
— Это сторонник Гитлера, национал-социалист, — сказал Сруога, когда кривоногий субъект отошел от нас. — В Мюнхене у них штаб. Видели вчера на улице парней в коричневых рубашках? Это все гитлеровцы…
И никому из нас не пришло тогда в голову, что пройдет несколько лет и эти парни в коричневых рубашках будут ходить в кованых сапогах по улицам всей Германии, а еще несколько лет спустя разрушат, сожгут Европу… Они заставят эмигрировать Оскара Марию Графа, посадят в концлагерь Сруогу, развяжут войну, во время которой будет уничтожен Берлин и сильно разрушен Мюнхен…
Приехав в удивительно прекрасный городок Берхтесгаден, утопающий в цветах, мы и не подозревали, что в этих горах, у волшебных Кенигзе и Оберзе, в которых так поэтично отражаются снежные вершины Вацмана и семерых его детей, будет устроено так называемое «Орлиное гнездо» Гитлера, вторая резиденция немецкого диктатора; здесь он будет составлять планы своих кровавых преступлений. Мы плавали на моторной лодке по Королевскому озеру, глядели на голубые волны, на воду, окруженную темно-зелеными высоченными елями, на серебристые нити далеких водопадов, на застывшие вдалеке сверкающие в огнях заката вершины Альп. Мир казался невероятно прекрасным и богатым. Путешествие ежеминутно показывало нам красоту, созданную умом и руками человека и самой природой. Хотелось все запомнить, чтобы не стерлась ни одна черточка нового города или творения природы, чтобы она вечно светила нам. Воспоминание может потускнеть и кануть в прошлое, но оно то и дело дает душе новую радость…
Потом Вена, Дунай, Пратер, Ринг… Удивительные архитектурные ансамбли, королевский дворец в городе и в Шенбрунне, музеи искусства и естествознания. Собранные за столетия горные кристаллы и картины Брейгеля, улыбки чудесных статуй и золотое небо итальянских пейзажей. Все казалось сказкой для человека, который лишь несколько лет назад покинул родную деревню и теперь впервые в жизни прикоснулся к великому, вечному искусству и красоте, которую раньше он не мог представить даже во сне, к людям, которые жили в другом окружении, в других условиях и каждый день дышали воздухом этих городов, парков, музеев. И эти люди казались нам счастливее нас.
Когда мы заглянули в ресторан выпить пива, к нам очень долго не подходил кельнер, или, как его называют по-немецки, обер. Балис Сруога сказал, что официантов лучше подзывать не «Herr Ober», а кричать по-русски: «Корова». Звучит похоже, зато слово «корова» больше действует. Не выдержав, Сруога крикнул:
— Эй, корова!
Тут же к столу подбежал обер, поклонился в пояс и по-русски сказал:
— Что прикажете, господа?
Оказывается, это был эмигрант. Сруога страшно смутился и начал извиняться перед обером. Но тот печально улыбнулся и ответил:
— Ничего! Мы тут ко всему привычные.
В Вене в эти дни проходил всемирный конгресс социал-демократической молодежи. По улицам шли колонны с красными знаменами, а полицейские отдавали честь проходящим. Это было удивительно для нас, приехавших из Литвы, где красный цвет вызывал ярость у правящей клики, где за красный флаг угрожала тюрьма. Да, Австрия была буржуазной страной, но у нас не было даже такой свободы.
Уже который день я гулял по Вене со своим другом Казисом Борутой. Когда я перед отъездом из Каунаса зашел в участок отметиться, начальник полиции сказал мне:
— Вот как, едете в Западную Европу? Хорошо, хорошо… И в Италии будете? — улыбнулся он. — Хорошо, отлично… Посмотрите. Там они умеют управляться… Муссолини…
И начальник полиции сказал, что больше могу не приходить отмечаться. Он был уверен: фашистская Италия настолько ошеломит меня, что я перестану быть опасным…
Сруога сказал нам с Райлой: в Каунасе охранка предупредила его перед отъездом, чтобы он уберег нас в Вене от встречи с Борутой. Но Борута появился так внезапно, что мы не успели даже оглядеться. Сруога увидел, что этот юноша, столь ненавистный каунасским фашистам, ничем не выделяется из других здешних студентов — он вежлив, корректен, даже молчалив. А мы, гуляя по Вене с ним — то вместе со всеми, то отдельно, — говорили и говорили. Казису хотелось знать, как поживают его друзья Монтвила и Якубенас, что мы пишем и думаем, какие условия для издания в Литве прогрессивного литературного журнала, для основания издательства. В этом большом и прекрасном городе он чувствовал себя чужаком, тосковал по Литве и мучился, что для него закрыт путь в родную страну. Он повез меня куда-то далеко, на окраину, в узкий переулок, где находилась его комната. Здесь мы снова говорили о литературе, о своей работе, и Казис в который раз возвращался к мысли об издании журнала. Он старался вспомнить всех молодых писателей, которые жили в Каунасе, Шяуляй и других городах, были на воле и сидели в тюрьмах, — по мнению Казиса, всех надо было сплотить в крепкую группу, которая смогла бы устоять перед фашистами и клерикалами.
Из Вены, срезав угол Югославии, мы отправились к Адриатическому морю. По правде говоря, по плану нам не надо было ехать через Югославию. В это государство мы попали, сев не на тот поезд, и югославские власти порядочно содрали с нас за железнодорожные билеты и разрешение проехать по своей территории. Ругаясь, мы вступили в Италию.
Жарким, душным вечером мы сошли на вокзале в Триесте. Город был пыльный, серый, без зелени. По привокзальной площади бегали носильщики. Море, словно парилка в бане, излучало жар. Извозчики на всех языках мира звали пассажиров. Мы удивились, услышав, как крупный старик с бородой, славянского вида, сидящий на «троне» пролетки, кричал:
— Кому хорошая гостиница? Кому хорошая гостиница?
Крик извозчика показался нам знакомым и близким. Мы тут же сфотографировали старика и его двух товарищей. Они долго везли нас то вниз, то вверх по гористым улицам Триеста, где на каждом углу стояло по два полицейских в черном. Наконец извозчики выгрузили наши чемоданы у дверей какой-то траттории и, содрав с нас неимоверную цену, снова отправились на вокзал.
Комнаты в гостинице были пыльные, грязные, из углов воняло крысами и гнилыми апельсинами. Переодевшись, мы пошли в ресторан. На столах уже стояли бутылки без этикеток с дешевым вином. Тут же появились и дымящиеся макароны.
В ресторане сидела разношерстная публика. Кто-то бренчал на гитаре, несколько пар танцевало. Что это за танец, никто из нас не понимал. За большим столом в углу спорили какие-то люди, несколько из них встало и бросилось в дверь, а другие, крича страшными голосами, погнались за ними через площадь. В дверях траттории появились полицейские в черном. Они постояли на пороге и снова исчезли. Входя, под лестницей мы увидели дверь с надписью: «Il medico».[58] Кто-то объяснил, что пьяные матросы и прочие граждане здесь часто берутся за ножи, и тогда нужен врач, чтобы залатать проткнутый живот.
В комнатах было жарко и душно. Никак не удавалось заснуть, тем более что по телу ползали насекомые.
На следующий день мы, обливаясь потом, ходили по скучному городу и удивлялись, зачем мы сюда приехали. Отбивая такт каблуками и барабанами, по улице ходили толпы детей и подростков. Они собирались на площади, где какой-то субъект в черной рубашке выступал перед ними с речью, то и дело поминая дуче.
Не радовало нас и море, невероятно спокойное, словно еще не остывший жир, налитый в широкую миску. Мы искупались в непривычно теплой воде, которая билась о замшелые камни. После обеда мы уехали в Венецию.
Дорога шла по северному берегу Адриатики. Изредка вдалеке мерцало море, то слева, то справа от поезда мелькал старинный замок или дворец. С холмов спускались виноградники, ветер благоухал теплой землей.
Зато Венеция… Такой город может только присниться! По Большому каналу летели сказочные гондолы. Мимо проносились мраморные дворцы с легкими колоннами, с лестницами, выходящими прямо из позеленевшей воды. Степы были увиты плющом. С утра город был наполнен прозрачной мглой, которая серебристой сетью опутала дома, церкви, узенькие улочки. Выйдя на берег неподалеку от Дворца дожей, мы гуляли по площади св. Марка, куда еще издали манили фасад знаменитого собора, высокая башня и ряд белых колонн библиотеки.
В Адриатическом море, которое простиралось тут же, у стен площади, дымили исполинские пароходы и крохотные суденышки. Один из таких маленьких пароходиков перевез нас через пролив на курорт Лидо. Роскошные виллы расположились у моря. Была середина лета, и вода манила нас. Решив искупаться, мы купили множество билетов, пока не прошли всех контролеров и не оказались на пляже. Здесь снова каждый должен был покупать билеты в кабины, платить за полотенца и прочие услуги. Кто-то подсчитал, что до тех пор, пока мы вошли в воду, каждый из нас приобрел по восемнадцать билетов. Что уж говорить, лучше купаться в нашей Паланге!
Вернувшись в город, мы гуляли по узким улочкам. Перед глазами возникла совсем другая картина, чем на площади св. Марка. Улочки грязные, дома не ремонтированы целыми столетиями. Два человека не могут разминуться в этой тесноте. Бродят худые, голодные кошки, бегают замызганные, оборванные детишки, слоняются иссохшие, словно скелеты, старухи с корзинами на головах, а в корзинах — белье, овощи, угольная крошка или несколько хворостинок. Тут же, на улице, местные жители, не стесняясь, справляют нужду. Вечером толпами ходят проститутки, из открытых таверн вместе с кухонными ароматами вылетает дешевая музыка граммофонов, и за пыльными окнами кружатся пары. Кажется, что это совсем другой город, забытый и богом и людьми. Это вторая сторона Италии, которую не всегда замечают туристы.
Перед нашими глазами сразу же открылась удивительная красота и нищета Италии, великолепие ее искусства и серость жизни. На каждом шагу виднелись напыщенные чиновники, отряды чернорубашечников, на каждой стене висела фотография Муссолини, поднявшего руку для присяги… Мы быстро покинули эту прекрасную и несчастную страну.
Миновав ночью горы, мы снова оказались в Австрии. Мы были в Инсбруке, в древнем и прекрасном городе у подножия Альп, у стремительной голубой реки Ин. По тихим улицам города ходили мужчины и женщины, одетые почти одинаково — в зеленых жилетах или брезентовых куртках, в длинных чулках, в больших подкованных ботинках, с ледорубами в руках. Здесь был центр альпийского туризма, и нам надо было подготовиться к самой ответственной части путешествия.
Город оказался уютным. Небольшая гостиница, в которой мы остановились, поражала чистотой, комнаты обставлены на старинный лад, с пуховыми перинами, с фарфоровыми умывальниками, в которые надо было наливать воду из белых кувшинов. В усыпанном песком садике стояли столики и легкие стулья. Здесь мы отдыхали, пили легкое дешевое тирольское вино, играли в шахматы. Сруога, которому Италия не нравилась и из которой он рвался в свою стихию — в Альпы, теперь стал разговорчивее. Он охотно садился за шахматную доску, чтобы сразиться с тем или иным экскурсантом, договорившись, что проигравший ставит всем вино. Увы, Сруога выигрывал не часто, и странно было видеть, как он нервничает и сердится от проигрыша. Он болезненно раздражался, становился угрюмым, замолкал, сжимал губы и посасывал трубку. Проиграв, Сруога расхаживал вокруг, враждебно поглядывая на противника. Потом некоторое время наблюдал, как играет другая пара. Снова садился к столу и внимательно следил за игрой и наконец сам брал у кого-нибудь черные или белые и начинал играть, тихо, задумчиво, не поднимая глаз от доски.
В Инсбруке мы позаботились обо всем необходимом для альпиниста. Когда мы надели брезентовые куртки, подкованные большими гвоздями ботинки, взвалили на спину тяжелые рюкзаки (в них мы переложили взятые еще из Каунаса колбасы и сало), прицепили к ним котелки, взяли в руки ледорубы, — мы ничем не отличались от сотен других туристов, которые толпами валили по всем улицам.
Сев на поезд, мы сошли на полустанке Штейнах. Перед нами, сколько видел глаз, возвышались горы, далеко уходя в небо в легком утреннем тумане, уже пронизанном лучами солнца. Казалось, до вершин рукой подать и не пройдет двух часов, как мы доберемся до самых дальних. Шаг за шагом, тринадцать туристов двинулись по горной тропе.
Но не прошло даже часа, как нам уже казалось, что силы иссякли, что сделаешь еще три шага и свалишься. Но делаешь три, и еще десять, и еще двадцать — и все еще стоишь на ногах. И только когда руководитель находит подходящую полянку и позволяет сесть, мы с невероятным наслаждением сбрасываем рюкзаки и растягиваемся на теплой земле меж камней! Мимо снуют туристы, здороваясь с нами привычным здесь: «Grьss Gott». Изредка появляется погонщик мула, на спине которого приторочены плоские бочонки. Это замечательное тирольское вино, утеха альпинистов, едет в горные хижины.
Так началось наше путешествие по Альпам. Оно продолжалось две недели. В первые дни, когда мы поднимались все выше по горным лугам, переходили вброд холодные ручьи, текущие с вечных ледников, все было внове для нас. А наш руководитель, словно подзуживая нас, уставших от тяжелой ноши, иногда говорил:
— Что ж, наверно, лучше пить молоко у мамы в деревне или лежать, вывалив пузо у озера, чем таскаться по незнакомым горам?
А мы ничего не отвечали, только тайком вздыхали. Поначалу плечи ныли под непривычной ношей — двадцатью килограммами всевозможных продуктов, которые, правда, таяли день ото дня. Выяснилось, что в горных хижинах можно недорого питаться, и мы совсем отказались от своего груза, тем более что в горах не просто приготовить себе пищу. Но чем дальше, тем веселей шли мы по горам. Перед нами открылась величественная картина — мы подошли к ослепительно сверкавшим ледникам. Солнце, отражаясь во льду и белом снеге, просто обжигало глаза сквозь черные очки. У тех из нас, кто попробовал на ходу загорать, закатав рукава и штанины, с рук и ног вскоре слезла кожа.
Тирольские Альпы пересекали тропинки, помеченные камнями, выкрашенными в красный цвет. И лишь по этим тропинкам можно было идти. Там, где кончались альпийские луга и начиналось царство вечного снега, приходилось идти по узким опасным тропам. Здесь то и дело попадались надписи: «Nur fьr Schwindelfreie».[59] На самом деле, брала оторопь при взгляде вниз — далеко-далеко под тучами виднелись озаренные солнцем или покрытые туманом долины, темно-зеленые, со спичку величиной ели, узенькие нити серебристых рек. А подняв голову, можно было увидеть высокую вершину, на которой не так давно ты побывал со своими товарищами. Все это снилось мне еще несколько лет после возвращения с Альп.
Мы ночевали теперь в горных хижинах. Они были разбросаны повсюду — и на альпийских лугах, и в горных лесах. Они были даже на ледниках, куда, казалось бы, так трудно доставить строительные материалы. И все-таки их построили, оборудовали, устроили комнаты отдыха, небольшие уютные ресторанчики с видом на горы, леса, реки — на удивительный альпийский мир.
Казалось, что наш руководитель вновь родился в горах. Он рассказывал нам свои приключения и путешествия по Кавказу во время первой мировой войны, объяснял, что Альпы по сравнению с Кавказом кажутся красивой открыткой. Кавказ величествен и дик, а эти горы уже исхожены туристами вдоль и поперек. Сруога мечтал еще когда-нибудь попасть на Кавказ, где он когда-то бродил, прячась от мобилизации в армию Временного правительства, жил у полудиких горцев, которых никогда не забудет.
Однажды, спустившись на горные пастбища, мы под вечер оказались в избушке, в которой уже было полно туристов. Сруога с трудом достал матрацы для наших женщин, а мы сами решили спать в хлеву, где владелец хижины постелил нам свежее сено. Когда мы легли, сквозь дырявую крышу мигали далекие звезды, а за дощатой перегородкой блеяли овцы и козы. Хоть мы и выпили вина, сон не приходил. Сруога вспомнил Каунас, университет, куда ему явно не хотелось возвращаться. Да и вообще он, скорей всего, не был доволен своим занятием — он преподавал потому, что мог без труда прожить на профессорское жалованье. В те годы профессиональные литераторы нищенствовали. Сруога любил далеко не всех своих коллег, и теперь, когда мы оказались одни, без женщин, он, не стесняясь, выражал свои симпатии и антипатии. Всех профессоров он делил на две категории. Одних он называл «дельными стариками», а других — «задницами» (по правде говоря, он применял даже более крепкое слово).
— Креве? О, Креве — это дельный старик… — говорил он без колебаний.
— А историк Йонас Ичас? — с любопытством спрашивали мы.
— Ичас — задница, — коротко отрезал Сруога. — В эту же категорию входит и Владзюкас…
— Какой Владзюкас?
— Шилкарскис… Хоть и пишет толстые книги по-немецки про Владимира Соловьева, но все равно — задница. А если вам нужен дельный старик, — Карсавин дельный старик. Ему палец в рот не клади, он свое дело знает.
— А Тумас?
— Тумас — писатель. Тоже дельный старик.
Любопытно, что за все путешествие Сруога ни словом не обмолвился о том, чем он жил, — ни о литературе, ни о театре. Правда, еще в Вене он сводил нас в оперетту, но это было и все. Так шло наше путешествие по горам. Когда однажды утром мы проснулись и вспомнили, что сегодня в Литве престольный праздник святой Анны, вокруг нашей избушки бушевала вьюга. Выпив кофе, мы отправились вслед за проводником. Перед особенно опасными горными тропами мы нанимали проводника. Сегодняшний наш гид, усатый пожилой тиролец, утром разбудил нас русскими словами: «Вставайте, ребята!» — в войну он угодил в плен и еще не успел забыть выученные в России слова. Было холодно, в молоке туч виднелась тропа лишь на несколько шагов. Мы обвязали шарфами уши, на руки натянули запасные носки. Но через каких-нибудь полчаса вдруг засияло такое солнце, что мы не знали, куда прятаться от жары, хотя вокруг простирались бескрайние снежные поля, а над нами возвышались исполинские белые вершины.
Отдохнув, мы отправились в самую тяжелую часть путешествия — все ближе к величественной вершине высотой в 3774 метра — к Вильдшпитце. Мы шли с трудом, медленно. Чем выше мы поднимались, тем реже становился воздух. Когда мы оказались на подступах к вершине, часть наших экскурсантов, в том числе все женщины, почувствовали себя так плохо, что их пришлось оставить внизу, а мы — Сруога и несколько парней, сердца и легкие которых были в порядке и у которых не кружилась голова, — еще добрых полдня поднимались вверх по гребню горы, который то исчезал в тучах, то снова манил нас недалекой вершиной. Бывали минуты, когда казалось, что мы так и не доберемся до цели, но решимость побеждала все, и, переведя дух, покрепче связавшись веревками, мы снова взбирались в гору.
Наконец — какое счастье! — мы достигли одной из самых высоких вершин Австрии. Еле живые, мы упали на камни (на самой вершине почему-то не было снега) и глядели вдаль, где на горизонте возвышались белые угловатые исполины. Было бесконечно тихо, словно замолкла вся вселенная. Не слышно ни воя ветра, ни грохота ледников, ни журчанья серебристых ручьев. Удивительно и величественно. Мы смотрели вдаль. Под нами то и дело проплывали облака, скрывая долины, которые раньше сверкали, озаренные солнцем. Иногда облака летели вровень с нами, и тогда мы сами на минутку исчезали в мокром и влажном тумане. Иногда падали снежинки, но они тут же исчезали, и снова горы и долины озарялись ярким светом, и все было странным, — кажется, никогда больше не вернемся в мир глубоких долин, откуда мы пришли, в мир, где нас ждут города, грохот и книги…
Но шло время. И когда спустились к ожидающим нас друзьям, а потом вместе с ними оказались еще ниже, мы уже стали тосковать по тому, что оставили за собой. И все чаще не только вспоминали горные луга и леса, но думали и о далекой Литве, о Каунасе, об оставленных там друзьях…
Зальцбург, город Моцарта и Стефана Цвейга… Гармиш-Партенкирхен, полный спортсменов и цветов. Горные тоннели, высокие мосты через стремительные реки, всё новые картины прекрасной земли — все это словно сон проносилось мимо нас.
Снова Берлин. Снова над головами грохотали поезда, а под землей рокотал унтергрунд. Мы загорели, окрепли, закалились, мы были счастливы. Берлин казался нам старым знакомым — были места, где мы могли ориентироваться даже без руководителя. Деньги кончались. Но, уже раньше наслушавшись рассказов о ночной жизни Берлина, мы упросили своего руководителя вместе пройтись по ночным театрам и заведениям Берлина.
Мы зашли в несколько таких заведений. Страшно раскрашенные, полуобнаженные женщины пели двусмысленные песенки, и, едва мы садились за столик, как нас окружали голодные девушки, выпрашивавшие вино, бифштекс или хоть бутерброд. Визжали саксофоны, мигали красные, синие и зеленые фонари, на крохотных сценах плясали голые женщины, уставшие от бесконечного шума и бессонницы, — весь этот ночной мир подавлял, печалил и тревожил нас. Мы попали даже в заведение, посреди которого стоял гроб, вокруг горели свечи, на стене были нарисованы черепа, а любители острых ощущений сидели на краю катафалка, распевая песню о бессмысленности жизни…
Выйдя на широкие берлинские аллеи, где больше воздуха, а над парками сверкают звезды, мы вздохнули полной грудью, словно выбравшись из погреба на дневной свет. Все, что мы увидели ночью, было так мерзко, что не хотелось об этом думать. Но мы не сожалели об увиденном — без этого мы не знали истинной картины большого города. Презрение к человеку, извращенная психика, требующая все новых возбудителей, обман — вот что представлял собой ночной Берлин, город, на поверхность которого несколько лет спустя вышли гитлеровцы…
Наш поезд шел на восток. Когда мы миновали Зеленый мост и сошли на Каунасском вокзале, у нас даже зазвенело в ушах: здесь стояла такая невероятная тишина, словно мы попали в далекую захолустную европейскую деревню.
Некоторое время спустя Сруога устроил встречу бывших экскурсантов в деревянном доме по Земляничной улице, где он жил. На встречу он пригласил и некоторых профессоров. Сев за стол, уставленный яствами гостеприимной Ванды Сруогене, мы поднимали бокалы за своего руководителя, за побежденные вершины Альп и за будущие путешествия. После первых тостов стало непринужденней и веселей. Сруога пел сам (голоса у него, увы, не было) и призывал нас спеть свои любимые песни.
Профессор Лев Карсавин, поглаживая свою шелковую бородку, обсуждал со студентами проблему смерти. Он, коренной русский, говорил на таком чистом и прекрасном литовском языке, украшенном редчайшими пословицами, что наслаждением было его слушать.
Приятно было вспомнить недавнее путешествие, его трудности и прелести. На следующий год Сруога снова выбрался в Альпы. Я с ним уже не поехал. В этой второй поездке участвовала Саломея Нерис.
НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВА
Я еще ничего не писал о своем новом друге. А без него мне труднее было обойтись. Я познакомился с ним в общежитии «Жибурелиса»,[60] где жил мой товарищ Йонас Шимкус.
В общежитие входили со двора через огромную кухню, заполненную дымом, паром, вонью белья. В этом чаду бродили грязные женщины — персонал общежития. Во всех углах были навалены груды картошки, свеклы, на столах — кочаны капусты. Убегая от этих запахов, я поскорее нырял в столовую, в которой питались жильцы общежития. Столовая была еще больше кухни. Она давно уже не видела ремонта. В два ряда стояли столы без скатертей. В обеденное время здесь собирались молодые люди. Комната эта тоже пропиталась всеми запахами, характерными для плохих и дешевых столовых. Миновав ее, я оказывался в комнате, в которой жил Йонас Шимкус, переехавший из Паланги в Каунас, и последнее время — Пятрас Цвирка. Там стояли койки, на стенах висела небогатая одежда жильцов, на застеленном бумагой столе валялись книги, объедки колбасы, хлебные крошки. Как-то, войдя в комнату, я увидел за столом незнакомого юношу, который и оказался Пятрасом Цвиркой. Это был крепко сколоченный парень с красиво вылепленной головой, которую, словно шапка, покрывали густые волосы. Его лицо было оживленным. Особенно живыми были глаза, в которых перемежались печаль и смех. Казалось, что этот парень вот-вот скажет что-то остроумное и интересное.
— Венцлова? Знаю. Я еще в деревне читал твои «Сумеречные переулки». Ничего. Приличные стишки. Некоторые, видно, посвящены какой-то фее, — сказал он, пожимая мне руку своей крупной рукой деревенского парня, привычного к тяжелой работе.
Мы разговорились, новый мой знакомый на самом деле оказался необыкновенно остроумным. Он писал стихи, которые мне тут же показал.
— Вот с рифмами у меня просто горе, — сказал с улыбкой Цвирка. — Но Шимкус говорит, что Уолт Уитмен неплохо писал и без рифм, — засмеялся он и спрятал свои стихи в стол.
Так завязалось наше знакомство, которое вскоре превратилось в близкую дружбу, длившуюся до последнего дня его жизни. Поначалу эта дружба была почти детской. Словно дети, мы подсмеивались друг над другом, иногда даже ссорились и снова мирились. В этом виновата была разница наших темпераментов — он был сангвиником, горячим, остроумным человеком, склонным к шутке, иногда даже злой, а я не всегда любил смех и не всегда понимал остроты. Шли годы, и наша дружба росла в литературной работе, в борьбе против сметоновского режима, ее укрепляли одинаковые литературные вкусы, ненависть к фашизму, буржуазии, мещанскому убожеству жизни. Бывали минуты, когда мы немного отдалялись друг от друга, но это обычно было продиктовано мелочами быта, а не причинами идеологического или литературного характера. Потом нас снова сближала дружба — искренняя, полная откровенности и любви.
С первых же встреч меня поразило остроумие Цвирки и его многочисленные комические рассказы о родной деревне и из жизни Художественного училища, в котором Цвирка учился.
— Вчера К. с нашего курса идет по коридору училища и блеет: «Бе-е, бе-е», — рассказывает Цвирка. — А за ним шагает профессор Каетонас Склерюс.[61] Догнав К., он спокойно кладет ему руку на плечо и говорит басом: «Но вы просто удивительно блеете! Никак не отличишь от барана! Да, вы настоящий баран!..»
— Пятрас, а как вам Диджёкас рассказывал о возникновении византийского стиля?.. Расскажи, — просит Шимкус.
— Итак, — начинает Цвирка, изменив голос, изображая художника Диджёкаса, преподавателя Художественного училища, — сегодня поговорим о византийском стиле… Посмотрим, так сказать, как он возник… Слушайте! Когда-то воевали друг с другом… Ну, как их там… Эти чукчи или калмыки с япошками… То есть я не совсем точно… Не калмыки, а мордва дралась с турками или персами, черт их там поймет, давно было… Не помню… Этого можете не записывать, на экзаменах не спрошу… Так вот. В один прекрасный день дрался король этих черемис с ятвягами… Уже и солнце близится к закату. Вот и говорит жена одного короля, мордовского, что ли: «Хватит драться, говорит, перестаньте… Я чаю вскипятила, сыру нарезала, садитесь, перекусите…» Послушались короли, перестали драться, сели на ковер и едят, самогоном запивают. А этот ковер был расписан этаким орнаментом… А этот орнамент и был византийского стиля… Вот так и возник этот стиль…
Рассказывал Цвирка так комично, что мы просто восхищались. Но не только этим отличался Пятрас.
Придя как-то в комнату Шимкуса, я увидел, что Цвирка кончает фотомонтаж. Вырезанная из какого-то журнала попечительница общежития «Жибурелис» Фелиция Борткявичене держала у себя на коленях президента Сметону, маленького скромного человечка в цилиндре. Фотомонтаж был так хорошо сделан, что казалось — это не две, а одна фотография. В следующий раз я увидел в комнате на стене вырезанный из картона серп, с которым был скрещен настоящий молоток. Когда в общежитие заходил какой-нибудь подозрительный посетитель, молоток снимали. Эти монтажи, несомненно, показывали, какое настроение царило в общежитии.
Пятрас Цвирка писал. Он писал на длинных полосах, разрезав вдоль бумажный лист, и посылал свои заметки в американские литовские газеты, кажется в основном в «Единство». Он говорил, что все начинается с заголовка — если нет хорошего заголовка, и работа не движется с места. Поговаривали, что за свои заметки он даже получил подарки из Америки — галстук или что-то еще… Однажды (значительно позднее) Цвирка рассказал мне, что он начинал с фантастических заметок примерно следующего содержания:
«Как сообщают французские газеты, в Провансе родился теленок с тремя головами. Двухнедельный теленок весит четыре с половиной пуда и отличается отменным аппетитом».
«В Чикаго умер нищий Чик Бобин. Выяснилось, что он припрятал три с половиной миллиона долларов».
Подобные заметки, а также статейки о деревенских чудаках охотно печатали и литовские газеты под рубрикой «Разное». Газеты американских литовцев перепечатывали это «Разное», а оттуда некоторое время спустя заметки снова перепечатывала литовская пресса. Это смешило Пятраса, и он строчил новые.
Но подобное сочинительство вскоре наскучило Цвирке. Он принялся за более серьезные темы. Начал писать стихи и в них не жалел острых слов то против клерикалов, то против других угнетателей… Потом я прочитал в газетах довольно интересные, свежо написанные рассказы «Чертов сын», «День, когда отпустили вороненка», в которых все ярче проступал талант нашего товарища.
— Пятрас будет писателем. Вот увидишь! — не раз утверждал Йонас Шимкус, если я осмеливался критиковать стихи его друга.
С Цвиркой встречаться всегда было интересно. Он то изображал своих товарищей по общежитию, то рассказывал всякие небылицы про них. Другие передавали рассказы Пятраса обо мне. Живой ум и фантазия Пятраса просто бурлили, каждый день он выдумывал все новые выходки.
Никто бы не мог сказать, что этот неукротимо веселый оптимист жил, да и сейчас живет на голодный желудок, что он в осеннюю и весеннюю слякоть и в зимнюю стужу ходит в рваных башмаках, без носков, без нижнего белья. Он вечно смеялся, потешался над всеми. Лишь однажды, помню, он сказал мне:
— Не можешь себе представить, что я недавно пережил в общежитии. Студент Тиюнелис, видя, что я не могу выйти в город — мои штаны прохудились, как старое решето, — подарил мне свои старые брюки. И потом, за что-то на меня рассердившись, при всех потребовал, чтобы я вернул ему его драгоценный подарок… Он издевался надо мной, как над нищим. Мне хотелось схватить табурет и убить его на месте… Все хохотали надо мной… Я не мог… Я закрылся в своей комнате, уткнулся в подушку и долго плакал, как в детстве.
В 1928 году он мне подарил книжку стихов «Первая месса».
— Не потеряй. Это редкость, меня конфисковала цензура…
— Что ты говоришь? Надо бы узнать, может, пропустят…
— Ни черта не издадут! — ответил Цвирка. — Мне посоветовали к Тумасу сходить. Он был в епархии… Понимаешь, это дело ксендзов… Разве с ними можно столковаться, с этими ксендзами да цензорами…
По правде, стихи мне не очень понравились — они были написаны грубовато.
— Твои рассказы мне кажутся лучше, — откровенно сказал я.
— Мне тоже больше нравится писать рассказы, хоть Шимкус и хвалит мои стихи. Говорит, нечто вроде Уитмена, а я-то еще не читал этого поэта.
Пятрас, как и я, как и Шимкус, очень любил книги. На литовском языке он, кажется, прочитал уже все (тогда их было немного). В общежитии жило немало студентов и учеников старшего возраста, которые умели читать по-русски. Это побудило Пятраса заняться русским языком. Довольно скоро я увидел, что он читает то какое-то рижское издание, то книгу Горького или Чехова, то роман западноевропейского писателя. Непонятные слова Пятрас выписывал в тетрадку и потом при помощи друзей зубрил их…
Я заметил, что Йонас Шимкус по-отцовски любит своего друга, который был всего лишь на три года его моложе. О Пятрасе он всегда говорил только нежно, на все его шалости смотрел снисходительно. Оба они жили бедно, питались плохо и нерегулярно. Не раз Йонас, заработав где-нибудь несколько литов, делился ими с младшим товарищем, отчетливо понимая, что долг не вернется. За столом он уступал ему лучшее место, куда ярче падал свет лампочки. С настоящим восхищением он глядел на Пятраса, когда тот, склонив набок голову, изредка ероша рукой свою густую шевелюру, писал что-нибудь, читал или изучал русский язык.
Конечно, Пятрас тоже любил Йонаса, хоть этого и не показывал. Даже напротив, он любил выдумывать про Йонаса, как и про других своих приятелей, насмешливые истории.
— Вы бы видели, как Йонас пишет стихи! Непременно снимает ботинок и отбивает пяткой такт, а то запоет песню — иначе у него не получается ямб, а вместо дактиля выходит анапест, — смеялся Пятрас, а вокруг заливались хохотом друзья и враги. Между тем Йонас смущенно стоял рядом и, не зная, как ему реагировать, робко улыбался, даже не думая рассердиться на Пятраса.
В общежитии обитали студенты всевозможных взглядов, но больше всего левых.
…Главным вопросом после возвращения из Западной Европы было — как заработать денег, потому что в поездке не только все запасы, но и одолженные деньги кончились. Я думал, что вернусь, посижу недели две и опишу путевые впечатления. Газеты, без сомнения, ухватятся за такой материал. Так или иначе, я верну себе хоть часть издержек.
Увы, в мечтах все выглядит прекрасней, чем в действительности. Сидя у брата Пиюса в Кармелаве, я долго корпел, пока не написал довольно пухлую рукопись. Сев в автобус, я отвез ее в Каунас. Рукопись редакция взяла без особой радости, — то ли я как автор был нежелателен, то ли их мало интересовала тема. Однако вскоре я увидел, что напечатали несколько страниц моих впечатлений. Прошли два дня, потом неделя, но больше моих заметок не появлялось. Я снова поехал в Каунас и зашел к сотруднику редакции, которому оставил рукопись.
— Горе мне с вами! — сказал лысый, очкастый сотрудник. — Пес знает, куда ваша рукопись запропастилась. Все перерыл, нигде нет, ни в моем столе, ни у корректора, ни в типографии… Как в воду…
Меня прошиб пот.
— Послушайте, я же думал… Мне надо… А может, еще найдется?
— Не думаю, — ответил сотрудник. — Как на грех… Давно уже такого не случалось…
— А может, не хотите печатать? Тогда прямо скажите. Я в другую газету…
— Нет, отчего же, можно и напечатать, хоть теперь, летом, много народу путешествует и все пишут… Но рукопись исчезла, понятно?
Еще сильнее потея, я сидел перед сотрудником.
— А гонорар?
— Гонорар мы платим, если напечатаем. За напечатанное можете взять… А об остальном мы не договаривались…
«Ну и подлецы! — думал я, выходя из редакции. — Искать правды? Нет, ее тут не найдешь. Это яснее ясного».
Я уехал в деревню. Как всегда, родные встретили меня с радостью. Я показывал им открытки из Венеции, Вены, Берлина, с гор. Все это было им страшно интересно, особенно моим младшим братьям. Но Юозас сказал:
— Только деньгами швыряешься… А еще жалуешься, что нет службы и мало зарабатываешь. Покатался, посмотрел — и все. Польза какая? Теперь опять будешь голодать, как в те годы…
Я промолчал. Неужели он не может понять, что значит для меня это путешествие?
— Ты не боялся, сынок? — спросила мама, подсев вечером на мою кровать в темной клети. — Такие горы… С этих гор и свалиться недолго. Умереть можно…
— Я не свалился, мама, как видите… А свою поездку не забуду, пока жив.
— А как там люди живут? Лучше, чем у нас?
— Смотря кто. Одни много лучше, другие — хуже. Есть и такие, кто просит милостыню, а ночует под мостом…
— И у нас, сынок, все тяжелей… Еда еще есть, слава богу. Но денег достать неоткуда. Повезешь в город продавать — задаром отдай. А если крестьянину доводится что-нибудь покупать, — просто горе. Все норовят шкуру содрать… А налоги большие. Юозас не знает, что и выдумать, чтоб заработать лит.
Да, жизнь становится тяжелей. Люди говорят о кризисе. Газеты пишут, что он все растет в зарубежных странах.
Вернувшись в Каунас, я уже не мог жить у старых хозяев Страздасов. Они переехали в другую квартиру, поменьше, на Лайсвес-аллее, а я получил комнатку у своего старого знакомого Пранаса Моркунаса.
Он снимал убогую квартирку и жил вместе с женой и ее сестричкой, которая посещала балетную студию и бредила Павловой, Карсавиной, Верой Коралли и другими звездами балета. Пранас Моркунас, как я уже говорил, был вечным студентом. Он невероятно любил литературную работу и почти бесплатно переводил для различных дельцов все, что попадало под руку — начиная с какой-то «Двери о семи замках» до «Голода» Гамсуна, «Морского волка» Джека Лондона, «Декамерона» Боккаччо и книг Мартина Андерсена-Нексе. Правда, последнего писателя ему издать не удалось — дельцы не надеялись на нем заработать или побоялись цензуры.
Моркунас оказался интересной личностью. Этот бывший доброволец постепенно менялся и со временем стал сторонником марксизма и другом Советского Союза.
Когда я поселился у него, он с восхищением читал Велимира Хлебникова, — у него было полное собрание его сочинений.
Он считал Хлебникова величайшим поэтом и показывал мне некоторые его поэмы, каждую строку которых можно было читать с одного и другого конца — получалось то же самое. Оказалось, что Моркунас, сорокалетний, лысеющий человек, под влиянием этого поэта сам начал писать стихи и посвящал им весь свой досуг. Он написал множество странных стихотворений. Непривычные, часто детские метафоры, неслыханные рифмы, аллитерации, иногда слова без смысла, но с интересным, неожиданным звучанием — все это казалось единственно важным этому пожилому человеку, уже давно отслужившему в армии. Он писал свои стихи на длинных полосах бумаги. Вот как он изображал, например, комнату и настроения студентов:
на столе — ницше, еще фриче, биржишка, гуттаперчевая манишка, скучно, печально. подавился подогретой вчерашней котлетой.Как-то ко мне заглянул Пятрас Цвирка, и Моркунас, позвав нас в свою комнату, показал толстую кипу бумаг — это были его стихи (каждое стихотворение не менее чем в десяти вариантах). Несколько он нам прочитал. В то время патриотически настроенные поэты писали стихи про Вильнюс, который захватили поляки. Моркунас тоже написал про Вильнюс, и его стихи звучали примерно так:
бом, бом, тили-бом, вильнюс, ты теперь не наш бом, бом, чах, бах, тили-бом, эй, скорей на абордаж! вильнюс снова будет наш! трах-тарарах, бум, бам!И т. д. и т. п.
К стихам были приложены и ноты.
— Знаешь, Пранас, это очень интересно! — сказал Цвирка. — Дай нам бумаги — мы тоже попробуем написать что-нибудь подобное, то есть, как ты говоришь, имажинистско-дадаистские стихи…
— Прошу, прошу! — сказал Моркунас, вручая нам листы бумаги и хорошо наточенные карандаши. — Пишите, я уйду в другую комнату…
— Ладно, можешь оставаться, — сказал Цвирка. — Ты нам не помешаешь. Только смотри на часы. Будем писать ровно десять минут.
Моркунас взял часы, а мы с Пятрасом налегли на стол. Десять минут истекло, и Цвирка воскликнул:
— Имажинистский шедевр готов! Послушай!
Он прочитал какую-то длиннейшую окрошку из слов, которая ничуть не уступала творчеству Моркунаса. Нечто подобное изготовил и я.
— Ну уж нет, мужики! — серьезно сказал Моркунас, выслушав наш бред. — Я не верю, что вы эти стихотворения сделали на месте. Вы их раньше написали. Вы же видите, сколько бумаги я извожу, пока у меня что-нибудь получится…
— Не знаю, как Антанас, — сказал Цвирка, — но я уж точно не подозревал, что ты такие стихотворения пишешь. Как же я мог заранее заготовить? Послушай, Пранас, мы тебе дарим эти произведения. Кажется, ты собираешься издавать сборник — можешь их использовать…
— Вот-вот, — подтвердил поэт. — Мой сборник уже в типографии. Он будет называться «Поет дегенерат…». Я хочу поиздеваться над мещанами. Отсюда и название… А ваши стихи — нет… Все-таки авторское право… Так нельзя…
— Насчет авторского права не волнуйся, — сказал Цвирка. — Это чепуха, тем более что мы сами согласны… — Он взял лист, заполненный Моркунасом. — Любопытно. Я не вижу больших букв.
— Да, да, в моей книге не будет ни одиой большой буквы… Даже имя и фамилия будут начинаться с маленьких.
— Все это прекрасно, — сказал Цвирка. — Но я вот что тебе скажу, братец: песнями дегенерата никого не удивишь…
— А я и не хочу удивлять, — покраснев, стал оправдываться Моркунас. — Я хочу мещанам сунуть колючку под хвост, понятно?
Все-таки Моркунас, видно, послушался совета Цвирки, а может быть, по ряду других причин его сборник из печати не вышел. Можно себе представить, какой бы шум он вызвал, если одно-едииственпое стихотворение пранаса моркунаса (будем придерживаться его орфографии), под названием «смехопев», позднее помещенное в первом номере «Третьего фронта», критика склоняла несколько лет.
Через месяц-другой я перебрался в другую комнату по той же улице — к Генрикасу Блазасу. Он с женой жил на втором этаже, в двух комнатах, а третью сдал мне.
В газете «Студент» я напечатал во второй раз написанные путевые впечатления. За них никто не заплатил мне ни цента — как и за все, что я здесь печатал.
Примерно в то же время я испытал свои силы и в области литературоведения. Для семинара, которым руководил Тумас, я написал работу об «Утопленнице» А. Венуолиса, которую любил еще с детства. Моя работа понравилась профессору.
— Надо бы ее опубликовать, голубчик!
И профессор написал рекомендательное письмо редакции журнала «Просветительная работа», где и напечатали мой доклад. Позднее он вышел отдельной книжкой.
Райла писал мне из деревни: «Нам надо держаться вместе». Ему не нравилось, что в «Студенте» начал сотрудничать Пятрас Юодялис. «Что ни говори, Юодялис — представитель реакционной буржуазии, хоть и прикрывающийся либеральностью…» Кроме того, в «Студенте» выступил и Йонас Коссу-Александравичюс с сонетом, который кончался следующими строками:
Я все отчетливее понимаю Ничтожность лирики, сонета Перед величием природы в мае. Когда-нибудь я справлю тризну По смыслу, по всему на свете, Пойму: нет цели ни в стихах, ни в жизни.«Появление Коссу-Александравичюса в «Студенте» меня обрадовало, — писал Райла. — Гордый поэт раньше иначе выражался о своем творчестве и говорил, что без больших гонораров не будет помещать своих стихов во всяких «пакостных» изданиях… А вот и поместил! Об его стихах могу сказать, что и я от души согласен с последними «бурными» строками сонета».
Я все серьезнее думал о литературе. Вспомнив, как много общего было у меня в этих вопросах с Райлой, я предложил ему поселиться вместе со мной. Райла согласился. Мне казалось, что вместе мы сделаем что-то значительное. В это время я снова начал подумывать об издании первой книги рассказов. Райла меня горячо поддержал: «Как я отношусь к изданию «Человека между пилами»? Очень хорошо… Фашисты и клерикалы теперь молчат — самое время, потом можно пропустить момент».
В конце сентября Райла приехал в Каунас, купил тахту и поставил в моей комнате. Из окна виднелся пустой двор, складик — и все, даже ни единого дерева. Мы об этом не думали. С первого же дня мы окунулись в разговоры о литературе, поэзии, о моей новой книге.
Куда ни глянешь — друзья печатаются. Вот Йонас Шимкус напечатал рассказ, а вот и рецензию о «Первой мессе»; вот Райла пишет об антологии поэзии «Первое десятилетие», безжалостно ругая меня за то, что я согласился участвовать в антологии вместе с разными эпигонами романтизма; вот появился новый цикл стихов Скабейки, а вот статья Корсакаса о литературе. Черт подери, хорошо бы иметь собственный журнал, в котором можно было бы обойтись без советов и требований чужих дядей! Молодым надо найти общий язык, надо собираться вместе.
Что ни говори, а мысль о коллективном издании снова стала темой для разговоров. Казис писал нам из Вены: «Предлагаю создать кооператив. Журнал следует назвать «Авангард» или «Влево», издавать небольшим форматом». К участию «надо привлечь весь прогрессивный элемент. Ведь в нем будет вестись борьба против поповщины, которая разъедает пашу культуру. Нельзя забывать поэтому про Тисляву,[62] Креве, Сруогу, Киршу и др., приглашайте и Саломею Нерис (девка, кажется, перейдет на нашу сторону, надо с ней повежливей)». Казис призывал нас создать «Кооператив писателей», который бы материально помогал всем работать. «Пока не будет широкой писательской организации, до тех пор мы будем любителями, а не профессионалами. А литературу надо сделать профессией. Это будет большое культурное достижение. Хорошо писателям других стран. Там о таких делах думают дельцы. А у нас делец непременно осел и жулик. Так что приходится все делать самим. В какой-то степени мы это и делаем. Но надо всему делу прочную основу. Такая основа, по-моему, и будет — кооператив».
Идей было хоть отбавляй; иногда мы забывали, что живем среди пассивной интеллигенции и что разбивать скорлупу косности и враждебности не только трудно, но и опасно. Мы находили живых людей, которые не могли примириться с клерикализмом и фашизмом, протестовали и боролись. Меня взволновало письмо одного гимназиста из Зарасай, который писал: «Еще 22 декабря меня, как «коммуниста», допросили учителя. В моей квартире сделали обыск и изъяли книги и социалистические газеты… Меня включили в список подозреваемых. Наверное, сошлют в Варняй… Сегодня я в школе, а что будет завтра — не знаю. Мне нечем платить за учебу. А родные отреклись от меня, как от «безбожника». Это великая трагедия моего тела и души». Немного наивно, серьезно и трогательно писал этот юноша, описывая атмосферу, которая царила не только в Зарасайской гимназии.
В университете жизнь шла своим чередом. Начался осенний семестр. Немного улучшились условия — нас перевели в новое здание. Здесь же работал и литературный кружок «Экспресс», в собраниях которого несколько раз участвовали и Цвирка, и, кажется, Шимкус. У нас зрели новые, серьезные планы.
СЕЗОН БАЛОВ
Начался так называемый сезон студенческих балов. Балы чаще всего проводились в зале атейтининков в конце Лайсвес-аллеи. Этот зал снимали студенты различных взглядов, всевозможные корпорации, в том числе и наши гуманитарии. Собирались студентки — в новых платьях, завитые, с подкрашенными щеками и губами. Играл духовой оркестр, кружились пары, а те, у кого завелись лишние деньги, сидели в буфете, попивая пиво или водку.
На бал я явился еще рано. Студентки робко слонялись у стен, поглядывая на дверь, не появились ли их знакомые или поклонники. В дверях я увидел худощавую фигуру Гербачяускаса в длиннополом сюртуке. Вытянув шею, он шагал на тонких ногах. Подойдя ко мне и взяв меня под руку, он сказал:
— Вот так, так… Пойдем посмотрим на женщин…
Мы кружили с ним по залу. Показав взглядом на какую-то студентку, которая разговаривала с корпорантом, нацепившим на грудь цветную ленту, Гербачяускас заявил:
— Да, да, это вампир… Вампир… У мужчин кровь пьет…
— Кто кровь пьет? — удивился я.
— Эта женщина, вглядитесь, вампир…
— Это студентка с нашего факультета… Она ничего не смыслит в таких вещах… — не согласился я.
— Нет, нет, я вам говорю, это вампир… Если еще не пила, то будет пить… Поверьте… Поверьте… Мне лучше знать! А там, у окна, видите, корова… Да, корова.
— Почему корова? Довольно элегантная девушка.
— Нет, нет, вы ничего не смыслите — корова!
В зале становилось многолюдней. Робкие первокурсники и нахальные корпоранты — неолитуаны, атейтининки и прочие, девушки не только из университета, но и посторонние посетительницы балов. Оркестра еще не было. Какая-то студентка на сцене играла на рояле фокстрот, и первые пары уже кружились на паркете.
— Скажите, профессор, что нового написали? — спросил я У Гербачяускаса.
— Да, да, — охотно откликнулся Гербачяускас. — Сейчас я вам скажу. Да, я написал трагедию, ужасную трагедию…
— Мы увидим ее в нашем театре?
— Что вы говорите? В нашем театре? Боятся… Я им показывал, а они боятся… Все могут сойти с ума, понимаете? И варшавским театрам предлагал… Тоже боятся, понимаете?
— Интересно, почему?
— Да, да, сейчас я вам скажу… Открывается сцена. Танцует скелет, обняв бабочку, и говорят друг другу: «Любовник мой, любовница моя… Любимый мой, любимая моя…» Это ужасная трагедия, понимаете? Ведь можно сойти с ума…
— Послушайте, но это ведь очень смешно… Не понимаю, почему трагедия? Скорее уж фарс…
Гербачяускас вдруг изменился… Он выпустил мою руку, отступил от меня на шаг, его лицо покраснело.
— Вы — хам… Да, да, вы — хам…
— Не понимаю… — пробормотал я, ошеломленный столь неожиданной и резкой реакцией собеседника. Гербачяускас выбежал в дверь, а я, разинув рот, остался стоять в зале, думая, что же я такого сказал. В самом разгаре бала я спустился в подвал, где за столом правление общества гуманитариев угощало профессоров. Я подсел к Гербачяускасу, желая извиниться, но он демонстративно отвернулся от меня. Этого мистика и мага до глубины души оскорбило мое невежество.
В буфете уже хлопали пробки и дымили сигареты. За одним из столиков затянули народную песню, за другим пели модную «Zwei roteLippen und em roter Tarragona».[63] Перед большим бокалом пива сидел крохотный, веснушчатый, рыжий поэт Йонас Коссу-Александравичюс.
— Поэтов прошу на сцену, — ворвался в буфет член правления гуманитариев. — Начинаем программу!
— Еще не все пришли! — откликнулся кто-то.
— Нет, нет, нет, все равно надо начинать…
И распорядитель, собрав нас, ведет за кулисы. Там уже стоят Скабейка, Райла, Инчюра… Коссу-Александравичюс отказывается выступать. Райла читает что-то о горькой доле, о Ниагаре, что бушует в груди, о любовных страданиях и жизни, похожей на ад. Потом Инчюра патетически декламирует что-то о бесплотной любви, и Райла, уже стоя за кулисами, морщится:
— Фе, прогнившая романтика!.. Когда же она кончится?
Наше чтение прерывают сольные номера — поют приглашенные оперные солисты, правда, второстепенные. После их пения никто уже не хочет слушать наших стихов. Не дожидаясь конца, мы уходим в буфет, где правление общества гуманитариев угощает нас пивом.
О, здесь уже и Пятрас Цвирка… И Бронгос Пундзюс…[64] Этот молодой скульптор славится невероятной силой. Недавно он поспорил с певцом Йонасом Бутенасом и оторвал у него рукав совершенно нового фрака. Хотя фрак сшил сам знаменитый портной Римша нитками высшего качества, даже они не выдержали. Цвирка что-то весело рассказывает, студенты смеются. Двое пьяных верзил из-за соседнего столика начинают пускать остроты в наш с Цвиркой адрес — мол, мы не столько поэты, сколько большевички, которым место не здесь; мол, мы слишком много воображаем, а на самом деле мы — такие, сякие… Шут знает, чего они от нас хотят.
— Погоди, — подмигивает нам Пундзюс. — Я им покажу, этим шпикам…
— Я тоже думаю, что это охранники… Хотят спровоцировать, понимаешь? — горячится Цвирка.
Пундзюс уже стоит у столика. Но верзилы выпили и не могут оценить опасности. Один из них обзывает Пундзюса цыпленком и барбосом. Тогда Пундзюс спокойно велит смельчаку встать. Тот встает и кричит:
— Ну что? Пожалуйста… Я стою…
Пундзюс с размаху бьет ладонью его по плечу, и верзила с грохотом падает на пол. Тогда со стула поднимается его друг. Пундзюс бьет и этого. Между тем второй уже встал. Долго не ожидая, Пундзюс бьет второй раз, и франт снова валится. Так он укладывает их по нескольку раз, а те опять встают и снова получают. Наконец смельчаки удирают по лестнице. Пундзюс — бледный, дрожащий от волнения — садится за наш столик и говорит:
— Хотели, вот и получили… Думают, раз служат в охранке, то могут приставать к людям…
— Откуда ты знаешь, кто они такие?
— Раз говорю, то знаю, — коротко отрезает Пундзюс и выпивает рюмку водки.
А мы с Цвиркой на седьмом небе от счастья. Мы сами никак бы не справились с такими верзилами. А тут все кончилось так быстро и чисто, что даже никто не успел позвать полицейского. Но вот проходит минут пятнадцать, и по лестнице с грохотом поднимаются верзилы с полицейским. Тот явно избегает вмешиваться в дела студентов. Мы видим, что он не хочет вступиться за наших врагов. Говорят же, что полиция недолюбливает охранников, которые пользуются различными привилегиями. Выпив предложенную рюмку и сказав, что все в порядке, полицейский уходит. Потрепанные враги не смеют больше приставать к нам и тоже исчезают. Народу в фойе, в зале, в буфете все больше. За уставленным бутылками столом сидят Бинкис, Тильвитис, Блазас.
Вдруг снова грохот. В буфет врывается пьяный жирный студент. За ним — футурист Римидис. Студент вытирает платком окровавленный нос. Кровь на белой манишке и новом смокинге. Раненый кричит:
— Черт подери! Можно сказать, всю Европу изъездил, год в Париже жил, но чтоб на моей родине, в Литве… Как хотите… Раз бокс, так бокс, я бокс понимаю… Но чтоб без всяких правил… Я требую суда чести!.. Суда чести!..
Бледный Римидис, стоя рядом, бинтует платком раненую руку. Он не отрицает, что на самом деле поспорил в туалете с незнакомым щеголем и заехал ему бутылкой в нос. Нос маленький, — бутылка большая, не трудно и попасть…
— Суда чести, я требую суда чести!.. — вопит щеголь, изъездивший всю Европу. — Вот, господин Мишкинис, — узнал он сидящего с Бинкисом. — Прошу вас… И других…
— Повремени, уважаемый, — успокаивает его редактор «Советника крестьян» Бружас,[65] — это не годится. Сперва приди домой, умойся, причешись, смени манишку, а потом можно будет и о суде чести подумать.
Девушки кричат Райле, сидящему за нашим столиком:
— Просим из «Гальки», из «Гальки», господин Райла!
Шум в буфете стихает, Райла встает, поводит плечами, улыбается девушкам, откашливается в кулак, вытирает платком лоб и принимается демонстрировать свое искусство, привезенное из Паневежской гимназии.
В зале уже гремит духовой оркестр, и я ухожу от столика. В дверях стоит знакомая студентка. Я вижу, что ей не терпится танцевать.
В зале жарко, кружатся пары, кажется, собрался весь университет. Худую как щепка девушку энергично кружит вечно улыбающийся студент-англист. Это он, собираясь писать курсовую работу по английской литературе, послал письмо Бернарду Шоу с двумя вопросами: как писатель относится к теории «искусства для искусства» и какие свои произведения он советует прочитать. Ответ пришел быстро — Бернард Шоу писал, что ради теории «искусства для искусства» он не перешел бы даже на другую сторону улицы, а из своих произведений он советовал прочитать все. (Студент позднее уехал учиться в Англию. Увы, он пробыл там недолго. Он начал писать любовные письма английской королеве, на это обратил внимание Интеллидженс сервис и выслал чокнутого студента на родину.)
В зале видны парни в смокингах, с лоснящимися шелковыми отворотами, в отглаженных манишках и жестких белых воротничках, но немало и студентов в домотканых костюмах, с шевелюрами, которые давно не видели ножниц. Танцорки тоже — одни одетые по последней моде, с прическами, уложенными модным парикмахером, а другие в дешевых ситцевых платьях, худые, со впалой грудью. Они целой толпой стоят у стен и радуются, когда их кто-нибудь приглашает танцевать. Их робкие взгляды показывают, как они несчастливы, а красотки все танцуют и танцуют. Губы их улыбаются, глаза сверкают, они то и дело хохочут, — кажется, нет в мире людей счастливее их… Распорядители уже поднимают и выводят какого-то упавшего танцора. Должен быть порядок, сегодня вечером ничто не может испортить настроение!
В подвальчике сидят за столом профессора. Все красотки остались в зале. Профессоров обслуживают лишь официальные представительницы общества гуманитариев, богомолки с постными лицами. Напыжившись, сидит Гербачяускас. Дубас горячо спорит со студенткой, которая только что поставила перед ним тарелку с пирожным. Профессорам скучно.
Когда поднимаешься из подвальчика в вестибюль, слышны доносящиеся сверху душераздирающие звуки оркестра. По лестнице громыхает пьяный студент, бежит парочка, которая ищет укромного уголка для интимной беседы, вниз спускается солидный профессор логики Сеземан — а вместе с ним красивая черноглазая студентка. Я иду в общий буфет. Стол, за которым сидят Цвирка и Райла, окружен студентами. А Цвирка рассказывает:
— Тьфу, чтоб тебя нелегкая… Значит, кошу я сено на том маленьком лугу за гумном, поднимаю голову, смотрю, а там тридцать дирижаблей ровно свиньи хрюкают в сторону Риги — хрю, хрю, хрю… Снимаю шапку, машу, и летчик, как воробей, повертев какую-то гайку, высовывает голову из дирижабля, останавливает дирижабль в небе и спрашивает: «Что там поделываешь, старичок?» — «Хозяйственная работа, говорю, сено убираю. Скоро к нам кавалерия прискачет…»
Чем дальше, тем интереснее становится деревенский рассказ Цвирки, и студенты лопаются со смеху. Я снова подсаживаюсь к ним. Мне никогда не надоедают истории Цвирки.
Потом мы с Пятрасом выходим вместе в вестибюль, и он мне говорит:
— Правда, я получил письмо из Вены, от Казиса… Читал мою «Первую мессу». Снова нам говорит — организуйте журнал. Посылает всем привет… Погоди, куда я это письмо дел?..
— Непременно организуем, — говорю я. — Увидишь. Непременно. Готовь материал. Не успеет наступить новый год, и у нас будет журнал. И будет такой, что все зачихают. И клерикалы, и фашисты! Вот увидишь.
…Да, наша жизнь не ограничивалась книгой, учебой, экзаменами. Мы были молоды, энергия била через край, мы хотели веселиться, дружить, любить. Балы следовали за балами — то в «Метрополе», то в зале на улице Гедиминаса, то в дворце неолитуанов. Балы редко имели идеологическую окраску, на них собирались все студенты. Правда, к тому времени приобрели силу различные корпорации, созданные по образцу корпораций германских университетов. Многим нравилось, что члены их носят фуражки разных цветов.
Меня не привлекала ни одна корпорация. Мне казалось смешным и глупым бегать, напялив разноцветную фуражку, пить пиво с так называемыми комильтонами, выполнять искусственные обряды на собраниях, петь «Гаудеамус» или даже упражняться в фехтовании. Я всегда считал, что это выдумки сынков из богатых семейств, которыми они хотят выделиться из «толпы».
Но танцевать я любил и не пропускал ни одного интересного вечера. Как-то мы с Райлой достали где-то маскарадные костюмы: я — принца или короля Афганистана, а он — паяца, отправились в них на маскарад и вызвали настоящую сенсацию. Поначалу нас никто не мог узнать. Много лет спустя я увидел где-то свою фотографию в дурацком костюме принца и покраснел — такой она показалась мне глупой. Но тогда мы были студентами, и ничто студенческое нам не было чуждо.
Разумеется, у нас были девушки, за которыми мы ухаживали. Обычно это бывали студентки с нашего факультета. Мы провожали их после танцев домой, читали свои стихи, которые они иногда понимали и любили, а иногда по их скучающим лицам было видно, что не это их заботит. Многие девушки жаждали побыстрей выйти замуж, и, едва только подворачивался какой-нибудь олух с доходной службой или просто с капитальцем, они тут же забывали общие мечты…
Настоящей подруги я все не находил. Знакомств было много, но все какие-то поверхностные, неглубокие. Познакомишься с одной — смазливое личико, живой взгляд, непрерывно смеется, а поговоришь с ней — дурочка. Другая серьезная, читает толстые книги, философствует о смысле жизни и считает тебя отсталым человеком, которого надо просвещать.
На одном вечере я познакомился с Линой — высокой блондинкой. Она охотно танцевала, шутила, спорила о литературе, рассказывала о своей жизни. Молодая вдова (во всяком случае, так она говорила), побывавшая в Бразилии, жившая в Сан-Паулу. Все это меня заинтриговало, и я дал ей свой адрес, пригласив зайти, когда захочет. Каким было мое удивление, когда на следующее же утро в мою комнату кто-то постучался. Выскочив из постели, я приоткрыл дверь и увидел — Лина! Она извинилась, что так рано, и сказала, что подождет меня на улице. Я немедленно оделся и вышел. По тротуару ходила Лина — высокая, стройная, улыбающаяся, в широкополой шляпе на белокурых кудрях. Она сказала:
— Вспомнила вчерашнее приглашение и подумала — сегодня же воскресенье. Может быть, погуляем вместе или съездим на пляж.
И впрямь, утро было просто прекрасное — теплое, летнее, и даже на пыльных деревьях нашей улицы щебетали птицы.
Лина еще не успела позавтракать. Мы зашли в кафе Конрадаса и заказали кофе. Потом поехали в автобусе на пляж. День был чудесный. Мы лежали на песке, и Лина, глядя на меня голубыми глазами, говорила:
— …А потом я познакомилась с молодым поэтом…
— С кем?
— Я думаю: когда-нибудь так смогу сказать. Я приехала в Каунас после всех тяжелых испытаний и — встретила его, молодого поэта, задумчивого, печального, и поняла, что должна жить, потому что я нужна ему…
Мне понравились такие речи. Я слушал и просил, чтобы она рассказывала о себе. И Лина рассказывала — как несколько лет назад, совсем еще юной, она влюбилась в боксера, как вышла за него замуж, как ее муж захворал какой-то неизвестной тяжелой болезнью, как она сидела у его постели, а он несколько дней и ночей не выпускал ее руки, потом заснул, и она боялась вытащить руку из-под его головы, чтобы он не проснулся. Наконец он умер (на прекрасных глазах Лины проступили слезы). Она похоронила его и осталась одна в квартире, ходила из угла в угол и боялась, что сойдет с ума. Открыв платяной шкаф, она часами глядела на костюм покойного, на его шляпу, на его боксерские перчатки, и ее охватывал ужас. Но время оказалось сильнее всего, даже сильнее ее слез, бессонных ночей…
Потом она мне рассказывала про свое путешествие в Бразилию. Нет, она не была эмигранткой, как эти бедняки. Плыла на хорошем корабле (кажется, не одна, хоть об этом она и умалчивала), глядела на необъятные водные просторы, думала о своем покойном муже. В Сан-Паулу она жила в семье каких-то мулатов, научилась по-португальски, продавала на базаре цветы, которые разводили эти мулаты…
Истории были просто потрясающие. Но я вскоре заметил, что в них, как говорится, не сходятся концы с концами. Например, рассказ Лины про снег в Сан-Паулу казался не совсем правдоподобным. Даже ее покойный муж походил на выдумку. Но, лежа рядом с ней на песке, слушая ее голос, звонкий прямодушный смех, видя прямой изящный носик, загорелые руки, я чувствовал, что она мне нравится — свободная, необычная, не такая, как мои знакомые студентки.
Целый день мы провели у реки и в лесу, обедали в какой-то закусочной, где нам подали лишь яичницу и пиво. Лина ела с аппетитом, хвалила обед и просила меня читать свои стихи. Я читал, она просила повторить, она-де никогда не слышала таких стихов, — словом, моему восхищению не было предела. Под вечер мы вернулись в город, здесь встретили Пятраса Цвирку, и я представил его Липе. Ей понравился открытый взгляд Пятраса, она шла посредине, взяв нас под руки, и что-то задушевно рассказывала. Потом Пятрас отделился от нас, мы гуляли в садике у театра, снова сидели в кафе Конрадаса, но здесь оказалось душно, и я вспомнил, что дома у меня есть бутылка вина. Когда я предложил зайти ко мне, Лина тут же согласилась. Она сидела, сняв шляпу, простоволосая, и в вечерних сумерках эффектно выглядело ее цветастое платье. Я говорил, как странно, что мы познакомились так недавно, только вчера, а уже стали добрыми друзьями и так много знаем друг о друге. Она тоже говорила, что это прекрасно — ей кажется, что мы созданы друг для друга. Лина пила вино из стакана, который я принес из кухни, смеялась, что это ей напоминает Сан-Паулу, где они обычно пили вино с мулатами в одном ресторанчике, танцевали танго, а потом пели португальские песни. Наступили полные сумерки, но не хотелось зажигать лампу.
Всему приходит конец. Настал конец и нашей дружбе. Не хочется вдаваться в хитросплетения этой истории — достаточно сказать, что дружба продолжалась недолго, но была такой романтичной, что много лет спустя вспоминаешь ее с улыбкой…
РОЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА
Почти каждый день в мою комнатку на Прусской улице заходили то Йонас Шимкус, то Пятрас Цвирка, а то и оба вместе. Йонас приносил письма Костаса Корсакаса из Шяуляйской тюрьмы и читал их. Почти каждый день я получал письма и от Боруты из Вены. Нас было уже немало. Мы чувствовали, что дальше жить без журнала нельзя. Без него, того и гляди, нас засосет литературное и журналистское болото.
Обстоятельства сложились так, что наши друзья, в первую очередь Пятрас, зарабатывали себе на пропитание, лишь сотрудничая в газетах. Служба Йонаса у нотариуса или в налоговой инспекции тоже была столь мизерная, что он день ото дня писал не то, что сам хотел. У меня положение было чуть лучше — теперь я постоянно правил и редактировал книги, брошюры и даже журналы агрономов. Из дому неплохо обеспечивали Райлу, сына зажиточного крестьянина. А в Каунасе, как никогда раньше, расплодилась печать, которую без угрызений совести можно было назвать бульварной или желтой, — «Воскресенье», «День», «Новости дня», «Десять центов» и многие другие газетенки, которые выходили недолго. Чаще всего у них не было твердых политических и моральных принципов. Вокруг них собирались целые толпы «журналистов», которые писали выдуманные сенсации, сочиняли порнографические или уголовные истории, собирали сведения из вонючих закоулков мещанской жизни, даже из гнезд проституции на Неманской улице. Фашистские власти, сковавшие жизнь общества, поощряли такие газетки, и они расплодились в Каунасе, словно ядовитые мухоморы. «Журналисты» и «писатели», которые сотрудничали в этих газетах, одни меньше, а другие больше, зарабатывали и, как говорится, «кормились». Беспринципные журналисты могли очернить любого. На скудные гонорары эти писаки беспрестанно пьянствовали в ресторанах и грязных кабаках.
Однажды, когда я шел по улице, меня подозвал незнакомый человечек — небритый, с одутловатым лицом. Когда я с удивлением подошел к нему, человечек сказал, нахально глядя на меня:
— Лит или в морду…
— В каком смысле? Не понимаю… — пробормотал я. — И кто вы такой?
— Ты меня не знаешь? — удивился человечек. — Меня же весь Каунас знает. Я — провокатор и журналист. Фамилия Поворотникаса тебе ни о чем не говорит?
— Поворотникас? Вроде слышал…
— Он самый! Когда-то я разгонял митинги левых во время выборов. Меня сам ксендз Крупавичюс целовал, посылая на эти митинги. А после выборов в «Литовских ведомостях» шла моя исповедь, только из-за переворота не смогли ее до конца допечатать, — излагал Поворотникас свою грязную историю. — Ну как — лит или в морду?
— А на что этот лит? — не мог понять я.
— Как так, на что? В газете гонорар не платят, а я кто — человек или скотина? Надо мне сходить в столовку пожрать простокваши с картошкой или нет?
Это был, разумеется, совсем опустившийся «деятель», который мог запродать себя даже самому черту, — мелкий винтик в царстве желтой печати. Не все собирали литы таким образом. Но морали в этой компании не было никакой, может быть, только раздутое самомнение — все-таки журналисты…
«Журналистская» трясина со всех сторон окружала талантливых людей, исподволь засасывала их, и они погибали. Много своих сил отдал дешевой печати талантливейший поэт Казис Бинкис, сочинявший однодневные фельетоны в стихах. Окунулся в трясину довольно способный писатель Петренас. Немалую часть времени уделял пустым фельетонам и Тильвитис. В грязное болото медленно уходили и мы — Пятрас Цвирка, Йонас Шимкус… Становилось страшно, что друзья растеряют свои таланты.
И вот наши встречи, письма Казиса и Костаса постоянно напоминали, что в жизни есть цели выше и прекраснее, что нас прежде всего должна заботить настоящая литература. Надо было как можно скорей осуществить свою идею — издать журнал.
Соседи-латыши, как часто бывало в те годы, опередили нас — прогрессивные молодые литераторы у них уже издали небольшой журнал под названием «Трауксме». Мало того. Они следили за нашими произведениями, появляющимися в печати, и целый номер своего журнала посвятили переводам из Цвирки, Якубенаса, Монтвилы, Шимкуса, Боруты, Тислявы. Не так уж часто произведения литовских писателей появлялись на других языках, и этот факт также торопил нас организовать свою группу…
Мы долго думали, как назвать будущий журнал. Возникало множество всяческих проектов, которые мы тут же отбрасывали.
— Друзья, — сказал однажды Йонас Шимкус. — В литовской литературе долго царили всякие романтики, символисты и эстеты. Это был первый фронт. Футуристы составили второй. Не лучше ли назвать свой журнал «Третьим фронтом»?
«Третий фронт»… Это звучало воинственно, приходили на ум битвы и баррикады. Мы с радостью ухватились за это название. Вскоре мы написали в соответствующие учреждения, что хотим издавать подобный журнал. Редактором-издателем товарищи выбрали меня.
Странно сейчас вспомнить, что самому старшему из нас тогда, Казису Боруте, стукнуло двадцать пять лет. Шимкусу и мне было по двадцать четыре, а Цвирке, Корсакасу и Райле — всего лишь по двадцати одному году.
Начались «установка платформы» и подготовка «манифеста». Множество раз мы писали, правили и снова переписывали передовицу первого номера, в которой надо было изложить наше «кредо». Литературный, а тем более политический опыт у всех из нас был менее чем скудный. Осудив символистов, эстетов и представителей «Четырех ветров», мы, увы, не сумели сразу же отказаться от их крикливого стиля — наш манифест был составлен из звонких, смелых, но не всегда продуманных фраз, написанных буквами различной величины (потом их так же должна была набрать и типография; мы много мучились с этим, но в результате получилось настоящее произведение графического искусства). Мы писали:
«Наш критерий, наша эстетика, наше стремление, наша тактика — это здоровый, живой, молодой, борющийся литовский парень, который с мозолистыми руками, с варварской, но прекрасной, бунтарски могучей душой, полный здоровой жизни, рабочего пыла, истинно гуманной любви и чувства коллектива, идет в башмаках своей работы завоевывать землю, права и свободу.
Тысячи подобных парней сейчас обрабатывают пашни и кладут в городах кирпич на кирпич: они строят новую Литву, они живут и чувствуют, они тоскуют о живой и человеческой жизни».
Эти слова, как и весь наш манифест, вызвали в литовской и даже нелитовской печати всех направлений множество откликов, споров, обвинений, поношений, похвал, оправданий, признаний и отрицаний.
Парень? Откуда этот парень? И почему это он должен был стать нашим критерием, эстетикой, стремлением, тактикой? Без малейшего сомнения, он появился из поэзии Боруты, из его статей и писем. Этот парень был противопоставлен убожеству буржуазной жизни, стертым романтическим и символическим литературным штампам, всему тому, что мы ненавидели, что презирали, с чем хотели бороться. Без сомнения, парень бросал вызов и клерикалам и фашистам. Вдобавок мы спорили с журналом «Разрез», изданным недавно Пятрасом Юодялисом, Йонасом Коссу-Александравичюсом и другими, который старался создать буржуазные традиции.
Сейчас, по прошествии нескольких десятков лет, более чем ясна нам наивность манифеста — как политическая, так и эстетическая. Но тогда это казалось естественным поворотом, уходом от царившей в нашей литературе салонности, замкнутости, гладкого эстетства.
Гранки манифеста мы послали Казису в Вену, и он одобрил его. Кажется, гранки получил и Костас в Шяуляйской тюрьме. Так или иначе, наш давно задуманный журнал родился. Цикл Казиса «Стихи о Балтике», мой рассказ «Человек между пилами», стихи и рассказ Пятраса «Как волостной старшина проводил дороги», «Инвалид с граммофоном» Э. Эрики (Боруты) — зарисовка из жизни европейского пролетариата, «Марш активистов» и статья «Возрождение реализма» Шимкуса, стихи Корсакаса, подписанные псевдонимом «Гелвайнис», и его же статья, подписанная именем Раджвиласа, статья Райлы о необходимости вывести нашу литературу за пределы Литвы, острые заметки о враждебной нам печати, хроника — вот почти весь первый номер журнала. Правда, мы поместили еще «смехопев» Пранаса Моркунаса — стихотворение из одних веселых неологизмов. Мы его напечатали в качестве «любопытного формального эксперимента». Звучало оно так:
хладореком зимьим обосвищен небодралом мчу распорья колесует колесатое солнище серебрует среброокое зиморье ………………………………………… наштануй дрожелюб тряпкует шмых хихиховствую чертухаем кончинный горовик мя не обсел яя крепач тар-pa татаПечатать журнал мы договорились в типографии «Райде». Она почему-то нам казалась ближе и приятнее других — может быть, потому, что здесь работали лево настроенные рабочие. С другой стороны, здесь мы договорились расплатиться за журнал после того, как он будет издан и распродан.
Теперь из комнатки на Прусской улице мы перебрались в типографию. Как интересно было смотреть на наборщиков, которые вручную набирали наши статьи! Как замечательно было чертить на конторском столе макет каждой страницы, думать, как бы пооригинальнее расположить заголовок, какой шрифт подобрать для поэзии, прозы и критики. Целыми днями не выходил из типографии Цвирка — наш художник. Он придумал и обложку для первого номера — круг, в котором разбросаны фамилии сотрудников. Эти фамилии, набранные в типографии, он вырезал и, подклеив, отнес в цинкографию. Посасывая сигарету, Райла тоже торжественно расхаживал по типографии и давал указания то одному, то другому рабочему.
Наконец номер был сверстан. Настало время, когда он, после всех корректур, отправился в плоскопечатную машину; а в одно прекрасное утро мы увидели уже готовый журнал в розовой обложке. Охваченные небывалой радостью, мы десятки раз листали его страницы, находя на них и опечатки, и смысловые неувязки, и массу других недостатков. Некоторые вещи сильно пострадали от цензора капитана Вилутиса, которому типография регулярно посылала набранный материал. Цензура пропустила лишь половину моего рассказа «Человек между пилами», — вторая половина, в которой изображалось, как выведенные из терпения рабочие суют меж пил жестокого владельца фабрики, была вымарана. Стихи Боруты были напечатаны без фамилии автора — вместо нее стоял прочерк. Пострадали и статьи — сильней всего, кажется, «Проповедь братьям» Раджвиласа. Но все-таки осталось много — остались главные наши усилия, остался журнал, остался «Третий фронт».
Еще перед выходом первого номера Борута писал мне: «…Сегодня прочитал, что «главный редактор» (цензор) так черкает, что даже журнал может задержаться. Беда, но что поделаешь. Бывали времена похуже: русская литература выросла в не лучших условиях, так что нам пугаться нечего, надо делать свое дело».
Товарищи посылали свои отзывы о журнале.
«Никогда я не думал, что дождусь такого журнала, — писал Костас Корсакас. — Особенно в отношении общего охвата. Что ни говори, «Третий фронт» не отстает от европейского уровня по своему виду. О содержании я пока еще не могу ничего сказать. Слишком уж свежие впечатления.
«Третий фронт должен оказаться журналом, который выведет нашу литературу в широкий мир».
В редакцию приходили письма из разных городов Литвы. Оказалось, что многим понравился «Третий фронт». Многие хотели не только читать, но и распространять его среди друзей.
Дела нашего коллектива поправились. Шимкус недавно издал новую книгу стихов «Цементные сказки». Вскоре должен был появиться «Варвар кричит» Райлы. Самое большое издательство тех лет, «Снаудос фондас», взялось напечатать первый сборник рассказов Цвирки «Закат в Никской волости». Я тоже собирался издать первую книгу прозы. Так что поводов для радости было немало.
Появились первые отклики о «Третьем фронте» в печати. Многие приветствовали новый журнал. Но, пожалуй, было больше тех, кто нападал на нас — злобно или свысока. Одним из первых выступил критик «Четырех ветров» Шименас.[66] В театральном листке появилась его статья, в которой этот давно забытый критик называл нас недорослями, плохими наследниками «Четырех ветров», издевался над нашим желанием учиться. В «Студенте» Блазас, назвав нас «заблудившимися в литературе», вещал: «Как будто для литературы важна тема, о которой пишут, идея, которую пропагандируют, мысль, которую высказывают. Для литературы не важно «что?», а важно «как?», особенно для современной литературы, например на Западе, где мысли не стесняют и где содержание не может вызвать революции в литературе». После подобных рассуждений нам стало не по себе: как мы «философа» подобного толка пустили в свой журнал со статьей, которую он подписал псевдонимом?
Но острее всех атаковал «Третий фронт» Казне Пуйда.[67] Он написал рецензию, в которой утверждалось, что мы, «прикрывшись литературной формой», «протаскиваем большевизм». Обвинения старого литератора, который в последние годы сильно склонился к фашизму, нам показались опасными. Ведь легче легкого обвинить журнал в большевизме и закрыть его. А закрытия мы хотели избежать. Поэтому решив обратить на это дело внимание общественности, мы призвали Пуйду на суд чести. Почувствовав, что он не сможет доказать своих обвинений (мы в то время и впрямь были далеки от большевизма), Пуйда извивался словно угорь, не желая принять наш вызов. В конце концов, увидев, что этот господин трусоват и не отвечает за свои слова, мы махнули на него рукой.
Невероятно злобную, истеричную статью против «Третьего фронта» напечатал и Гербачяускас.
Вызывало тревогу состояние Казиса и Костаса. Казис писал из Вены: «Вчера кончил дело с университетом. Есть надежда, что мы сможем печататься по-немецки. Мы только тогда станем настоящими писателями, когда проникнем на иностранные языки. Одиночество и чужие люди мне осточертели. Вы так быстро идете. Поздравляю, Антанас! Ведь когда-то не зря мы говорили об этом на берегах Шешупе».
Из Шяуляйской тюрьмы до нас доходили вести, что здоровье Корсакаса сильно пошатнулось и что ему угрожает судьба многих талантливых литовских писателей — туберкулез. Надо было искать способ вызволить его из тюрьмы. А как это сделать? Хорошо, что его имя знали не только мы, — Корсакасом уже интересовались видные писатели старшего поколения…
На обложке «Третьего фронта», не считая тех сотрудников, которые на самом деле участвовали в журнале, мы поместили на всякий случай фамилии других прогрессивных молодых писателей — Витаутаса Монтвилы, Казиса Якубенаса, Казиса Келы.[68] Двое первых сидели в Каунасской тюрьме. Кто-то сказал, что Монтвила считает наш журнал несерьезным занятием, хотя позднее я получил от него письмо, в котором он выражал желание сотрудничать. Якубенас дал только одно стихотворение. С Келой мы тогда вообще не были знакомы.
Примерно в то же время я познакомился с Юозасом Тислявой. Вернувшись из-за границы, он появился на балу, который устроил по случаю своих именин редактор «Мира молодых» Беляцкас. Тислява оказался веселым, простым человеком, рассказывал истории о Париже и своих знакомых. Высокий и сухощавый, старше меня года на четыре, он ходил в длинном черном пиджаке, похожем на фрак, с элегантной тросточкой под мышкой, в холодные дни он надевал белый шарф и перчатки. Я вспомнил, что уже видел Тисляву на литературном вечере в Каунасской ратуше. Тогда он читал свои стихи — звонко, задрав красивую голову, прищурив глаза. Он декламировал так непринужденно и прекрасно, что я это запомнил надолго. Мелодичные стихи Тислявы звучали крылато — казалось, они взмывают в воздух и летают, словно стрижи.
Теперь, когда представился случай познакомиться, Юозас Тислява привлек меня своей доброй, простодушной улыбкой, своей искренностью и оглушительным смехом, который, кажется, исходил из глубины души. Мы начали встречаться — то на Лайсвес-аллее, то в каком-нибудь кафе. Он интересовался «Третьим фронтом», хотя и раскритиковал первый его номер в газете «Эхо Литвы».
Юозас Тислява тогда был одним из самых известных поэтов. Его стихи легко запоминались, им делали рекламу не только газеты и критики, но даже и пародисты. Тислява славился еще тем, что еще тогда пользовался самолетами, хотя они были крохотные и несовершенные. Мы читали в газетах, что поэт Тислява прилетел в Каунас из Риги или улетел куда-то на край света, как нам казалось, — в Таллин.
Однажды я спросил у него, как ему живется в Париже. Тислява ответил:
— Поэты долгов не отдают…
В тот же день он попросил у меня в долг десять литов. В то время я испытывал денежные затруднения и ответил:
— Поэты в долг не дают…
Тислява рассмеялся и сказал:
— Ответ, достойный поэта…
Как-то мы с Тислявой, Цвиркой и Шимкусом оказались в ресторане «Свобода». Особенными любителями спиртного мы не были, разве что заходили выпить бокал пива. На этот раз мы попали, как говорится, с корабля на бал. Оказалось, что небольшой поэт и порядочный озорник Юозас Микуцкис[69] празднует свой день рождения. Когда мы вошли в отдельный кабинет, официанты уже вкатывали в него бочонок пива. Микуцкис сидел в одиночестве и страшно обрадовался неожиданным гостям (кажется, он ждал только одного Тисляву), велел откупорить бочонок и начал нас угощать. Из бочонка на пол крохотной комнатки натекло столько пива, что мы, помню, промочили ноги. Микуцкис был человеком не первой молодости, разговорчивым, шумным.
Вскоре стало жарко, он снял военный мундир и повесил его на стену. В дверь заглядывали знакомые и незнакомые люди, а хозяин смеялся и рассказывал нам разные истории. Не успев кончить свой рассказ, Микуцкис обнаружил, что на стене нет его мундира. Он бросился в ресторан, но и там мундира не оказалось. Только на улице он увидел, что в его мундире спокойно разгуливает провокатор и журналист Поворотникас…
Посмеявшись до слез, мы вышли с Тислявой на улицу.
— Уф! — Его даже передернуло. — Не люблю пить, а тут, как нарочно, угодили к одному из главных пьяниц Каунаса. И все, гад, смешивал пиво с водкой…
На улице Донелайтиса Тислява вдруг сказал:
— Чего бы мне теперь хотелось — это зайти и поговорить с приличными девушками. Ты не думай, я серьезно. Если есть у тебя знакомые студентки, зайдем. Такое, знаешь, у меня лирическое настроение…
Я вспомнил, что неподалеку живут две симпатичные студентки с нашего факультета. Когда мы постучались, они открыли дверь, обрадовались и удивились. Их, скромных студенток, почтил своим посещением знаменитый поэт Тислява. Однако не успел я представить Тисляву своим знакомым, как тот сел и тут же заснул, — видно, пить он не умел. Извинившись перед студентками, я с трудом увел его. Едва мы прошли несколько шагов, как Тислява сказал:
— Я слишком много выпил… Знаешь, страшно хотелось бы сельтерской…
Мы уже подошли к главному зданию университета.
— Здесь, в подвале, буфет. Зайдем.
Мы зашли. Студентки забегали, узнав Тисляву, а я снова начал его представлять сам. Пока я достал и принес сельтерской, вижу — мой товарищ снова спит за столом и студентки озабоченно смотрят на меня…
Я отвел Тисляву в закопченную комнатку гостиницы «Рим». Тислява извинился передо мной, сказал, что ему вообще не стоит пить, потом предлагал почитать какую-то французскую книжку Жана Кокто. Он разделся и лег, а я собрался было уходить. Но в постели моему товарищу стало лучше, и он начал рассказывать, какой прекрасный поэт Артюр Рембо, стал декламировать его «Пьяный корабль»… Потом спросил, кем я считаю его, Тисляву, — подонком или хорошим поэтом.
— Если б я тебя считал подонком, я бы с тобой сегодня не ходил и не поднимался сюда, на четвертый этаж.
— Поэт должен себя считать гением! — сказал Тислява. — Ему наплевать на то, что думают о нем другие. Но мне приятно, что ты меня считаешь поэтом, а не подонком. А ваш журнал — хороший. Вы не подумайте, я сочту за честь в нем участвовать. Как-то я с Тислявой сидел в буфете во время какой-то студенческой вечеринки. Мы разговаривали о поэзии, о Париже; он рассказал мне о своей дружбе с братом Айседоры Дункан Раймондом и еще какие-то интересные вещи. Между тем за столик сел студент Антанас Шатас. Я представил его поэту как своего друга.
— Вот видишь, — сказал Шатас, прервав рассказ Тислявы. — Вот поэт Тислява, не кончивший даже начальной школы…
— Замолчи, — ткнул я Шатаса в бок.
Прошло несколько минут, и Шатас снова принялся за свое: — Вот видишь, Тислява, можно сказать, безграмотен, а…
— Замолчи, — зашептал я, — не надо!..
Но Шатаса никак нельзя было унять, и Тислява наконец сказал:
— Чего он от меня хочет, этот тип?
Я швырнул рюмку в Шатаса, но тот проворно нагнул голову, и рюмка ударилась о стену.
— Черт подери! — крикнул Шатас. — Не дают мне кончить. Я хочу сказать, что даже без начальной школы — если поэт гений, то гений, и все…
Тислява улыбнулся.
— Да, да, а ты напрасно, — сказал он мне. — Мог же покалечить дружка. Всем было бы неприятно.
Пришлось извиняться перед обоими — и перед Шатасом, и перед Тислявой.
Однажды Тислява мне сказал:
— Слыхал, что я собираюсь жениться?
— Слыхал, но не хотел верить.
— Почему? Я женюсь. Партия хорошая, все в порядке. Но я тебе скажу откровенно — с женой жить я не намерен.
— Странно. Зачем тогда жениться?
— Так уж получилось. Уезжаю в Америку.
Уехав в Америку в 1931 году, Тислява никогда уже больше не вернулся в Литву. Иногда через знакомых он передавал мне привет — говорят, он продолжал интересоваться моей жизнью и работой. К сожалению, мне так и не пришлось больше увидеть этого интересного человека и своеобразного поэта.
(Мог ли я думать, прощаясь с Тислявой, что много лет спустя я буду стоять в Вильнюсе, в зале Союза писателей, у урны с его прахом и говорить прощальную речь, когда мы провожали его на кладбище Расу, где после войны я похоронил столько друзей и товарищей?)
…Не обращая внимания на критиков и поношения врагов, радуясь поддержке друзей, мы готовили второй номер «Третьего фронта». Он вышел весной 1930 года. Получился он и толще и интереснее первого. Рассказы Шимкуса, Цвирки, Билюнаса, статьи Корсакаса, Боруты, Райлы, заметки о литературе и искусстве и новость, которой не было в первом номере: обзор иностранной литературы, статьи о И. Р. Бехере, о советском литературном журнале «Леф», о русских конструктивистах, о «Тихом Доне» Шолохова. Наши горизонты расширялись.
Цензор Вилутис, как и раньше, не щадил нашего журнала — он марал почти каждую страницу, доходило до курьезов. Например, из строчки стихотворения Боруты «Так тихо, тихо, ветер в Каунасе свистит» он, охваченный непонятным ужасом, вычеркнул слово «в Каунасе».
Казис весной писал, мне: «Подал в биржу труда прошение о предоставлении работы. Неплохо было бы пробыть какой-нибудь месяц на фабрике, но вся беда в том, что туда попасть труднее, чем получить аудиенцию у Гинденбурга… Возвращаться в Литву пока не хочу» (здесь ему угрожала тюрьма).
Меня обрадовали слова его другого письма: «В третьем номере «Третьего фронта» я непременно напишу о Маяковском, а может быть, о Блоке, Есенине. Раньше я не любил Маяковского, а теперь это мой любимый поэт». (На днях, 14 апреля, Маяковский покончил самоубийством. Это известие, которое я прочитал в каунасской газете среди незначительных сообщений, ошеломило меня. Мы почтили великого поэта в «Третьем фронте», опубликовав его автобиографию и переводы стихотворений.)
А вот Казис снова пишет о Саломее Нерис: «Насчет Саломеи я полагаюсь на тебя. Как ты решишь, так будет лучше. Вообще-то она написала мне восторженное письмо».
Скорее всего, тогда мне еще не казалось, что Саломея Нерис сможет порвать с тем путем, которым она до тех пор шла, и пойти с нами. Переписка, которая привела поэтессу в «Третий фронт», началась несколько позже.
Была теплая, солнечная весна. Нас мучила совесть — мы с Райлой видели Альпы, а не видели Литвы. И в начале июля мы втроем — Цвирка, Райла и я — выбрались в путешествие по Литве.
ПО ЛИТВЕ
Когда я вспоминаю это путешествие, у меня перед глазами встает жаркое солнце, пути-дороги, густые леса, озера, деревни и городки — и все словно выплывает из далекого сна, полуреального и полуфантастического. О многом, что случилось в этом путешествии, не стоит рассказывать — мало ли после этого было более интересных и необычных путешествий! Но его трудно забыть — неужели забудешь свою первую любовь?
Дайнавский край… Алитус, Мирославас, озера Обелия, Мятяляй и Дуся. Мы идем пешком по убогим деревням с соломенными крышами, по длинным улицам старинных сел, с обеих сторон обсаженных зелеными садиками. В деревнях, где говорили на напевном дзукийском наречии, поражали доброта людей и их радушие. Идешь но полю, спросишь дорогу у встречной женщины, а она, глядя на нас как на своих сыновей, непременно ответит:
— Цветочек ты мой… — И только потом начнет объяснять, куда сворачивать.
Зайдешь в избу с подслеповатыми окошками, в которой гудит тысяча мух и пахнет свежим сыром, сядешь на скамью, смахнешь пот с лица, — хозяйка дома уже несет горшок с молоком и горбушку черного хлеба, — видно, другого нет.
— Ешьте, гости дорогие…
А красив этот край чрезвычайно! Холмы и пригорки еще живописнее, чем у меня на родине. На этих пригорках волнуется невысокая рожь, а в ней удивительно горит дикий мак и синеют васильки; вдали белеют поля седой гречихи! Сильнее бьется сердце, когда с холма открываются голубые озера, которым, кажется, нет ни конца, ни края. Целый день бродишь по берегу, плаваешь и отдыхаешь на песке, и тебя охватывают удивительный покой и радость.
Кое-где женщины жнут серпами рожь, полусгоревшую на солнце. Нам, пришельцам из края, где убирают косами, это кажется странным — как будто мы внезапно оказались в другой эпохе, на другом краю света.
Сейрияй, старинный парк Лейпалингис…
(Уже после второй мировой войны я снова оказался в этом укромном местечке Дайнавского края. Я страшно обрадовался и удивился, снова встретив старенькую мать художника Мечиса Булаки,[70] которая узнала меня и сказала:
— Был с вами такой веселый… Пятряс Цвирка… — Был, — печально ответил я. — Нет уже…
— Знаю, знаю, — откликнулась старушка. — Сынок рассказывал. Чего же он умер? А какой молодой, веселый был! А этот третий — где он, жив еще?
— Жив, — ответил я. — Далеко он от Литвы…
Эта старушка когда-то уложила нас, как детей, в своей избушке, угощала и благословляла, когда мы уходили. И как приятно было столько лет спустя снова поцеловать ее добрую, материнскую руку…)
Около Друскининкай, выйдя к Неману, мы дышали речной прохладой и глядели в сторону демаркационной линии, куда мы не могли попасть. Люди рассказывали, что в Друскининкай часто приезжает из Варшавы Пилсудский и, сев на берегу Немана, долго глядит на Литву, слушает литовские песни и то ли тоскует по ней, то ли мечтает присоединить ее к Польше.
Лишкява… Древний замок, отважные люди… Теперь это маленькое обшарпанное местечко, где перед домами греются на солнце старички. В лавке жалобно жужжат прилипшие к липучке мухи. Мы пили теплое прокисшее пиво, а местные татары, зашедшие купить табаку, смотрели на нас с удивлением, не решаясь заговорить.
Но если крестьяне сами не заговаривали с нами, то Пятрас непременно сам задавал веселый вопрос или острил. Райла уже который день жаловался на неудобства и все приговаривал:
— Эх, на автомобиле куда бы лучше…
На дорогах вообще не было видно автомобилей. Очень редко по шоссе проносилась машина какого-нибудь начальника или крупного спекулянта. Не было даже автобуса. Изредка проезжал на велосипеде учитель или начальник участка.
— Это вам не Западная Европа, — издевался Пятрас.
Зато дорога каждый день вознаграждала нас интересными видами. Чего стоит одна деревня Пярлоя! Несколько сотен изб, длинные улицы, костел, как в городе, а все-таки это деревня. И очень своеобразная деревня. Когда-то она прославилась тем, что ее жители организовали «собственную» республику, вооружились пулеметами и несколько дней не пускали ни литовской, ни польской власти. Еще далеко от Пярлои мы слышали советы:
— Когда войдете, здоровайтесь с каждым встречным. А то вас еще поколотят и выгонят из деревни.
Так оказалось на самом деле. Мы здоровались с каждым — стариком и ребенком, и каждый вежливо отвечал нам, снимая шапку.
Тогда, в 1930 году, таутининки решили отпраздновать юбилейный год Витаутаса Великого. Был такой юбилей — 500 лет со дня смерти князя Витаутаса. Кто-то решил торжественно носить по всей Литве его портрет (портрет сопровождали два не всегда трезвых щеголя-неолитуана, с которыми я когда-то служил в Министерстве сельского хозяйства). Кроме того, во многих местах водружались цементные памятники Витаутасу. На площади в Пярлое тоже возвышался Витаутас, а по лесам вокруг него ходил художник Пятрас Тарабилда.[71] Увидев нас, он страшно обрадовался и стал жаловаться:
— Ребята, я голоден как волк! Не найдется ли у вас несколько литов?
— Так ты же автор памятника! Сам должен нам выставить хороший обед, — сказал Цвирка.
— Автор-то автор, — сказал Тарабилда, — чистая правда, что автор. Приехал посмотреть, как движется дело, и думал, получу гонорар от настоятеля — он здесь глава юбилейного комитета.
— Получил?
— Получишь! — возмущался художник. — Прихожу к настоятелю, вижу: сидит он и картошку чистит, сидит себе и чистит. Хоть бы встал, руку подал, за стол пригласил… Я уже слышал от местных, что за крещение, свадьбу и похороны он берет у них векселя, а потом пускает хозяйство с молотка… Верить не хотел. Настоятель стал меня спрашивать, сколько стоит в Каунасе приличный дом, — хотел купить. А когда я намекнул на гонорар, едва на меня собак не спустил. Даже ночевать не пригласил — пришлось проситься в дом к добрым крестьянам… — рассказывал художник.
— Вот и готовая новелла, — рассмеялся Цвирка.
В эти дни Пятрас, как всегда, отличался весельем и остроумием. Меня поражало, как быстро он умеет завязывать знакомства и даже дружбу с людьми, которых видит впервые в жизни. В каждом городке, где мы только ни появлялись, тотчас же собиралась молодежь, желающая увидеть молодых писателей, произведения которых она уже читала. Пятрас не разлучался с записной книжкой, в которую он аккуратно заносил услышанные рассказы, интересные изречения, характеристики людей. В дороге мы встречались не только с молодежью — нами интересовались и бургомистры, и начальники полиции.
1930 год был годом расцвета литовского фашизма. Густая полицейская сеть следила за порядком и спокойствием, власти продавали с торгов бедные хозяйства, крестьяне уезжали в Бразилию на поиски работы и хлеба, в каждом местечке слонялись толпы безработных. Я думаю, что эта первая большая поездка по Литве дала много материала для рассказов и романов Пятраса, особенно для «Земли-кормилицы» и «Повседневных историй».
Через Вевис, Кайшядорис и Укмерге мы добрались до Паневежиса и остановились у врача Андрюса Домашявичюса, старого революционера и друга Винцаса Мицкявичюса-Капсукаса. Невысокий врач с норвежской бородкой, по-видимому, хотел убедиться в том, кто мы такие и к чему стремимся. Он расспрашивал нас о «Третьем фронте», о его сотрудниках, о направлении и целях. Насколько помню, врач не пытался уговаривать или критиковать нас — мы были его гостями, и он относился к нам чутко, вежливо, как и его дети, примерно наших лет.
В Паневежисе мы посетили и художника Бернардаса Бучаса, будущего мужа Саломеи Нерис (тогда они были еще не знакомы). В своей мастерской он угостил нас вином, привезенным из Италии. Когда мы откупорили бутылку, вместе с вином в бокал Райлы выпало несколько мух. Он выудил их кончиком ножа, а вино с удовольствием выпил.
— Подарок Муссолини Литве, — смеялся Цвирка.
В Аникшчяй мы жили у директора прогимназии, старого педагога и литератора Матаса Григониса.[72] Ему только что доставили журнал таутининков «Руль», в котором была помещена еще одна ругательная статья против «Третьего фронта». Спали мы у него на гумне, на сене, и это было просто прекрасно…
В Аникшчяй мы побывали и у Антанаса Венуолиса.
Наконец посреди зеленых полей и лесов засверкали прохладой зарасайские озера.
— Вот где я хотел бы пожить, — сказал Пятрас после катанья на лодке.
К сожалению, в Зарасай Пятрас неожиданно захворал. Кое-как добравшись до Йонавы, мы уложили его в обшарпанной гостинице. Я ушел на поиски лекарств. Назавтра он почувствовал себя лучше, но пускаться в дальний путь было опасно, и мы вернулись в Каунас.
Многие подробности этого путешествия уже изгладились из памяти, но по сей день живет в ней разнообразный, невыразимо прекрасный пейзаж. Перед глазами стоят люди — хорошие и бедные; богатые усадьбы кулаков, лачуги местечек, базары, костелы, безработные.
Осенью мы издали третий номер журнала. Я писал в нем о нашем путешествии:
«Солнце. Пыльные дороги. Убогие лачуги.
…И всюду поля кишат людьми. Эти люди встречают гостей распростертыми объятиями, угощают хлебом, отрывая его от своего рта. Сквозь запыленные окна в лачугу едва проникает дневной свет.
…Руины поместий. Обнищавшие городки. Каменистые розовые холмы, зеленые боры — и всюду люди, склоненные под давящей нищетой… Литовская деревня погрязла в темноте. Она забыта всеми, кто из нее вышел. Сыновья многих крестьян стали господами в городе и домой возвращаются только отъесться, когда устают от пьяного житья. Потом они уезжают, и под соломенными крышами все идет по-старому.
Как было тридцать — пятьдесят лет назад, как было еще раньше.
Люди боятся привидений, боятся чертей, ксендзов, судебных приставов и прочих господ. Перед одними они крестятся, перед другими — кланяются и целуют им руки.
Но каким бы печальным ни был вид нынешней Литвы, ничто не стоит на месте. Даже обомшелый камень, смирно лежавший веками, начинает двигаться.
Литва тоскует по светлому будущему.
Литва призывает нас посвятить все свои молодые силы борьбе за будущую жизнь нашей земли, вложить всю энергию в активное строительство новой жизни, в борьбу за свободу и светлые дни мрачных лачуг».
Эти слова, пожалуй, довольно ярко характеризуют то, что мы увидели в своем первом путешествии.
Вернувшись из путешествия домой, в родную деревню, я много часов провел над рукописями. Надо было непременно кончить первый сборник рассказов. Если уже вышла книга Цвирки, то должна появиться и моя! Правда, многие рассказы мне не понравились. Слабые рассказы я повыбрасывал. Отпал и заголовок «Человек между пилами» — цензура пропустила лишь первую половину этого рассказа. Я думал и так и сяк — ничего путного не приходило в голову. «Счастливый человек Цвирка, — думал я, — он начинает писать лишь тогда, когда уже есть название. Оно задает тон, и рассказ катится сам собой. И заголовки у него поэтичные, и свою первую книгу прозы он назвал интересно и ново».
Вдруг в один прекрасный день в Трямпиняй появился Пятрас Цвирка. Как обрадовались мы с братьями! Он понравился им своей разговорчивостью — совсем не похож на Казиса Боруту, который приезжал ко мне тем летом. Тот скажет слово и молчит, сидит и о чем-то думает… А Пятрас все говорит и говорит, и о Каунасе, и о нашем путешествии, и о своей родной деревне…
В один жаркий день мы с ним взобрались на Часовенную горку и, вытирая пот, уселись на старых пнях. Пятрас поднял голову, посмотрел на исполинские березы, растопырившие ветви в голубом небе, и сказал:
— Ты все не находишь названия для своей книги? А вот тебе название — хватай обеими руками, и все!
— Какое же? — удивился я.
— «Березы на ветру»! Я уже раньше на них смотрел, когда ветер дул. Они наклонились над обрывом… Как наши интеллигенты… Да и вообще у вас много берез.
— Спасибо тебе, Пятрас! — обрадованно воскликнул я. — Лучше и не придумаешь. Да и вообще береза — красивое дерево. Я сызмальства страшно люблю березы.
Пятрас расхохотался:
— Как видишь, и Пятрас Цвирка кое-что смыслит… А облить название придется.
— Непременно, как обливали весной твой «Закат». Снова поедем к Пиюсу в Кармелаву.
— Смотри у меня! А теперь пойдем искупаемся в твоем знаменитом озере. Переплывем и мы его, как свиньи…
Я принялся рассказывать — наше озеро-де раньше было куда больше, но помещик решил осушить свои луга, выкопал канаву и спустил метра два воды в реку.
— Не оправдывайся, — смеялся Пятрас. — Я говорю об озере не о таком, каким оно было в древности, а о таком, каким вижу сейчас. Нет уж, братец, это тебе не Обелия и не Дуся! А побродили мы с тобой славно. И хорошо сделали. Какой из тебя, черт подери, писатель, если ты вдоль-поперек не исходил своей страны!
В воскресенье я познакомил Пятраса с окрестной молодежью — приехавшими на каникулы студентами, гимназистами, друзьями детства.
Вечером мы задержались на вечеринке и возвращались домой на телеге. Вместе с нами ехали две красивые девушки, которые всю дорогу пели, а мы подтягивали своими неумелыми голосами.
Была необыкновенно теплая ночь. Над полями горели тысячи крупных звезд, поля пахли скошенным клевером. Это была одна из тех ночей, которые заставляют человека мечтать и надолго застревают в памяти, оставляя в душе теплые воспоминания. Телега подвезла нас к дому, мы попрощались с девушками, которые уехали дальше. Стоя у ворот, мы долго слушали их пение, которое смолкало в ночи…
— Какие прекрасные девушки!.. И ночь-то какая, — сказал Пятрас, когда мы, минуя садик, вошли во двор. — И спать не хочется.
Мы легли на сене и долго еще, разговаривали обо всем — о молодости, красоте, любви… Мы разговаривали о любимых книгах, о странах, которые собирались увидеть…
* * *
В это лето, еще перед нашим путешествием, произошла своеобразная сенсация — в Литву приехал Константин Бальмонт. Когда-то он был чуть ли не самым популярным поэтом России. Уехав после революции за границу, он поселился в Париже и продолжал издавать книги, которые были хуже прежних.
Где-то около 1927 года поэт стал сильнее интересоваться Литвой, ее писателями и литературой. Раньше, еще в бытность свою в России, он перевел на русский язык немало литовских песен, а одно стихотворение посвятил Юргису Балтрушайтису[73] («Ах ты, Юргис, гордый Юргис…»). Многие литовские писатели, в первую очередь Сруога, любили творчество Бальмонта. Получив во Франции от Тислявы учебник, Бальмонт выучил литовский язык и начал читать в оригинале произведения наших писателей. Установив переписку с некоторыми из них, особенно с Лгодасом Гирой, он стал переводить их стихи и писал статьи против панской Польши в защиту Литвы. Подобная позиция поэта показалась полезной литовским властям, и они начали помогать ему через свое посольство в Париже. И вот Бальмонт — в Литве.
Кажется, первого июля я вместе с другими каунасцами пришел в Летний театр — деревянный барак, построенный рядом со зданием театра. Здесь собрались не только любители сенсаций. В первом ряду восседали три министра, никогда еще не посещавшие литературных вечеров, да и вообще не интересующиеся литературой, — министры иностранных дел, просвещения и внутренних дел. На сцене показался поэт, небольшого роста, длинноволосый человек в куцем и тесном пиджачке. Корреспондент журнала «Новое слово», который на днях брал интервью у поэта, следующим образом описал его внешность: «Старик, который сидит сейчас передо мной, своим белым лицом, обросшим редкой бородкой, длинными, распущенными волосами, которые словно ореол окружают его лицо, взглядом голубых глаз похож на солнышко, такое, какое мы с детства привыкли видеть в сказках: старое, доброе и улыбчивое». Мне лично Бальмонт не показался ни слишком старым, ни слишком добрым. Скорее уж он выглядел усталым, опустившимся, замученным эмиграцией. В начале вечера он сказал фразу по-литовски, почему-то не соединяя звуки в слова. Потом читал свои старые популярные стихи. Декламировал он напевно, патетически, и казалось, что главное — не поэзия, а автор. Он читал «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Будем как солнце» и другие. Публика, знавшая ранние произведения поэта, приняла их хорошо. Потом Бальмонт сказал, что прочитает доклад о литовских песнях, который он уже читал в Сорбонне, а также в Сербии и Болгарии. Правительственная газета «Эхо Литвы» несколько дней спустя писала, что поэт в своем докладе «охарактеризовал идеалы литовского народа, которые получили выражение в народных песнях и сказках, и особенно резко и неприветливо отозвался о поляках… После этого, — продолжала газета, — он читал еще не опубликованные свои стихи, посвященные Литве, — о Витаутасе Великом и героическом прошлом нашего народа».
Короче говоря, Бальмонт выполнил все, чего от него ждали официальные круги.
Во время вечера вдруг поднялись с мест и демонстративно покинули зал несколько человек, в том числе знаменитый Поворотникас. Никто не знал причины этой «демонстрации».
Вечер Бальмонта оставил странное впечатление. Чувствовалось, что времена славы поэта давно миновали, что он — обиженный судьбой, растерянный человек, который пытается петь свою песню символиста и эстета, по необходимости выбрав новую цель — прославление далекой и еще несколько лет назад незнакомой Литвы… Бальмонт теперь говорил, что у них в семье сохранились предания и даже документы, свидетельствующие о том, что его предки прибыли в Россию из Пруссии или Жемайтии… Все это как-то оправдывало его неожиданный интерес к Литве. Литовские писатели — Гира, Креве, Вайчюнас и другие — относились к гостю с величайшим почтением, возили его по Дайнавскому краю, показывали Неман под Каунасом, который поэт, как утверждали газеты, собирался воспеть в стихах.
Когда корреспондент «Нового слова» спросил у поэта о впечатлениях из поездки по Литве, поэт ответил с явной насмешкой: «В вашей жизни я замечаю американские темпы. В литературе тоже проявляется этот принцип: быстро и много. Скажем, по важному для вас вопросу о Вильнюсе вы написали много стихотворений, но среди них нет ни одного хорошего. Они похожи на рифмованную прозу и у Людаса Гиры, и у Пятраса Вайчюнаса. А вот лирика у вас глубокая, и этих поэтов я высоко ценю».
По возвращении во Францию поэт не забыл про Литву: он подготовил и издал новый сборник стихов «Северное сияние», большую часть которого составили старые переводы литовских песен и стихи про Литву.
Актриса Уне Бабицкайте позднее показывала мне письма от Бальмонта; они были испещрены разнообразными кружочками, квадратиками, трапециями и прочими значками — перед смертью психика поэта трагически расстроилась…
АНТАНАС ВЕНУОЛИС
Летом 1930 года, пройдя пешком Дайнавский край, в одно раннее утро мы оказались в местечке, в котором раньше никто из нас не бывал, — в Аникшчяй. Не желая будить людей, мы сели на крыльце у Матаса Григониса, писателя, друга молодежи и директора прогимназии, закурили и решили ждать, пока кто-нибудь из Григонисов не проснется.
Мы ждали добрых два часа, пока не проснулся хозяин. Он угостил нас завтраком и — мы же не выспались — повел на сеновал, где мы по-царски спали все ночи, которые пришлось провести в Аниикшчяй. А пробыли мы там целых три дня.
Мы знали, что в Аникшчяй живет писатель Венуолис. Откровенно говоря, нам, молодым, скромным парням, страшно было идти к широко известному, уважаемому писателю, которого уже тогда многие считали классиком нашей литературы. Произведения Венуолиса в те годы часто печатала официальная пресса, которую мы ненавидели и презирали. Нам казалось, что мы не найдем общего языка с писателем. В сущности, кто мы такие — непризнанные каунасские литераторы, а таких там десятки вертятся в каждой редакции, мечтая заработать лит на обед. Лишь те, кто шел по «национальному» или «христианскому» пути, мог мечтать о рольмопсе и маленьком или большом графинчике (водку граммами тогда не мерили).
Но все-таки желание увидеть Венуолиса и знаменитую клеть[74] Баранаускаса[75] победило.
Писатель встретил нас просто и любезно, как он всегда ветречал своих многочисленных, со временем даже очень многочисленных гостей. Он куда-то собирался идти, но, узнав, кто мы такие, остановился на лестнице, которая спускалась к улице, и сказал:
— Ах вот как, отлично, отлично. Просим, просим наверх…
Мы взобрались по лестнице в садик, окружавший дом, который и сейчас так хорошо известен всем почитателям Антанаса Венуолиса. Довольно долго писатель показывал нам клеть поэта и подробно объяснял значение каждого предмета в ней. Он показывал экспонаты из времен крепостного права и восстания 1863 года, старые издания, собранные у родственников поэта, его письма, рукописи, фотографии. Все это сохранялось с великим уважением к поэту, который так широко прославил Аникшчяй. Мы с удовольствием расписались в книге гостей, и уже после войны, когда я снова посетил клеть Баранаускаса, Венуолис показал мне эту книгу и нашу подпись, напомнив этим, как быстро, как невероятно быстро течет река времени…
Мы напрасно думали, что Венуолис не слышал о нас. Он следил за «Третьим фронтом», читал «Закат в Никской волости» Пятраса Цвирки, поблагодарил меня за брошюру об «Утопленнице», которую я издал на основании своей студенческой работы. Он сказал, что ему очень интересно познакомиться и поговорить с молодыми писателями, которые ищут новых путей в литературе и жизни.
Во время пребывания в Аникшчяй мы несколько раз встречались с Венуолисом. Я помню, как он нас повел к валуну Пунтукасу, с какой любовью к родным местам он показывал воспетый поэтом Аникшчяйский бор, омуты и мели речки Швентойн и другие местности, известные нам только по названиям. Я чувствовал, что Венуолис — это Аникшчяй и его окрестности, что он — это Швентойи и окрестные боры, что он — недалекая деревня Ужуожяряй, в которой он родился и с которой всегда поддерживал тесную связь. Я понял, что без своей среды, без звонкого местного наречия не было бы и этого писателя, который избрал очень хороший путь — через родную деревню в Литву. Следуя по этому пути, он всю свою жизнь оставался рядом со своим пародом, и это было основой доподлинности его силы.
Мы посетили тогда и винный заводик свежеиспеченного литовского промышленника Каразии. Вино делали паскудное, от него жутко болела голова (видно, от вредных примесей или плохой очистки). Сам Каразия, еще молодой человек, жаждущий как можно быстрей разбогатеть и прославиться, угощал нас цыплятами и своей продукцией, наверное уповая на то, что мы, молодые писатели, благосклонно опишем его в газетах. Люди подобного типа к писателям относились, лишь исходя из того, сильно ли они могут навредить, нагадить им в газетах или, наоборот, разрекламировать как больших патриотов. К нашей группе во время похода на предприятие Каразии примкнул какой-то щеголь родом из Паневежиса, который перебрал вина. Когда мы оттуда снова пришли к Венуолису, от нас не отстал и щеголь. Венуолиса мы нашли в садике — он снова дружески встретил нас, а паневежский франт тут же принялся блевать, и мы смутились, как будто в этом была наша вина. Но Венуолис не показал никакого недовольства. Он сказал:
— Мальчик заболел… Ему худо… Подождите, я ему принесу лекарства…
Он ушел в дом и тут же вернулся с какими-то пилюлями и стаканом воды. Неприятность вскоре была забыта, и мы как ни в чем не бывало отправились в задуманную экскурсию — в окрестности Аникшчяй, где Венуолис хотел показать нам Воруту — столицу князя Миндаугаса. И впрямь, за Аникшчяй мы увидели останки какого-то замка — крепостные валы, рвы, насыпи. Венуолис рассказывал нам, что во времена Миндаугаса Аникшчяй был в самом центре Литвы, что здесь удобные в стратегическом отношении места и для него совершенно ясно, что Миндаугас выбрал для своей столицы именно это место. Помню, что и во время моих позднейших приездов писатель еще раза два водил меня показывать мнимую Воруту, которая, видно, много говорила его воображению. А в 1930 году он особенно интересовался исторической тематикой, писал роман «Перепутья» и собирался работать над другими историческими книгами.
Мы бродили по Аникшчяйскому кладбищу, и писатель показал нам могилы помещиков Венцловавичюсов. Деградацию семьи этих Венцловавичюсов он изобразил в своей известной повести «Рак» (Венцловавичюсы в ней названы Пут-Путерлецкими). Он рассказывал нам различные истории о погребенных здесь людях, и было ясно, что не одну из этих историй он использовал или собирался использовать в своих произведениях. В своей памяти он носил биографии десятков, а то и сотен людей своего края, интересные события их жизни, часто веселые, но еще чаще — печальные и страшные.
Мы, молодые писатели, не могли не восхищаться простотой, демократичностью Венуолиса, тем, что он разговаривал с нами как с равными, ничем не показывая своего превосходства. Но глубокого разговора о литературе, о ее задачах в борьбе нашего народа против фашизма не получилось. Кажется, в то время Венуолис сам не задумывался над этими вопросами.
* * *
Буржуазная Литва много лет собиралась и все не собралась привезти на родину из Польши прах писателя Йонаса Билюнаса.[76] На эту тему часто разговаривали в писательских кругах, иногда об этом писали в газетах. Венуолис, который всегда почитал память аникшчяйского жителя и своего родственника Баранаускаса, не менее уважал память и второго своего земляка — Билюнаса. Я не раз видел, как при словах о нем на глазах Венуолиса проступали слезы. Он любил рассказывать о своих славных предшественниках, особенно о Билюнасе, которого сам хорошо знал.
Летом 1939 года, после знаменитого ультиматума панской Польши Литве, когда между Литвой и Польшей были завязаны дипломатические отношения, снова ожили и даже окрепли слухи о перевозке праха Билюнаса. Руководство тогдашнего Общества писателей, чуть ли не Людас Гира, послало меня в командировку в Аникшчяй. Я должен был представлять Общество писателей, когда землемер будет вырезать городище Людишкяй из полей двух крестьян, которые решили подарить это городище для могилы своего земляка.
Приехав на автобусе в Аникшчяй, я пришел к Венуолису, который меня радушно встретил. Землемера, кажется, еще не было, и нам представился случай поговорить, тем более что писатель попросил меня поселиться у него, уступив мне комнатку на втором этаже своего дома. Я охотно принял его приглашение. За обедом он угостил меня своей знаменитой настойкой «тряес дявинярёс», и я, хоть и небольшой знаток в этой области, высоко оценил мастерство писателя — настойка была божественная. Она пахла разнообразными травами и корешками Литвы — это был удивительный концентрат запахов и вкусов. Трудно было сдержаться и еще раз не поднять рюмку за хозяйку, хозяина и Аникшчяй, тем более что гостеприимный Венуолис не успевал подливать мне настойки, хотя сам, как я заметил, выпил всего лишь рюмочку.
— На меня не смотрите, — с улыбкой сказал он. — У меня этот напиток всегда под рукой.
Дожидаясь землемера, мы гуляли по окрестностям Аникшчяй. Я только теперь рассказал Венуолису о том, как прочитал когда-то его «Проклятых монахов» и другие ранние произведения и какое впечатление они произвели на меня. Писателю приятно было слышать мои слова, и он тихо рассказывал мне:
— Если б вы знали, с каким пылом я писал первые свои сочинения! Я был тогда молод, Кавказ, который я увидел, где путешествовал и, можно сказать, жил, потряс меня. Я хорошо знал Владикавказ, жил в Тифлисе, несколько раз проехал по удивительной Военно-Грузинской дороге, я видел и впитывал всей молодой душой неповторимую красоту, и она казалась новой и таинственной для меня, выросшего на равнинах. Я знал грузин и представителей других тамошних наций, например знаменитого осетинского певца Косту Хетагурова. Я изучал их историю, нравы, читал Лермонтова и других русских писателей, писавших про Кавказ. А когда я сел за «Проклятых монахов» и «Вечного скрипача», боже ты мой, с каким волнением я выводил каждую фразу! Я переписывал каждую страницу по множеству раз, и все мне казалось слишком тусклым, бесцветным… Даже во сне я, кажется, думал о том, что писал, мне снились горы, снежные вершины и бездны, пенистые, кипящие горные реки, я жил в другом мире, заколдованный и очарованный им. Так я тогда работал…
— А теперь?
— А теперь я работаю, пожалуй, не меньше, но нет уже прежнего пыла, опьянения. Теперь я тоже работаю охотно, но рядом с чувством всегда стоит рассудок. Я работаю по утрам — тогда все жизненные впечатления кажутся светлее, голова — свежее… Но, конечно, это уже не то, уже не то…
Он говорил мне о русских писателях, прежде всего о Чехове, Толстом и других, у которых он учился и которых не раз перечитывал. Насколько я понял, он следил и за литовской литературой, хоть мне и не пришлось слышать из его уст ни тогда, ни когда-нибудь позднее ни похвалы, ни осуждения наших писателей. Чем вызвана была эта сдержанность, трудно сказать.
Наконец появился землемер, и мы все отправились к зеленому и прекрасному городищу Людишкяй, где сейчас на самом деле покоится наш дорогой Йонас Билюнас и где, я верю, мечтал лечь когда-нибудь и Венуолис. Если перед смертью он сказал, чтобы его похоронили не здесь, а в своем садике, у дома, в котором жил, в этом, по-моему, виновата его скромность.
К городищу пришли оба крестьянина, решившие подарить по куску земли праху Билюнаса. Землемер расставил теодолит и начал работу. Мы с крестьянами улеглись на душистом вереске, под молодыми сосенками, смотрели в небо, слушали еле слышный щебет жаворонков и тихо разговаривали. Один из крестьян оказался бывалым человеком, жившим в Америке и даже заезжавшим в Японию. Он рассказывал нам про свои приключения.
Венуолис слушал рассказы крестьянина, которые, вероятно, слышал не первый раз, от души смеялся, потом сказал:
— Ты расскажи про этого негритянского доктора…
Крестьянин не заставил себя упрашивать и принялся рассказывать:
— Я уже давненько жил в Америке. Здоров я был как лошадь. Но однажды как заломит в пояснице — хоть в землю лезь. Хочешь не хочешь, надо к доктору идти. А куда пойти бедному человеку, если не к негру? Наших литовских докторов поблизости не было, а одного негра люди хвалили. Прихожу я к нему, он меня осмотрел, прописал какую-то мазь и спрашивает (в то время я уже хорошо по-американски понимал): «Откуда ты будешь?»— «Это я-то?» — «Ты, ты, кто же еще, как не ты!» — спрашивает негритянский доктор. «Я из Аникшчяй», — говорю я. Негритянский доктор ничего, улыбнулся, белые зубы показал и говорит: «А где этот твой Аникшчяй?» — «Да в Литве же», — говорю я. «А Литва твоя где?» — «Как это где Литва? — говорю. — В России, в Европе, говорю, моя Литва». — «А-а, — говорит он, — теперь понятно. А ты мне скажи, как у вас говорят, какого цвета черти?» — «Черные, а какими им еще быть!» — «А-а, черные, а в аду у вас как — жарко или холодно?» — «В аду, — говорю я, — очень жарко. Так все ксендзы говорят». Послушал меня негритянский доктор, опять белые зубы показал. «А вот неграм, — говорит он, — ксендзы объясняют, что черти белые, а в аду страшный холод». Потом он спрашивает: «А ты что, веришь в чертей и в ад?» — «Что за католик я был бы, если ксендзам не верил?» — «И совсем зря веришь, — говорит негр, — никакого ада нет и чертей нет. Когда приедешь в эту свою Европу, то всем скажи — никаких чертей нет. Это все только выдумки ксендзов, пасторов и раввинов».
Венуолис, который, видно, и этот рассказ слышал не первый раз, смеялся до слез.
— Ну и как, все еще верите? — спросил я у крестьянина.
— Дурак я, что ли? — ответил крестьянин. — Вот этот негритянский доктор, дай ему боже здоровья, если он еще жив, и заставил меня призадуматься. Ведь если уж такой ученый и хороший человек говорит, то не будет же он бросать слова на ветер. Больше я ни бога, ни черта не боюсь. Да и наш писатель, кажись, не верит? — хитро подмигнув, крестьянин посмотрел на Венуолиса.
Венуолис ничего не ответил. Он тоже улыбнулся хитрой мужицкой улыбкой…
Мы долго слушали рассказы крестьянина. Потом, когда крестьяне отошли в сторонку, Венуолис мне сказал:
— Интересные люди. Это уже не то поколение, которое я знал в детстве. Сами видите, он много путешествовал, много видел. И знаете, почему он дал землю для могилы Билюнаса? Он понимает: Билюнас был тоже хорошим человеком, другом бедняков, как тот негритянский доктор, и тоже не боялся ни бога ни черта…
— Но ведь перед смертью Билюнас…
— Мало ли что бывает перед смертью. Человек слаб… А всю свою сознательную жизнь он верил только в людей. Главное, в людей труда. Они ему казались главной силой… Я думаю, что крестьяне об этом знают.
* * *
Опираясь на тоненькую тросточку, в светлой соломенной шляпе, Венуолис шагает по мху Аникшчяйского бора. Он кажется высоким и стройным. Хоть он и не носит бороды и очков, но уже который раз я сегодня думаю, что походкой, фигурой, всеми своими движениями он похож на Чехова. Разумеется, я никогда не видел Чехова, но мне кажется, что даже в выражении глаз Венуолиса, даже в его улыбке, печальной и мучительной, есть что-то чеховское. Конечно, я не говорю этого Венуолису, который вдруг останавливается и прислушивается. Слышно, как вдалеке долбит дерево дятел. Видно, писателя привлек этот отчетливый монотонный звук. Потом он снова идет дальше и снова останавливается. Он следит за какой-то пичужкой, которая попискивает на ветке и часто меняет свое место.
— Как сирота, — говорит Венуолис.
Я не понимаю, о чем он. Вопросительно смотрю ему в глаза.
— Птичка, говорю, как сирота… Она же плачет… — И я вижу, как Венуолис, отвернувшись от меня, смахивает слезу.
Мы идем дальше через лес. Вдруг писатель оживляется, принимается махать руками и, подняв тросточку, показывает на дерево.
— Белка, — говорю я, разглядев крохотного рыжего зверька, скачущего по стволу сосны.
— Да, уважаемый… А сколько их тут раньше было. И белки, и барсуки, и рыси, и всякие, всякие… Да и теперь тут иногда встретишь интересного зверька… И всяк живет, солнышку радуется…
Мы шагаем по мягкому, сухому мху. Писатель останавливается и стучит тросточкой по сухому дереву. Потом отступает на шаг, снова подходит и стучит. Его лицо задумчиво. О чем он думает, трудно сказать. А думает он, видно, серьезную думу об этом дереве, обо всех деревьях и жителях этого бора…
Когда мы выходим к спокойной, прозрачной реке Швентойи и вдруг раздается звонкий, сочный голос соловья, писатель снова останавливается, даже поворачивает ухо в сторону реки и стоит затаив дыхание. Он ничего не говорит, но видно, что этот певец лесов и садов Литвы каждый раз по-новому говорит с его сердцем, как говорил он когда-то с Баранаускасом и Донелайтисом…[77]
МЫ КРЕПНЕМ
Время шло невероятно быстро. Может быть, потому, что я был очень занят. Книга «Березы на ветру» была уже готова. Оставалось только договориться с «Фондом печати» об ее издании. Вернувшись после каникул в Каунас, я снова редактировал журнал, кроме того, надо было на что-то жить, — к счастью, мои прочные связи с агрономами не распались. Появилась и другая литературная работа. Я переводил Диккенса и Мопассана. Интересовался творчеством американского писателя Э. Синклера. На русском и немецком языках прочитал множество его книг — это были «Король-уголь», «Джимми Хиггинс», «Бостон», «100 %», «Деньги пишут» и другие («Джунгли» я прочитал еще гимназистом). Использовав различные источники, я написал и издал небольшую книжку о писателе. (Много лет спустя я завязал с ним переписку и еще раз вернулся в печати к знаменитому роману «Джунгли».)
Я все еще жил в одной комнате с Райлой, но почему-то все сильнее хотелось переехать в отдельную комнату. Не могу сказать, что мы с соседом не ладили. Оба усердно работали для журнала, он писал стихи и статьи. Но мне не очень нравились его наклонности к богеме.
Вообще интеллигенция в те годы проводила время довольно странно… Скажем, в Каунасе проходил слух, что запили актеры. Пили они, пока хватало денег, иногда две недели. Потом начинали пить журналисты. Если они, взобравшись на деревья на главной улице города, принимались куковать наподобие кукушек, это была лишь невинная игра — полиция их легко снимала с деревьев. Хуже было, когда начинались драки и прочие глупости.
Все широко комментировали события в ресторане «Пэл-Эл». Однажды вечером, когда все столики были заняты, в ресторан ворвались двое охмелевших приятелей, довольно крупные чиновники. Они заперлись в туалете, разделись и, обнаружив мыло и воду, намылились с ног до головы. Потом в чем мать родила вышли в ресторан. Началась паника. Официанты принялись их ловить, но чиновники, скользкие от мыла, все время вырывались из рук. С большим трудом обоих пьяниц загнали на третий этаж и заперли в отдельном кабинете.
Алкоголизм становился массовым и отвратительным явлением. Чиновники нередко пили на чужие деньги. То и дело слышно было о растратах. А в Каунасе появлялось все больше безработных, все больше голодных людей…
Среди пьющих можно было видеть и Казиса Бинкиса. Я редко сталкивался с ним — разница в возрасте и интересах помешала сблизиться. Я помню, однажды, когда мы долго следили за Бинкисом, сидевшим за столиком, Цвирка сказал мне:
— Нет уж, братец, по этому пути нам идти нельзя… Видишь, способный поэт, а что он написал в последнее время? Плоские фельетоны, строчки ради гонорара… Надо избегать водки, как холеры…
Мы ее, конечно, не очень избегали, но и пьянствовать не привыкли. Всякое бывало, — если у кого-нибудь из нас заводились деньги, мы заходили и в ресторан, а под утро оказывались в вокзальном буфете (он работал круглые сутки). Здесь, на вокзале, интересно было следить за пассажирами. Слонялись агенты охранки, следя за кем-то, а может, просто пьянствуя после постылого дня и ночи. Появлялись запоздалые проститутки, пьяные, намазанные, циничные…
Однажды под утро на вокзале Райла поцапался с Бинкисом — поначалу поспорили, а потом, так как Бинкис отражал словесные атаки, Райла перешел к рукоприкладству… Это происшествие мне стыдно вспомнить по сей день.
…Вскоре осуществилась моя мечта — я переехал на другую квартиру в том же доме. Я получил тихую комнатку у портного, где мне никто не мешал когда угодно вставать и ложиться, сколько угодно писать и читать. Здесь теперь оказалась и редакция «Третьего фронта». Каждого, кто заходил в нее, она поражала своей скромностью — два стула, столик, тахта и маленький шкафчик с несколькими десятками книг.
Уже в октябре появился третий номер журнала. Он был еще больше, чем второй. Для этого номера я дал новеллу «Если пересыхает источник», написанную на основе летних впечатлений.
Мы поместили также большой рассказ Йонаса Шимкуса «У падающей воды» и несколько его стихотворений.
Был отрывок из романа, задуманного Цвиркой, — «Неман цветет» — и статья Корсакаса «Парень в литературе», в которой он старался доказать, что воспетый нами парень — это городской пролетарий и деревенский батрак. Статья была написана с пылом, но, к сожалению, не внесла необходимой ясности в вопрос. С этим «парнем» мы увязли — это уже мы сами чувствовали, и не так-то легко было выпутаться. Наиболее политически зрелый из нас, Корсакас, чувствовал, что «парень» в понимании Боруты уже неприемлем для нас. Его статья пыталась вывести журнал из тупика.
Узнав о тяжелом материальном положении Боруты и о том, что он мучительно переживает кризис «парня», Костас писал: «С Казисом дела и впрямь плохи. Но надо перестать его дразнить, чтобы он не бросил нас. Он — крупная сила, жалко его терять. Вопрос о парне на время оставим в покое».
Еще прошлой весной Казис в одном из писем высказался против немецкого поэта-коммуниста Иоганнеса Р. Бехера, который, по словам Казиса, «вздумал всю литературу превратить в партийную лавочку». «Это мне кажется глупым, — писал Казис. — Писателю надо быть левым, но он не должен зависеть от партии». Подобные взгляды вызывали в нашей среде все меньше одобрения, а вскоре, как мы увидим, оказались просто неприемлемыми.
Но вернемся к новому номеру нашего журнала. Райла остро, подчас даже нахально полемизировал с Гербачяускасом. Был широкий обзор иностранной литературы. В нем мы немало места уделяли советским писателям, поместив статью «Борьба за метод» и почтив Маяковского.
Примерно в это время к нам пришел новый человек — Валис Драздаускас.[78] Это был человек наших лет, кончивший в Каунасе гимназию, учившийся в Париже (откуда он недавно вернулся). Мы встретились с ним на Лайсвес-аллее, и он с ходу принялся издеваться над нашим журналом. Если нас до сих пор вся каунасская печать критиковала, поливала грязью за левизну, то новый знакомый подошел к нам с другой стороны. Мне и Шимкусу он доказывал: главная беда журнала в том, что он недостаточно левый, а культ «парня» — недоразумение и глупость. Сразу было видно, что этот невысокий, болезненного вида человек много читал, и не только художественную литературу. Он упоминал и Маркса и Плеханова.
Вскоре Драздаускас познакомился и с Цвиркой. Мы начали встречаться то на улице, то в кафе Конрадаса, и не было конца нашим спорам. Оказалось, что Драздаускас какими-то путями получал гораздо больше, чем мы, советской литературы, больше ее читал и имел свое мнение о каждой книге. От него мы услышали о поэме Сельвинского «Пушторг», и о «По следам героя» Лаврухина, и о «Республике Шкид» Белых и Пантелеева. У него было собрание сочинений Плеханова, и, когда я получил у него какой-то том, я удивился, увидев, что Драздаускас читал и подчеркнул не менее двух третей строк. Видно, ему казалось важным и значительным все, что писал Плеханов.
Драздаускас вскоре вошел в наш коллектив, тем более что мы с самого начала не собирались замыкаться в своей среде. Мы просто радовались, заполучив новую силу для следующего номера «Третьего фронта».
Вскоре наш отряд должен был получить пополнение. Возникла мысль (кажется, одновременно у нас и у издателей «Культуры») предпринять шаги и вызволить из Шяуляйской тюрьмы Костаса Корсакаса, тем более что до нас дошли вести о его плохом здоровье. Мысль неожиданно нашла поддержку у писателей старшего поколения. Под прошением об амнистии подписались Винцас Креве, Фаустас Кирша, Балис Сруога и еще кое-кто. Прошло какое-то время, и в конце октября я получил письмо от Костаса из родной деревни. Мы все радовались тому, что Корсакас уже на воле, и надеялись быстро с ним увидеться.
Чем дальше, тем больше было откликов в печати на «Третий фронт». Новых его номеров с нетерпением ждали учащиеся, и рабочие. Его читали в деревне и городах. О нем постоянно упоминали литературные семинары в университете, его обсуждали политзаключенные. Он вызывал ярость у реакции — у клерикалов и фашистов. А мы между тем готовили уже четвертый номер журнала. «Вскоре выйдет «Фронт», — писал я Винцасу Жилёнису в начале 1931 года, — разумеется, не такой, как бы я хотел, потому что господин главный редактор (цензор) по-своему его переделал».
Мы уже получали московскую «Литературную газету», журнал для молодых писателей «Литературная учеба», по рукам ходил не только Маяковский, но и другие советские поэты — Тихонов, Безыменский, Сельвинский, а также теоретическая литература марксизма-ленинизма. Мы хорошо знали, что по этой теории создается новый мир — Советский Союз, в то время еще мало понятный для нас, но тем более интересный.
Балис Сруога, руководивший в университете театральным семинаром (я иногда посещал этот семинар), часто рассказывал студентам о московских театрах, об их высоком уровне, воспевал МХАТ и с пылом толковал систему Станиславского. Стараясь не касаться политической системы Советского Союза, профессор вызывал у нас интерес к нему и к тамошним переменам. Возникла мысль устроить поездку интеллигенции в Москву, познакомиться с лучшими ее театрами, пройти по главным музеям — мы уже слышали о Третьяковской галерее. В экскурсию старались попасть прежде всего литераторы, в том числе и Саломея Нерис. Все шло довольно гладко — мы копили деньги, заполняли нужные анкеты и ждали пасхальных каникул, на которые была намечена экскурсия.
«Твоя поездка в Москву была бы прекрасным делом… — писал Костас. — Я думаю, после твоей поездки для нас многое бы стало ясным, кроме того, мы бы чуть сблизились с русской литературной жизнью. Я считаю, что ты непременно должен официально сойтись с русскими писателями младшего поколения и рассказать им про «Третий фронт». По-моему, пора что-нибудь перевести из творчества Асеева, Тихонова, Саянова и других».
Поначалу выразив согласие, власти принялись выискивать придирки. Узнав, что меня не выпускают, Сруога посоветовал:
— Сходи сам в Министерство внутренних дел к Навакасу (тогда он был директором какого-то департамента) и сам выясни с ним дело.
Долго не думая, я отправился в министерство. За столом сидел невысокий человек с темными, зализанными назад волосами — господин Навакас.
— Ваши взгляды несовместимы с целью экскурсии, — дипломатично ответил он на мой вопрос. — Не пустим.
Говорить было не о чем, и я ушел.
«Я тоже хотела ехать, меня приняли, — позднее писала мне из Лаздияй Саломея Нерис. — Я радовалась, что увижу эту удивительную страну с ее новой культурой. Хотела все увидеть собственными глазами, потому что не могу верить той клевете и испуганным крикам, которыми пестрит наша печать».
Просидев несколько лет в тюрьме, вышел на волю Витаутас Монтвила. Я списался с ним и пригласил сотрудничать в нашем журнале, хоть и знал его прежнюю неприязнь к «Третьему фронту». Видно, что его мнение изменилось, потому что он ответил: «Что касается материала для «Третьего фронта», то, может быть, перед пасхой что-нибудь пришлю. Сейчас я делаю новую книгу (названия еще нет), пришлю что-нибудь из нее. Также новые стихи. После всех бурных событий от моего старого «я» остались лишь обломки… Хоть бы где-нибудь — как-нибудь, — хоть что-нибудь заработать!» Поэта преследовали нищета, безработица, безденежье — и тогда, и позже, всю жизнь. Увы, мы ничем не могли ему помочь.
Четвертый номер получился интересней, чем прежний. В нем уже не было и речи ни о «парне», ни о неореализме, который, по мнению Йонаса Шимкуса, должен был явить собой своеобразное соединение старого реализма с экспрессионизмом, футуризмом и прочими течениями современной литературы. Исчезли общие фразы и расплывчатая левизна — мы говорили яснее и подчеркивали необходимость тесной связи литературы с жизнью.
«Сейчас, когда на всем земном шаре идет решительный бой между двумя мирами, между двумя обществами, — писал я в передовице номера, — приходится особенно следить за тем, чтобы каждое слово било в цель, разоблачало отжившее общество и разрушало его прогнившие дрожащие подпорки.
Сейчас, когда во всем мире вооружаются для новой империалистической войны, которая будет куда страшнее и отвратительнее, чем все прежние, против которой поднимают голос люди труда и лучшие писатели всех стран, мы также подчеркиваем, что одна из главнейших задач текущего момента для нас — это борьба всеми доступными нам способами против этого варварства цивилизованного человечества.
Мы уже не раз говорили, что искусство для нас — не бессмысленное словоблудие и вопли о неземных благах. Искусство для нас — инструмент, рычаг, при помощи которого мы рушим все, что прогнило, и строим все, что растет.
Мы стремимся к тому, чтобы наше слово всегда волновало, тревожило, сердило, раздражало, радовало, подстегивало».
Пятрас Цвирка дал для этого номера стихотворение-репортаж «Человек родился», где сравнивал судьбу буржуйского ребенка и сына пролетарки Антоси. Стихотворение кончалось такими строками:
Сын Антоси. Рука его понесет знамя, плакаты расклеит, красный ячмень посеет. Рот его — слов пулемет, гармонь — повстанцев марш. Пролетариат! Сын Антоси — шаг к великому будущему эпохи великой!Райла написал длинную антикапиталистическую поэму «20 000 000».
Казис Борута прислал рассказ «Деревянные чудеса», который позднее превратил в большую повесть под тем же названием. Йонас Шимкус напечатал вторую часть своего рассказа «У падающей воды».
Костас Корсакас тогда писал о «Тенденции и литературе», доказывая, что в классовом обществе не может существовать нетенденциозная литература, что мы стремимся выразить настроения прогрессивных слоев общества. Новый наш сотрудник Валис Драздаускас издевался над Гербачяускасом, Якштасом и благоприятно отзывался о некоторых советских изданиях. Это была новость для легальной литовской печати. Мы отметили 65-летний юбилей Ромена Роллана, подчеркнув прогрессивность великого писателя, его антиимпериалистические настроения и решимость защищать Советский Союз (статью о Роллане написал Пранас Моркунас). Были помещены также переводы Бехера, латышских левых писателей — Лайцена, Курция. Все это резко изменило лицо журнала.
Реакционная печать, конечно, это заметила. Даже «Социалдемократ», который поначалу довольно положительно расценивал наш журнал, опубликовал статью, в которой доказывал, что мы опираемся на неверную (то есть коммунистическую) информацию, взятую из советских книг и журналов, что нам пора одуматься и т. д.
Надо было готовить пятый номер. И тут пришел новый человек, которому суждено было сыграть огромную роль в нашей прогрессивной литературе. Это была Саломея Нерис.
Путешествуя со Сруогой по Альпам (Сруога продолжал возить такие экскурсии), Нерис встретилась в Вене с Борутой. Видно, они здесь разговорились о литературе. Когда вышел четвертый номер «Третьего фронта», я получил из Берлина письмо от Казиса:
«Саломея Нерис вдруг написала мне дружеское письмо, где хвалила нас. Ты постарайся войти с ней в джентльменские отношения. Нам надо перетянуть на свою сторону как можно больше народу».
Видно, я сомневался в серьезности отношения Нерис к нам, потому что Казис снова писал: «Напрасно Сомневаешься в Саломее. Она просто стремится к нам. Прилагаю кусок ее письма. Сам суди».
И я читал письмо Саломеи Нерис, написанное Казису 22 февраля 1931 года:
«Каждый номер «Третьего фронта» я читаю от доски до доски. Этого не было еще ни с одним журналом в моей жизни. Вчера дочитала четвертый помер. В конце передовицы сказано: «чтобы наше слово всегда волновало, тревожило, сердило, раздражало, радовало, подстегивало…» Новое слово, но достигает своей цели. Не удивительно, что оно приводит в бешенство мещанских фанатиков и вызывает ругань. Мне нравится это живое, энергичное слово — вольный ветер весны. На меня оно действует своеобразно: как сильное лекарство на рану. Ведь я живу тем самым и всей душой одобряю вас. Я давно ненавижу это бездушное, заплесневелое мещанство. Но среда, в которую я вросла, — трясина, из которой не так уж легко выбраться. Что ж, тут нет ничего плохого, тем лучше, тем приятнее будет победа и полное освобождение».
Письмо поразило меня. Я читал его снова и снова не мог поверить. Неужели виднейшая правая поэтесса, окруженная вниманием всех критиков этого фланга, придет к нам? Понимая всю сложность и тяжесть для нее подобного шага, я написал письмо Нерис. В нем я начистоту изложил свои опасения и выразил радость всего коллектива.
Ответа долго ждать не пришлось.
Теперь, когда опубликованы письма Нерис и мои, совершенно отчетливо видно, что ее решение было серьезным и продуманным, что она отлично знала, что ей грозит. Но она ничего не побоялась.
«Видно, эта девушка хрупкая только на первый взгляд», — думал я.
Некоторых членов нашего коллектива, особенно Корсакаса, все-таки одолевали сомнения. А может быть, это временные настроения, может быть, поэтесса не устоит перед неизбежной реакцией клерикалов? Я написал об этом Казису. Он ответил: «Саломея меня обрадовала, но и огорчила. Все ли вы как следует обдумали, ведь клерикалы ей этого не простят. Позаботьтесь о том, чтобы она не зависела от них. Кроме того, ее письмо с «отчетом совести» совершенно излишне для «Третьего фронта».
Но нам после длительного обсуждения все-таки показалось иначе. Сама Саломея не хотела приобщать к своим стихам никакого заявления, но после долгих споров она все-таки окончательно отредактировала это заявление, которое, как известно, появилось в пятом номере нашего журнала.
Во время подготовки этого номера заболел один из самых активных членов коллектива — Йонас Шимкус. И заболел он внутренним кровоизлиянием так тяжело, что заботливые врачи Еврейской больницы, где лежал наш товарищ, иногда теряли надежду. Они велели нам быть готовыми ко всему наихудшему. Это были тяжелые дни. Иногда нам уже казалось, что спасения нет, мы думали, что номер журнала выйдет в черной рамке, с материалом, посвященным памяти нашего товарища. Днем и ночью сидела у больного и заботливо ухаживала за ним его подруга Эляна. И трудно сказать, что победило — молодой организм, забота врачей или любовь Эляны: к нашей радости, Йонас начал поправляться, и я смог сообщить радостное известие Костасу, Казису и Валису.
По письмам Казиса было видно, что в Берлине ему стало невыносимо в духовном и материальном смысле. Он все чаще упоминал о возможном возвращении в Литву, хотя здесь его ждала тюрьма. Перед возвращением он собирался заехать в оккупированный Вильнюс, поработать в библиотеке Литовского научного общества. «Я готовлюсь к длительной и большой работе по истории литовской культуры, — писал он. — Так что могу задержаться до осени. Кроме того, весна — самая неприятная пора для выполнения национального долга в каторжной тюрьме. Но в конце мая — прощай Берлин».
Может быть, Казис решил вернуться в Литву частично потому, что я несколько раз говорил о нем с профессором Вацловасом Биржишкой. Он принял близко к сердцу трагическую судьбу молодого писателя-эмигранта и, насколько я понял по его намекам, готов был помочь ему. Об этом я, разумеется, сообщил Казису, который написал: «Передай ему сердечную благодарность и извинения. Скажи, чтобы он не тратил на меня время».
Нам было совершенно ясно, что новый номер «Третьего фронта» совсем не понравится Казису. Культ «парня», который, как я отмечал, появился в основном под влиянием поэзии и прочих сочинений Казиса, совершенно испарился. Марксистская литература, которую мы все теперь читали, разъяснила нам структуру общества, классовую борьбу, задачи литературы. На нас все сильнее влияли советские книги и газеты, которые мы где-то доставали и жадно читали. Мы прекрасно знали, что на всем земном шаре кипит жестокая классовая борьба, что обострились противоречия между трудом и капиталом, что начался экономический кризис и во всех городах капиталистического мира растет число безработных. Проходят демонстрации и яростные сражения с работодателями. В Каунасе мы тоже видели толпы безработных, целыми днями стоящих у дверей биржи труда или фабрики; мы видели крестьян, потерявших землю, которые на вокзале ждали поездов в далекую Бразилию, и чувствовали на своей шкуре, что жизнь тяжелей с каждым днем, что в средние и высшие школы все реже попадают дети рабочих и бедных крестьян. Мы знали, что теперь хорошо живется лишь крупным чиновникам, дельцам, бизнесменам, спекулянтам, а население нищает. Нам уже казалось бессмысленным наше прежнее требование того, чтобы литература была вообще левой, чтобы она стояла над партиями.
Но главная беда «Третьего фронта» и его сотрудников была в том, что они, всей душой сочувствуя трудящимся, их тяжелому экономическому положению, искренне желая им помочь и даже понимая, что единственный выход — свержение буржуазного строя, не были связаны прочно с рабочими и крестьянами. У них не было связи с Коммунистической партией, которая тогда руководила из подполья борьбой трудящихся за свое будущее.
В 1931 году в Москве начали издавать литературный, политический и общественный журнал «Приекалас» («Наковальня»). В нем участвовали руководящие деятели Коммунистической партии Литвы, а также группа писателей и журналистов, сидящих в литовских тюрьмах или живущих в Советском Союзе. С одним из них — Пранскусом-Жалёнисом[79] я познакомился лишь после Великой Отечественной войны, хотя он когда-то тоже учился в Мариямполе. Уже после закрытия «Третьего фронта» я читал его сборник стихов «Бурные силы», изданный в 1932 году в Минске, и эти революционные стихи понравились мне. В годы нашего тесного знакомства я убедился в том, какой это честный человек, вдумчивый литературный работник. Но в то время наши отношения с «Наковальней», которую редактировал Пранскус, складывались неудачно, просто курьезно.
«Наковальня», придерживаясь тогдашних указаний о тактике в отношениях с так называемыми правыми социалистами, без оглядки нападала на «Третий фронт». В этом журнале появился целый ряд статей, которые в какой-то степени правильно критиковали идеологическую непоследовательность «Третьего Фронта», политическую незрелость, оторванность от борьбы трудящихся. Но в этих статьях, часто написанных развязным тоном, «третьефронтовцев» громили и за то, что они участвуют в легальной печати, их обвиняли в несуществующих грехах, о них распространяли всяческие небылицы. Поэтому критика «Наковальни» заставляла нас серьезнее относиться к своей работе, а с другой стороны, раздражала и возмущала незаслуженными придирками, к тому же очень грубыми.
В то время, как печать фашистской Литвы атаковала «Третий фронт» и поносила его, когда цензура безжалостно марала и уродовала его, «Наковальня», вместо того чтобы правильно оценить создавшееся положение, отталкивала нас. Мало того. Буржуазная литовская печать то и дело перепечатывала критику «Наковальни», и фашисты получали лишний случай позубоскалить над нашей деятельностью. Наше положение и впрямь становилось трагичным. И лучшие сотрудники журнала не растерялись, не ушли в фашистский лагерь (кроме одного Райлы) только потому, что они искренне верили в великий идеал социализма, в правильность пути Советского Союза, читали советские газеты и книги.
Я и другие сотрудники журнала часто переписывались с Саломеей Нерис. На пасхальные каникулы она приехала в Каунас. Сидя за столиком в кафе Конрадаса, Нерис, Райла и я несколько часов вели откровенный разговор. Нерис излагала нам все свои сомнения, а мы рассказывали о своих общественных и эстетических взглядах, описывали эволюцию и перспективы нашего журнала. Поэтесса видела, как нас встречает печать, как поносит каждый реакционный орган. Но это не пугало ее. Сейчас, несколько лет спустя, снова встретив Саломею, я говорил с совершенно новым человеком. Внимательно поглядывая на нас своими прекрасными темными глазами, она активно участвовала в беседе. Это была думающая женщина, которую заботила судьба не только личная, но и ее родины и всего мира.
Пятый номер «Третьего фронта» вышел в начале мая. Уже не раз писали, что напечатанные в нем три стихотворения и заявление поэтессы были встречены врагами и новыми друзьями словно взрыв бомбы. Во время разгула реакции, когда вся жизнь была скована фашизмом и клерикализмом, когда всюду, особенно в школах, царила удушливая атмосфера предрассудков и шовинистического угара, одна из самых популярных правых поэтесс, преподавательница гимназии, руководимой ксендзами, вдруг заявляет:
«С этого дня я сознательно выступаю против эксплуататоров трудящихся и постараюсь объединить свою работу с деятельностью масс, постараюсь, чтобы моя будущая поэзия была орудием их борьбы и выражала их желания и цели».
Под этими словами мог подписаться лишь человек огромной воли, окончательно понявший историческую обреченность правящего класса, глубоко поверивший в победу нового, социалистического общества, лишь человек, который предпочел идею жизненным удобствам и готов был подвергнуться ради нее преследованиям, упрекам и ненависти бывших друзей. Реакционеры всех мастей позднее заполнили кипы бумаги объяснениями того, что поэтесса ничего не поняла, что она была аполитичной личностью, что ее шаг был продиктован какими-то разочарованиями в любви и местью, — но все это имеет лишь одну цель — извратить неприятную истину. А эта истина была очень уж неприятна клерикалам — это было одним из главных их идейных и моральных поражений за весь период буржуазной Литвы!
Теперь известно, что не один «Третий фронт» направил Саломею Нерис по новому пути. Уже раньше поэтесса встречалась с членами компартии, разговаривала с ними, выясняла важнейшие проблемы нашей эпохи, восхищалась их революционной борьбой. С другой стороны, взгляды Нерис формировались под влиянием марксистско-ленинской литературы, которую она с большим вниманием читала. Продолжая свой путь, Саломея Нерис позднее стала провозвестницей социалистического мира и на все времена вошла в историю нашей литературы и народа.
С Нерис я встретился летом 1931 года, после того как ее стихи уже были напечатаны. Я помню солнечное воскресное утро, когда в мою комнатку по Прусской улице кто-то постучался. Я только что встал и даже не прибрал в комнате, и мне, помню, было неприятно, что я заставил свою гостью ждать на кухне, через которую можно было попасть в комнату. Наконец Нерис вошла и сказала, что она — «свободна», то есть ее заставили уйти из клерикальной гимназии в местечке Лаздияй.
Мне хотелось чем-нибудь угостить гостью, но дома ничего не оказалось, и лишь после долгих уговоров она согласилась выпить чаю. Мы снова долго сидели за одним столиком и попивали горячий чай, как тогда, несколько лет назад.
Но Нерис была совсем другой. Она по-прежнему была привлекательна, но в ее лице, фигуре появилась какая-то зрелость. До конца своих дней она сохранила нежность и хрупкость, но все ее слова показывали, что за те годы, пока мы не виделись, она росла, страдала, думала. Она не была разговорчивой (напротив, она была замкнутым, стеснительным человеком), но, видно, в ее душе накопилось множество вопросов, и она разговаривала со мной как со старшим, хотя я не смел себя сравнивать с ней.
— Ты видишь, что творится, Саломея, — сказал я. — Все собаки воют из-за твоего вступления в «Третий фронт». Ну как, страшно?
Она улыбнулась не то жалобной, не то смелой улыбкой.
— Мне пришлось нелегко, это правда. Я не могу понять, почему такое простое событие так на всех подействовало, почему они так взволновались.
— Ты помнишь, Саломея, я тебе писал, что твой новый путь будет не легким и не приятным, а ты меня не послушалась, — Шутливо напомнил я ей об одном из своих писем. — И теперь нам вместе придется выдержать поношения реакции.
— Я не боюсь этих поношений, — ответила Нерис. — Я глубоко верю, что правилен мой новый путь.
Мы покончили с чаем, но я заметил, что гостья не собирается уходить, что ей хочется поговорить со мной. И мы разговаривали еще несколько часов — о Советском Союзе, достижения которого в то время восхищали меня и ее, о поэзии, в основном, конечно, о Маяковском, о Бехере, Вайнерте и других революционных поэтах, которых Нерис, хорошо владевшая немецким языком, тогда читала. Я заметил новую черту в Саломее: она разговаривала со мной очень серьезно, словно то, о чем мы разговаривали, было для нее вопросом жизни и смерти. Я поблагодарил ее за книжку «Следы на песке», которую она мне недавно подарила, а она, покраснев, объясняла, что стихи в книге слабые, что уже сейчас, хотя книга и недавно вышла, она многих бы из них не напечатала. Она сказала, что ее стихи, помещенные в «Третьем фронте», тоже слабые, что ей трудно найти новую форму для новых тем.
Я смотрел на нежное, прекрасное лицо поэтессы, на ее задумчивые, печальные глаза и думал, хватит ли сил у этой чувствительной женщины, которая, без сомнения, много настрадалась от своих бывших друзей и единомышленников, — хватит ли у нее сил долго идти по новой дороге. Ведь на старом пути ее ждал постоянный успех, признание, слава и жизненные удобства. А новый путь — с «Третьим фронтом» — не сулил ничего, кроме неприятностей. И я откровенно говорил об этом поэтессе, но мои слова, кажется, начали оскорблять ее, и я уже жалел о своей резкости. Наверное, свой поворот влево она глубоко продумала и пережила и теперь не боялась клеветы и поношений, которые тогда падали на нее со всех сторон. На моем столе как раз лежала какая-то провинциальная газетенка, в которой некто, прикрывшийся псевдонимом, цинично поносил нашу дружбу в стишках.
Наряду с разнузданной клеветой, в стихотворении содержались явные политические намеки на то, что поэтессой должна заинтересоваться сметоновская охранка. Нерис прочитала грязные строчки, положила газету и сказала:
— Как хорошо я их знаю — этих людей! В этом вся их логика и — этика. Как все это низко и неинтересно!
Мы целый день провели с Нерис. Шимкус, который тогда, кажется, впервые встретился с Саломеей, и я наскребли последние деньги и решили повести свою гостью в приличный ресторан и угостить хорошим обедом. Мы обедали в «Версале», и Нерис, наверное, удивлялась, почему мы выбрали этот дорогой ресторан, который был нам явно не по карману. Но нам хотелось отметить нашу встречу как небольшой праздник.
Всех нас, сотрудников «Третьего фронта», радовал приход Нерис в наш журнал. Если первый ее сборник и не особенно нам нравился, то «Следы на песке» явно показывали рост поэтессы, и мы, хоть и поклонники другой поэзии, от души восхищались прекрасными стихами «Литва изгнанника», «Песня жизни», «Как вишни цветение», «Сирому брату». Мы считали, что последнее стихотворение книжки отражает поворот поэтессы к новому пути:
А я улыбаюсь и в счастье поверила, И все потому, что былое сломила, Как вишни отсохшую ветку. Разрушила храм, где так долго кадила Химерам любви и лазурным поверьям, И мост за собою спалила.Осенью 1931 года должен был выйти двойной — шестой-седьмой — номер «Третьего фронта». Насколько помню, во время обеда в «Версале» мы разговаривали о будущем номере, планировали его. Нерис чувствовала себя свободно и хорошо, мы старались оказывать ей внимание. Она была нашим другом, и мы гордились дружбой с ней.
Потом мы долго гуляли по зеленым улицам Каунаса и говорили, говорили без конца. Шимкус размахивал руками, доказывая, что «Третий фронт» откроет широкий путь для нашей новой литературы. Нерис, как обычно, мало говорила, а больше слушала, но было видно, что она интересуется рассуждениями своих новых друзей о литературе, что ей нравятся паши остроты в адрес литературных противников. В ее глазах иногда загорался интерес, губы раскрывались в улыбке, и она, подняв голову, с любопытством поглядывала на кого-нибудь из нас, а то и по-детски хохотала, и мы чувствовали, что наш новый товарищ, хоть и кажется сейчас задумчивым, может от души веселиться.
Наконец мы попрощались. Нерис собиралась еще зайти к каким-то своим знакомым. Она крепко пожала, даже потрясла наши руки.
— Будем друзьями, — серьезно сказала она.
Тогда мы еще не знали, что Нерис до самой своей кончины будет нашим близким другом. Мы стояли и долго провожали взглядом поэтессу. Она исчезла в толпе. И мы почувствовали, что в нашу жизнь вошло что-то новое, юное и прекрасное. Вокруг стало светлее.
Пятый номер «Третьего фронта» вызывал всеобщий интерес не только из-за Саломеи Нерис, хоть это, разумеется, было главной причиной. Всем своим содержанием журнал повернул в сторону социалистической литературы.
Через всю первую страницу шел рисунок советского художника Соколова-Скаля «Рабочий». Номер был украшен также гравюрами Кольвиц и Мазереля. По случаю годовщины смерти Маяковского мы поместили портрет поэта работы Давида Бурлюка и несколько стихотворений. Пятрас Цвирка дал острый рассказ «Жизнь так приятна». Наши новые позиции недвусмысленно выражали цикл моих стихов «О всяких вещах», статья Корсакаса, обобщавшая ответы на нашу анкету, статья Райлы «Рывок пролетарской литературы». В номере не было Казиса Боруты. Может быть, он просто не успел подготовить материал, а может быть, ему не все понравилось в четвертом номере, — теперь трудно судить об этом.
Так или иначе, но пятый номер «Третьего фронта» широко прозвучал не только как протест против мещанского убожества литовской жизни, но и как надежда на новый, другой мир. О каком мире шла речь в журнале, нетрудно было вычитать меж строк…
После выхода пятого номера раздались остервенелые крики. «Эхо Литвы» опубликовало «Письмо в редакцию» Гербачяускаса, в котором старый противник «Третьего фронта», потеряв равновесие, вопил: «Я не совсем понимаю политику, которую ведут наши правительственные органы по поддержанию внутреннего порядка и спокойствия… Неужто поклонники коммунистов пользуются в Литве привилегиями?.. Нашим писателям придется применить браунинг, чтобы защитить свою жизнь от агентов международного пролетариата».
Этот истеричный вопль мистика предупредил нас, что «Третий фронт» собираются закрыть. Газета «Утро» напечатала статью под заголовком «Варяги красного большевизма в Литве». Старик Адомас Якштас ни с того ни с сего поместил в своем сборнике стихов целый «гимн» нашему коллективу, понося нас совершенно нексендзовскими словами:
Вы не эхисты-конструктивисты, А просто-напросто собакисты.Короче говоря, против нас восстала вся реакция, буржуазная печать всех направлений. В борьбе против нас использовали клевету, вымысел, ложь. Но для нас самих наш путь становился все яснее, и мы не собирались отказываться от него.
В начале лета в Каунасе я встретился с литовским писателем из США Альгирдасом Маргерисом,[80] антирасистский рассказ которого «У нас кожа черная» мы опубликовали в последнем номере журнала. Маргерис в те годы придерживался либеральных или социал-демократических взглядов. Но наш журнал ему понравился, и он обещал по возвращении в Америку организовать там поддержку «Третьему фронту». Он мне показался интересным, думающим человеком, влюбленным в свою старую родину, хотя здесь его далеко не все радовало. Я чувствовал, что он, долгие годы живший в условиях буржуазной демократии, просто не переваривает литовского фашизма.
Лето я провел в родной деревне. «Штудирую теорию исторического материализма, — писал я своему старому другу Жиленису. — Каждый день набиваю голову полезными сведениями».
Драздаускас написал мне из Скуодаса: «Саломее я пишу и посылаю литературу. Посылай и ты. Очень важно, чтоб она не стояла на месте. Важно и необходимо, чтобы она не ударилась в «сентиментальный социализм». Кажется, этого не случится, она — баба смелая, и такие вещи ей не к лицу».
Как будет реагировать Казис в Берлине на свежий номер «Третьего фронта»? Это тревожило нас.
А Борута в один прекрасный день появился в Каунасе. Приехал он, как я понял, нелегально (нелегально он жил и в Берлине). Несколько дней прожил у меня, потом, кажется, увиделся с профессором Биржишкой. Хотел уехать куда-нибудь из Каунаса, подальше от охранки. Я списался по этому делу с Райлой, решив, что на краю Литвы, где была его деревня, никому не придет в голову искать Казиса. Но Казис к Райле не попал, потому что тот в это время из деревни уехал. Так что Казис продолжал жить в Каунасе — по нескольку дней у разных знакомых.
(Летом 1964 года мы с Борутой гуляли по Паланге. Показав небольшую виллу по улице Бирутес, он сказал:
— Здесь Вацловас Биржишка выиграл меня в карты у министра внутренних дел Рустейки. Когда в тысяча девятьсот тридцать первом году я вернулся из-за границы, меня должны были арестовать и посадить. Профессор Биржишка мне сказал: «Не бойся, такие дела можно устроить в частном порядке. Я буду играть в карты с Рустейкой и за столиком улажу это дело».
Так и случилось, — рассказывал Казис. — Но позднее начальник охранки Статкус увидел, что я гуляю на свободе, и все-таки загреб меня. А может быть, передумал сам Рустейка.)
О «Третьем фронте» с Казисом мы почти не разговаривали — отложили это дело до осени, когда весь коллектив соберется после каникул в Каунасе.
Корсакас опубликовал большую статью в журнале «Культура» — «Поворот влево», в которой, охарактеризовав общественное и литературное положение во всем мире, широко проанализировал причины решения Саломеи Нерис. Статья нас всех обрадовала. Это была большая моральная поддержка Саломее, на которую тогда нападали со всех сторон. Многие читатели поддержали ее своими письмами. Это тоже радовало нас.
РАЗГРОМ
«Третий фронт» стал одним из главных фактов литовской литературы. О нем широко писали и спорили не только литовские буржуазные газеты различных направлений, не только «Наковальня» в Москве и «Голос» в Тильзите. Уже появились статьи о нашем журнале в латвийской, польской, немецкой печати, в газетах американских литовцев. На анкету «Третьего фронта» ответили рядовые читатели, а также такие видные представители общественности, как Тумас, Венуолис, Видунас, профессора Резерве и Ляонас. По-разному оценивая наш журнал, эти люди не могли не признать его значения для литературной жизни.
Настала осень, и мы снова собрались в Каунасе. Шла интенсивная подготовка к двойному — шестому-седьмому — номеру журнала. Новые произведения и переводы дала наша свежая сила — Саломея Нерис.
В Каунас приехал Корсакас. Мы встретили его на вокзале с розами (кому-то пришла в голову такая дипломатическая идея). Каким было наше удивление, когда мы вместо бородатого человека профессорского вида, каким мы его представляли, увидели невысокого, худощавого, бледного паренька в очках, то и дело размахивающего руками, нервного, вспыльчивого, словно он беспрестанно горел и кипел внутри. Говорил Корсакас очень громко и четко, и Цвирка, послушав его, позднее обмолвился:
— Не мог понять, почему Костас так громко говорит, а потом додумался: в тюрьме привык.
Но Костас доказывал, что на его родине, в Пашвитинисе, все говорят громко.
Мы вместе пообедали в «Лозанне» у вокзала и говорили сразу обо всем — о будущем номере «Третьего фронта» и о журнале «Культура», в котором Корсакас теперь заведовал литературным отделом, о новых книгах и летних впечатлениях (летом Шимкус, Цвирка, Райла, Драздаускас побывали в Паланге, где часто встречались с Нерис и много разговаривали с ней о литературе и философии). Мы все очень радовались, что ваш товарищ будет теперь не в тюрьме и не в другом городе; мы сможем каждый день встречаться, вместе думать, планировать и работать.
Этой осенью в нашей жизни появилось еще одно новшество. В одном из дворов по улице Ожешко стоял деревянный дом. В нем должен был открыться клуб рабочих. Мы сразу почувствовали, что в руководстве клуба немало разумных людей, неплохо знакомых с марксизмом, понимающих, как надо работать с рабочими, как их организовать и просвещать. По вечерам здесь стала собираться рабочая молодежь с различных предприятий Каунаса. Ее привлекало многое — спортивные кружки, шахматы, хор, разучивавший революционные песни, читальня, библиотека. В библиотеке можно было найти не только классиков поэзии и прозы на литовском и русском языках, в ней встречалась и марксистская литература. Мы приносили сюда лучшие свои книги, и Пранас Моркунас подарил всю свою большую библиотеку. Устраивались вылазки за город. Клуб назывался «Надеждой». С первых же дней мы — Цвирка, Нерис, Моркунас, Драздаускас, художник Тарабидда и другие — стали частыми его гостями. В клуб приходили и прогрессивные работники театра — Грибаускас и Юкнявичюс,[81] которые интересовались новыми исканиями. В клубе чувствовалось, что все, кто собирается здесь, ненавидят фашизм и искренне интересуются жизнью Советского Союза. Полулегально исчезали и снова появлялись не только книги Плеханова, но и статьи Ленина, номера советских журналов.
Мы стали издавать стенгазету «Молодой пролетарий». Это, пожалуй, была одна из первых рабочих стенгазет в Литве. Заметки, стихи рабочих и наши переписывались на машинке и аккуратно помещались на большом листе картона. Текст украшали карикатуры Стяпаса Жукаса и Тарабилды, остро высмеивающие эксплуататоров, мещан, реакционеров. Помещали также фотографии из жизни каунасских рабочих и снимки из советской печати.
Очень нужны были новые революционные песни — переводные и оригинальные, написанные на мелодии известных советских песен. Нерис, Цвирка и я охотно взялись за эту работу. Вскоре хор клуба пел написанную Нерис песню «Черная, белая армия убийц», песню Конармии.
Мы подружились со многими рабочими — парнями и девушками, которые охотно посещали по вечерам уроки, слушали беседы, учились читать и писать, изучали русский язык, который должен был открыть им путь к великой литературе и помочь узнать ближе жизнь Советского Союза. В правлении клуба работал симпатичный человек — Юозас Мозялис, кажется, рабочий канализации Каунасского магистрата, большой друг Советского Союза. Этот вежливый, корректный человек с виду казался мягким, но на самом деле отличался силой воли и упорством.
По вечерам нам никуда не хотелось идти, ни с кем не хотелось встречаться — мы спешили в свою «Надежду». Здесь нас окружала атмосфера дружбы и молодости. Мы находились среди людей, которые мечтали о новой жизни, о социализме и старались лучше понять эту жизнь.
По той же улице Ожешко находился зал «Мирамар». Здесь состоялся большой вечер литературы и искусства, подготовленный самими рабочими. Грибаускас и Юкнявичюс позаботились об оформлении и освещении сцены, мы пришли со своими революционными стихами. Не помню, чтобы Нерис или Цвирку где-нибудь встретили теплее, чем в этом зале, где собрались рабочие. Мы читали последние свои произведения, и продолжительные аплодисменты призывали нас читать еще и еще. Хор отважно пел свой революционный репертуар, спортсмены демонстрировали интересные акробатические номера. Приподнятое настроение царило в зале и на сцене, — казалось, что все мы живем в каком-то новом мире, где так много искренности, улыбок и настоящего веселья…
В типографию «Райде» поступали все новые рукописи. В моей комнатке мы спорили о материале номера — о стихах, статьях, прозе. Хотелось, чтобы все в этом номере было куда лучше, чем в предыдущих. Казис в этих разговорах не участвовал. Мы старались объяснить друг другу его отсутствие тем, что его положение полулегальное. Каждый день ему угрожает охранка, тюрьма, допросы, и пускай он лучше не путается там, где все его могут увидеть. Но каждый из нас знал, что последний номер нашего журнала не может понравиться ему.
И вот почти весь номер набран. Спустя некоторое время военный цензор капитан Вилутис возвращает в типографию гранки. Все они перечеркнуты красным карандашом и подписаны цензором. Спустя два дня приходит новая порция гранок, перечеркнутая от начала до конца… Кому-то из нас или из типографии цензор наконец сообщил, чтобы материалов «Третьего фронта» ему больше не приносили, он все равно его не пропустит. Это была ликвидация журнала без распоряжения министра внутренних дел, без юридической санкции.
Что она уже готовилась — нам было ясно. Появление Нерис в журнале, без всякого сомнения, еще больше приблизило его конец. В этом большую роль сыграли клерикалы, которые поносили нас в печати и устно. Мариямпольская газетенка утверждала, что мы получаем деньги из СССР и продались большевикам (поначалу нам хотелось подать на эту газетенку в суд, но мы вскоре поняли свою наивность: неужели фашистский суд может вступиться за нас?!).
Детище упорной работы последних лет оказалось задушенным. Журнал, с которым мы связывали столько надежд, который на самом деле объединил лучшие силы молодых прогрессивных литераторов, в котором мы зрели, мужали, приближались к марксистско-ленинской идеологии, марксистскому пониманию роли и задачи литературы, был ликвидирован, как и все прогрессивное в фашистской Литве.
(Мы не успели расплатиться с типографией за набор последнего номера, и она не преминула вычесть эту сумму несколько лет спустя из нашего скудного жалованья).
Такая же судьба ожидала и клуб «Надежда». В клуб ворвалась сметоновская охранка. Она расхитила библиотеку, унесла стенгазету, собрала ноты и тексты песен. Арестовали руководство клуба — Мозялиса, Тарабилду, Стяпаса Жукаса, Моркунаса, Драздаускаса и других. Чувствуя, что и ко мне может ворваться охранка, я вынес из дому материалы «Третьего фронта», всю переписку и спрятал у знакомой студентки.
После ликвидации «Третьего фронта» мы просто не знали, что делать. Не придумав ничего лучшего, мы составили письмо к литовской интеллигенции, призывая ее протестовать против подобного насилия, и, размножив, разослали по почте профессорам, актерам, художникам, писателям. Увы, лишь малая часть писем дошла до адресатов, — охранка выловила письма еще на почте. Если некоторые наши интеллигенты и были возмущены поведением охранки, они даже не могли поддержать нас — в печати их протесты появиться не могли.
Мы удивились и обрадовались, когда несколько недель спустя увидели московскую «Литературную газету». Критикуя направление нашего журнала, она сочла необходимым заявить о своей братской солидарности с нами и протестовала против закрытия «Третьего фронта». В статье «Литовский фашизм душит левых писателей» «Литературная газета» писала:
«Сейчас «Третий фронт» стал лицом к лицу с буржуазной реакцией. Доведение третьефронтовцев в данный момент покажет, насколько они преданы общей борьбе трудящихся масс Литвы против фашизма.
Мы решительно протестуем против новых попыток литовского фашизма задушить всякое революционное, культурное и литературное движение в Литве и призываем присоединить свой голос протеста все революционные, литературные организации других стран».
Это была большая моральная поддержка для нас.
После расправы с «Третьим фронтом» и клубом «Надежда» правая печать ликовала, словно совершила настоящий подвиг. Она писала, что власти искоренили коммунистическое «гнездо», что охранка продолжает обыски и аресты.
Все-таки дальнейшие аресты были приостановлены. Видно, охранка не надеялась доказать, что Цвирка или Нерис — коммунисты; они ведь тогда ими и не были. Кроме того, фамилии некоторых представителей нашего журнала были известны не только в Литве, но и за ее пределами. Сметоновская охранка, видимо, понимала, что она не поднимет своего авторитета арестами и преследованиями писателей.
Закрытие журнала и клуба, обыски, аресты — всем этим власти хотели напугать, деморализовать нас. В то время мы были еще недостаточно закалены, чтобы они, хоть частично, не достигли своей цели. Стало ясно, что дальше нам уже не удастся продолжать легальную организованную литературную работу. Надо было выбирать — или идти в подполье, перестав участвовать в легальной печати (таким тогда было требование партии), или перестать работать в литературе, или свернуть по пути наименьшего сопротивления — в трясину буржуазной и желтой печати, которая поглотила уже многих талантливых людей.
Для первого пути мы еще не созрели. Мы еще не были готовы связать свою судьбу с партией, подчиниться ее дисциплине, которая казалась нам тогда недостаточно гибкой, а подчас и догматичной. Нам казалось, что, если мы будем печатать свои произведения лишь в нелегальной литовской коммунистической печати, мы не сможем расти как писатели.
Идти в бульварную печать, разумеется, мы тоже не могли — слишком уж любили настоящую литературу. Бульварная печать казалась нам грязной, морально нечистоплотной. Мы знали, что нас, как писателей, ждет в ней только смерть. Некоторые из нас, например Шимкус и частично Цвирка, к сожалению, иногда отдавали ей определенную дань, относясь к этому как к способу заработка. Ведь от «Третьего фронта», как я уже говорил, ни один из сотрудников не получал ни цента гонорара. Мы осуждали и критиковали товарищей за участие в бульварной печати, но все было напрасно, потому что иначе они не могли заработать свой прожиточный минимум. По Каунасу и другим городам Литвы тогда ходило множество интеллигентов-безработных, которые подолгу тщетно искали частных уроков или места дворника.
Уйдя из клерикальной гимназии, Нерис попыталась устроиться в Каунасе. Она поселилась в семье профессора Миколайтиса. В этот год мне приходилось часто встречаться с ней. Самой актуальной для нее была проблема работы. Но мы, бывшие сотрудники «Третьего фронта», сами кое-как перебивались, и даже напечатанные вещи давали нам столь мизерные доходы, что лишь с большим трудом оплачивали жалкие комнатки и убогий обед. Раньше мы думали, что если Нерис поселится в Каунасе, мы найдем для нее какую-нибудь работу, но теперь это оказалось невероятно трудным. И Нерис, быстро исчерпав свои скудные сбережения, очутилась в настоящей бедности. Она не хотела об этом говорить, но при встрече с ней чувствовалось, что у нее нет даже нескольких центов для самых необходимых расходов. Мы не могли ей ничем помочь и ощущали свою вину перед ней.
В Каунасе на Лайсвес-аллее недавно возник современный ресторан «Пэл-Эл». Внизу можно было выпить бокал пива, а на втором этаже за столиками по вечерам сидела публика и пила, танцевала. Изредка и мы на минутку забегали сюда. На третьем этаже находились отдельные кабинеты, которые снимали, чтобы отметить день рождения или именины… Не знаю почему, и мы однажды собрались в таком отдельном кабинете, чтобы поговорить, как жить дальше, потеряв журнал и клуб «Надежда». Спорили мы остро, единого мнения не было. Драздаускас повторял свою любимую поговорку: «Нечего унывать, будет еще хуже» — и доказывал, что пора уйти в подполье, наладить тесную связь с коммунистами, участвовать в партийной печати. Мне казалось, что мы, не отрекаясь от марксистской партии, все-таки должны участвовать в легальной печати, потому что иначе не сможем расти как писатели. Насколько помнится, меня поддержали Корсакас и Шимкус. Цвирка склонялся к мнению Драздаускаса и даже пытался послать позднее свои стихи в московскую «Наковальню». Нерис тоже была убеждена в том, что надо уходить в подпольную печать. И верно, ее стихи позднее появились в «Наковальне». В одном из таких совещаний (всего их было два) участвовал и Борута. Он не меньше нас страдал из-за ликвидации «Третьего фронта», хотя наш журнал в последнее время стал для него чужим — никто больше и слушать не хотел о «парне». Нам было даже стыдно о нем говорить, как о каком-то анахронизме. Кроме того, почти для всех теперь стал неприемлемым тезис Боруты о левой литературе, стоящей выше партии. Скорее всего, тогдашняя русская советская литература, ее практика, да и западная пролетарская литература, с которой мы успели познакомиться, оказали на нас влияние.
Раскол сотрудников «Третьего фронта» и развал всего организованного движения страшно подействовали на Боруту. В тот вечер он выпил больше других и даже заплакал. Когда мы вышли на Лайсвес-аллею, он широким жестом стащил с головы шапку, швырнул ее на тротуар и крикнул:
— Чихал я на Сметону!.. Никого я не боюсь. Кто я — дерьмо или хозяин литовской земли?!
Кое-кому поведение Казиса показалось смешным, позерским, но он глубже всех пережил всю эту трагедию.
Так мы и разошлись… Правда, временно.
…Моя хозяйка, портниха, у которой я жил в последние годы, переехала дальше от центра, на улицу Вишинскиса. Она снова предложила мне комнату.
Недолго раздумывая, я нанял извозчика и перевез свое скудное имущество — железную кровать и шкафчик с книгами. Пишущую машинку, которую я недавно купил, я сам перенес на новую квартиру.
Ко мне стал заходить молодой неразговорчивый, немного суровый человек. Он интересовался «Третьим фронтом», Цвиркой и Нерис. Он хорошо знал и советскую литературу. Я в это время следил за ней, постоянно читал «Литературную газету» и книги советских писателей. Нас всех интересовала вторая международная конференция революционных пролетарских писателей, которая проходила в конце 1930 года в Харькове. В ней участвовали представители двадцати трех стран — 120 человек. Конференция положила начало Международной ассоциации революционных писателей. В Москве начали издавать на нескольких языках орган этой ассоциации — «Литература всемирной революции». Мы получали произведения пролетарских и революционных писателей Германии, Франции, США и других стран.
Новый мой знакомый, настоящую фамилию которого я узнал лишь летом 1940 года, был коммунист Александрас Гудайтис-Гузявичюс,[82] недавно вернувшийся из Москвы. Он жил на нелегальном положении и приходил ко мне в сумерках, когда на плохо освещенных улочках Зеленой горы трудно было разглядеть лица. Мы неторопливо продолжали разговор о литературе. Члены «Третьего фронта» хотели сотрудничать в «Литературе всемирной революции» и вообще наладить связь с Международной ассоциацией революционных писателей. Нам казалось, что таким образом мы приобретем вес не только в собственных глазах, — охранке тоже будет труднее нас разгромить, если мы шире выйдем в свет. Увы, наш коллектив уже не существовал. Цвирка, получив мизерную стипендию от общества «Жибурелис», уехал в Париж. Корсакас поступил вольнослушателем в университет (его на неопределенный срок лишили гражданских прав, и, сдай он даже экзамены за весь курс гимназии, ему все равно бы не дали аттестата), кроме того, он начал редактировать «Культуру», редакция которой перебралась в Каунас, так что он был занят своей работой. Нерис жила в Каунасе и кое-как перебивалась без постоянной работы. Несколько раз мои друзья тоже встретились у меня с Александрасом Гудайтисом-Гузявичюсом. Никто из нас, кроме Шимкуса, не знал его фамилии. Шимкус жил вместе с ним какое-то время в общежитии, да и раньше они вместе учились в Паланге. Но Йонас никому не раскрыл секрета. Чтобы во время беседы нас не настигла охранка, мы выставили на стол бутылку дешевого и отвратительного аникшчяйского вина, которое пили все студенты. Собрание выглядело как чьи-то именины. Наш новый товарищ говорил, что мы должны повернуть по пути пролетарской литературы, что он попробует помочь нам наладить связь с «Литературой всемирной революции» (этот московский журнал редактировал польский писатель Бруно Ясенский, автор сенсационного романа «Я жгу Париж»). Кроме того, Гудайтис-Гузявичюс хотел сблизить нас с прогрессивной печатью американских литовцев. Все это нам казалось очень интересным и значительным. Я помню, что в совещании участвовала и Саломея Нерис, которая с большим одобрением и интересом слушала слова нашего нового товарища.
Гудайтис-Гузявичюс иногда заходил ко мне воспользоваться пишущей машинкой. Писал он в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, — надо было остерегаться охранки. Оставив его за машинкой, я уходил погулять, разумеется не интересуясь тем, что он пишет.
Вскоре наши встречи прекратились — охранка выследила и арестовала Гудайтиса-Гузявичюса. Я узнал об этом, увидев его снимок в бульварном «Воскресенье», где его называли крупным деятелем компартии Гальдикасом. А «Воскресенье» я купил вечером, направляясь на встречу с Гудайтисом-Гузявичюсом на Зеленой горе. Я несколько часов прождал его в условленном месте (мы должны были вместе отправиться на тайное собрание интеллигенции), но так и не дождался… Я снова увидел его лишь в 1940 году, когда он вышел из фашистской тюрьмы и вместе с нами с первых же дней стал строить новую Литву.
Фашистская охранка свирепствовала, выслеживая каждый шаг партии. Наши контакты с коммунистами, налаженные во время работы клуба «Надежда», снова прекратились.
Теперь я чаще бывал в университете. По правде говоря, порядок был такой, что можно было учиться хоть до старости — никто не заставлял спешить. Одни не надеялись получить работу после окончания университета (особенно студенты-антифашисты); другие — таутининки и большинство клерикалов — уже имели доходные места и знали, что по окончании университета им все равно не прибавят жалованья; наконец, третьим мешали учиться тяжелые условия жизни. Меня можно было причислить к первой или к третьей категории студентов. Я не спешил получить диплом и потому, что был занят другим делом, и потому, что грозила опасность оказаться в числе безработных интеллигентов, и потому, что мне не нравились студенты, которые зубрили записи лекций и сдавали экзамены, не прочитав ни одной книги.
Я относился к числу студентов, которые за годы учения прочитали если не горы, то хоть груды литературы. Я неплохо ознакомился с русской и французской литературами, прочитал почти всех их классиков. Кроме того, в последние годы я следил за литературой по общественным вопросам, глубже познакомился с марксизмом-ленинизмом. И лишь теперь, когда наше литературное движение было разгромлено, я решил окончить университет. Я сдавал экзамен за экзаменом и довольно быстро догнал своих сокурсников, которые, заботясь лишь о коллоквиумах и экзаменах, сильно опередили меня. После того как уменьшились мои заработки по редактированию агрономической литературы (видно, и в этой области кто-то стал вредить мне), я начал в университетской библиотеке готовить библиографический труд «Мировая художественная литература на литовском языке». Я собрал большой материал. Профессор Вацловас Биржишка согласился публиковать мой труд в «Библиографическом вестнике», редактором которого он был. И я ежемесячно получал от журнала небольшой, но постоянный гонорар.
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
В то время в Каунасе появился писатель, который вскоре подружился со всеми, кто имел что-нибудь общее с прессой. Мы слышали, что этот чернявый, темноглазый тридцатилетний человек только что вышел из тюрьмы, где провел десять лет, хоть и приговорили его к пожизненному заключению. Его произведения публиковала в основном правая печать. Насколько мы знали, кто-то из правых выхлопотал ему досрочное освобождение.
Я встретился с ним в кафе Конрадаса, где так называемые каунасские интеллектуалы собирались дважды в день: первый раз — до обеда, около двенадцати часов, и второй раз — вечером, часов в семь-восемь. За столиками тогда сидели писатели и журналисты, художники и актеры. Среди них слонялись различные «поклонники искусства», те, кто любил послушать разговоры писателей и художников, узнать новый анекдот. У Конрадаса подавали лишь кофе с вкусными пирожными — здесь не было ни обеда, ни спиртного. За столиками сидели обычно компаниями. Мы никогда не подсаживались к столику, где сидел Гербачяускас. А вот наш новый приятель бывал всюду — то выпьет с одними чашку кофе, то сидит и курит с другими, а то, гляди, толкует с кем-то у двери и вскоре совсем исчезает из кафе, через минуту появляется снова и болтает с каждым, как со старым другом, курит и пьет кофе, если только его угостят.
(Кофе был, разумеется, недорогой, но в кафе приходило немало таких, для кого заплатить и за чашку было проблемой, хотя они готовы были провести целый день в теплом помещении, в котором собирались каунасские знаменитости. Говорят, что находились даже такие хитрецы, которые, заказав кофе и вылив его, вынимали из спичечного коробка принесенную с собой муху, бросали ее в чашку, подзывали владельца или официанта и принимались кричать, угрожать, что напишут о «грязи» в газеты. Владелец кафе бесплатно угощал скандалиста, чтобы избежать неприятностей.)
В кафе Конрадаса я и познакомился с этим новым человеком. Без особых церемоний он сам подсел к моему столику и спросил, нет ли у меня курева и не могу ли я заказать ему кофе. Когда я удовлетворил оба его желания, он тут же принялся рассказывать, как тяжело ему живется: спит он в мастерской у какого-то портного, и днем ему негде писать, потому что там вечно бродят клиенты, а портной с подмастерьями шьет.
Мне стало жалко нового знакомого, и я начал было думать, как бы ему помочь, но он, не допив принесенного кофе, уже беседовал в другой компании, с редактором какой-то газеты, договариваясь об очерке. Снова вернувшись к моему столику, он заявил, что вырвал у редактора пять литов аванса и сейчас пойдет в «Метрополь» обедать.
Я, как и сотни других каунасцев, день изо дня то в кафе, то на улице, то в какой-нибудь редакции видел бледного от длительного заключения, но оживленного, подвижного чернявого человека, завязывавшего все новые знакомства, дружески беседовавшего с каждым, рассказывавшего были и небылицы, случаи, анекдоты. Все, что он рассказывал, было чрезвычайно правдоподобно, но в следующий раз от него можно было услышать новый вариант прежней истории, и никто не знал, который из них точнее.
Прочитав что-то из произведений Йонаса Марцинкявичюса (так звали нашего нового знакомого), Пятрас Цвирка сказал:
— Что ни говори, а у Марцинкявичюса много того, что делает истинного писателя, — фантазии, наблюдательности, запасов жизненного материала… Если б только он уважал себя, постарался, не совал в печать все, что на ум взбредет…
Увы, Марцинкявичюс не получил, а может, и не искал другой работы. Он уже завоевал известность двумя романами, которые все читали, — одни находили в них что-то ценное, а другие считали чистой бульварщиной. Это были «Закованные злодеи» и «Над бездной».
Марцинкявичюс в тюрьме прочитал много бульварной литературы, и она, видно, оставила на нем свой отпечаток.
Меня, по правде говоря, интересовало не столько его творчество, сколько сам автор. При каждой встрече он рассказывал о своих бедах и о тщетных попытках прилично устроиться. Его беспрестанно преследовали большие и мелкие несчастья, как выходило по его рассказам.
Было интересно узнать что-нибудь из его жизни, и он рассказал мне свою историю, в которой, возможно, была часть правды, но хватало и вымысла.
— Мне еще не было девятнадцати, когда я добровольцем пошел в литовскую армию, — рассказывал он. — Очень уж мне хотелось походить с погонами, в сапогах, в шинели. Пока я служил в армии, нашел чертовски красивую девушку. Как только получаю увольнительную — гуляем, разговариваем, а в укромном месте и целуемся. И вот однажды эта девушка как в воду канула. Я и туда, и сюда, и там, где она жила, ищу, даже ее брата нашел, — все как один: «Не знаем, не слышали». Я уже почти позабыл красавицу, как вдруг получаю от нее весточку. Так, мол, и так, все хорошо, живу в Вильнюсе, все у меня есть, только без тебя мне плохо. Приезжай, мол, в Вильнюс, и мы поженимся. Квартира есть, работы тут сколько хочешь — и на железной дороге, и на фабрике.
Я и так и сяк думаю, и все перед глазами эта девушка — высокая, белокурая, губы толстые, красные, сердце тает от одних воспоминаний… После долгих сомнений я бросил литовскую армию, переоделся в штатское и перебежал через границу.
До Вильнюса добрался, нашел свою красавицу, собираюсь создавать счастливую жизнь, и тут меня цапнула польская охранка. «Ага, говорит, значит, через рубеж из Каунаса пришел. Знаем, чего тебе надо, — литовская власть прислала тебя шпионить!» Я и плачу, и говорю, что ничего подобного, а они за свое. «Можем тебя расстрелять, говорят, и комар носу не подточит». Держали меня в тюрьме, голодом морили, и днем и ночью допрашивали и наконец говорят: «Вернешься в Литву и будешь собирать для нас сведения. И никуда от нас не сбежишь. В Литве у нас есть свои агенты, они за тобой последят, и, если будешь увиливать, тебе крышка».
И что ты думаешь? Привезли меня к демаркационной линии и пустили ночью в сторону Литвы. В Литве меня арестовали, а я только этому рад. Отвезли меня в Каунас, допрашивали… «Ага, — говорят мне в литовской охранке, — из армии убежал. Это первое. Во-вторых, тебя поляки завербовали. В-третьих, вернулся в Литву шпионить. Знаешь, что за такие делишки тебе пуля в лоб? Знаешь?» — «Знаю, говорю, как не знать».
Держали меня долго, допрашивали, били, потом надоело им, они и говорят: «По-польски умеешь?» — «Умею». — «Хорошо, пошлем тебя в Сувалкский край. Поедешь в Варшаву и свяжешься с нашей агентурой. Будешь делать, что они тебе прикажут. А если нет — пуля в лоб, понял?» — «Понял, говорю, как тут не понять».
Снова доставили меня к линии и, дождавшись темной ночи, отпустили. Забрался я в какое-то болото, промок, продрог, сел на какой-то пенек и думаю: «Будь что будет, а больше в Польшу не пойду. В Литве я родился, в Литве и умру…» Сижу, плачу, а уж светает. Я-то знаю, откуда пришел и куда идти, чтобы вернуться в Литву. Встал и иду, по сторонам посматриваю. Видно, я еще не успел оказаться в Польше. Гляжу, а литовские часовые кричат, чтобы я остановился. Остановился, поднял руки. Они подивились, что я тот самый, которого накануне должны были перебросить через границу. Снова доставили меня в Каунас, и теперь уже — без жалости, пожизненное заключение. Будь я тогда совершеннолетним, меня бы, пожалуй, расстреляли. Вот кусок из моей биографии. Своеобразный, правда? И не из приятных, да что поделаешь? Могло и хуже кончиться…
С Марцинкявичюсом бывало много всяких историй. Я слышал рассказ, как однажды Марцинкявичюс принес пухлую рукопись в «Новое слово», но показывал только издали, требуя аванса. Увидав заголовок, редакторы рискнули выплатить ему неплохой гонорар. Получив его, Марцинкявичюс положил на стол рукопись и убежал. Оказалось, что в этой рукописи была лишь первая страница — дальше шли пустые листы…
Бывало и так, что Марцинкявичюс являлся в редакцию, взволнованно заявлял:
— Спасите, братцы, жена рожает, позарез нужны деньги…
И когда растроганные редакторы из последних сил достают помощь по такому чрезвычайному случаю, в дверях кабинета появляется сама Марите, жена Йонаса, которая вышла на его поиски, не дождавшись дома…
Сердца Марцинкявичюс был доброго. Если у тебя, скажем, украли пальто, он, не моргнув глазом, отдаст свое, а если у него такового не окажется, он возьмет для тебя чужое.
Проделки Йонаса бывали чаще смешными, чем обидными. Я ни разу не видел, чтобы он с кем-нибудь всерьез поссорился. Всегда он говорил только мягко, вечно искал друзей или знакомых, которые выставили бы ему кружку пива, рюмочку водки, заказали бы шницель или порцию «цепелинов», потому что его гонорара никогда не хватало на жизнь. Лишь однажды я видел Йонаса сердитым.
Я сидел за столиком у Конрадаса. За большим столом по соседству сидел Гербачяускас, окруженный своими почитателями. Гербачяускас, видно, находился в трансе, он махал длинными тощими руками, вытянув тонкую шею, на которую падали длинные седые лохмы, и что-то философствовал о духах, спиритизме, оккультных и прочих тайных науках. Его почитатели одобрительно кивали, изредка вставляя вежливые вопросы, а Гербачяускас говорил и говорил, попивая остывший кофе.
Йонас Марцинкявичюс сидел за тем же столиком, что и Гербачяускас, и вдруг, когда тот замолк, сказал:
— Знаете что, господин Гербачяускас, слушаю я вас и думаю: такие философы, как вы, в Варшаве и Кракове стоят на каждом углу. Они тоже разводят руками, болтают о высоких материях, и все непонятно, с иностранными словами — всякими гипертрофиями, оргазмами, синекдохами, мистицизмами и оккультизмами… Но там никто их не слушает. Там каждый сопляк в лицо им смеется… А вы сидите, болтаете, и слушают вас тут всякие, даже думают, что вы открываете Америку… Я вам скажу откровенно — вы вроде петуха: кудахтает, а яйца нет…
Выслушав тираду Марцинкявичюса и зная, что Гербачяускас любит отвечать циничным словом или каламбуром, я ждал этого и сейчас. Но странное дело — Гербачяускас ничего не сказал, только, стиснув тонкие губы, дергая короткими седыми усиками, нервно тер руки. Молчали и его почитатели. А Марцинкявичюс встал и вышел из кафе.
Примерно в это же время я подружился с другими интересными людьми. Одним из них был художник Тарабилда. Они с Цвиркой вместе учились в Художественном училище. Тарабилда вскоре вошел в нашу компанию. Это был думающий художник, он немало читал литературы по вопросам марксизма и сам считал себя марксистом. Но без подготовки трудно было понять сложные труды. Художник усваивал их схему, а не дух. Мы встречались с ним, еще когда издавали «Третий фронт». В клубе «Надежда» он рисовал для стенгазеты карикатуры на буржуев. После ликвидации «Надежды» его арестовали, и он какое-то время просидел в каторжной тюрьме. Но, выйдя из тюрьмы, он продолжал считать себя левым — тюрьма его не напугала.
Чем дальше, тем больше он становился чудаком. Он с большим пылом начал читать книги о йогах, которые издавались в Риге различными торгашами, и страшно ими увлекся. Придя в мою комнату (уже на улице Донелайтиса), Пятрас рассказывал, что укрепляет свою волю и намерен делать чудеса. Он брал одной рукой стакан, другую отводил в сторону и, дико выпучив глаза, говорил:
— Вот погляди, видишь? Беру стакан и вот, держу вот так. А другой рукой вот так, видишь? И вот из пальцев идут флюиды! Вот, вот, погляди, идут флюиды!.. И вода начинает кипеть, видишь, видишь? Уже кипит — я заставляю воду закипеть! Или беру камень, — говорил он, поставив стакан на стол, — и гляжу на него. Гляжу, напрягая всю волю, и камень раскалывается, понятно? Я его раскалываю одним усилием воли…
Я смеялся:
— Черт подери! Хорошую вещь ты выдумал. Ведь таким образом можно тесать камни на шоссе и хорошо зарабатывать…
Тарабилда не обижался на мои шутки. Он рассказывал, что вылечился от всех болезней простейшим способом — повесил над кроватью надпись «Я здоров» и повторяет ее при каждом случае, когда встает и ложится, умывается и ест, ходит и выходит, даже когда ничего не делает. Главное — самовнушение!
Он охотно вступал в споры о марксизме и науке йогов с каждым, кто только хотел его слушать. Товарищи рассказывали, что как-то из деревни к нему приехала мать и разговорилась с ним по каким-то, так сказать, идейным вопросам. Увидев, что она что-то не так говорит, сын воскликнул:
— Ты знаешь, мама, как назвать такие твои речи? Это чистой воды оппортунизм!
Однажды Тарабилда ввалился ко мне среди ночи, бледный, с мутными глазами.
— Наконец-то я выяснил, кто такой Чюрленис, — сказал он мне.
— Который? Что служит в Министерстве просвещения?
— Что ты! — возмутился Тарабилда. — Я говорю о композиторе! Знаешь, кто он такой? Хороший художник, но типичный представитель прослойки обнищавших дворян… Вот как надо относиться к Чюрленису!
— Знаешь что, — сказал я, — во-первых, Чюрленис никогда не был обнищавшим дворянином, во-вторых, я хочу спать, сегодня этот вопрос меня совершенно не интересует…
— Не интересует?! — воскликнул Пятрас. — Как он может не интересовать? Погоди, послушай, я тебе докажу. Возьмем, к примеру, его картины…
И он принялся излагать какую-то запутанную, странную теорию, которая, видно, только что возникла у него в голове и показалась чрезвычайно значительной, иначе зачем ему было бежать посреди ночи ко мне со своим открытием?
Смешно? Может быть, немного и смешно. Зачем я это рассказываю? Я хочу показать, что в то время наша интеллигенция блуждала в поисках правды. Тот же Тарабилда не раз позднее доказывал, что марксизм, в соединении с наукой йогов, мог бы окончательно и бесповоротно ответить на все вопросы.
Мы тогда считали его чудаковатым «марксистом» и адептом «науки йогов», но талантливым художником, интересным человеком.
Некоторое время Тарабилда интересовался так называемым «Пактом Рериха» — проектом защиты от уничтожения в случае войны архитектурных памятников, музеев и других ценностей. Он создал в Каунасе отделение общества Рериха. Но с этим отделением, увы, никто не считался, и никакой роли ни в мирные, ни в военные годы оно не сыграло…
СНОВА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Многое в жизни человека случается неожиданно. Совсем не ожидаешь, и вдруг тебя постигла беда. Совсем не думаешь, и вдруг сваливается такая радость, что даже голова кружится…
Я довольно редко появлялся в университете. На лекции я уже не ходил, разве что загляну в аудиторию, где читает Винцас Миколайтис. Этот профессор, который недавно начал работать на нашем факультете, меня интересовал как писатель. Мне нравились его молодое, серьезное лицо, немного печальные глаза за стеклами очков, скромная, благородная манера вести себя. Читал он не спеша, четко, очень красиво произнося слова. Каждая фраза у него была полна содержания. Он был прямой противоположностью Изидорюса Тамошайтиса,[83] который преподавал введение в философию и говорил преувеличенно сложно, прикрывая убожество мысли фразами, которые любили повторять его слушатели: «Если взять с той или иной стороны, если подойти с того или иного конца, имея в виду вышесказанное и вышеизложенное, приняв во внимание то да се, придем к выводу, что так или иначе, что ни говори» — и так до бесконечности. Миколайтис же говорил логично, не повторялся, — было ясно, что он, готовясь к лекции, много работает дома. Читал он курс эстетики. Я соглашался не со всеми его мыслями, но его лекции заставляли думать, искать ответа. Слушая Миколайтиса, все время думал я и о его прекрасных стихах, которые любил с юности, об отрывках из «В тени алтарей», которые появились и в студенческой печати. Мы с нетерпением ждали выхода этого романа.
Миколайтис был сдержанным человеком; может быть, поэтому мы, студенты, как-то не могли с ним сблизиться, хотя слышали, что раньше, работая на факультете теологии и философии, он тесно общался со студентами-литераторами. Мы совсем не знали, что он думает о нас, о «Третьем фронте». Мы не знали, что острая статья против нашего журнала, напечатанная в журнале «Очаг» под псевдонимом, принадлежит перу Миколайтиса (это выяснилось позднее, когда он эту статью включил в свою книгу «Литературные этюды»).
Придя как-то в университет, я увидел, что большая аудитория битком набита студентами. Из университета только что был уволен Гербачяускас, и его сторонники собрались требовать, чтобы его вернули обратно. Вслед за двумя сторонниками Гербачяускаса на кафедру поднялся новый студент, Костас Корсакас.
— В университет мы собрались учиться! — кричал он. — А здесь нашли шута! Шутов в старину короли держали при своих дворах. Видно, Гербачяускас думает, что наш университет — королевский или помещичий двор. Но нам такие не нужны! Я предлагаю протестовать против шута! Долой шутов из университета!
Часть студентов аплодировала и кричала. Выступал еще кто-то, — кажется, за Гербачяускаса, — и аудитория снова аплодировала. Вдруг в дверях появился ректор Чепинскис, Он оказался в коридоре еще во время речи Корсакаса. Увидев ректора, все замолчали.
Мистик Гербачяускас, один из злейших врагов «Третьего фронта», прославился различными выходками еще до того, как его уволили из университета, и студенты пытались с ним бороться. Некоторое время назад в главной аудитории университета, на улице Мицкевича, он читал публичную лекцию. На нее пришли не только студенты, но и посторонние слушатели. Говорил Гербачяускас как обычно, темпераментно, ломая длинные тонкие руки с длинными тонкими пальцами. А мы увидели, что в первом ряду сидит наш Пранас Моркунас в солдатской шинели. Пока говорил Гербачяускас, Моркунас — по правде говоря, тоже редкий чудак; — все время нервно что-то писал в блокноте. Едва Гербачяускас кончил речь, Моркунас, который обычно не любил и не умел выступать, попросил слова, встал около кафедры и, близоруко щурясь на блокнот, начал:
— Так-то так, уважаемые (он не отличался красноречием и вечно искал нужное слово), так-то, Гербачяускас, значится, нес тут всякую чепуху, так-то, так-то… Я выражаю протест, потому что здесь, значится, не цирк, м-да… а храм науки, значится… Нам тут паяцы не нужны…
Выложив все это, Моркунас сел. Зал с нетерпением ждал, как отреагирует Гербачяускас. Едва замолкли аплодисменты после выступления Моркунаса, как Гербачяускас снова взобрался на трибуну, потер руки, вытянул тощую шею, огляделся и подождал, пока аудитория полностью не успокоится, потом отчетливо сказал:
— Вот видите, видите, господа… Бывает, что в хорошей компании кто-нибудь возьмет да пукнет…
Моркунас снова вскочил; но между тем грянули аплодисменты, и весь зал с хохотом поднялся с мест. Моркунаса уже никто не хотел слушать.
Гербачяускас воевал с руководством университета за нецензурные выражения, которыми он любил уснащать свои лекции. Был он и против университетской дисциплины.
Вскоре Гербачяускас уехал в Польшу.
Но вернемся к прерванному повествованию. В университет я ходил все реже. Много времени я проводил в читальне, где собирал материал для экзаменов и дипломной работы. Когда надоедало читать, я выходил прогуляться по коридору факультета, а то спускался по лестнице в подвал покурить и выпить чаю. В подвале около раздевалки стоял стол для игры в пинг-понг, и там всегда кто-нибудь играл. Однажды, проходя мимо, я увидел молодую студенточку, которая играла с неподдельным азартом, ловко отбивая мяч, то и дело отбрасывая левой рукой падающие на глаза темные волосы. Девушка была невысокая, тонкая, изящная. В ее фигуре, в движениях, в привычке отбрасывать в сторону падающие пряди волос было столько изящества, что я просто не мог оторвать от нее глаз. Выкурив сигарету, я вошел в буфет, заказал чай и принялся отгадывать характер по подписи у собравшихся здесь студентов и студенток. Тогда у меня была своя «теория» — что в подписи человека отражены черты его характера, и я любил ради шутки рассказывать всем, кто этого желал, об их наклонностях и способностях.
Вошла в буфет и моя незнакомка, на которую я, может быть, слишком откровенно глядел, не скрывая восхищения. Когда она тоже села за стол, я спросил:
— Может быть, и вы покажете свою подпись? Хочу узнать, какой у вас характер.
Немного удивившись, девушка посмотрела на меня своими зелеными глазами, подписалась в чьем-то блокноте и, пододвинув его ко мне, сказала:
— Пожалуйста.
Я посмотрел на четкую, ровную подпись и сказал:
— Подпись хорошая. Вы откровенны, искренни, у вас большой вкус…
— Это очень интересно, — сказала девушка. — Откуда вы это взяли?
— У меня есть своя теория. Одно то, что вы не ставите точки после подписи, как делает большинство женщин, показывает, что вы не мелочны. А вот ровные, не скомканные буквы….
Без особых церемоний, как принято среди студентов, мы познакомились и вместе вышли на улицу. Я рассказывал, что собираюсь кончать университет, она сказала, что недавно только поступила, и мне было хорошо, когда я видел обращенное к себе лицо с небольшой родинкой. Когда я пригласил ее к Конрадасу выпить кофе, она сказала, что никогда не бывала в этом кафе, но зайти не отказалась. Только мы сели за столик, появились Юозас Микенас,[84] Мечис Булака и еще несколько художников. Девушка стеснялась их, но я представил их как моих друзей, и мы разговаривали о том, что приходило в голову, — об университете, скульптуре, публике в кафе и погоде. Погода была хорошая, весна была в разгаре, и мои друзья уже говорили о предстоящем отпуске, о каких-то небольших поездках, а я думал о том, что скоро придется уехать домой и целое лето корпеть над дипломной работой, которую я должен кончить до осени.
Мы вышли из кафе, и невероятно хорошо было идти вместе с этой удивительной девушкой в сторону собора. На углу я помог ей сесть в автобус. Она еще раз улыбнулась, повернулась ко мне, а я остался один и почувствовал, что мне кого-то не хватает.
На следующий день я снова увидел эту девушку перед столом для пинг-понга. Она заметила меня, кивнула как хорошему приятелю, улыбнулась, и мы снова встретились в буфете, потом гуляли по городу, кто-то фотографировал нас перед пушками Военного музея и у здания университета. Теперь девушка была в красном платье, которое делало ее еще изящней, и такой красивой казалась мне крохотная родинка на щеке. Похоже было, что не только я, но и она обрадовалась встрече. Говорила она по-дружески и просто, совсем не кривлялась. Я удивился, узнав, что она читала даже наш журнал.
— Папа хотел спрятать «Третий фронт» и запер в ящике. Но мы расковыряли замок, понесли журнал наверх и прочитали, спрятавшись с сестрой. Очень было интересно…
— У вас есть сестра?
— Да.
— А она где учится?
— В Художественном училище… Вы бы видели, как она рисует!..
Мы начали встречаться каждый день и разговаривали, казалось бы, о будничных вещах, которые почему-то наполнялись смыслом и интересом. Довольно быстро мы перешли с официального «вы» на дружеское «ты». Я никогда раньше не встречал такой искренней и простой девушки.
Начались каникулы. Я приехал домой, обложился книгами и каждый день, сидя в саду за столиком, гуляя по полям, помогая Юозасу в работах, думал о своей дипломной. Потом я начал ее писать и писал каждый день. В полуденную жару вместе с братьями уходил к озеру, плавал, грелся на солнце, а когда спадала жара, снова садился за стол, медленно, но упорно двигаясь вперед.
Лето шло, и, удивительно, я никак не мог забыть эту девушку. Будь она здесь, не было бы человека счастливее, чем я. Мы бы гуляли по полям, я бы показывал ей каждую тропу, повел бы на Часовенную горку, где стоят исполинские старые березы. Я знал, что она понравилась бы моим братьям, хотя мама, без сомнения, подумала бы, что она не работница. У меня был ее адрес, и я написал ей письмо — дружеское, сдержанное, боясь ранить ее неосторожным словом.
Прошла неделя или больше. Я пошел в Любавас и нашел на почте ее ответ. Девушка писала, что помнит обо мне, рассказывала о Верхней Фреде — предместье Каунаса, где она жила и в котором я бывал очень редко. Приложила даже несколько фотографий. На них — виды Ботанического сада, аллеи, деревья Верхней Фреды, а на одном крохотном снимке стоит она, моя подруга, на глаза ее падает прядь темных волос. Я десятки раз читал незамысловатое письмо, написанное четким, красивым и ровным почерком.
Я написал еще раз, чувствуя, что мое письмо теплее первого, что в нем появились намеки, которые были понятны только нам двоим. Я писал о себе, своей работе, мыслях, о путешествиях в окрестности нашей деревни, о природе и птицах, о том, как хочу ее поскорее увидеть, как часто о ней думаю…
Несколько очень длинных дней, и снова я нашел в Любавасе на почте новое письмо, еще более дружеское. Девушка не обиделась, наоборот, все, что я ей написал, оказалось для нее интересным.
Лето шло медленно, насыщенное запахами хлебов и полевых цветов, полное тоскливых песен на вечерних полях, лунных ночей, а я писал, и черкал, и снова писал, вначале рукой, а потом на машинке, страницу за страницей, свою дипломную работу… И тосковал по ее письмам и по ней самой — по девушке, которую я так мало знал и которая казалась мне удивительно близкой.
Годы учения подходили к концу. В деревне меня разыскала повестка в армию. Пока я платил за учебу, пока был студентом, до тех пор военная служба меня не касалась. Теперь мне пришлось ехать в Мариямполе и здесь предстать перед призывной комиссией.
Поначалу я был одним из многих. Когда, пройдя несколько врачей, которые меня прощупали со всех сторон, я предстал перед самой комиссией — в ней сидели незнакомые люди в военной форме, — я услышал, как один из них, прочитав мою фамилию в списках, сказал:
— А, «Третий фронт»… Да, да… Известно…
И он принялся шептать что-то на ухо своему соседу. Все заинтересовались и многозначительно переглянулись, но не стали говорить при мне…
Я чем-то не понравился глазному врачу, и было принято решение послать меня на доследование в Каунасский военный госпиталь.
В Каунасе я позвонил во Фреду и услышал в телефонной трубке голос, по которому так тосковал… Мы встретились на какой-то выставке. Мы шли мимо картин, но я их не видел, видел только знакомую фигурку, доверчиво обращенное ко мне лицо, прядь волос, падающую на глаза, и теплую улыбку.
Госпиталь находился на проспекте Витаутаса. Отгороженный стеной от улицы, он располагался в нескольких зданиях. Мне предоставили койку в длинном коридоре, где лежало еще несколько десятков новобранцев, присланных на исследование. С утра всех по очереди вызывали в кабинет. Когда пришла моя очередь, я увидел врача с печальными и красивыми глазами. Его лицо с небольшой бородкой напоминало портреты Чехова. Это был доктор Немейкша. Сразу же, еще не услышав ни одного его слова, я испытал к нему расположение.
Он долго исследовал мои глаза и качал головой. Я прямо заявил, что в армию идти не хочу, что я по своим убеждениям антимилитарист (он усмехнулся, но ничего не сказал), что служба в армии разрушит мои планы (он не спросил какие и снова тепло улыбнулся). Видно, болезнь глаз была не очень серьезной, и он не мог меня из-за нее освободить. На следующий день меня снова вызвали в его кабинет, и он снова проверял мои глаза…
Лежа на скрипучей металлической койке, я прочитал принесенную с собой толстую книгу — «Былое и думы» Герцена. Никто мне не запрещал этого, я ведь еще не был солдатом. Герцен меня сразу восхитил своим талантом и чувством эпохи. Особенно удивительно он изображал свою любовь. Это настоящая поэма, которую читаешь, не в силах отложить книгу в сторону.
Однажды вечером я вышел прогуляться в сад госпиталя и встретил старого знакомого. Он, как и я, был в сером халате. Роста он был невысокого, поэтому халат почти волочился по земле. Мы сразу же узнали друг друга. Это был поэт Йонас Коссу-Александравичюс. Мы по-дружески поздоровались, хотя в университете, зная различия своих взглядов, встречались и беседовали редко. Теперь нас сблизило общее несчастье. Оказалось, что Коссу-Александравичюс на самом деле попал в беду. Его веснушчатое лицо и он сам еще больше уменьшились, съежились. Похож он стал на общипанного воробья, и я спросил:
— Послушай, что с тобой? Ты и правда неважно выглядишь. На глазах Коссу-Александравичюса заблестели слезы.
— Черт их знает, — сказал он. — Не понимаю, чего им от меня надо. Пригнали, заперли в палате. Теперь каждый день вызывают, кладут на стол и тискают живот. И так тискают, так щупают, что я просто реву.
— А что у тебя там?
— Откуда мне знать? Сказал, что иногда чувствую боль. Может, аппендицит или другой черт. Ну и пристали эти дьяволы и, как видишь, проверяют, что со мной! Мало того, еще издеваются: «Симулянт, хочешь увернуться от службы. Забываешь слова генерала, что человек без военной науки и религии — просто свинья. Мы им еще покажем, этим поэтам! Увидят, что служить в армии — это не стишки кропать!» И так каждый день, — жаловался Коссу. — Иногда до того невмоготу становится, что хочется себя порешить.
— Ну, ты уже слишком! Проверят всё и отпустят…
— Я им и говорю, — сказал Коссу, — делайте из меня хоть генерала, отправляйте куда хотите — со всем согласен. Только кончайте эти пытки… А они знай издеваются. Боль еще можно выдержать, а вот всех этих измывательств… не могу, понимаешь?
Несколько вечеров мы гуляли по саду госпиталя — оба в длинных халатах, смахивающие не на беззаботных студентов, а на арестантов.
Здесь я хотел бы шире поговорить о Йонасе Коссу-Александравичюсе, который в то время и позднее был заметной фигурой в литературной жизни.
Молодые литераторы Каунаса любили компании: если меня чаще всего можно было встретить с Цвиркой или Шимкусом, то Коссу-Александравичюс ходил с Юодялисом и почти не разлучался с поэтом Мишкинисом. Рыжий, веснушчатый паренек был хорошего мнения о своем таланте, но при встрече с нами, чтобы придать себе больше цены и поиздеваться, прикидывался скромницей.
— Куда уж нам с Мишкинисом, — говорил он Цвирке и мне. — Что мы значим? Вот вы — это таланты, можно сказать, гении…
Цвирка, никогда не лазивший за словом в карман, отвечал:
— Ладно уж, ладно, поэт мучительной тоски… Менуэт кузнечиков ты описал что надо… Тут с тобой не сравнишься.
— Знаешь что, братец, — в другой раз говорил Коссу, — читал твою новую новеллу. Воды — как у мельницы в Кедайняй….
— Не больше, чем в твоих стихах, — отвечал Цвирка. Иногда мы перебрасывались и более крепким словом, но друг на друга не сердились.
Коссу любил притворяться оппозиционером и рассказывал, что, написав стихи «Пес короля» («Умер пес короля — хороший пес»), имел в виду адъютанта Вольдемараса, убитого во время покушения. Позднее он получил государственную стипендию и уехал в Гренобль. Несколько лет спустя он написал диссертацию о переводах евангелия на старопровансальский язык (подобная работа нашему народу была, конечно, нужна как собаке пятая нога).
С Коссу, как я уже говорил, я никогда не был близок. Иногда при встрече я смеялся над его статьями, потому что поэт, которого превозносила критика, отличался раздутым самомнением — он уже корчил пророка, выступающего от имени всего народа.
Приходилось сталкиваться и публично. Весной 1934 года поляки издали номер литературной газеты «Вядомосци литерацке», посвященный литературе и искусству Литвы. В нем была напечатана статья Коссу, в которой он охарактеризовал некоторых наших писателей старшего поколения. Статья мне показалась слабой, и я выступил об этом в печати. Наши отношения еще больше испортились.
В 1939 году мы встретились в Каунасе с Коссу, который вернулся на каникулы из Франции. Мы встретились, забыв старые распри, довольно дружелюбно разговаривали о многом — в том числе о судьбе Литвы перед лицом гитлеровской угрозы. Зашла речь и о Советском Союзе. Я рассказал о своих впечатлениях, о Ленинграде и Москве. Коссу внимательно слушал меня. Потом он сказал, что боится: советский строй нарушает творческую свободу. Я сказал ему, что многие даже не мечтали о творческой свободе в Литве. А что и говорить о гитлеровской Германии! Но Коссу тогда мне показался человеком, ищущим правду. Увы, я ошибся.
Так и не вернувшись после войны в Литву, Коссу (назвавшись теперь Айстисом) совершенно выдохся как поэт. Зато в клерикальной печати американских литовцев он постоянно печатает антисоветские статьи. В них он пишет о старых знакомых, некоторых из них, как, например, Нерис, просто проклинает. В своем бешенстве против Советской Литвы и ее писателей Айстис переплюнул крайних реакционеров. Иногда трудно даже поверить, что это тот самый нежный певец кузнечиков.
Доктор Немейкша спрашивал, не жалуюсь ли я на что-нибудь, кроме глаз, посылал меня к специалисту по ушным болезням, но и тот как будто бы не нашел ничего серьезного. Проведя несколько недель в госпитале, я наконец вышел на волю. Почему-то до сих пор мне кажется, что в армию я не попал не столько из-за глаз (они мне служат по сей день), сколько из-за «Третьего фронта»…
ВСЕ ЕЩЕ РАЗБРОД
Теперь я все реже встречался с друзьями. Пятрас Цвирка жил в Париже и писал в письмах, что не может привыкнуть к большому городу, тоскует по Литве. Йонас Шимкус, так и не закончив гимназии для взрослых, женился и по-прежнему работал, кажется, у нотариуса. Он много писал в прогрессивной печати (в «Культуре», «Молодежи»), но, увы, все чаще печатался и в «Воскресенье», «Дне», «Новостях дня», «Мире молодых». Пока выходил «Третий фронт», мы, насколько могли, боролись против участия товарищей в беспринципной бульварной печати. Но условия были такие, что молодых писателей просто тянуло в болото — иначе им нечего было есть. Не все шли этим путем. Скажем, Борута еще из Берлина писал нам, что этот путь не для него. «Чертовски хотел бы попасть куда-нибудь простым рабочим, чтобы можно было решить вопрос хлеба, не погубив себя».
Все реже видел я и Райлу. Он был самым обеспеченным из нас (как я упоминал, его родители были крупными хозяевами), он жил, не зная, что такое борьба за кусок хлеба. Видно, с малых лет его баловали, так что и теперь он не стеснялся. При каждом случае он выпивал. Когда мы жили у Блазаса, Райла писал на папиросной бумаге историю фашистского переворота 1926 года и собирался послать ее в какую-то антифашистскую литовскую газету за границу. Дело было секретное, и я не старался узнать, для кого и что он пишет. Написав, Райла тщательно подсчитал строчки и сказал, что должен получить такой-то гонорар. Мне его протест против фашистского режима казался идейным, и я удивился, что он хочет на этом заработать.
Райла гордился своими любовными похождениями и корчил героя, перед которым не устояла еще ни одна женщина. Некоторые из «подвигов» Райлы прозвучали довольно широко. И Корсакас, едва выйдя из Шяуляйской тюрьмы, писал мне: «Наш коллектив не должен стать шайкой пьяниц. В этом отношении особенно трудно будет с Бронисом, о пьяных похождениях которого даже в провинции ходят слухи…»
Райла очень уж ценил жизненные удобства и удовольствия. Отличаясь трудолюбием, во времена «Третьего фронта» он перевел с немецкого толстую книгу Ремарка «Дорога назад» и вообще много писал. Он заранее подсчитывал свои доходы и старался получше уладить дела.
После закрытия «Третьего фронта» Райла продолжал интересоваться социализмом, жизнью Советского Союза, читал труды немецких коммунистов. Он все еще любил помечтать о дальнейшей литературной работе, об издании новых журналов и новых книг. Но его пыл заметно угасал. Еще тогда, когда мы печатали «Третий фронт», Райла любил поговаривать:
— Интересно, кто из нас первым перебежит к фашистам? Думаю, что это будет Венцлова… Понимаете, он родом из Сувалкии, а тамошний народ…
И он принимался доказывать, почему сувалкийцы ближе всего к фашизму.
Этот человек все больше отдалялся от нас и приближался к лагерю, который мы ненавидели всей душой и считали главным бедствием Литвы.
Райла устроился на Зеленой горе, в деревянном доме, который поэт Майронис выстроил для своей подруги. Поселился Райла в квартире этой женщины. Однажды утром я застал его в кровати — он отдыхал после ночной попойки. Закурив сигарету, он со смехом рассказал:
— Иногда сюда заходит сам Майронис. Вот и на той неделе звонит кто-то в дверь. Открываю. А это наш великий поэт стоит и спрашивает, дома ли госпожа. Госпожи не оказалось, и он велел передать ей какой-то пакет. Я взял, понес в комнату и, думаю, посмотрю, что же там такое. Осторожно развернул. Смотрю — конфеты, шоколад, орехи. Даже облизнулся. Не каждый день доводится пробовать такие сладости. Ну и поделил пополам. То есть половину взял сам, а половину снова завернул, отнес в гостиную и положил на столик. Неужели будет спрашивать у нее Майронис, сколько там было плиток шоколада или конфет?..
Мне эта история не понравилась, но Райла продолжал смеяться:
— Ничего, не обеднеет величайший литовский поэт… А мне, студенту, удовольствие…
Мы начали разговаривать о недавно полученном номере «Наковальни», где снова нападали на «Третий фронт». Райла зевнул и сказал:
— Знаешь что, братец, я тебе начистоту скажу. Надоело мне все это. Я пришел к выводу, что капитализм еще крепок, что при нем еще можно жить. Возьму-ка я и продамся фашистам. Так сказать, поверну по капиталистическому пути.
— Ты что, шутишь? — сказал я, удивившись его цинизму.
— Мне не до шуток, — спокойно ответил Райла.
— Ты хочешь с фашистами, которые?..
— А почему бы нет? — ответил Райла. — У них в руках власть. С ними не пропадешь, братец…
— Если ты так думаешь, нам не о чем больше разговаривать, — сказал я и ушел.
Я ходил по улицам и не мог успокоиться. Райла, который всегда казался левее всех нас! Если только не было посторонних, он не стесняясь ругал Сметону и Вольдемараса, издевался над таутининками, неолитуанами, клерикалами, в последнее время любил философствовать о социализме — и он теперь от всех отвернулся, откровенно и цинично перебежал к врагам! Это не умещалось в голове. Правда, «Наковальня» всем нам немало попортила крови, но неужели социализм — это одна «Наковальня»? Неужели нет нового государства — Советского Союза, где растет строй более справедливый, чем наш? Когда о своих сомнениях и разговоре с Райлой я рассказал друзьям, они не слишком удивились, некоторые сказали, что давно этого ждут, а Блазас даже расхохотался:
— Знаете что? Он у меня спрашивал, не пойти ли ему служить в охранку. Я ответил, что если он так подумал, то, без сомнения, пойдет…
Некоторое время спустя в «Литовских ведомостях» появилось сообщение, что бывший член «Третьего фронта» Бронис Райла уже работает в охранке. Мы ждали, что Райла или охранка поместят опровержение в печати (так обычно поступали). Но никакого опровержения мы не получили.
Тогда я написал своему бывшему товарищу короткое, недвусмысленное письмо: по известным ему причинам я порываю с ним дружбу и знакомство и, встретив на улице, не буду с ним здороваться. Несколько дней спустя мое письмо вернулось назад вместе с ответом Райлы. Райла не пробовал объясняться и доказывать, что не стал охранником. Он нападал на меня за то, что я смею придерживаться старых взглядов и писать ему подобные письма — я ведь «ем литовский хлеб»! Подобные рассуждения Райлы пахли упреками «Литовского эха» по адресу литовской интеллигенции, которая не желает поддерживать фашистскую политику; так что я ответил ему: не думаю, что лишь молодчики его профессии имеют право «есть литовский хлеб». Письмо Райлы я отправил вместе со своим ответом. Несколько дней спустя оно вернулось. Не имея желания продолжать споры с этим человеком, я, даже не раскрывая письма, уничтожил его.
Несколько раз ко мне заходила (думаю, что без ведома Райлы) его подруга Данета. Она говорила, что мы — не женщины, которые ссорятся из-за платьев; в политических спорах можно и помириться. Увы, эта красивая девушка с умом маленького ребенка меня не сумела убедить. Встретив на улице бывшего товарища, ставшего охранником, я отворачивался. Остальные сотрудники «Третьего фронта» также прекратили с ним отношения.
Прошло немного времени, и мы услышали, что Райла уже поднимается по ступеням карьеры: сотрудничает в печати таутининков, получая, разумеется, хороший гонорар, болтает по радио, собирается ехать в Париж… В фашистском журнале «Руль», который нас поносил, теперь начали появляться статьи А. Валькинишкиса. Они были полны ненависти к социализму, «Третьему фронту», «культурбольшевизму». Нетрудно было догадаться, что это за новая поганка.
Понимая, что, став таутининком, будет еще легче делать карьеру, Райла в 1934 году вступил в их союз.
В более поздние годы я часто возвращался мыслями к событиям того времени и думал, какие психологические причины направили одного из нас на путь ренегата и предателя. Карьеризм? Без сомнения. Склонность к легкой и приятной жизни, выпивке, женщинам — все это тоже сыграло роль. Но это, наверное, еще не все. Поговаривали, что Райлу арестовали еще и Паневежской гимназии. Может быть, гадали товарищи, его уже тогда завербовали в шпики. Закончив гимназию, Райла уехал в Каунас, и охранка временно забыла о нем. Но когда он стал членом «Третьего фронта», принялся писать статьи о пролетарской литературе, заделался истинным «р-р-революционером», охранка вызвала его и напомнила про старые обещания. Не знаю, так ли было на самом деле. В историю общественной жизни и литературы Райла вошел как ренегат, предатель и охранник. Он сознательно свернул по этому пути, решив, что капитализм еще прочен, что карьеристы могут еще неплохо жить… И правда, Райла некоторое время жил в роскоши. Но он пал морально и как писатель, и как человек (сейчас, в эмиграции, он с тоской вспоминает о безвозвратно минувшем жирном прошлом таутининка и изредка поругивает своих старых знакомых).
Казис Борута после ликвидации «Третьего фронта», в который он поначалу вложил столько надежд, очень волновался и из-за гибели журнала, и из-за того, что последние номера шли уже не в том направлении, в каком ему хотелось бы, но Казис не мог жить без дела. И вот в 1932 году он организовал альманах «Труд». На обложке работы нашего друга и прогрессивного художника Мечиса Булаки были четверо рабочих. Название было написано на литовском, русском, немецком, французском языках и на эсперанто. Этим, без сомнения, подчеркивался интернационализм участников альманаха.
Кроме Боруты в нем участвовали и другие молодые писатели — Витаутас Монтвила, Казис Якубенас. Впервые выступил и не известный никому до сих пор Юозас Балтушис.[85] В «Труде» Борута, правда, не пытался оживлять умершего «парня», но его манифест состоял из общих фраз, поднимал литературу над партией и агитировал за «активный реализм» — довольно туманное понятие в политическом и эстетическом отношениях. Альманах заявлял свой протест против капитализма, который «мечется на виселице насилия, выстроенной собственными руками» в то время, как «дни свободы стучатся в нашу дверь».
Я согласился участвовать в «Труде» не столько из-за старой дружбы, сколько потому, что это был единственный тогда прогрессивный альманах. Я дал рассказ «Под золотым небом Италии», основанный на впечатлениях о Венеции. Рассказывая об Италии, я, разумеется, думал о Литве, которой заправляли фашисты.
К сожалению, этот альманах, в котором не было боевого духа «Третьего фронта» и в котором участвовали лишь некоторые из его сотрудников, просуществовал недолго: цензура приостановила уже вторую его книгу. Остался лишь исчерканный цензурой экземпляр, который красноречиво свидетельствует о том, в каких условиях находилась тогда прогрессивная, антифашистская литература.
Теперь я чаще встречался с Корсакасом. Он обращал на себя внимание не только студентов, но и профессоров. Корсакас поражал своими способностями на семинарах, а профессор Эдуардас Вольтерис, совсем уже дряхлый, поручил ему вместо себя преподавать историю латышской литературы. Корсакас читал ее так, что студенты битком набивали аудиторию. А Вольтерис дремал за последней партой, лишь изредка поднимая голову и выкрикивая: «Большевик!»
Жил Корсакас близко, и я довольно часто заходил к нему за каким-нибудь советским журналом, трудом по марксистской философии или просто поболтать о литературе или политике. Хотя мой товарищ был моложе меня, меня поражало его умение анализировать действительность, остро и отважно вскрывать ее противоречия. Влюбленный в прогрессивную литературу, Костас продолжал писать свои статьи и уже в 1932 году издал первый крупный сборник. Чувствовалось, что у этого юноши острый, аналитический ум. Он — прирожденный критик, который сразу видит, что в книге хорошо и что плохо, что прогрессивно и что реакционно, легко формулирует свои мысли и выражает их темпераментно, горячо или холодно, с сарказмом, не избегая иронии и даже, если нужно, издевки. Встречаться с ним всегда было интересно.
В эти дни я видел и Нерис, которая жила в Каунасе у профессора Миколайтиса. Увы, наши встречи не были веселыми. Она тяжело переживала закрытие «Третьего фронта» и клуба «Надежда». В Каунасе она на каждой шагу встречала бывших своих друзей и знакомых, и те по любому случаю клеветали на «Третий фронт» и уговаривали ее бросить избранный ею путь, предлагали новую службу. Но поэтесса не сдавалась. Она посылала свои стихи в московскую «Наковальню», — значит, сделала еще один шаг вперед. Она продолжала интересоваться советской печатью, литературой, читала революционных поэтов и старалась все глубже проникнуться наукой марксизма-ленинизма. (После закрытия «Надежды» «Эхо Литвы» писало, что во время обыска были обнаружены письма С. Нерис, в которых она пишет, что проштудировала все сочинения Ленина. Подобные утверждения охранки, конечно, несколько преувеличены. Но, без сомнения, Нерис уже тогда читала его статьи и книги.) Поэтесса продолжала встречаться с некоторыми коммунистами, работающими в подполье. С ней сблизилась ее почитательница Она Шимайте, от которой и мы в годы «Третьего фронта» получали труднодоступную советскую печать и литературу. Позднее Нерис поддерживала близкие дружеские отношения с Шимайте.
Пятрас Цвирка часто писал мне из Парижа (к сожалению, во время войны его письма погибли). Поначалу ему трудно было уехать из-за призыва в армию. Как-то обманув призывную комиссию, Пятрас все-таки уехал, и, когда он был в Париже, в газетах появились заметки, что полиция ищет его как дезертира. Получая скудную стипендию, Цвирка в Париже просто голодал. Но он стал энергично изучать французский язык и вскоре уже читал французских классиков.
Я встретил его осенью 1932 года. Пятрас вернулся, не изменив своим убеждениям, хотя, пока он находился в Париже, среди каунасских журналистов и в реакционной печати было немало догадок и клеветы на него. Он рассказал мне о жизни в Париже и возмущался тем, как стипендиаты таутининков там швыряются деньгами. Большое впечатление на Пятраса произвели сокровища искусства. Он навсегда полюбил Ренуара, Ван-Гога, Гогена и Дега.
Вернувшись из Парижа, Пятрас побывал в родной деревне и, приехав в Каунас, как обычно, рассказывал веселые истории:
— Лежу я утром в своей клети и слышу — кто-то стучится. Сосед, тот, что в Америке попал в армию и воевал на Западном фронте, во Франции. Сразу понял, что хочет поговорить о Париже. «Садитесь, дядя, вот тут, на кровать, поговорим». — «Спасибо, Петрюкас, — говорит он и шарит в поисках трубки. Закурил и спрашивает: — Что ж, Петрюкас, слыхал, ты в Париже был», — и вижу, что не верит он, что Петрюкас Цвирка мог быть в таком городе. «Был, дядя, — говорю я, — видел Париж. Хороший город, дядя». А он все улыбается такой подозрительной ухмылочкой, словно говорит: «Ни черта там ты не был и ничего не видел», — и спрашивает меня: «Ну ладно, раз уж был, то скажи, видел ли там ты вот зеленую девку на углу?» — «Шутите, дядя, — говорю я, — девок-то в Париже тьма-тьмущая. Как я могу увидеть какую-то на углу?» — «Нет уж, Петрюкас, ты сам не шути, — говорит он, — скажи, а вот зеленую на углу видел?» — «Нет, говорю, зеленой девки, да, еще на углу, точно не видел». — «Ну вот, Петрюкас, — дядя прищурился и тычет в меня мундштуком, — вот видишь, а еще говоришь, что в Париже был…» Рассмеялся и ушел, а я долго думал, что это за девка. Видно, он запомнил какую-то статую или рекламу, и Париж без нее — для него не Париж.
Едва тот ушел, как другой стучится. Пригласил войти. Подошел, руку подал и сам сел. Без долгих вступлений спрашивает: «Скажи ты мне, Петрюкас, одну вещь. Только откровенно скажи, от сердца». — «Хорошо, дядя, говорю, если только знаю». — «Ясно, знаешь, ведь такое образование получил, — говорит он и смотрит на меня большими добрыми глазами. — Ты скажи, Петрюкас, есть бог или нет?» — «Нет, дядя, — отвечаю я, — нет. Выдумки ксендзов», — говорю я. Посмотрел на меня дядя несколько раз, пыхнул трубкой, выпустил дым и протягивает мне руку: «Вот уж спасибо, Петрюкас, что сказал, большое спасибо. Теперь уж буду знать» — и, веселый, счастливый, ушел, попыхивая трубочкой. Видно, не был уверен насчет бога, а теперь успокоился…
— Видишь, я в деревне большой авторитет. И давно уже, — смеется Пятрас. — Я тебе рассказывал про мою беседу с капелланом, когда я еще учился в прогимназии?
— Да вроде нет.
— Слушай, — сказал Пятрас. — Учебный год подходил к концу, и наш капеллан на уроке закона божьего сказал: «Вот, детки, скоро будут каникулы. На каникулы я поеду в Рим. Вы знаете, что в Риме, в Ватикане, живет папа, святой отец?» — «Знаем!» — кричит весь класс. «Вот и хорошо, детки, что знаете, — сказал капеллан. — Так вот, очень даже может быть, что в Риме я увижу его святейшество. И хотел бы узнать, что ему передать, что вы хотите сказать папе…» Весь класс молчит, а я малость подождал и поднимаю руку. «Ну, Цвирка, что передать папе?» — «Прошу передать ему от Пятраса Цвирки привет!» — крикнул я. Капеллан покраснел и говорит: «Как ты смеешь, свинья? Могу ли я передавать привет такому большому человеку от какого-то Цвирки?» Я замолчал, а капеллан продолжал: «Вот, детки, если бы вы попросили через меня отцовское благословение от папы, это я понимаю… Это уже дело другое…» Но друзья, когда закончился урок, считали меня героем — что ни говори, я один только знал, что передать папе римскому…
Однажды Пятрас мне сказал:
— Ты помнишь моего «Франка Крука», которого я дал для последнего номера «Третьего фронта»? Я все чаще думаю, что стоило бы из него сделать роман.
— Мы же тебе сразу сказали, когда прочитали его. Правда, Пятрас, садись за роман. Напишешь, я в этом не сомневаюсь.
— Сейчас еще нет. Не все мне самому ясно. Нужен материал, надо все продумать. Но напишу непременно…
ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА
Настал день, когда я сдал последний — государственный — экзамен перед комиссией, в которую входили профессора Миколас Биржишка, Винцас Миколайтис, Пранас Скарджюс и Пранас Аугустайтис. Моя дипломная работа «Символизм в литовской лирике», которую я писал, как мне казалось, исходя из марксистских позиций, была высоко оценена Биржишкой и Миколайтисом, хотя они (особенно Миколайтис) и указали, что не согласны с моим методом. Подобная терпимость профессоров удивила меня, потому что, вручая свою работу, я не был уверен в ее судьбе. Я слышал, что некоторые из моих преподавателей пытались выхлопотать для меня стипендию за границу, но, когда этот вопрос рассмотрели выше, там сразу дали понять, что для людей с моими убеждениями стипендий не предвидится.
В последний университетский год мое материальное положение снова сильно пошатнулось. Видно, началась тайная кампания против меня, как редактора «Третьего фронта» и человека, который не умел кланяться. Я почувствовал, что все труднее мне получить работу даже там, где раньше я получал ее без особого труда. Чтобы успешно кончить университет, я почти перестал писать в газеты. Правда, представился случай перевести и отредактировать интересные путевые заметки о Средней Азии К. Арриса; кроме того, меня пригласил перевести свои медицинские новеллы «Врач рассказывает» профессор-швейцарец Ландау (Э. Каукас). Это немного поправило мое финансовое положение, но только временно.
Непременно надо было найти постоянную работу. Не было ни малейшей надежды получить место преподавателя в литовской гимназии в Каунасе — здесь работали верные таутининкам учителя, которые не собирались уступать своих мест. С великим трудом я поступил преподавателем литовского языка и литературы во вновь открывшуюся еврейскую гимназию с литовским языком преподавания, которая обосновалась в неудобном доме, в Старом городе.
Работа преподавателя показалась мне интересной, хоть и утомительной. После пяти или шести уроков пересыхало во рту, в голове шумело, а дома ждали еще стопки тетрадей. Большинство моих учеников плохо владели литовским языком; их приходилось учить не только правильно писать, но и правильно выговаривать звуки. Дисциплину я поддерживал в классе легко, ученики меня слушались. Хуже всего было, что гимназия никак не могла вовремя собрать у родителей плату за учебу, и мы, преподаватели, не получали жалованья два, три, а то и четыре месяца подряд. Директор агроном Гиршовичюс был добрым и воспитанным человеком (он умер уже после войны, вернувшись из гитлеровского концлагеря). Он успокаивал нас, не скупился на обещания, но, как известно, обещаниями сыт не будешь. С грехом пополам я дотянул в этой гимназии до экзаменов. Представители министерства на выпускных экзаменах по литовскому языку даже удивились, что ученики настолько продвинулись вперед. Так что результатами работы я был доволен. Но было ясно, что в следующем году я не смогу работать в таких условиях.
В эти дни я поближе познакомился с человеком, который позднее стал одним из самых близких моих друзей.
На Зеленой горе, неподалеку от Короткой улицы, где я жил по приезде в Каунас, находились два средних размеров здания, обнесенные металлической оградой, перенесенной с фортов, окружавших Каунас. На столбах ограды сидели цементные совы — символы науки — работы скульптора Винцаса Грибаса.[86] В одном здании находилась галерея М. К. Чюрлениса с экспозицией его произведений, а в другом — Художественное училище. Второе здание сразу, едва в него войдешь, каждого вовлекало в атмосферу художественной лаборатории — коридоры были увешаны рисунками и картинами, а перед лестницей стояли копии знаменитых античных скульптур.
Управившись с уроками, я часто заходил в мастерскую Юозаса Микенаса. Не знаю, чем я заинтересовал этого молодого художника, недавно вернувшегося из Парижа, но он решил вылепить мой бюст. При каждой встрече он возвращался к этой мысли, которая возникла у него, кажется, тогда, когда нас познакомил его старый приятель Пятрас Цвирка.
Юозас Микенас удивительно красивый человек — рослый, прямой, с выразительным лицом, высоким умным лбом. Был он тих, задумчив, но в его глазах почти всегда светилась приветливая и оценивающая улыбка, а во всех его движениях чувствовалась большая внутренняя сила. Взглядом своих внимательных темно-голубых глаз он словно ощупывал предметы и лица.
Мне было странно, почему подружились такие разные люди — Цвирка и Микенас, который был старше его на восемь лет. Может быть, именно потому, что Пятрас был подвижным, экспансивным, а Юозас — спокойным, сдержанным, взвешивавшим каждое слово. Они как-то дополняли друг друга.
Когда я приходил позировать, Микенас, преподававший тогда в Художественном училище мозаику и фреску, встречал меня с улыбкой, но не говорил ни слова. Потом один-два вопроса, одна-другая фраза, и казалось, что разговор иссяк. Когда мне надоедало сидеть в одной позе, я принимался рассказывать о каком-нибудь приключении из жизни писателей и видел, что максимальный результат моего рассказа — теплая улыбка на лице скульптора. Я не помню, чтобы он хоть раз расхохотался так весело и звонко, как Цвирка. Если спросишь о Париже, о художнике Деспийо, у которого он учился, о Майоле, он ответит коротко, без деталей, словно из этих лаконичных ответов мне все будет ясно. Изредка он задавал какой-нибудь вопрос и мне — о ликвидированном «Третьем фронте», о Казисе Боруте или Саломее Нерис, и по его интонациям можно было понять, что он наш журнал читал, интересовался им, что его вообще волнуют общественные вопросы, хоть и не обмолвился о них ни словом. Работал Микенас внимательно, на длинных сеансах он со всех сторон изучал мое лицо, прищурив глаза, смотрел на натурщика и сравнивал его с изображением, рождающимся в глине. Мне портрет казался и похожим и творчески переосмысленным. Микенас просил меня приходить еще и еще. В его мастерскую я ходил несколько недель. Наконец работа была завершена и вместе с портретами Пятраса Цвирки и Антанаса Гудайтиса[87] экспонирована на выставке 1934 года.
С той поры мы подружились с Микенасом. Он не раз показывал мне свои новые работы, хотел узнать мое мнение о них, и мне такое внимание было приятно. Однако он все еще был недоволен первым моим портретом и обещал сделать лучше. (Этот бюст во время войны сохранился в Каунасе, в Верхней Фреде, у моих родных. После войны Микенас забрал его и в 1954 году вылепил новый портрет.)
Когда позднее, уже поселившись в Клайпеде, я приезжал в Каунас, мы непременно встречались с Микенасом, который становился все знаменитее. Он не переставал интересоваться и моими работами, путешествиями, замыслами. В 1936 году в одной группе мы побывали в Советском Союзе. Мне кажется, что эта поездка заставила Микенаса задуматься над ролью художника в жизни, над его задачей в эпоху, когда крепчала угроза фашизма. Дружба связывала Микенаса не только с Цвиркой, но и с Борутой и другими прогрессивными писателями.
Мою монотонную и довольно печальную жизнь разнообразили и украшали встречи с девушкой, с которой я познакомился в университете. Меня восхищала не только ее внешность, не только улыбка, почти не сходившая с ее лица, но и ее начитанность, живой ум. Она интересовалась литературой и искусством, и у нас никогда не иссякали темы для разговора. Были и другие причины, которые все теснее связывали нас.
Рано покинув родной дом, лишь на каникулы возвращаясь в деревню, я жил, как умел, в одиночестве, и уже почти забыл, что такое тепло дома. И вот зимой, переехав в страшно холодную комнатку над лестницей, единственной стеной примыкавшую к квартире богатого домовладельца, я почувствовал себя очень плохо, температура подскочила, и я слег. Дня два я никому не мог сообщить, что со мной, я почти ничего не ел, у меня не было даже кипятка. По ночам я бредил, а днем собирался с силами и ждал, когда смогу встать и пойти в город искать еду. И вот однажды у своей кровати я увидел ее. Она трогала мой горячий лоб и пыталась надеть на меня теплое шерстяное белье. В комнате появился и горячий чай, и лекарства — все то, о чем я сам не мог позаботиться. Когда я начал выздоравливать, я видел рядом с собой все то же лицо с крохотной родинкой на щеке.
Поправившись, я провожал ее в далекую Верхнюю Фреду, через весь проспект Витаутаса, через Зеленый мост, потом в гору, по шоссе, обсаженному гигантскими деревьями. Иногда дорога была грязная, шел дождь, но я не мог отпускать ее одну в такой долгий путь — почти каждый вечер мы шли рядом и разговаривали обо всем на свете.
Мне казалось, что я буду счастлив, если эта девушка станет моей женой. Но как мы будем жить? Я знал, что она выросла в обеспеченной семье. А что я могу ей предложить? Беспокойную, непостоянную жизнь, вечную, нехватку денег, трудные условия учителя, неясное будущее молодого писателя, каждую книгу которого реакция будет встречать в штыки. Это будущее могло обернуться даже тюрьмой, которой я пока еще счастливо избегал.
Все это я откровенно высказал своей подруге. Она не испугалась: она любила меня — и этим все сказано. Даже когда я сказал, что не соглашусь венчаться в костеле, она ответила, что не может от меня этого требовать, потому что сама она — атеистка.
В то время лишь в Клайпедском крае существовало гражданское бракосочетание, и те граждане, которым совесть не позволяла лицемерить, отправлялись в ближайшее местечко Клайпедского края — поначалу, как положено, подать на оглашение, а потом, по истечении положенного срока, и сочетаться браком. И вот весной, когда все вокруг цвело и зеленело, мы спустились на пароходе по Неману в Смалининкай и подали на оглашение. В газете некоторое время спустя появилось обязательное объявление. Из-за этого объявления зашумел весь Каунас. Казалось невероятным, что девушка из «хорошей семьи», даже, как многие думали, дочь верующих родителей, собирается выйти замуж за «безбожника и большевика». На объявление тотчас же откликнулась клерикальная газета «Утро». Позднее я узнал, что столпы клерикалов недвусмысленно атаковали отца моей подруги, который тогда преподавал классическую филологию на факультете теологии и философии и, скорей всего, ничего не знал о нашей поездке в Смалининкай. Все торопились вмешаться в дело, которое, как нам казалось, касалось лишь нас…
Видя и слыша все это, мы совсем не собирались расставаться. Напротив, я все больше ценил свою подругу за ее смелость. Я знал, что эта девушка, Элиза, которая казалась такой хрупкой, — сознательный, упорный и волевой человек.
Теперь я снова жил в центре, на улице Донелайтиса. Владельцем дома был знаменитый адвокат, крупный деятель ляудининков — Миколас Шляжявичюс… Но видел я его очень редко. Он сидел в своем кабинете, а я с ним дел не имел. Гораздо чаще я встречал его жену Домицеле, высокую, статную даму интеллигентной наружности. Раз в месяц я отправлялся в ее гостиную, обставленную заграничной мебелью, платить 45 литов за комнату. Дом был выстроен в современном духе. Хотя в нем было всего лишь два этажа, с первого на второй вел лифт. Горничную или сторожа владельцы дома вызывали по телефону. В восемнадцати комнатах жили два Шляжявичюса, их воспитанница Марите (детей у них не было), зять Мацкявичюс и многочисленная прислуга.[88]
В подвальном этаже жила вдова недавно умершего видного художника Каетонаса Склерюса. Дальше, в самом конце коридорчика, находились две крохотных комнатки, видно, кладовки (в этом коридоре вообще было много кладовок, в которых стояли банки с вареньями, грибами и прочими продуктами). Комнатки были низкие, в каждой было по одному окну, с решеткой, словно в тюрьме (чтобы воры не залезли). Эти комнатки сдавались, в одной из них уже жил студент Юлюс Бутенас,[89] а во второй обосновался я.
Юлюс Бутенас интересовался литературой и общественной жизнью. Он собирал материал и писал монографии о Винцасе Кудирке, Повиласе Вишинскасе[90] и других деятелях прошлого. Он всегда подробно знал все события в студенческой среде и даже в городе. Однажды утром Бутенас постучался ко мне в дверь и сообщил, что только что была совершена попытка переворота. Таких переворотов в то время было сколько угодно — чуть ли не каждый генерал мечтал править Литвой, и офицеры то и дело пытались свергнуть Сметону. Но президент держался крепче, чем могло казаться со стороны. Поговаривали, что даже не он сам, а его оборотистая жена Зосе спасает их в самых сложных и опасных положениях. Выйдя на улицу, мы увидели толпу у типографии, люди показывали на ворота полицейского участка, которые свалил танк. Это был знак, оставленный ночным «переворотом».
Как-то ночью меня разбудила полиция — охранка делала обыск в комнатке Бутенаса. Я помню, что убеждал своего арестованного товарища не падать духом, напоминал ему о Винцасе Кудирке. Это, конечно, было довольно наивно.
В комнатке было неплохо, только мучила страшная духота, — сидя за столиком, надо было держать открытым зарешеченное окно, чтобы не задохнуться. Особенно зимой легко было простудиться.
Как-то раз хозяйка решила пригласить нас с Бутенасом на обед. Я никогда не бывал в домах каунасских аристократов, так что охотно согласился — мне было интересно, как все это выглядит. В саду Шляжявичюсов благоухали цветы и зеленели молодые деревца. На веранде дома над моим зарешеченным окном собралась вся семья. Едва пришли мы с Бутенасом, как появился друг дома — ксендз и поэт Миколас Вайткус.[91] Он держал в руке какой-то альбом, на обложке которого был нарисован чертополох. Торопливо взбежав на веранду и поздоровавшись со всеми, он сладким, угодливым голосом воскликнул:
— Господа, господа, прошу внимания!.. Посмотрите, что это… Мы смотрели на альбом, который держал в руке Вайткус, и не видели ничего, кроме рисунка на обложке.
— Мне кажется, это чертополох, — смиренно сказала воспитанница Шляжявичюсов Марите.
— Совершенно верно, — заулыбался Вайткус. — Совершенно верно отгадала барышня Марите — это самый обыкновенный чертополох. Пойдешь босиком по полю и еще наткнешься на такой чертополох. Но тут, поглядите, господа, тут этот чертополох уже искусство. Это уже не чертополох, а творчество, красота… Посмотрите, это же удивительно — какая перемена: чертополох обратился красотой, наши глаза им любуются, верно, господа?!
Мысль была не особенно глубокой, но хозяева довольно улыбались, словно неожиданно решилась очень сложная, запутанная задача.
Нас пригласили к столу. Столовая большая, светлая, а стол ломился от всяких яств. Напитков, кажется, было немного — только французское вино. Хозяйка угощала всех и сама разливала гостям суп, с особенным уважением обращаясь к другу дома Вайткусу. Поговаривали, что он получает немало денег на нужды церкви из кармана Шляжявичюса через горячо верующую его жену.
Вайткус все еще находился в центре внимания. Хозяйка накладывала на его тарелку поджаренный картофель, наливала серебряной ложкой в хрустальный бокал морс, пахнущий свежими ягодами. А ксендз все говорил, говорил, и все его разговоры были похожи один на другой. Обмолвился даже обо мне — он-де думал, что я лишь способный молодой поэт, а теперь увидел, что я — писаный красавец, настоящий Аполлон (это была новость для меня). А шея, мол, как у настоящего Геркулеса (это совсем меня удивило, потому что питался я весьма скудно).
Обед был невероятно вкусный. Мы с Бутенасом, привыкшие к обедам в студенческих столовых, ели так, что трудно было не заметить наш аппетит. Но ни хозяйка, ни другие не обращали на нас внимания. Хозяйка просто не могла оторвать глаз от бело-розового лица ксендза, который находил все новые и новые темы. Он легко коснулся вопросов литературы. Выяснилось, что в литературе он всегда ищет отражение вечной божественной красоты. Потом Вайткус сказал несколько приятных слов Марите о ее музыкальных способностях, и Марите покраснела как пион. Со всеми ксендз был учтив. Когда он ушел, все диву давались: «Какой удивительный человек! Какая культура! Он всюду видит красоту, как настоящий поэт! Правда, он не только ксендз, он поэт и есть, и это, может быть, не менее важно!»
По случайным намекам можно было судить, что этим богатым людям совсем чужды литература, искусство. Они обменивались банальными замечаниями о какой-то постановке государственного театра, которая растрогала до слез хозяйку и Марите, а господина Мацкявичюса, как он откровенно признался, заставила зевать. Господин Шляжявичюс давно уже не ходил в театр — некогда, да и как-то несерьезно.
Ничего нового на этом обеде я не узнал. Я лишний раз убедился в узости интересов наших высших кругов. Стало ясно, как хитро действуют литовские священники — они посещают не только верующих. Они охотятся за благосклонностью и, разумеется, деньгами в семьях богатых либералов.
Единственная встреча с поэтом Вайткусом оставила у меня кисло-сладкое впечатление — он говорил, говорил, словно заведенный; казалось, что он говорит не потому, что должен сказать что-то важное, а потому, что не может остановиться.
…А время шло. Умер Майронис. Смерть этого большого поэта вызвала куда меньший отзвук, чем можно было ожидать. Может, потому, что умер он летом, когда Каунас пустеет, когда в нем почти нет студентов и гимназистов. Мало кто понял, что со смертью Майрониса в литовской литературе на самом деле кончается значительный период. Но рубеж эпох вскоре, весной 1933 года, подчеркнула смерть Тумаса. Гуманитарии веселились в зале атейтининков, когда пришло известие, что на горе Ви-таутаса, в доме своего родственника Пятраса Климаса, умер наш Учитель, седой юноша, один из самых интересных и своеобразных людей Каунаса. Устроители вечера не хотели сообщать танцорам этой вести, чтобы «не испортить настроение», но кто-то (кажется, Корсакас) потребовал прекратить танцы. С глубокой, искренней печалью мы провожали Вайжгантаса, мучительно чувствуя, что больше не встретим таких людей, каким был покойный.
В начале 1933 года в Германии пришел к власти Гитлер. Теперь я вспомнил кривоногого лысого человечка на станции под Мюнхеном. Тогда первый увиденный мной нацист грозил, что уничтожит французов и евреев. Теперь громилы в коричневых рубашках, со свастикой, которых мы видели в Мюнхене начинают править Германией. Не означает ли это, что в Европе начинается новая эпоха, эпоха жуткого насилия, преследований и войн?
Литовские фашисты ликовали. Им казалось, что теперь, когда в соседнем большом государстве у кормила власти стоят похожие на них деятели, их позиции станут прочнее. Но из Германии шли страшные вести. Гитлер далеко превзошел всех своих предтеч. Горели на кострах книги, и Оскар Мария Граф, с которым мы когда-то виделись в Мюнхене, теперь писал: «Сожгите меня! Опираясь на всю свою жизнь и на все свои писания, я имею право требовать, чтобы мои книги были отданы чистому пламени костра и не попали в кровавые руки и испорченный мозг коричневых убийц.
Сжигайте творения немецкого духа! Дух останется неугасимым, как ваш страшный позор!»
Уже сидел в тюрьме Казис Борута, хоть поначалу он и избежал ее. Охранка все-таки дорвалась до него, решив отомстить за «старые грехи» и за антифашистский альманах «Труд»… Монтвила, на какое-то время выйдя из тюрьмы, но не получив в Каунасе работы, уехал в Кретингу работать в типографии. Мы обрадовались, увидев первый маленький его сборник, с трудом пропущенный цензурой, — «Ночи без ночлега». Заглавие точно и красноречиво свидетельствовало о трагическом положении преследуемого поэта…
Юстас Палецкис печатал в «Культуре» отрывки из книги путевых впечатлений «СССР — нашими глазами».
А мы с Цвиркой, обложившись всем доступным материалом, в том числе и советскими журналами, в читальне Каунасского университета писали памфлет. Он казался нам просто необходимым. В Литве были люди, которые пытались изобразить Гитлера как спасителя Германии и Европы от большевизма. А мы в своей книжице «Адольф Гитлер, карьера диктатора» стремились раскрыть истинное лицо гитлеризма — поджигателя войны, ярого врага культуры, пропагандиста расовой и национальной ненависти. Мы работали увлеченно и управились в несколько дней. Книжица, к счастью, еще могла быть напечатана, ее многие читали. Подписали мы ее псевдонимом.
Гитлеровские идеи начали проникать и в Литву, разумеется прежде всего в Клайпедский край. Из Клайпедской городской библиотеки были изъяты книги Людвига Ренна, Лиона Фейхтвангера, Эгона Эрвина Киша, Томаса и Генриха Маннов и даже Джека Лондона. Коричневая чума проникала и в нашу страну. Лишь спустя некоторое время Литовское общество писателей выразило довольно мягкий протест против этого проявления варварства — изъятия антифашистских книг…
В это угрюмое время особенно много значили дружба, семья. Летом мы с женой уехали на взморье. В Паланге остановиться не могли — не хватило денег. По чьему-то совету мы нашли комнатку в рыбацкой избе, в деревне Ванагупе, в нескольких километрах на север от Паланги. Совсем рядом шумел лес, полный золотых сосен и малахитовых елей, за ним открывалась белая полоса пляжа и дальше пенистое, сверкающее на солнце море. Лето казалось нам молодым и веселым. Целыми днями я бродил с женой у моря. Мы доходили до Паланги и возвращались обратно, в безмятежную деревню, где видели рыбаков, их сохнущие сети, большие, просмоленные лодки. Мы купались, загорали, потом возвращались в избу, садились по обе стороны стола и так сидели целыми часами, всей душой чувствуя, что эти часы больше не повторятся и что нам никогда не забыть их — в какую бы жизненную бурю мы ни угодили.
Жили мы простой жизнью, пили молоко, ели ягоды, камбалу и другую бесхитростную рыбацкую еду, которая казалась нам очень вкусной. На взморье дул теплый ветер, лес пах смолой и ягодами, из-под ног изредка, извиваясь, уползал скользкий уж.
Мы были очень счастливы.
Мы радовались, когда в это лето дождались гостей. Однажды, из Паланги пешком пришла Саломея Нерис. Она не нашла нас дома, но потом встретила на пляже. Мы долго гуляли с ней и разговаривали…
Приехав в рыбацкую деревню, я чувствовал себя первооткрывателем — вот где я увидел новую жизнь, борьбу человека со стихией, ремесло, которого я не знал раньше, живя в деревне! Да и люди, думалось мне, здесь особенные, отважные, сильные, энергичные. В первое же утро, гуляя по деревне, я встретил немало рыбаков, мужчин и женщин, — одни сушили сети после ночного лова, другие нанизывали на удочки наживку, третьи смолили лодки или поднимали паруса. Я здоровался с ними, как мне казалось, вежливо, а они, не поднимая головы от работы, однообразно отвечали:
— Добрый день, добрый день… — и все.
Я расспрашивал их о погоде, о лове, об их работах, но ответы получал все такие же односложные, скучные. Мне никак не удавалось подружиться с рыбаками.
Наконец я решил действовать другим способом. Сходив в Палангу, я купил бутылку водки. Свою хозяйку попросил достать копченого угря и поджарить камбалы. К вынесенному во дворик столу я пригласил нескольких рыбаков, живших по соседству, которых видел каждый день. Они пришли, тихо сели, тихо поднимали рюмки, тихо откусывали рыбу.
Выпив, они изменились — повеселели, стали разговорчивее, а один из них сказал:
— Так вы, господин, ничего… А мы-то думали…
— Что ж вы думали?
— Мы-то думали, что вы шпик из Каунаса, господин…
Я просто рот разинул. Этого только не хватало!
— Мы-то думали, что вы шпионить приехали…
— А зачем мне шпионить?
— Мало ли теперь всяких шляется, — говорил рыбак. — Все разнюхивают, как мы спирт контрабандой возим из Данцига…
Я рассмеялся.
— Знаете что, уважаемые, — сказал я им, — занимайтесь вы своей контрабандой сколько угодно… Не мое это дело…
Дружба с рыбаками с этого дня стала теснее. Во всяком случае, они хоть не отводили глаз и приветливее отвечали на расспросы…
Летом я получил известие, что Клайпедская литовская гимназия имени Витаутаса Великого ищет учителя по литовскому языку и литературе. Приехав в Клайпеду, я зашел к директору. Да, им нужен молодой, энергичный учитель. Гимназия находится в ведении не каунасского Министерства просвещения, а местного совета. «О, — подумал я, — здесь, без сомнения, будет привольней. Никто не станет тянуть тебя в таутининки или в шаулисы».[92] Кроме того, в Клайпеде учредили новое учебное заведение — Институт торговли, который тоже нуждался в преподавателе литовского языка.
И вот в Каунасе я прощаюсь со своей комнаткой и передаю ее своему лучшему другу Пятрасу Цвирке. Беру чемодан, любимые книги и, собираясь уходить, говорю:
— Пока я жил здесь, как видишь, женился… Желаю тебе того же самого, тем более что девушка у тебя уже есть… И не забудь, что я вас сосватал…
— Ну, ну, не хвастайся, — говорит Пятрас. — Без нашего обоюдного желания все равно ничего бы не вышло.
— Так-то оно так, но если бы не я…
И правда, когда я познакомился с сестрой своей жены, подвижной привлекательной студенткой Художественного училища, коротко стриженной, похожей на мальчика, я в шутку начал ей рассказывать, что ею очень интересуется один мой товарищ. Да и Пятрасу я не раз говорил, какая это замечательная девушка. Когда они встретились, они сразу подружились, и эта дружба, через год после нашей свадьбы, тоже кончилась свадьбой. Таким образом, мы с Пятрасом стали не только друзьями, но и свойственниками. В его жизни, как и в моей, эта крохотная комнатка с зарешеченным окном сыграла большую роль.
В ПРИМОРСКОМ ГОРОДЕ
И вот я в городе, о котором месяца два назад даже и не помышлял. В Клайпеду обычно перебираются неблагонадежные люди, «ссыльные», которые в Каунасе не могут получить работы. Здесь действуют более свободные законы. Конечно, сюда наезжают и высокие чиновники, различные губернаторские советники. В Клайпеде много хорошего — рядом море, и с весны до поздней осени, пока не начался сезон дождей и туманов, приятно сходить в Гируляй, переправиться на пароме в Смильтине или даже поплыть на пароходике в Ниду.
Чистый каменный город под красными черепичными крышами заметно отличается от других литовских городов. Пожалуй, он больше напоминает Западную Европу. Здесь полно ресторанов и кабаков — при желании и при деньгах можно пошуметь не хуже, чем в Каунасе. Владельцы лавок — с литовскими, но онемеченными фамилиями, всякие Кораллусы, Гайдиесы, Гелльшиннисы и тому подобные, в которых нетрудно распознать литовских Каралюса, Гайдиса и Гельжиниса. В литовском Клайпедском крае поместьями владеют немцы (земельная реформа здесь не проводилась). Крестьяне говорят на интересном жемайтийском наречии; на улицах города раздается и литовская и немецкая речь. Очень красив рынок — все столики украшены цветами. Опрятные крестьянки продают продукты.
И все-таки с первых же дней я чувствовал себя в страшном одиночестве. В Каунасе остались все мои друзья. Пятрас Цвирка недавно опубликовал первый свой роман «Франк Крук». В Каунасе — Костас Корсакас и Саломея Нерис (правда, она собирается уехать учительницей в Паневежис), Йонас Шимкус и — в тюрьме — Казис Борута… Трудно без них.
Жалко оставлять улицы Каунаса, по которым так много ходил, кафе Конрадаса, где каждый день собираются приятели, — казалось бы, в их разговорах нет ничего особенного, но все-таки тянет туда зайти и снова увидеть всех, даже тех, с которыми ты не близок…
В Каунасе все-таки идет какая-то литературная жизнь. В ней стараюсь участвовать и я. «Культура» печатает мою работу о поэте-бродяге Франсуа Вийоне, которого я долго изучал и полюбил… В той же «Культуре» я остро поспорил со старым другом Витаутасом Монтвилой о его переводе горьковской «Матери». Я не оценил, в каких трудных условиях мой друг делал эту работу и какую роль играл роман среди литовских рабочих, и критиковал переводчика за несовершенство стиля. Он обиделся, резко ответил мне, я отвечал ему… После этого в сознании остался какой-то неприятный осадок, и я искал случая встретить Витаутаса, который вернулся из Кретинги и работал в профсоюзе шоферов, чтобы выяснить это недоразумение, которое и у него наверняка оставило неприятное впечатление. К сожалению, нам так и не удалось встретиться перед моим отъездом из Каунаса.
В конце лета в Москве проходил Первый съезд советских писателей. За его работой можно было следить по «Известиям», которые продавались в киосках. Боже мой, как интересно было бы хоть одним глазом взглянуть на Максима Горького и услышать собственными ушами его слова! Как хотелось бы увидеть и Федина, и Кольцова, и Бабеля, и Эренбурга, и Всеволода Иванова, и Тихонова, и Пастернака, да и многих других, произведения которых я читал… Без сомнения, мои друзья в Каунасе теперь широко обсуждают этот съезд, а я отделен от них, одинок, обречен на нелюбимую работу…
Мы получили комнату в небольшом каменном домике неподалеку от гимназии. По правде говоря, домик казался маленьким лишь снаружи — внутри было несколько роскошных комнат, обставленных дорогой мебелью, устланных коврами, с горками, полными фарфора. Нас удивило, что хозяева (старый, мрачный, неразговорчивый муж и молодая, говорливая, веселая жена) целыми месяцами не заходили в эти комнаты. Кажется, лишь раз в год по какому-то случаю приходили гости. Тогда горело электричество и все комнаты открывали свои двери. Остальной год хозяева проводили на кухне при тусклом свете керосиновой лампы. Муж по вечерам напевал псалмы из литовской книги, изданной чуть ли не в семнадцатом столетии, а жена подтягивала. Однажды на кухне исчезла коробка спичек; муж ворчал и попрекал служанку до тех пор, пока та в слезах не догадалась сбегать в лавку и принести новый коробок…
У наших хозяев была еще небольшая, но хорошо обставленная дача у моря, в Гируляй. Летний сезон кончился, дача пустовала, и мы заняли ее второй этаж. Осень выдалась солнечная, и настоящим блаженством было после обеда, вернувшись с работы, лежать в шезлонге и смотреть на море, сверкающее за деревьями, на лес, на чудесное разнообразие облаков, плывущих по голубому, теплому небу.
Утром я отправлялся на недалекий полустанок, где уже толпились ученики литовских и немецких гимназий, женщины, торопящиеся на базар, чиновники. Через пятнадцать минут я уже был в Клайпеде. Новое здание гимназии еще было не достроено, и мы работали в старом доме из красного кирпича, обвитом плющом, рядом с вокзалом. В гимназии было много учеников, особенно в младших классах. После уроков я снова садился в поезд. Спустя пятнадцать минут я оказывался у маленькой станции, тоже обвитой плющом. Едва я выходил через калитку за станцию, как уже издали на тропинке видел красное платье. И мы бежали навстречу друг другу.
После обеда, мы уходили в лес, в теплые дни купались или сидели на террасе, глядя на сверкание моря. По ночам, проснувшись, мы слышали неумолчный гул прибоя…
В Клайпеде у нас почти не было друзей. В гимназии уже который год преподавал литовский язык и литературу мой знакомый со времен университета, член «Четырех ветров» футурист Салис Шемерис-Шмераускас.[93] Этот высокий, крупный, немного сгорбленный человек отличался крайне спокойным характером. Не верилось, что это он написал такую скандальную книгу, как «Граната в груди», и широко прозвучавший «Гимн девице». Раньше у меня не было случая поближе познакомиться с этим своеобразным поэтом. Оказалось, что Салис Шмераускас — большой чудак, вечный экспериментатор не только в стихах, но и в жизни.
Мне дали какой-то класс, в котором он уже преподавал литературу. Едва я начал рассказывать о Шекспире, какой он великий драматург и так далее, — как один гимназистик поднял руку и сказал:
— О Шекспире нам уже преподавал господин Шмераускас. Он сказал, что у Шекспира очень плохой стиль и что читать его не стоит…
Я удивился. Что ответить гимназистику и — всему классу? Подумав, я сказал:
— Это, наверное, личное мнение господина Шмераускаса…
Я продолжал объяснять и в конце урока указал, какие книги Шекспира надо взять почитать в библиотеке.
На следующем уроке ученики сообщили мне, что Шмераускас (он руководил библиотекой гимназии) не выдает Шекспира, мотивируя тем же самым — Шекспира нельзя читать из-за плохого стиля. Ученики другого класса жаловались, что Шмераускас не дает Льва Толстого. Когда я решил передать жалобы гимназистов самому Шмераускасу, тот безмятежно ответил:
— А какого черта им читать этих писателей? У них ведь правда плохой стиль.
— Это ваше мнение, — ответил я, — но это великие писатели. Они входят в программу, и ученики должны знать главные их произведения…
— Зачем? — спросил Шмераускас. — Пускай почитают в учебнике — и хватит. А читать я им даю «Жуть» Рутеленене…
— «Жуть»? — удивился я, не веря своим ушам. Это был известный тогда образец низкопробной литературы.
— А почему бы нет? — сказал мне Шмераускас. — «Жуть» даже Якштас в печати похвалил…
— Вы считаетесь с мнением Якштаса? — удивился я еще больше.
— А почему бы нет? Якштас — старый мой знакомый. В свое время он даже мои стихи печатал.
— Не может быть! Наверное, не те, которые вошли в «Гранату в груди»…
— Ну нет, разумеется, не те. Я писал и другие стихи и, подписавшись Римвидасом Гядвиласом, носил Якштасу в его журнал. Он печатал их. Но однажды прихожу я, и старичок спрашивает: «Ты, часом, не знаешь, что за идиот этот Салис Шемерис?» Я ему и говорю: «Это я сам». — «Ты? — удивился Якштас. — Знаешь что, забирай свое творчество и сгинь!..»
Таков был мой новый коллега.
Однажды директор вызвал нас и предложил пересмотреть программы по литовской и всемирной литературе, приспособив их к условиям Клайпедского края (каунасскому Министерству просвещения мы не обязаны были подчиняться). Указания были неконкретны, но мы с Шмераускасом взялись за работу. Когда мы снова встретились в кабинете директора, Шмераускас сказал:
— Господин директор, я бы хотел покритиковать работу коллеги. Что же он сделал? Парочку вычеркнул, парочку вписал… Это не дело…
— А вы? — обратился директор к Шмераускасу.
— Я взялся за дело сплеча — выбросил все трупы…
— Кого же вы считаете трупами?
— Как так кого? Всех, кто умер. Из программы литовской литературы я выбросил все трупы, одного Донелайтиса оставил. Зато я предлагаю преподавать его со всеми его крепкими словечками… Не люблю кастрированного Донелайтиса, каким его сделал Миколас Биржишка. Из всемирной литературы выбросил все трупы, начиная с Гомера.
— Любопытно, — сказал директор. — Значит, вы оставляете в программе одних живых писателей? Так-то так, но что, если кто-нибудь умрет?
— Это проще простого, — ответил Шмераускас. — Надо вычеркнуть мертвеца и вписать живого. Живых всегда будет достаточно…
Во время каникул Салис Шмераускас приезжал в Каунас. Здесь он заходил в книжный магазин «Наука» на Лайсвес-аллее, где продавали советскую литературу (ту, что проходила через цензуру). Искал он, насколько помню, «Этику» Спинозы и справочники по парусному спорту. Как-то он встретил в магазине Цвирку.
— О, здравствуй, Шемерис! — воскликнул Цвирка. — Рад тебя видеть. Что пишешь, уважаемый?
— Вот что я тебе скажу, — сказал Шмераускас. — Мне кролики не указ…
— Как так? Какие кролики?
— Да вот ты, сам понимаешь, вроде кролика — книжку за книжкой рожаешь. А я себя причисляю к племени великих — слонов. Пока рожу, приходится долго вынашивать. А рожаю я редко и со страшными болями и кровотечением…
— Может, твоя правда, — смеется Цвирка. — А что родил в последнее время?
— Долго мучился дизентерией…
— Дизентерией болел?
— Другие называют диссертацией, а для меня это была настоящая дизентерия. Писал, мучился, думал докторат получить, а Биржишка с Миколайтисом отвергли. Говорят, всего Видунаса в диссертации процитировал. Но ведь правда, зачем мне говорить своими словами, когда Видунас все ясно выложил…
— А стихов не пишешь?
— Каждый год пишу по стиху. Мне хватает. Проживу еще лет тридцать, напишу тридцать стихов и перед смертью издам сборник. Мне хватит.
— Не скучаешь ты с Шемерисом в Клайпеде, — говорил мне Пятрас.
И это была чистая правда.
Шмераускас купил у кого-то яхту и назвал ее странным именем «Тэгу». Яхта огромная, длиною в дом, с каютами и кухней, двигателями и парусами. Мы слышали, что Шмераускас участвует со своей яхтой во всех регатах Клайпеды. Он — один из основоположников парусного спорта в Литве, большой его поклонник. У него была целая библиотека книг о яхтах, на различных языках, он продолжал их покупать и, найдя в каталогах, выписывал из разных стран.
Одним субботним вечером, теплым и безмятежным, он пригласил меня с Элизой и преподавателя истории Ремейку[94] покататься на яхте. Он собирался отвезти нас в Ниду, там переночевать, а на следующий день мы вернемся обратно. Мы прибыли в порт, разыскали яхту «Тэгу», в которой уже трудился ее капитан Салис Шемерис. Когда мы прыгнули с набережной на яхту, капитан приветствовал нас такой матросской бранью, что я шепнул ему на ухо:
— Неудобно — на палубе женщина…
— Но мы же на корабле… — ответил Шмераускас и больше в разговоры не вдавался.
Появился Ремейка, а наш капитан все еще распутывал какие-то канаты с непонятными названиями, и казалось, что этому не будет конца. Часа через два он поднял парус, и ветер вынес нас в залив. Однако в заливе ветер почему-то переменил тактику — совсем утих, и мы долго болтались на одном месте. Была ранняя осень (а может быть, весна), до сумерек было далеко. Элиза спустилась в кухню и нажарила колбасы. Мы ели с большим аппетитом, запивая каким-то огненным напитком из квадратной бутылки, а наша яхта, казалось, совсем заснула. Тянулись часы, мы грелись на солнце, уже смеркалось, а Клайпеда все еще была видна.
Довольно удобно выспавшись в просторных каютах, на следующий день мы надеялись достичь Ниды. Увы, мы весь день простояли на том же месте. Капитан с нашей помощью снова распутывал такелаж, но морские боги явно были враждебны к нам. Паруса поднимали и спускали по нескольку раз. С великим трудом в сумерках мы вошли в Клайпедский порт. Уже после полуночи мы попрощались с капитаном — он остался в яхте, которую еще надо было развернуть в тесной акватории порта…
Это была единственная — первая и последняя — наша прогулка на знаменитой яхте «Тэгу», скелет которой еще долго после последней войны лежал на берегу Швентойи, печально напоминая всем, кто ее видел и кто помнил лучшие дни этой яхты, что нет ничего вечного в нашем непостоянном мире…
…Когда я поселился в Клайпедском крае, мне сразу бросились в глаза странные явления. Еще года два назад здесь были немцы различных взглядов и такие же литовцы. Обе нации жили в согласии. Евреев здесь было меньше, чем в Большой Литве; их тоже никто не трогал. Наряду с консерваторами и реакционерами в Клайпедском крае можно было встретить и социал-демократов и коммунистов. Но теперь Германией управлял Гитлер. И сюда все больше проникало влияние обнаглевшего немецкого фашизма, которое прежде всего выражалось в звериной ненависти к литовцам, не говоря уже о евреях. Литовское правительство тоже отсылало в Клайпедский край «своих» фашистов — хотя бы в те учреждения, которые ему подчинялись.
Перед моим приездом в Клайпеду сметоновские власти арестовали и допрашивали членов немецких прогитлеровских партий Ноймана и Засса. Оказалось, что члены этих партий уже обладают оружейными складами и только ждут удобного момента для восстания. В конце 1934 года начался большой процесс. Наивным обывателям казалось, что сметоновские власти принимают серьезные меры против гитлеровцев. Немало их было приговорено к различным срокам, а несколько убийц — даже к смерти (приговор, правда, не был приведен в исполнение). Других, менее провинившихся гитлеровцев довольно скоро амнистировали — сметоновское правительство испугалось экономических репрессий и политического шантажа со стороны Германии, а Франция, Англия и другие государства не сочли нужным поддержать Литву. Гитлеровцы все смелее поднимали голову, все нахальнее вели себя с литовцами.
В Клайпеде выходило несколько газет. Одни из них поддерживали власть Сметоны, а другие, например «Литовская цайтунга» и «Мемелер дампфбоот»,[95] и раньше были пронемецкими, теперь же они стали прогитлеровскими. «Литовскую цайтунгу» издавали на страшно исковерканном языке; ее задачей было сделать местных литовцев не только немцами, но и нацистами.
Гитлеровские бациллы проникали даже в нашу гимназию. Вот чистокровный литовец, клайпедчанин, болезненного вида учитель Эйнарас на переменах охотно вступал в спор с другими учителями, доказывая правоту Гитлера, который провозгласил войну другим расам и собирается переустроить Европу. Эйнарас заявлял, что не только Клайпедский край отойдет Германии. Германия-де становится такой могущественной, что никто перед ней не устоит. Другие учителя пытались спорить с ним, но тот изо дня в день твердил свое. Можно было подумать, что это не только идейный пропагандист нацизма, но и платный агент.
Эйнарас с восхищением рассказывал, как в школах Тильзита ввели новомодное воспитание немцев. Преподаватель военного дела выстраивает их и, заметив нечищеные башмаки, велит соседу провинившегося ударить его по лицу. Если тот сразу не решается, преподаватель велит следующему бить того, кто отказался ударить своего товарища. Иногда и тот не соглашается, но, наконец, находится такой, который принимается избивать рядом стоящего, тот защищается, и вскоре в пыли и грязи уже копошится весь класс — у детей окровавлены носы, ободраны уши, расшиблены губы. Так детей учат «не бояться крови», — это, дескать, пригодится в грядущей войне. Мы с отвращением слушали эти истории…
Правда, жизнь шла своим чередом. Каждый день мы собирались в гимназии и добросовестно учили детей. Я учил их любить родной язык и героическое прошлое. Я старался объяснить детям, какая разница между истинной немецкой культурой, созданной Гете и Шиллером, Бетховеном и Кантом, и той расистской «культурой», пронизанной ненавистью к другим народам, которую все наглее пропагандируют нынешние властители Германии.
Я много читал. Через каунасский магазин «Наука» и другими путями я без особых трудностей получал советские журналы и книги. Читая художественную литературу, изданную в Советском Союзе, я старался как можно глубже понять политику этой великой державы. Равенство рас и наций, борьба против капитализма и империализма и особенно против фашизма, сжигания книг, концлагерей, убийств — вот что волновало меня. И становилось спокойнее на душе от мысли, что есть в мире огромная сила, которая может задержать гитлеровский потоп, угрожавший всей Европе.
Первой же осенью передо мной открылась красота нашего взморья, которой я раньше не знал. Преподаватель истории Ремейка любил не столько сидеть в классе, сколько путешествовать. Он хорошо знал окрестности Клайпеды (даже издал про них книгу) и очень часто устраивал различные экскурсии по Клайпедскому краю, по дюнам Неринги, в Жемайтию, добирался даже до Латвии и Эстонии. Я охотно присоединялся со своими учениками к этим экскурсиям, тем более что на лоне природы я мог лучше узнать своих учеников. За несколько прожитых в Клайпеде лет я вдоль и поперек исходил и изъездил не только Клайпедский край, но и большую часть Жемайтии. Я впервые увидел городища Шатрия, Медвегалис и Джюгас, озера Плателяй, Германтас, побывал в Тельшяй и Плунге. И навсегда влюбился в Жемайтию, край романтики, красоты и древней благородной культуры.
Частенько приходилось бывать на Неринге. Помню, как мы с Элизой долго шли к Ниде по взморью, собирая янтарь и камешки. Дни были солнечные, дул свежий ветер, катились зеленые волны, напевая свою однообразную песню, а мы шли и шли, потом отдыхали и снова шли, на каждом шагу любуясь то песком, то лесом карликовых сосен, то дюной, вырвавшейся из объятий деревьев и мха. Все было удивительно молодо, свежо, словно только что поднялось с морского дна и засверкало на солнце.
Однажды мы отправились пешком через дюны с гимназистами младших классов. Несколько десятков мальчиков и девочек шли бодрые и счастливые, а день был наполнен золотыми искрами и весенним теплом. Вдруг с моря поднялась исполинская черная туча, ее пронзил огненный зигзаг. Мы спешили под крышу. Но, как известно, в Неринге мало людей, и не так легко спрятаться от грозы. А туча приближалась с невероятной быстротой, над морем и на дюнах, словно надтреснутый колокол, гремел гром. Мы шли и шли, тщетно надеясь увидеть хоть какой-нибудь дом. Мы были где-то между Прейлой и Пярвалкой, когда с неба струями хлынул дождь, а гроза, кажется, совсем взбесилась — небо непрерывно бороздили огненные молнии, гром гремел рядом, над нашими головами, а эхо катилось вдаль, через поросшие сосенками холмы, через пустынные дюны, через серое разбушевавшееся море. Промокнув насквозь, я видел, как мои ученики, словно воробушки, застигнутые грозой, бегают туда и сюда и, не находя приюта, останавливаются под крохотными сосенками, по веткам которых бьют струи воды. Я уже слышу, как самые трусливые хнычут и зовут маму, а смелые успокаивают их.
К счастью, гроза кончилась так же быстро, как и началась. Вскоре мы оказались в Пярвалке и вошли в пустой ресторанчик. Хозяин быстро растопил печку и поставил для нас кофе. Мои воробушки обсохли и рассказывали друг другу пережитое. Было видно — теперь они рады, что будет о чем рассказать дома; они глядели гордо и сами себе казались более опытными и закаленными, чем час тому назад. Они пели и плясали, стараясь согреться, и, к счастью, ни один из них не простудился и не заболел.
«С женой и с учениками, — писал я брату Пиюсу, — за несколько дней мы прошли все дюны Неринги. Поход был невероятно интересный, некоторые его минуты были не хуже, чем когда-то, во время путешествия по Альпам. И впрямь, по сравнению с Нидой и Юодкранте, с Прейлой и Пярвалкой Паланга кажется бледной тенью. Огромные горы чистого песка, гудящие волны, лодки, чайки, лоси и косули, аисты, стоящие на берегу — все это оставляет глубокое, незабываемое впечатление».
Длинными осенними вечерами, когда за окнами шелестел нескончаемый клайпедский дождь, мы с Элизой, сидя перед настольной лампой, читали Стендаля, Флобера или Диккенса, восхищались каким-нибудь рассказом Горького или Чехова. Мне казалось, что Элиза чувствует себя одинокой вдали от Фреды, от близких, и я иногда спрашивал:
— Трудно тебе здесь, правда?
— Мне хорошо там, где ты, — отвечала она и улыбалась той улыбкой, которая восхищала меня с самого начала нашего знакомства.
Все больше мне хотелось взяться за большую работу. Какой она будет, поначалу не было ясно даже мне самому. Но теперь, после отъезда из Каунаса, где я провел столько лет, тамошние картины снова и снова вставали перед глазами. Я стал ярко вспоминать многие сцены, и мне хотелось изобразить в книге то, что я пережил. Я не знал ни как начать, ни как кончить книгу. Я видел только отдельные сцены, лица, но все они жили в моем сознании без связи друг с другом. Я вспоминал детство, друзей, с которыми рос, учился, и думал, что начать следовало бы с этого. Но когда я сел наконец писать, все пошло само собой, бессознательно. Написав страницу, я уже знал, что будет на следующей, а иногда прояснялось и несколько страниц, но не больше. Словно в тумане я видел будущее только что родившихся героев, их поступки, чувства, конфликты. И я чувствовал, что постепенно появляется что-то, о чем я много раз думал, но чего до конца не понял, пока не сел за свой стол. По правде говоря, сидел я не за столом, а за крохотной доской, которая, с поворотом ключа, спускалась с маленького шкафчика — первого предмета из мебели, купленного нами после свадьбы. Шкафчик был красивый, столик удобный, на нем помещалась даже настольная лампа, и писать было здесь уютно. Подняв глаза, я видел любимое лицо, склоненное над книгой. Почувствовав, что я смотрю на нее, Элиза отвечала мне взглядом, без слов спрашивая, не устал ли я, не нужно ли мне чего-нибудь. И я снова погружался в работу, потом мы ходили гулять, и я в сотый раз рассказывал своей подруге о том, что пишу и что собираюсь писать, и с одними моими проектами она соглашалась, другие критиковала, доказывая, почему она не согласна. Подумав, я часто соглашался с ее мнением.
Моя работа, увы, шла медленно и с трудом. Некоторые страницы выглядели сносно, некоторые даже недурно, но бывали такие, которые я чиркал и писал заново, иначе поворачивая действие, и удивлялся, что мои персонажи вдруг показались гораздо живее даже мне самому. Сев за большую работу, я чувствовал, как она меня то непреодолимо влечет, а то становится ненавистной, и мне кажется, что я никогда ее не кончу, что все написанное мной серо, скучно, ни для кого не интересно. Иногда целыми неделями я не писал ни строчки…
Прояснялись персонажи романа — Гражулис, Туткус, Скиргайла. Должен признаться, что у некоторых из них были прототипы, хотя, разумеется, я не изображал действительных лиц и событий. Довольно похож на Скиргайлу был один знакомый каунасец, учившийся в Берлине и позднее заболевший психической болезнью. Тому, кто внимательно читал эту книгу и роман «Дружба», нетрудно будет понять, кто из моих знакомых наделил своими чертами Туткуса.
Большую радость теперь доставляли мне письма друзей. Писали и Пятрас, и Костас, и Винцас Жилвнис. Казис, которого еще летом военный суд приговорил к четырем годам каторги, кажется, не написал ни слова, — может быть, ему этого не позволяли. Друзья рассказывали мне о своей литературной работе, о каунасских новостях. Я узнал, что в Каунасе, продержавшись всего лишь год, закрылся Театр молодых. Я вспомнил Юкнявичюса и Грибаускаса, которые жаждали революционизировать наш театр и когда-то основали студенческую труппу. Позднее они организовали Театр молодых. Теперь, как я узнал из писем, Юкнявичюс уехал в Москву изучать театр. Ему можно было позавидовать — перед ним откроется незнакомый и бесконечно интересный новый мир. Он увидит Москву, ее улицы, ее людей, ее музеи и театры. Смогу ли я когда-нибудь это увидеть?
Зимние каникулы мы провели в Каунасе, после Нового года я писал Винцасу: «У меня уже есть кусок романа. До, осени надеюсь кончить». В другом письме снова: «Эксплуатируя себя, пытаюсь по вечерам писать. Чувствую, что в моем знании жизни много есть пробелов, и это приводит меня в уныние, я очень одинок, хотя жена меня понимает, но никто не может заменить мне хорошего друга».
Я работал не только в гимназии — преподавал литовский язык и студентам в Институте торговли. Кроме того, меня просили работать по вечерам на каких-то курсах для чиновников, которые хотели изучать литовский язык (эти курсы мало кто посещал, и они скоро развалились). Вся эта педагогическая работа изнуряла меня так, что по вечерам не оставалось сил писать.
Весной 1935 года я впервые увидел Эстонию. Мы побывали в Тарту и Таллине. Очень милым, спокойным и интересным показался университетский город Тарту. «Здесь можно было бы пожить, поучиться и пошуметь», — подумал я. Таллин восхищал видом на море, массивными башнями, зеленью парков. На пароходе мы добрались до острова Сааремаа. Нас окружило северное безмолвие, неяркие цветы, древний замок. Куресааре и люди — вежливые, спокойные, культурные. Бросались в глаза трудолюбие и опрятность маленького народа, чистота в городах и деревнях.
А летом мы с женой снова поехали в рыбацкую деревушку за Палангу, где в прошлом году провели столько счастливых часов. Нас встретили маленькие рыбацкие домики, сохнущие на солнце сети, запах соли, вытащенные на берег черные, просмоленные лодки. Приехала пара молодоженов — Пятрас Цвирка со своей женой Марите.
С этого лета сильней всего застрял в памяти один эпизод. Когда в гости приехал наш с Пятрасом тесть, профессор Меркелис Рачкаускас, мы попросили рыбаков, чтобы они нас, мужчин, взяли в море. Рыбаки охотно согласились. Погода была удивительно прекрасной. Рыбаки подняли паруса, и лодка, смело разрезая воду, быстро удалялась от берега. Поначалу мы еще хорошо различали двух молодых женщин, которые махали нам руками и желали счастливого пути. Но вскоре мы уже не слышали их голосов, потом и они исчезли.
Медленно уходил вдаль берег, превращаясь в тусклое пятно, и все более серела деревня Ванагупе и лес рядом с ней. Наконец даже башня Палангского костела стала едва заметной. Рыбаки сказали, что мы отплыли от берега на четырнадцать километров.
Вдруг мы увидели, что по воде бегут крохотные барашки — белые небольшие волны. Увы, эти барашки быстро увеличивались, превращаясь в настоящих «баранов». Наша лодка накренилась, и нам на головы один и другой раз хлынула холодная соленая вода. Рыбаки пытались иначе поставить паруса, но у них что-то не получалось. Лодка еще сильней накренилась. Волна за волной катились на нас. Профессор поначалу пытался шутить, рассказывал, что когда-то, в молодости, был членом Херсонского яхт-клуба, что такие штормы ему нипочем. Но вскоре и он, подняв воротник пиджака, съежился.
Рыбаки не покладая рук вычерпывали воду, а лодка то взлетала вверх, то устремлялась в бездну. Казалось, мы уже не вынырнем. Но через минуту мы снова оказывались на гребне, подброшенные, кажется, до самого неба. Пятрас шутил, изображая страдающего морской болезнью, но вскоре эта болезнь скрутила всех нас. Вокруг все воняло солью и кружилось, кружилось.
Прошло очень много времени, пока мы снова не увидели берег, рыбачьи избушки, пятно леса. Но шторм не успокаивался. Ветер дул еще сильней, водяные горы с ревом катились под нами и через нас. Мы промокли до последней нитки. И когда наконец лодка уткнулась в твердый прибрежный песок, мы выскочили и, шатаясь, хлюпая водой, стали взбираться на дюны. Мы увидели жен — они ждали все то время, пока мы были в море. Они уже давно разглядели нашу лодку, кидаемую штормом, и пережили неприятные минуты, потому что рыбаки, находившиеся на берегу, сказали им, что мы угодили в серьезный переплет. И рыбаки, с которыми плыли, откровенно признались, что паруса были не в порядке. В море они это заметили и попытались исправить, но тут налетел шторм. Лишь хладнокровие рыбаков спасло нас.
С небывалым наслаждением мы выпили по хорошему глотку коньяка из плоской бутылки профессора. А женам пришлось сушить и гладить нашу одежду, которую мы могли надеть лишь на следующий день. Лишь тогда все плавание нам, мужчинам, стало казаться не столько страшным, сколько смешным. Но наши жены никак не могли согласиться с таким настроением…
На исходе лета мы поехали в мою родную деревню. Родные, особенно мама, встретили меня, уже не одного, с прежней нежностью и любовью. Мама угощала нас, боялась чем-нибудь не угодить своей снохе. Но снохе все здесь нравилось: дитя города она всегда любила деревню, и мы дни напролет ходили по полям Я рассказывал ей сотни маленьких историй детства, которые мне теперь казались значительными. И было приятно, что Элиза слушала их, вместе со мной поднималась на Часовенную горку проведала холмик, на котором когда-то стояла наша старая изба, ходила по саду, собирая сбитые ветром яблоки, и боялась пчел. Мама и братья сразу подружились с ней.
Родные жаловались, что жизнь становится тяжелей; все, что крестьяне продают в городе, невероятно дешево, а все покупное — дорого. Особенно были недовольны мелкие крестьяне. Раньше я никогда не слышал, чтобы они так откровенно ругали власть и, не стесняясь, говорили, что раньше или позже ей придет конец. В нашей округе немало крестьян обнищало и уехало за море.
Народ ругал правительственные организации, скупавшие скот и птиц, зерно, молоко, ругал банки и судебных приставов… Какое-то тревожное, бунтарское настроение чувствовалось в деревнях.
Вернувшись в Клайпеду, осенью я от людей, приезжавших из Каунаса, слышал о сопротивлении крестьян полиции в Занеманье, об их кордонах, не разрешавших вывозить в города сельскохозяйственные продукты. Шли толки о вооруженном усмирении крестьян, о том, что поджигали усадьбы штрейкбрехеров. Ярость против фашистской власти, накопившаяся у всех за много лет, теперь вылилась в угрожающие действия. Оторопь брала, когда рассказывали о военно-полевых судах, на которых крестьян приговаривали к смертной казни, в то время как гитлеровцев Клайпедского края постепенно амнистировали и выпускали из тюрем.
В эти месяцы могли оставаться спокойными лишь подхалимы фашистской власти. Лучшие представители интеллигенции возмущались политикой правительства, их заботила дальнейшая судьба Литвы. А эта судьба представлялась в туманном и мрачном свете. В Литве царили гнет, насилие, а за границей крепла угроза со стороны Германии. Восхищение литовских фашистов Гитлером явно пошло на убыль. Где только могли, они применяли гитлеровские методы, но сами уже поняли, что если Гитлер поглотит Литву, то и от них не останется следа.
Каждый день я ходил в гимназию и в Институт торговли, а по вечерам писал свой роман. Настроение было плохое, работа шла трудно.
Однажды в дом по Зеленой улице, где я жил, зашла незнакомая женщина. Говорила она на чистом клайпедском наречии и похожа была скорей на крестьянку. А это была писательница, о которой я до сих пор не слышал, — Эве Симонайтите.[96]
— Ева? — переспросил я.
— Нет, я не Ева, я — Эве, — ответила моя гостья.
Каунасское Министерство просвещения издавало ее большой роман, который был назван несколько необычно — «Судьба Шимонисов из Аукштуяй».
— Что это за Аукштуяй? — спросил я ее.
— Это такая деревушка, а Шимонисы — люди, которые в этой деревушке жили….
— А, понятно… — Я начал листать набранные в типографии гранки.
В Каунасе этот роман попал в руки одного известного писателя. Симонайтите употребляла слова из диалекта, писателю это совсем не понравилось, и он удивительно неудачно отредактировал рукопись. Во многих местах были выброшены самые характерные для клайпедцев выражения, а присущие этому диалекту синтаксические конструкции кое-как были приспособлены к формам, привычным для каунасских литераторов. Я заметил, что моя гостья взволнована, что для нее мучительно такое отношение к ее труду.
— Ведь это мой ребенок, — говорила Симонайтите. — Мой ребенок.
— Я вас понимаю, — ответил я.
— Помогите мне. Если книга выйдет такой, что же будет? Я не смогу глаз показать перед своими клайпедцами…
Что поделаешь. Мы принялись читать фразу за фразой вместе с автором. Там, где она меня останавливала, найдя неудачное исправление, я просил вспомнить, как она написала сама. Так мы прочитали десять, двадцать страниц, и я со все большим удивлением смотрел на эту женщину. Настоящая писательница, да еще какая! Она пишет, невзирая на принятые в нашей литературе каноны, правила, и пишет как-то свежо, наблюдательно. Местами, правда, роман растянут, сентиментальны страницы, посвященные невзгодам старых Шимонисов, но многое, почти все написано ярко, оригинально. Когда мы вернули в текст любимые слова и выражения писательницы, речь сразу ожила и засверкала по-клайпедски сочно… Это радовало нас обоих. Изредка я поправлял конструкцию фразы, предлагал вычеркнуть то или иное немецкое слово. Мы долго искали, чем бы это слово заменить.
Работа продвигалась медленно. Чем дальше, тем сильнее меня восхищала книга дочери Клайпедского края. Я радовался, что этот край, историческая судьба которого столь трагична, неожиданно выдвинул из своих глубин крупную писательницу. Я ни на минуту не сомневался в том, что роман привлечет внимание читателей. В нем было что-то новое, еще неизвестное в нашей литературе.
— Вы написали эпопею клайпедской жизни, — сказал я своей гостье, когда работа подходила к концу.
— Что вы, — скромно ответила она. — Написала, что знала, о своих клайпедцах, вот и все…
Типография перебрала гранки, и мы уже с другим настроением читали верстку ее книги. Моя гостья повеселела, ее мрачность исчезла, хоть ей и казалось, что ее книга еще не звучит так, как полагалось бы.
Я начал расспрашивать писательницу о ее жизни, но она отвечала нехотя, — казалось, что ей не о чем рассказывать. Я узнал только, что в детстве и юности она испытала много горя, что пишет уже давно и немало печаталась, но до сих пор никто не обратил серьезного внимания на ее рассказы, никто не учил ее и не поощрял. Я еще больше удивился и просил ее не бросать пера. Мои просьбы, разумеется, были ни к чему — Эве Симонайтите, которую наши издатели все-таки сделали Евой, уже была самой настоящей писательницей. Как показали дальнейшие годы, эта женщина носила в душе и сердце много удивительных человеческих образов и картин жизни, которые исподволь переселились на страницы ее новых книг. И когда я читаю новую книгу Эве Симонайтите, я всегда вспоминаю те осенние вечера 1935 года, проведенные вместе в Клайпеде, на Зеленой улице. Это были счастливые для меня вечера — тогда завязалось знакомство и даже дружба с очень скромной женщиной, наделенной богатой душой и недюжинным талантом. Я не ошибся в своих догадках — роман «Судьба Шимонисов» вскоре стал одной из самых популярных книг новой литовской литературы. Имя Эве Симонайтите стало известным не менее, чем имя любого другого признанного писателя.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК
Друзья сообщили мне из Каунаса, что в 1936 году, во время весенних каникул, организуется экскурсия художников в Советский Союз. Хоть лопни, я должен попасть в эту компанию! Началась интенсивная переписка с друзьями, заполнение анкет и все прочее, необходимое в этих случаях. Общество собралось интересное — старый мой друг Юозас Микенас, график Телесфорас Кулакаускас[97] (способный человек, веселый рассказчик, делавший обложки для некоторых номеров «Третьего фронта» и для моего сборника «Березы на ветру»), художники Адомас Гальдикас, Викторас Визгирда,[98] Антанае Гудайтис. От писателей ехали мы с Пятрасом Цвиркой.
Нашу поездку литовские власти разрешили! Это было просто удивительно. Видно, тут сыграли роль некоторые международные события: литовскому правительству, которое испытывало давление со стороны гитлеровской Германии, надо было продемонстрировать, что отношения Литвы с Советским Союзом улучшаются, и наша экскурсия должна была это доказать. Ранней весной, когда в Каунасе еще лежал снег, мы сели на поезд и уехали в ту страну, о которой ходило столько противоречивых слухов и которая, несмотря ни на что, так интересовала нас с Пятрасом. Мы ехали кружным путем, потому что тогда не было дипломатических отношений с Польшей и мы не могли пересекать ее территорию.
Вернувшись из поездки, я опубликовал в журнале «Культура» свои впечатления. Разумеется, эти заметки, написанные в условиях фашистской цензуры, не могли претендовать ни на полноту, ни на откровенность. Теперь, когда Ленинград и Москва хорошо знакомы многим литовцам, мои тогдашние впечатления могут показаться наивными. Но я считаю, что интереснее и точнее будет перепечатать их, чем писать заново.
«…В Ленинграде и Москве мне пришлось провести примерно десять дней, — писал я тогда. — Это объяснит, почему так отрывочны мои впечатления. Хоть я старался побывать повсюду, без помех ходил, куда хотел, — для того, чтобы узнать жизнь другой страны, нужно не только желание, но и время.
Советский Союз интересует сейчас и врагов, которые хотят его разрушить, и друзей, которых заботит мир. Особенно маленькие государства все больше ценят усилия Советского Союза, они чувствуют, что упрочение сил СССР и его борьба за мир в расшатанной европейской системе являются сейчас порукой независимости и безопасности малых стран.
* * *
Утром прохладного, хоть и солнечного весеннего дня мы въехали из Эстонии на территорию СССР. Лишь ряд колышков в поле разделяют два непохожих мира — Советский Союз и остальные государства Европы. Глаза внимательно подмечают здесь каждую мелочь, потому что кажется: все, даже природа, здесь должно быть иным. Но пейзаж здесь такой же, как и в Литве, — березовые рощи, местечки с башнями церквей, украшенными крестами. Все это похоже не только на Литву, но и на всю Прибалтику. Люди работают на железнодорожных путях, другие идут к станции с чемоданами. Все в рабочей одежде, в сапогах и галошах, так как солнце растопило снег и дороги еще не просохли.
Пока через поезд проходят таможенники, нам представился случай понаблюдать за жизнью вокзала. Вот идет по проселку из деревни красноармеец с молодой женой, которая несет запеленатого младенца. Красноармеец в длинной серой шинели, в сером суконном шлеме с пятиконечной звездой, знакомым по советским фильмам, он прощается с младенцем, несколько раз целует его, а потом жену, которая одной рукой держит ребенка, а другой вытирает слезы. Чувства человека всюду одинаковы.
Таможенники регистрируют нашу валюту, фотоаппараты и довольно тщательно, хоть и вежливо, просматривают вещи. Досмотр окончен, и мы трогаемся в путь — в Ленинград.
Пейзаж по всей дороге наш: березовые рощи, ольшаник, равнина, местами лежит снег, а где его нет, тянутся поля, которые отличаются от наших лишь тем, что на них не видно межей. Почти вся земля в Советском Союзе принадлежит колхозам.
Проводник вагона — маленький, тихий человек. Мы спрашиваем, он отвечает.
— Времена изменились, — рассказывает он. — Все учимся. Один мой сын скоро станет инженером. Вся молодежь учится. За учебу платить не надо. Правительство вдобавок стипендию дает. Два моих сына тоже получают стипендию. Учись сколько хочешь — страна большая, нужны всякие специалисты.
В коридоре вагона собираются другие советские граждане, которые, узнав, что мы из-за границы, хотят с нами побеседовать. Вот крепкий, смуглолицый человек с военным орденом, на груди, бывший боец Чапаевской дивизии. Мы угощаем друг друга папиросами. Мимо летят полустанки, полные людей. Движение большое — много народу едет в Ленинград. Бывший боец рассказывает, что в этих полях проходили жестокие сражения с белыми.
* * *
Ленинград. Близится вечер. На улицах, по которым мчится автобус «Интуриста», полно людей. Густым потоком они плывут по тротуарам. Огромные очереди ждут у касс кинотеатра. Кончилась работа в учреждениях и на заводах. Город немного запущен, потому что большинство домов после революции еще не ремонтировали. Распланирован он симметрично, точно.
Наш гид объясняет: здесь было покушение против царя, это дворец фаворита Екатерины II, здесь площадь, на которой похоронены жертвы революции, это сад с белыми мраморными статуями, которые цари привезли из Италии, а это Смольный, где во время Октябрьской революции начало работать новое правительство. Все это вызывает любопытство, потому что перед твоим взором пробегают улицы, площади и дворцы, где не раз решали и нашу судьбу, где сидели правители, царствовавшие над большей частью Европы и Азии, где проходили кровавые бои, определившие жизнь современной России. Каждая улица связана с каким-нибудь важным историческим событием. Я вдруг вспоминаю, что по, этим улицам когда-то ходили Пушкин, Гоголь и Достоевский, что здесь жили, страдали и радовались их герои, и в голову приходят прекрасные стихи Пушкина из «Медного всадника»:
Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит…Но это все прошлое, история.
Я стараюсь смешаться с толпой, услышать, почувствовать, понять, чем живут эти неисчислимые толпы, которые все идут и идут по улицам. Я вглядываюсь в каждое лицо и думаю: кто он? Что прячется в душе этих людей? Ведь они живут совсем иной жизнью, чем жители наших городов. Здоровые, энергичные, они идут, весело и громко разговаривая. Я ловлю обрывки фраз — обычные разговоры о работе фабрики, стахановском движении, соцсоревновании, театре, кино. Почему-то почти не видно пьяных, хулиганов, я не слышу ругани, без которой до войны, говорят, не обходился ни один гражданин России начиная с дворника и кончая царем. Поражает полное равенство в одежде. Здесь не отличишь, кто директор предприятия, а кто рядовой рабочий. Лишь иностранцы выделяются шляпами, меховыми воротниками или элегантной тросточкой. Нет даже традиционных русских бород, которые еще несколько лет назад мелькали в советских фильмах. Своеобразную, нигде не виданную картину являют собой красноармейцы, которые шагают по тротуарам с детьми на руках — а дети смеются или спят.
* * *
Кинотеатр «Рот фронт». Мы идем на фильм «Мы из Кронштадта», который сегодня начали показывать в четырнадцати кинотеатрах Ленинграда. Люди толпятся не только в фойе, но и на улице. Несколько десятков кинотеатров и в Ленинграде, и в Москве не могут вместить всю публику.
Вечерний город прекрасен. Над лесом колонн зажигаются рекламы кино и театров, а внизу мчатся трамваи и автобусы. В розовой вечерней мгле исчезают мосты через Неву и дремлющие на берегу сфинксы, а парки, монументы и красивые здания погружаются в сверкающие сумерки Ленинграда. Вечером улицы просто переполнены людьми. Проституток не найдешь даже с огнем: это непременное «украшение» любого западноевропейского города окончательно искоренено. Интересная беседа на эту тему была с одним железнодорожником, бывшим следователем по делам несовершеннолетних преступников.
— Проституция у нас искоренена, — говорил он, когда мы ехали из Ленинграда в Москву. — Нелегко было. Проституток мы перевоспитываем трудом. Правда, бывает еще, что и теперь появляется женщина, которая начинает промышлять этим ремеслом, хоть и в малых масштабах. Если такая женщина работает на фабрике, ее перевоспитывает коллектив. Обычно это хорошо действует. Так же поступаем и с ворами. Могу со всей твердостью сказать, что у нас редкость хищение общественного имущества. Немножко больше хлопот с карманным воровством. Но и карманников тоже перевоспитываем трудом. Преступники — пережиток дореволюционного времени, скоро они окончательно исчезнут.
Действительно, надо отметить, что за все путешествие у нас не пропала ни одна вещица, хотя наши чемоданы не запирались, а часто мы забывали закрывать даже свои номера в гостинице.
* * *
Здесь обращают огромное внимание на воспитание человека. Людей воспитывают различными методами. Большим успехом пользуется сейчас пьеса молодого автора Погодина «Аристократы». В пьесе убедительно показано, как бывших воров и убийц работой на канале, соединяющем Белое море с Балтийским, превращают в честных людей. И это не сказка. Канал длиной в двести двадцать семь километров действительно сооружен за двадцать месяцев. По окончании строительства было освобождено много бывших преступников, некоторым даже предоставили стипендии для ученья. Как мы видим, отношение к человеку здесь совсем другое, чем в Западной Европе или Америке, где преступник, угодивший однажды в тюрьму, превращается в рецидивиста, постоянного обитателя тюрем.
Нашим читателям может быть интересно положение религии в Советском Союзе. Наши литовские газеты писали, что, например, на пасху все московские церкви были переполнены. В первый день пасхи мы находились в Ленинграде, но заметили лишь двух старух, которые крестились у Казанского собора. Никакого праздничного настроения. Правда, сама советская печать не скрывает, что на пасху в некоторых церквах был народ, в основном старики. Это понятно. Религии в Советском Союзе никто не запрещает. О деятельности «Организации безбожников» все меньше слышно, потому что вопрос о религии все менее актуален для Советского Союза. Если и попадаются среди старшего поколения верующие люди, они ни для кого не опасны, на них не обращают внимания. Государство не содержит попов и церквей. Большинство церквей, например Исаакиевский собор в Ленинграде, превращено в музеи. В них оставлено все по-старому, лишь на стенах надписи: религия — опиум для народа. Советская молодежь говорит о религии как о совершенно неинтересной вещи.
* * *
Как советские граждане смотрят на свое положение, чем они живут? Мне пришлось разговаривать не только с официальными лицами, но и со многими железнодорожниками, официантами, рабочими.
— Трудное время уже прошло, — говорит почти каждый. — Нельзя сравнить то, что было года два назад, с тем, что сейчас. За два года значительно понизились цены на все продукты и возросла заработная плата. Теперь рабочие работают семь часов в день, пять дней в неделю, и каждый шестой день — выходной. Жалованье здесь от ста до двух тысяч рублей в месяц; те, кто может работать быстро и хорошо, зарабатывают больше; кроме того, многие получают премии, право бесплатной поездки на курорт.
Если смотреть с нашей точки зрения, цены различных товаров довольно высокие: ботинки — 60–70 рублей (один лит — примерно 80 копеек), сигареты — от 30 копеек до 8 рублей пачка, фунт мяса — 3 рубля. Но надо знать, что в семье обычно работает несколько человек и все получают зарплату. Квартиры очень дешевые — стоят 6–7 рублей в месяц. Совершенно покончено с жилищным кризисом, потому что выстроено множество новых домов. Питаются почти все в заводских столовых, значительно дешевле, чем в городских ресторанах.
Официант, пятидесятилетний турок, работающий в ресторане в гостинице «Европейская», откровенно рассказывает о своей жизни:
— Что я знал до войны? Лишь салфетку под мышкой и оплеухи. Помню, служил в армии. Вернулся в Петербург на побывку, встретил на улице брата. Кинулся здороваться, целоваться. Не заметил и не отдал честь офицеру. Тот подскочил и избил меня до крови! А сейчас, если я рядовой солдат, я смело могу подойти к самому Ворошилову, попросить огонька, он даст мне сигарету. Он поговорит со мной как с человеком. Мы не могли войти в трамвай, театр, библиотеки были нам недоступны. Мы знали лишь дешевую водку. До войны я не умел ни писать, ни читать, — рассказывает он, — а сейчас и меня, и мою старушку жену заставляют учиться. А молодежь! Она вся сплошь учится. У нас уговаривают, заставляют учиться, дают стипендии. Теперь мы знаем, для чего живем. Если на нас нападет враг, я первый возьму в руки винтовку. Я знаю, за что мы будем бороться. Это понимает каждый.
— Как у вас живут люди различных национальностей? Нет ли ненависти, ссор? — не раз мы спрашивали у советских граждан.
— Этот вопрос у нас в корне пересмотрен. Как вы знаете, довоенная Россия называлась тюрьмой народов. Литовцы тоже испытали лапу царизма на своей шее. Теперь разжигание национальной розни считается хулиганством и, как любое проявление хулиганства, карается законом. Человек любой национальности может не только свободно говорить на своем языке, но имеет на своем языке и газеты и книги. Нынче свои поэты есть даже у цыган, киргизов и калмыков. Многие народности лишь после Октябрьской революции получили алфавит.
* * *
— Как у вас с колхозами? Мы часто читали в газетах, что в этой области вам пришлось столкнуться с большими трудностями?
— Да. Это была сложная и трудная работа. Но теперь и эта проблема практически решена. Крестьяне сами убедились, что им удобнее жить не на крохотных участках, а в больших артелях и применять совершенные орудия труда. Многие колхозники живут уже достаточно зажиточно, кое-где зажиточнее, чем рабочие: у них много мяса и хлеба. Сельское хозяйство коллективизировано почти на сто процентов. Правда, во многих колхозах еще старые, крытые соломой дома. Но и эта проблема решается. Теперь надо думать не о создании колхозов, а о рационализации их работы и улучшении условий жизни.
* * *
Просвещение в Советском Союзе находится на подъеме. Развиваются и печать и литература. У продуктовых магазинов нет больше очередей — каждый может купить сколько угодно продуктов. Но самые большие очереди стоят у газетных киосков. Хоть главные газеты выходят миллионными тиражами, их все равно не хватает. Бумажная промышленность еще не настолько выросла, чтобы удовлетворить все запросы.
— Как живут писатели в Советском Союзе? — спросили мы у литераторов.
— Мы стараемся создать наилучшие условия для работы писателей. Многие из них работают дома. Но у нас есть и Дом литераторов. Здесь каждый писатель может прийти и работать, может получить стенографистку. Кроме того, здесь большая библиотека и отдел консультаций. В этом отделе писатель может получить любые сведения из любой области. Для писателей созданы все условия для поездок по стране и изучения жизни.
В Москве мы побывали в здании Союза писателей. Нам показали зал, комнату, где писатели обсуждают новые книги и различные литературные вопросы, библиотеку. Все прекрасно оборудовано. Нас пригласили поговорить с писателями, и мы диву давались — как внимательно они следят за зарубежной жизнью и как много об этом знают.
— Правда ли, что ваш язык самый древний в Европе, близкий к санскриту?
— Мы слышали, что у вас богатый фольклор. Неплохо было бы издать избранное по-русски. Мы уже издавали латышские сказки.
— В связи с предстоящим юбилеем Пушкина нас интересует Адам Мицкевич. Это правда, что он был литовцем по происхождению и по творчеству? Какие произведения Пушкина переведены на литовский язык?
— Чехи и словаки ставят в своих театрах немало наших авторов. А как у вас?
Писатели интересовались многими литературными вопросами.
* * *
Мы снова на московских улицах. Автомобиль летит мимо новых десятиэтажных домов, каждый из которых занимает чуть ли не целый квартал, мимо афиш кино и театров. Мы спускаемся на станцию метро, где под землей в электрическом свете сверкают мраморные колонны. Подъезжает красивый поезд. Мы входим. Хорошая вентиляция, здесь не так душно, как в берлинском унтергрунде. Потом мы снова оказываемся на мраморном перроне, и движущаяся лестница поднимает нас наверх. Всюду люди — торопятся, идут, едут. Не видно бездельников, щеголей.
В архитектурном отношении Москва — смесь Азии и Европы. Неподалеку от азиатских башен и стен Кремля и оригинальной Красной площади с Мавзолеем Ленина из розового гранита, к которому всегда тянутся длинные очереди людей, приехавших не только со всех концов Советского Союза, но и из-за границы, виднеются современные здания, ренессанс здесь переплетается с барокко, византийский стиль с классицизмом, а пригороды застроены тысячами огромных домов в современном стиле. Правда, сейчас отказываются от конструктивизма и возвращаются к классическим колоннам и мрамору. Хотя в центре разрушают старые улицы и строят огромные дома, но лишь за городом видно, что делают на самом деле. Здесь, в чистом поле, вырастают целые кварталы, фабрики, дома для рабочих, клубы, читальни, стадионы, кино и театры. Со временем вокруг Москвы радиусом в 10 километров будет устроена лесопарковая зона, где смогут отдыхать тысячи трудящихся.
* * *
Те картины неустроенной и тяжелой жизни, которые были характерны для Советского Союза сразу после революции и которые помнят многие люди, вернувшиеся в те годы в Литву, сейчас уже ушли в прошлое. Лишь закоренелые враги Советского Союза и белоэмигранты могут утверждать, что в Советском Союзе царит разруха и нищета. Образованные, опытные люди, которым трудно втереть очки, приехав сейчас в Советский Союз, удивляются прогрессу. Без сомнения, там еще встречаются неполадки, но все честные люди признают тот факт, что жизнь быстрыми темпами идет вперед. Если вспомнить, какие богатства природы таит в себе советская земля, можно себе представить, какая жизнь ждет это государство, занимающее шестую часть земного шара, когда эти сокровища будут извлечены из земли и использованы для блага страны, — а это уже делается.
* * *
Время пробежало удивительно быстро. На Белорусско-Балтийском вокзале в Москве стоит под парами поезд. Невероятно длинный ряд вагонов. Слышится не только русская, но и английская, французская, немецкая и… литовская речь. Москва все больше превращается в международный город. Немного дней осталось до 1 Мая, а на этот праздник приедет множество людей со всех сторон. Забравшись в вагоны, утомленные впечатлениями, мы валимся на постель. Поезд тихо погромыхивает в ночи, с каждым поворотом колес все больше удаляясь от красной столицы. Когда мы просыпаемся у Полоцка и выглядываем в окна, мы видим ясное солнце, первую весеннюю зелень и почки на деревьях. Сверкающая сетка прозрачной утренней мглы серебрит поля, на которых блестят хрустальные озера и бегут мутные ручейки. Въезжая в Советский Союз, мы передвинули стрелки часов на два часа вперед. Вскоре мы оставляем за собой последнюю советскую станцию — Бигосово — и, покидая Советский Союз, снова переводим стрелки на два часа назад».
Эти старые заметки я хотел бы дополнить некоторыми подробностями.
В Москве нас поселили в гостинице «Ново-Московская», недалеко от Кремля. В этом городе мы проводили время с Ромуальдасом Юкнявичюсом, который изучал режиссуру у Мейерхольда. Мы смотрели и постановки этого театра: «Горе уму» Грибоедова и «Ревизор» Гоголя. Нас поразили роскошные костюмы, массовые сцены, особенно блистательное общество за столом в «Горе уму», когда прибывает Чацкий. Поражал удивительно высокий уровень актерского мастерства, тонкое, решение мизансцен и многое другое, чем нас не избаловал Каунасский театр.
Несколько представлений мы видели и во МХАТе. В антракте одного спектакля мы встретили в фойе полковника Скучаса, который тогда, кажется, был литовским военным атташе в Москве. Он спросил, как нам нравится спектакль, и, не дожидаясь ответа, заговорил с какой-то яростью:
— Жалею, что пошел… У нас самодеятельность на гумне лучше играет… Неужели это искусство, черт побери?
Этот господин возмущался всем, что видел в Москве, все презирал и без стеснения поносил все и вся. Очень странно было слышать это от человека, который приехал поддерживать дружеские отношения между Литвой и Советским Союзом.
Совершенно другим оказался Юргис Балтрушайтис, посол Литвы в Москве. Он пригласил нас в свой кабинет на улице Воровского, в доме посольства (позднее, особенно во время войны, я часто бывал и даже жил в этом доме — в нем по сей день находится постоянное представительство Литовской ССР). Балтрушайтис расспрашивал о наших впечатлениях, его явно радовало, что в Советский Союз приехали литовские художники и писатели, и советовал, что нам еще следует увидеть в Москве. Он сожалел, что у нас мало времени: во всех республиках, сказал он, идет гигантская стройка, и нам было бы полезно с этим ознакомиться. Когда мы с Микенасом сказали, что очень хотим увидеть во МХАТе пьесу Булгакова «Дни Турбиных», Балтрушайтис взял карандаш и написал записку Станиславскому, который был его хорошим знакомым, как и большинство старых московских интеллигентов. Вышло так, что мы с Микенасом смотрели этот спектакль из партера, сидя на местах, которые обычно принадлежали Станиславскому и его жене актрисе Лилиной — это сообщил нам капельдинер. Видно, других билетов уже не было. Такой жест Балтрушайтиса и дирекции МХАТа взволновал нас.
Ромуальдас Юкнявичюс пригласил нас с Пятрасом зайти к нему. Мы удивились, увидев, что он живет под лестницей, в подвале посольства. Это было тем удивительнее, что здание было просторное, в три этажа. Когда мы выразили свое удивление, оказавшись в убогой комнатушке, где стояли кровать и столик будущего талантливого режиссера, он сказал нам, что здесь его поселили чиновники посольства без ведома Балтрушайтиса. Так что и здесь человек искусства оказался никому ненужным парией, и здесь торжествовали напыщенные и глупые чиновники…
Мы с Цвиркой познакомились в Москве с некоторыми писателями. В клубе Союза писателей, на той же улице Воровского, мы видели и слышали удивительного чтеца, знаменитого Владимира Яхонтова. Он с такой силой и с таким своеобразием читал Маяковского, что каждый раз, входя в этот клуб, я вспоминаю этот вечер. Мы, два литовских писателя, тогда были иностранными туристами и даже не подозревали, что всего несколько лет спустя мы окажемся гражданами Советского Союза и членами Союза советских писателей…
ШАГ ВПЕРЕД
Жить в одной комнатушке нам уже стало невмоготу. Правда, из всей мебели у нас свой был лишь шкафчик. Было удобно получать все от хозяев. Но комната была темная, на первом этаже, с окнами на улицу, а хотелось тишины, воздуха, простора.
В это время немка фрау Фришман на улице Альтенберга выстроила каменный дом. Второй этаж заняла сама, первый сдала врачу, а третий — нам. В нашей квартирке была лишь одна нормальная, очень маленькая комнатка, в которой мы кое-как поставили шкафчик и столик. Если приходили гости, надо было как следует поломать голову, как еще втиснуть несколько стульев. Были еще две комнатки со скошенным потолком. В одной из них я поставил столик и книжную полку — книг все прибывало. Была еще кухонька с газовой плитой (в то время лишь в Клайпеде был газ) и даже ванная.
Переехав на новую квартиру, мы чувствовали себя как на седьмом небе. Комнаты оказались светлые и чистые. Из столовой дверь вела на балкончик, за которым весной, летом и осенью зеленели деревья парка. Улица была тихая, светлая и красивая, застроенная новыми современными домами.
Был туманный, мрачный день января 1936 года, когда я неожиданно увидел в газете заметку — умер Ляонас Скабейка. Когда прошло первое ошеломление, я вспомнил его как здорового, бодрого юношу, со светлым взглядом синих глаз. Таким он остался в моей памяти после первой встречи. Знакомясь с ним, я тогда подумал — какой он красивый! Мне казалось, что только так должен выглядеть поэт. Я познакомился с ним в 1925 году, когда мы поступили в Каунасский университет. Несколько лет мы тесно дружили. Потом он заболел, уехал в родную деревню, и дружба прервалась. Мы виделись редко, еще реже он мне писал — письма обычно были короткие, незначительные, словно он хотел спрятать то, чего избежать не мог…
Наша дружба была странной. Мы часто ходили целыми часами, не обмениваясь ни словом. Он не был разговорчивым. Обычно говорил я. Мне казалось, что в своей прекрасной голове он носит вихри феерических образов, которыми полнились его стихи, а говорит мало потому, что боится сказать пошлость, которую он так ненавидел. На все он смотрел с иронической улыбкой, и я теперь не могу представить его другим, без этой улыбки. Мне казалось, что он видит вещи с какой-то иной стороны, которая доступна и понятна лишь ему, что живет он где-то вдалеке, потому что его взгляд всегда был обращен больше на себя, чем на мир, и улыбался он иронично потому, что знал неизвестный другим секрет.
Как это ни странно, я почти не могу вспомнить наши со Скабейкой разговоры, хоть мы и встречались каждый день. Я вижу его воочию — высокого, прямого, здорового, прекрасного, в ушах у меня продолжает звучать сочный, звонкий его голос, но слов я не помню.
Однажды я его спросил:
— Ляонас, скажи, как ты пишешь свои стихи? Я часто не могу их понять. Ты сам понимаешь, что ты пишешь?
— Откровенно скажу, — не всегда. Вот находит такое настроение, что страшно хочется писать. Сажусь, пишу. Я стихотворение как-то чувствую. Я его делаю не головой.
Захворал он как-то неожиданно. Никто не верил, что этот здоровый, крепкий с виду человек может схватить туберкулез.
Снежный зимний день. Далеко, почти за городом, стоит лечебница святого Луки. Скабейка обрадовался, когда я вошел в его палату. Лежал он там такой же аккуратный, красивый, как всегда, лишь лицо пылало нездоровым румянцем. Он интересовался политикой, пробовал шутить, но я видел, как он страдает, и его смех был неприятен. Но, глядя на него, я упорно думал: «Нет, он выздоровеет. Он не может умереть! Он всегда казался сильнее многих из нас!»
Еще раз я встретил его на Лайсвес-аллее. После больницы он выглядел прекрасно, Если бы не свойственный туберкулезу румянец, можно было сказать, что этот человек вернулся с хорошего курорта — крепкий, сильный, завидного здоровья. Но говорил он еще саркастичней, чем в больнице. Казалось, он весь погружен в себя, в свое несчастье. Говорил он резкими, неприятными фразами, словно ему невыносима была мысль, что есть здоровые люди, а он обречен на смерть. Он приехал из родной деревни, окруженной мокрыми полями, у него не было надежды уехать куда-нибудь лечиться. Было трудно говорить с ним, как с человеком, который вот-вот умрет, который так не хочет умирать и ищет в твоих глазах ответа на страшный вопрос: умру я или нет? И от этого взгляда становилось страшно, потому что нельзя было ничем помочь ему.
Я узнал, что прогрессивные писатели Каунаса собираются почтить память Скабейки. Во время весенних каникул я оказался на вечере в зале атейтининков. В то время литературные вечера, особенно организованные прогрессивными писателями, были редки — не было еще такой традиции, да и власти мешали их устраивать. А тут вечер, в котором участвует вся наша «гвардия» — пятнадцать человек.
В начале вечера я прочитал завещание покойного, волнующее трагическое письмо, которое ясно показало, что покойный был не только хорошим поэтом, но и мыслящим человеком. Перед лицом смерти Скабейка не только остался атеистом, но, порвав идейные связи с бывшими друзьями, смело и благородно выступил за идеал социализма. Переполненный зал молча слушал потрясающий документ. О жизни и творчестве поэта пламенно говорил Корсакас, он подчеркнул его путь к социализму и глубокую веру в коренное преобразование жизни.
Я читал только что написанные воспоминания о Скабейке. Потом стихи читали Казис Борута, Йонас Шимкус, Теофилис Тильвитис. Свою прозу читал Юозас Балтушис. Пятрас Цвирка прочитал фельетон о портном Иголке, назначенном цензором. Саломеи Нерис не было, и ее стихи читала Кимантайте.
Этот вечер и друзьям и врагам показал, насколько выросла наша прогрессивная, демократическая литература. Лучшие писатели протестовали против фашистской власти и клерикализма.
Вскоре в большой аудитории университета целый месяц проходила большая выставка книг, журналов и плакатов Советского Союза, которая пользовалась успехом. Это тоже было большим достижением прогрессивных сил. Примерно в эти же дни гитлеровцы ночью подожгли библиотеку Клайпедского педагогического института. При всем желании нельзя придумать более яркий контраст…
В Литве дули новые ветры. В Каунасе чувствовалось сопротивление политике правительства. Уступки гитлеровцам в Клайпедском крае и жестокие репрессии против крестьян вызвали гнев интеллигенции.
Создавался Народный фронт. Партия организовала ту часть общества, которая не только могла устоять перед натиском литовского фашизма, но и ясно поняла свое место и задачи перед угрозой войны. В Клайпеде я часто встречался с людьми партии, через которых поддерживал МОПР. Из Каунаса приехали мой знакомый со времен университета Эугениюс Мешкаускас и Микалина Навикайте. Микалина, которую я знал еще по Мариямполе, недавно вышла из тюрьмы. В ней она провела самые прекрасные годы юности, сблизилась там с компартией и вступила в нее. Я говорил с ней о положении в Литве и в Клайпедском крае, о необходимости сплотить прогрессивные литературные силы. Я понял, что она приехала ко мне по поручению партии. Она рассказала, что осуждены сектантство, неправильное отношение к социалистам-некоммунистам, что сейчас хотят привлечь к антифашистскому движению все демократические силы. Выяснилось, что Навикайте часто видится с Креве, Корсакасом, Цвиркой; существует мысль издавать новый антифашистский журнал, который, скорее всего, будет называться «Литература», — в нем смогут работать левые литераторы» Не считая Креве, намечено пригласить сотрудничать также Сруогу, Дубаса и других — всех, кто ненавидит международный фашизм и поджигателей войны. Мы разговаривали с Микалиной о конгрессе в защиту культуры, который состоялся в минувшем году в Париже. Журнал «Культура» призывал создать национальный секретариат Международной ассоциации писателей в защиту культуры и включиться в борьбу писателей всего мира за свободу трудящихся и свободу мысли.
Я не сомневался в том, что «Литература» — это журнал, который нам непременно пужен. Без промедления я принялся готовить для него материал.
Когда-то, в 1932 году, во время создания Литовского общества писателей, мы, члены «Третьего фронта», не захотели в нем участвовать. Большинство членов общества составляли клерикалы, таутининки или бесцветные «беспартийные». Мы организованно ушли с учредительного собрания (кажется, это сделали Нерис, Цвирка, Шимкус, Корсакас, Драздаускас, Райла и я). Но с возникновением Народного фронта в жизни и литературе наша позиция изменилась, и мы вступили в общество, надеясь со временем изменить его в прогрессивном направлении.
…Весной в Клайпеде у меня гостил Пятрас Цвирка с женой. Пятрас, как всегда, был остроумен и рассказывал различные комические происшествия. Теперь он жил в Верхней Фреде, в доме своего тестя Меркелиса Рачкаускаса, но часто вспоминал и подвал Шляжявичюса.
— Всякие у меня там бывали приключения, — смеялся Пятрас. — Сижу как-то вечером за столиком и слышу — стук-стук в дверь. «Войдите!» — кричу я. И входит в комнату этакий старичок — еще довольно бодрый с виду, снимает шапчонку и певучим голосом говорит:
«Добрый вечер, вечерок, вечеришко…»
«Добрый, — отвечаю я. — С кем имею честь?»
«Я Кяблас-Птоу, — говорит он мне, — писатель, автор «Срочной телеграммы на Западном фронте» и других книг».
«Слышал, слышал». И прошу его сесть. А он опять говорит: «Я хотел, говорит, побеседовать с нашим драгоценным писателем, писателищем Пятрасом Цвиркой… Не ты ли будешь искомое лицо?»
«Да, говорю, не ошиблись».
«Отлично, мой дорогой друг, дружок, дружище, отлично. Зашел я к вам как писатель к писателю поговорить по очень важному делу. А мое дело, дельце такое: оба мы пишем книги, книжки, книжицы и распространяем их. Вот вы выпустили «Франка Крука». Я тоже кое-чего выпустил. И вот меня интересует, сколько вы, так сказать, в свою книгу вложили денег, деньжат, деньжонок».
«Как так — вложил денег? — удивился я. — Написал роман, отнес в общество «Сакалас» Антанасу Кнюкште,[99] знаете такого? Он выпустил, заплатил гонорар, и все. Он продает мой роман. Но это уже не моя забота — это дело издателя…»
Собеседник явно недоволен моим ответом.
«Очень жаль, уважаемый, что нет среди нас, писателей, откровенности. Я-то знаю, что так книгу не издашь. Я вот как делаю: собираю у друзей, знакомых, единомышленников эти деньги, деньжата и издаю свои книжки. Потом разношу по людям и снова по литу собираю деньги. Иначе не получается. А вы вот не хотите сказать, во сколько вам обошлось издание этого вашего «Франка Крука».
Мне уже немного надоело.
«Да я же вам сказал — написал, понес Кнюкште…
Теперь я хочу кое о чем вас спросить. Ваша фамилия, по-видимому, Кяблас. Но что значит это Птоу?»
«А, — обрадовался старичок. — Это интересное дело, уважаемый. Видите ли, теперь мы пишем книги, книжки, книжицы, но никто не переводит их на другие языки. А ведь настанет время, когда наши книги будут читать и англичане, и испанцы, и итальянцы… Неудобно ведь показаться в Европе какому-то Кябласу. Птоу — дело другое. Это уже звучит не по-нашему, и европейцу произнести легко…»
«Хитро вы придумали, — говорю я. — Сам бы я никак не догадался».
«Хитро, говорите? — спрашивает меня Кяблас-Птоу. Улыбается простодушной детской улыбкой и подает мне руку. — Простите великодушно, что помешал, дорогой друг, дружище. Только вот хотелось бы, чтобы среди нас, писателей, было больше откровенности. А теперь добрый вечер, вечерок, вечерище». Он напялил шапчонку и покинул мой подвал.
Пятрас смеется вместе со мной.
— У тебя тут, в Клайпеде, наверняка нет таких интересных посетителей…
С Пятрасом и Марите мы по заливу отправились в Ниду. Погода была чудная, вечным покоем дышали большие дюны за Нидой, чайки разрезали крыльями воздух. Наши гости были счастливы до глубины души. Мы с Пятрасом разговаривали о литературе. Этим летом мы собирались, оставив жен в Верхней Фреде, уехать в Зарасай, где он мечтал поработать над своим третьим романом «Мастер и его сыновья», а я — над все еще не оконченной «Дружбой».
Мне в который раз казалось, что Пятрас Цвирка живет двойной жизнью — заметной для всех и подспудной, закрытой от посторонних. Сталкиваясь с людьми, он обычно показывает им лишь одну свою сторону — играет роль шутника, который ни к чему серьезно не относится. За его анекдотами, нескончаемыми комичными рассказами о знакомых и незнакомых многие не могли разглядеть мыслящего человека, воображение и душа которого непрерывно были заняты тяжелым, напряженным трудом. Когда мы оставались вдвоем, Пятрас часто с большой серьезностью разговаривал о будущем Европы и Литвы. Прекрасно понимал, что назревают трагические конфликты, которые затронут и нашу отчизну. Никуда нельзя было уйти от политики. Мы не раз возвращались мыслями к Советскому Союзу и тому, что недавно там видели…
Написав роман «Земля-кормилица», Пятрас дождался самой широкой известности, какой в то время мог ожидать наш писатель. Роман читали и комментировали все. Прогрессивные читатели радовались — ведь в нем было сказано столько мучительной, кровавой правды и с таким талантом! Реакционерам пришлась не по вкусу тенденция романа, но даже враждебные критики не могли не признать талант автора. Книгу уже переводили на латышский и русский языки. Теперь Пятрас думал о новом романе. Эта книга должна была быть полной веселья и оптимизма и всепобеждающей радости, хотя период 1905 года, о котором он писал, был полон драматических конфликтов и трагических коллизий.
— Вот написать бы мне такую книгу, как «Кола Брюньон», и все… Больше не надо…
Как и каждый из нас, Цвирка получал от своей литературной работы не только радость, часто его мучительно задевали злые выпады врагов, подозрения и сознательная клевета. Многие не любили его за откровенность и остроумие. Но Пятрас так глубоко и крепко любил писательское дело, что он ни разу не усомнился в своем призвании и твердо верил, что только так, создавая книги, он сможет проникнуть в самую суть человека.
В эти годы Пятрас Цвирка жил исключительно на свой писательский гонорар. Деревянный дом с садом в Верхней Фреде, полная тишина вокруг, удивительно прекрасная природа — цветущие сады весной, широкий Неман летом, изморозь на деревьях зимой, — это место просто создано для художника. Семья профессора ценила талант Пятраса и делала все, чтобы он мог работать. Он полюбил свою тещу, ласковую и культурную женщину, которая скоро стала для него «мамой», второй матерью — заботливой, молчаливой, всегда сочувствующей. В бытность свою во Фреде Пятрас Цвирка много читал, ухаживал за садом, ловил в Немане рыбу. Здесь он снова как бы оказался на своей родине — рядом с другом своего детства голубым Неманом. Писательский гонорар позволял Цвирке сводить концы с концами, но каждую неделю и сюда приходил сметоновский полицейский с письмами из налогового управления, требующими выплатить налог, угрожая продажей с торгов его имущества — столика и книжной полки.
Надо сказать, что Цвирка никогда не умел систематически работать. Целые месяцы он проводил, путешествуя по Литве, сидя с удочкой на берегу рек и озер, встречаясь с товарищами. Потом запирался на несколько месяцев в комнате и почти не показывался в городе.
— Время, когда я не работаю, не проходит даром, — говорил он. — Я же все время работаю — когда гуляю, валяюсь на берегу Немана, болтаю с друзьями. Именно тогда мне легче всего обдумывать новые ситуации, сюжетные ходы, персонажи, их речь, жесты. Я сажусь писать тогда, когда чувствую, что вся книга уже в голове — надо только записать на бумаге. Но за столом начинаются новые мучения. Пишу я с трудом, и чем дальше, тем мне трудней.
С каждой своей книгой Пятрас Цвирка рос как писатель. Он постоянно повышал требования к себе. Все с большей ответственностью он относился к своей работе, не делал себе поблажек, старался не печатать ничего недоделанного. Я не раз видел, как он работал. На столе собиралось множество листов бумаги, на которых было несколько строк, а то и полстраницы, написанных неразборчивым почерком.
— Если мне не дается начало рассказа, я не могу писать до тех пор, пока не уловлю настоящий тон. Иногда так я извожу целую кипу бумаги, — говорил он.
Его воображение никогда не переставало работать. Он часто рассказывал мне новые сюжеты, которые возникали у него все время. Но он осуществлял лишь незначительную часть своих замыслов.
— Часто сюжет стареет, особенно если его долго вынашиваешь. А когда чувствуешь, что твой сюжет неинтересен для тебя самого, лучше его бросить и ничего не писать.
В начале июня Пятрас сообщил мне, что уже вышел первый номер «Литературы». Главным редактором журнала был Винцас Креве. Журнал действительно сплотил почти всех прогрессивных писателей. В своем письме Пятрас говорил, что журнал «пользуется зверским успехом. Провзошел все наши ожидания. В одном только книжном магазине «Наука» продали 30 с лишним экземпляров за два часа. Враги бесятся».
В том же письме Пятрас сообщил, что заходил в советское посольство в Каунасе и получил для себя и меня по экземпляру романа «Как закалялась сталь» и письма от ВОКСа.
В конце июня умер Максим Горький. Не только для меня он был одним из самых великих писателей мира. Я читал не только его книги, но и почти каждую статью Горького. Недавно я перевел «Мои университеты». Узнав о смерти любимого писателя, я «плакал мучительнее, чем тогда, когда потерял отца», — писал я Жилёнису.
В середине июля мы с Пятрасом поехали в Зарасай. Живописная природа восточной Литвы, прекрасные озера, радушные люди, среди которых у Пятраса было много друзей, манили нас в эти места, которые мы впервые увидели в 1930 году. Выйдя из автобуса, мы купили в киоске свежие газеты, и в глаза нам бросились крупные заголовки, сообщавшие о начале гражданской войны в Испании.
— Фашизм поднимает голову. Сегодня он тренируется в Испании, завтра он начнет свою кровавую работу в других странах… — очень серьезно сказал Пятрас.
В эту минуту мы услышали звон всех колоколов костела и увидели, что на улицы вышло почти все население местечка. Кого-то провожали на кладбище. Мы смешались с толпой и узнали, что хоронят единственную дочь богатого чиновника, которая позавчера утонула в озере. Неподалеку купались ее друзья — гимназисты. Увидев, что девушка тонет, они не стали спасать ее потому, что были голые и стеснялись…
— Это все плоды воспитания, — печально сказал Пятрас. — Как бы гимназисты не впали в соблазн… Сколько еще темноты в нашей Литве!.. И сколько несчастий из-за этой темноты!..
Мы получили комнату в семье скромного банковского служащего. Комната нам очень понравилась. Погода была просто удивительной, и я начал сомневаться в том, удастся ли мне написать в Зарасай хоть какую-то часть своего романа. Но я упорно засел за работу и поначалу лишь в самое жаркое время дня появлялся на озере.
— Летом у меня работа не идет, — говорил Пятрас. — Летом я люблю валяться на берегу озера, кататься на лодке, ловить рыбу. Лучше работается осенью, когда идет дождь, или зимой, если ты сыт и в комнате не слишком холодно.
Взяв лодку у своего хозяина, мы много времени проводили на озерах. Эти летние тихие дни я вспоминаю с наслаждением. Мы были молоды, здоровы, счастливы, в голове роились проекты, замыслы новых книг, мысли о дальних странствиях. Пятрас был страстным рыболовом, и по воскресеньям, когда хозяин наш был свободен, они вставали еще до рассвета и уплывали на лодке далеко в озеро удить рыбу. Я поначалу ездил с ними, но вскоре выяснилось, что у меня нет ни малейших способностей в этом деле. Это развеселило Пятраса, и он не раз шутил надо мной, называя меня способным рыбоедом, но не рыболовом.
В Зарасай мы встречали Антанаса Шатаса, старого приятеля по Каунасу, уже который год преподававшего в Зарасайской гимназии. Поначалу он обрадовался нашему приезду, но вскоре мы заметили, что он сторонится нас. Удивившись этому, мы как-то подозвали его и спросили:
— Что с тобой, почему ты нас боишься?
Испуганно оглядевшись, учитель отвел нас в сторонку и озабоченно сказал:
— Вы уж простите, ребята, мне неудобно, что ж, мы приятели, старые друзья… Но я не могу с вами встречаться…
— Что же случилось? Ты что, с ума спятил?
— С ума-то я не спятил, — ответил учитель. — Но мне сообщили, что за вами здесь следят… Сведения от самого начальника охранки. Говорят, вы сюда приехали с важным заданием — вести коммунистическую пропаганду. Меня предупредили. Вы уж простите, ребята… Недавно женился, жена на сносях…
Мы, разумеется, вошли в положение бедного, забитого провинциального учителя и с тех пор при виде его лишь незаметно кивали ему.
Постепенно и прочие зарасайцы начали смотреть на нас с каким-то подозрением и страхом.
Несмотря на летнюю жару, я старался с пользой провести отпуск и довольно быстро двигал роман. Пятрас диву давался, что я так быстро заполняю страницу, но, прочитав, говорил:
— Знаешь, я бы оставил из этой страницы четыре, ну, пять строк. Ты хочешь сразу сказать все. Это плохо. Писать надо экономней, пускай читатель сам думает… Потом посмотри, если бы ты своему Скиргайле прибавил какую-нибудь черточку в его портрете, речи, — он бы сразу был живее!.. Роман — трудное предприятие. Мои попытки в этой области еще очень скромные. Трудно водить множество персонажей по известным только тебе путям воображения, залезть в душу каждого. Но мне завидно, что ты можешь столько часов сидеть за столом и так быстро писать.
Каждый день мы ждали газет с описаниями испанских событий. Мнения общественности сразу разделились. Реакционная печать поддерживала фашистов, но симпатии народа были на стороне республиканцев. Мы с Пятрасом часто говорили о том, что в наше время человек уже не может жить лишь ближайшим окружением, его волнует борьба против реакции даже на другом краю континента.
В Клайпеде с 1935 года стал работать литовский драматический театр. Он просто ожил, когда, по окончании учебы в Москве, туда переехал мой старый друг Ромуальдас Юкнявичюс. Он поселился в номере гостиницы «Виктория», и, зайдя к нему, я был поражен его прекрасной библиотекой. Библиотека стояла в ящиках одинакового размера, которые можно было ставить друг на друга, — это было очень удобно в постоянных переездах актера. Юкнявичюс собирал не только Театральную литературу. У него были ценные издания московской «Academia» — классики всемирной литературы, античные авторы, биографии и мемуары. Как я заметил, Юкнявичюс не просто читает, а изучает книгу. Такого еще не было в литовском театре — я знал, что большинство актеров занято лишь ролями и выпивками.
Приехав в Клайпеду, Юкнявичюс взялся за постановку пьесы Хейерманса «Крушение надежды». Знакомые актеры рассказывали, что им еще никогда не приходилось столь напряженно и упорно работать.
Тогда я довольно интенсивно занимался французским языком. Мне хотелось не только свободно читать по-французски (я это делал уже давно), но и говорить, если поеду во Францию. По просьбе театра я перевел пьесу Марселя Паньоля «Топаз», которая побила все рекорды по числу постановок в различных странах. Юкнявичюс взялся поставить эту острую сатиру против капиталистической лжи и обмана. Постановка появилась на сцене позднее; после захвата немцами Клайпеды, в Каунасе.
Бывали недели, когда этот талантливый человек начинал веселиться. Тогда он становился бесшабашным, по ночам врывался в чужие квартиры, целовался с хозяином или крыл его последними словами. Иногда принимался посреди ночи подряд обзванивать всех своих знакомых и говорил, например, разбудив одного советника:
— Хочу вам сообщить, что я влюблен в вашу жену…
— Что ж, — отвечал советник, — я рад, что у вас хороший вкус.
— Но это не все — ваша жена тоже меня любит.
— Это уж ее дело.
— Она не только меня любит, мы тайно встречаемся… Несчастного советника мучил до тех пор разговором, пока тот не клал трубку. Через минуту телефон звонил снова, снова раздавался голос Ромуальдаса…
Когда мой тесть был молод и женился в Одессе, кто-то из знакомых подарил ему квадратную бутылку английского виски. Случилось так, что тесть сумел сохранить эту бутылку и привезти в Литву после первой мировой войны, Октябрьской революции и тревожной гражданской войны. Как-то он вытащил ее, рассказал историю бутылки и сказал:
— Теперь отдаю тебе. Держи, пока твои дети не женятся, — пусть идет из поколения в поколение!
Я засунул бутылку в дальний угол шкафчика, совсем не собираясь ее опустошать. Но однажды, вернувшись из города, я увидел в нашей столовой Юкнявичюса с Грибаускасом. Они уже поставили на стол и откупорили историческую бутылку, смешивали виски с содовой, а на кухне шипела яичница, которую они заказали. Что поделаешь — они и нас с Элизой пригласили за стол. Очень жаль мне было исторической бутылки. Я сказал, что вместо нее я бы выставил бутылку коньяка, но, как говорится, слезами горю не поможешь…
В это время мне довелось познакомиться с писателем, которого я давно знал по его книгам. Это автор «Горбуна» и «Даров лета» Игнас Шейнюс.[100] Все любители литературы в Литве читали эти психологические повести. Шейнюс написал их еще при царе и позднее почти не выступал как прозаик. Но недавно снова приобрел популярность романом из жизни нацистской Германии — «Зигфрид Иммерзельбе омолаживается». Он много лет провел послом Литвы в Швеции, позднее редактировал «Литовское эхо», а теперь — не знаю, по своему ли желанию, — перебрался в Клайпеду и работал советником губернатора. Это был человек среднего роста, довольно интеллигентной наружности, с нависшим лбом и морщинистым лицом. Ходил он, опираясь на трость. Все его манеры показывали, что он долго жил за границей.
Ощущая свою слабость в тонкостях правописания, он обратился ко мне с просьбой просмотреть рукопись его сборника новелл. Таким образом завязалось наше знакомство.
Однажды, встретившись у речки Дане, мы вместе переправились на косу и здесь долго гуляли по лесу. Шейнюс спрашивал меня, где я люблю писать, и удивлялся, узнав, что в комнате. Он-де пишет в лесу, на пне, и при этом карандашом. Я заметил, что в лесу многое отвлекает внимание, но Игнас Шейнюс ответил, что это неправда, лес заставляет его сосредоточиться.
Он много рассказывал мне о Швеции, в которой долго жил, и ругал меня за то, что я ни разу не собрался туда, тем более что из Клайпеды несложно отправиться туда на пароходе. Он долго распространялся о шведском короле, расхваливая его демократичность. Говорил, что летом можно видеть короля где-нибудь на лужайке за городом, когда он лежа попивает пиво из бутылки. Рассказывал, что однажды видел в Стокгольме оперетту, одним из главных действующих лиц был шведский король. Настоящий король во время спектакля сидел в ложе. Король на сцене вязал и вышивал и при этом пел. В Швеции многие увлекаются этим, но короля не превзойти. Настоящий король, выслушав эту комическую арию, аплодировал вместе с другими (он на самом деле любил рукоделие).
История мне показалась наивной, тем более что небо над Европой угрожающе хмурилось. Хотя кто знает… Может, и лучше, что мой собеседник отвлекал меня от тревожных мыслей…
Другой раз Игнас Шейнюс повел меня на пляж, взяв с собой небольшой чемодан. Я думал, что он принес трусы и полотенце, но оказалось, что чемоданчик набит крохотными флажками. Поначалу я не понял, что он собирается делать. Он вынимал флажки из чемодана и втыкал их в песок. Потом расхаживал по берегу, опираясь на тросточку. Сам смотрел и велел мне проверять, как выглядят флажки на фоне моря. Оказалось, что Шейнюс давно хотел заменить трехцветный флаг Литвы по своему проекту. Не помню, какие цвета он подобрал и почему его так заботило это. Он расхаживал долго и со всех сторон осматривал флажки, потом спросил:
— Ведь красиво? Правда, на фоне моря очень даже красиво?
Меня это совсем не интересовало, и я что-то буркнул. Через добрых полчаса Шейнюс выдернул флажки и уложил в чемоданчик. Мы направились к парому, который должен был перевезти нас в город.
Меня поражали какая-то несерьезность и даже чудаковатость этого видного писателя, бывшего дипломата и редактора газеты. Казалось, его совсем не интересует то, что происходит в Литве и здесь, в Клайпедском крае, да и во всей Европе. По намекам Шейнюса я понял, что он сознательно ушел в замкнутый мирок, в который не хочет впускать отзвуки большого мира.
…С новым журналом «Литература» дела шли, как и можно было ожидать, неважно. Второй номер жестоко искромсала цензура. Выбросили мою статью о недавно умершем Горьком и много стихов и рассказов других писателей. Я радовался, что все-таки прошла моя статья «По пути критического реализма», в которой я пытался охарактеризовать тенденции последних лет в нашей прогрессивной литературе.
Я узнал, что московский журнал «Наковальня» высоко ценит «Литературу». Большинство наших прогрессивных писателей впервые услышали объективное и приветливое слово о себе от «Наковальни».
Подготовленный к печати третий номер «Литературы» выйти не мог — цензура закрыла его. В фашистской печати началась травля всех прогрессивных писателей, даже таких видных творцов литовской литературы, как Креве. Особенно отличился в этой грязной работе ренегат Райла, который, подписавшись А. Валькинишкисом, откровенно предлагал охранке расправиться со своими бывшими друзьями.
Обо мне Райла писал: «В общем и целом идеология и программные статьи этого просветителя «Литературы», который, кажется, преподает литовскую словесность в государственной гимназии важнейшей провинции, где идет борьба между двумя нациями, совершенно ясны и последовательны для тех, кто знаком с современными социальными, политическими, философскими и культурными доктринами. Это марксизм, ленинизм, сталинизм, культурбольшевизм — в общем, диалектический материализм».
Но фашисты и их новый приспешник Райла тщетно старались закрыть нам рот — слишком уж опасное время настало для нашего народа, чтобы прогрессивные писатели могли замолчать.
Когда летом 1940 года был свергнут режим таутининков, то из архивов извлекли секретные документы, по которым узнали о «любви» реакции к прогрессивной литературе. Директор департамента государственной безопасности Повилайтис подверг подробному анализу журнал «Литература» в своем рапорте министру внутренних дел. Он написал: «Этот журнал в настоящее время создает заметный диссонанс, потому что недвусмысленно выступает против национализма и навязывает социализм и интернационализм. Это ясно при первом же взгляде на список сотрудников и авторов «Литературы»: А. Венцлова, К. Корсакас, П. Цвирка, Саломея Нерис, Ромен Роллан, М. Горький, П. Беранже, Курт Тухольский и многие другие. Среди них нет ни одного представителя правых взглядов: все сплошь леваки — до самых крайних». Свой рапорт Повилайтис кончает следующими словами: «Подобные мысли наносят вред воспитанию нашего общества и интересам государства».
Поэтому не удивительно, что министр поручил подготовить распоряжение о закрытии журнала «Литература». Была задушена еще одна попытка сказать слово правды нашему народу в эту грозную и трагическую пору.
Как расценивали нашу прогрессивную литературу правительственные органы, видно из «Памятной записки» заведующего отделом печати и обществ, написанной позднее, в 1939 году. В ней было сказано: «Наши видные писатели: Креве-Мицкявичюс, Людас Гира, Цвирка, Венцлова, Борута, Марцинкявичюс и другие — придерживаются радикально-левых взглядов. В их сочинениях часто отражены борьба против органов государственной власти, борьба за неограниченную свободу личности, даже выступление против государства как такового. Только за I–IV месяцы с. г. конфисковано 10 непериодических изданий и художественной литературы: романов — 3, сборников новелл — 2, календарей — 3, публицистики — 1, сборник стихов — 1».
…В августе в Испании, под Гренадой, на шоссе, был убит видный поэт-антифашист Федерико Гарсиа Лорка. Эту весть мы встретили с болью, хотя в Литве в то время мало кто читал его стихи. Вскоре Нобелевскую премию мира получил знаменитый журналист и писатель Карл Осецкий, заключенный гитлеровского концлагеря. Плюнув в лицо общественному мнению всего мира, нацисты до смерти держали лауреата под полицейским надзором. Жуткие убийства деятелей культуры вызывали протест даже далеко от Германии…
В конце 1936 года вышел из печати первый мой роман — «Дружба». Его рукопись я предложил директору общества «Сакалас» Антанасу Кнюкште, который недавно издал «Землю-кормилицу» Цвирки. Меня поразила оперативность этого человека — роман был принят буквально за несколько дней и отправлен в типографию. Удивляло и то, что Кнюкшта, человек, насколько мне было известно, правых взглядов, взялся не только за издание «Земли-кормилицы», но и моего романа, идейная направленность которого не могла прийтись ему по душе. Очевидно, он влюблен в нашу литературу и делает все, чтобы в ней могли проявиться различные идейные направления и стилистические почерки. Об издании романа мы договорились в каком-то каунасском кафе, попивая чай с «антигриппином», иначе говоря, коньяком, — в это время весь Каунас болел гриппом. Антанас Кнюкшта понравился мне — чувствовалось, что он любит книги и бескорыстен. А ведь главной чертой издателей того времени было корыстолюбие. Я договорился, что книгу напечатает клайпедская типография «Утро», работы которой отличались высоким качеством.
Я радовался своей «Дружбе». Автор обычно радуется своей новой книге. А вот критика встретила ее без энтузиазма. Клерикалы последними словами поносили ее. Их отзыв не удивил меня, но было странно, что и Корсакас опубликовал в «Культуре» невежественную статью одного своего сотрудника, хотя сам написал мне, что считает ее неправильной и глупой. Мой роман многим не понравился не только своей направленностью, но и тем, что был написан без искусственных «украшений» стиля, которые тогда считались непременным признаком хорошей прозы. А я, следуя прежде всего таким писателям, как Лев Толстой, старался писать как можно проще, избегать искусственных сравнений и перекрученных метафор (теперь мне кажутся смешными эти попытки моих ранних писательских лет). Поклонники вычурного стиля эту простоту сочли «бедностью» и нехудожественностью. Правда, Борута отнесся к моему роману критически, но дружески, и это меня поддержало. Казис писал мне:
«…Читая твою «Дружбу», не только читал, но и жил. Хотя наша, жизнь бродила по разным дорогам, но все-таки в ней столько общего, столько важного! И в «Дружбе» все это есть.
Прежде всего, тебя надо поздравить как большого мастера прозы. Некоторые сцены я читал дважды, дивясь их образности, яркости, живости.
Но ты напрасно назвал свою книгу «Дружбой». Какая там дружба? Ее с огнем не найдешь — три разных дороги: к буржуазии, мещанству и пролетариату. И я не могу одинаково оценивать разных героев. С некоторыми деталями я тоже не могу согласиться. Хотел бы видеть другую диалектику событий. Но это уже дело вкуса».
Сделав немало упреков по поводу второстепенных персонажей, Казис кончил письмо следующими словами:
«Но это все мелочи, которые мешают читать, а вообще ты написал хорошую книгу, и я тебя поздравляю».
Я чувствовал, что вложил в роман много своих мыслей о жизни, дружбе, любви, будущем. И теперь, когда после выхода романа прошло три десятка лет, я могу листать его без стыда — я не нахожу в нем ничего, от чего хотел бы отречься.
СОЛНЦЕ В ТУЧАХ
Время было под стать клайпедской погоде от поздней осени до поздней весны — то снег, до дождь, то дождь, то снег, а истосковавшиеся по солнцу люди лишь изредка видят за перинами туч огненные лучи. И все-таки в этот год меня ждала радость.
В январе целую неделю у меня гостил Цвирка. Много часов мы говорили о литературе. Пятрас рассказывал о недавно прочитанных книгах. Любимыми его авторами становились Толстой, Чехов, Флобер, Мопассан. Французских писателей он уже читал в оригинале. В эти январские дни у нас возникла идея подготовить томик прозы Пушкина к столетию со дня его смерти. С каким восхищением Цвирка переводил «Пиковую даму», «Историю села Горюхина»!
Переводить хорошего писателя — отличная школа для каждого пишущего человека.
— Я чувствую, — говорил он, — что один перевод «Пиковой дамы» дает мне как писателю куда больше, чем чтение десяти книг наших литераторов. Какое мастерство сюжета! И какими простыми средствами! Какая экономия слова! Никакой позы! Величайшая простота, и как все это действует!
В Верхней Фреде Пятрас начал собирать книги и вскоре составил небольшую, но хорошую библиотеку своих любимых писателей. Он всегда любил фольклор и теперь в своей библиотеке собрал много изданий, начиная со сказок Афанасьева и Басанавичюса.
— Книги я люблю, словно они живые, — говорил он. — Я люблю, чтобы они не только были интересны по содержанию, но и имели привлекательный вид.
Собираясь издавать очередную свою книгу, Цвирка прилагал все усилия, чтобы она выглядела как можно лучше, — советовался с художниками, в издательстве требовал хорошую бумагу, сам подбирал шрифт в типографии, приказывал верстать, как ему хочется. Если его книгу издавали плохо, он нервничал и сердился.
Цвирка поговаривал:
— Когда придет старость, я поселюсь где-нибудь в маленьком домишке у Немана, среди крестьян, и в библиотеке буду держать только любимых авторов. Останутся со мной лишь Толстой, Чехов и еще кое-кто. Чем дальше живешь, тем сильней кажется, что остаются лишь несколько любимых писателей. Когда тускнеют многие ранние литературные привязанности, величие крупных писателей становится все ярче.
В большом зале новой гимназии имени Витаутаса Великого мы устроили вечер памяти Пушкина, — я читал доклад о жизни и творчестве поэта, его гуманизме, любви к свободе, ненависти к царизму и о его страшной смерти. Советское консульство предоставило нам материал, и мы устроили интересную выставку о жизни и творчестве художника.
Когда вышла из печати книга, подготовленная мной с Пятрасом (я перевел для нее «Повести Белкина» и биографию поэта, написанную Вересаевым), я послал книгу в Москву Вересаеву и вскоре получил от него дружественное письмо. К сожалению, это письмо, а также письма писателя С. Третьякова погибли в войну.
В марте Пятрас снова оказался в Париже. По пути в Париж он побывал в фашистском Берлине и других городах Германии. Из Парижа он посылал для каунасских газет письма, в которых описывал гитлеровский террор против прогрессивных сил немецкой общественности и разоблачал подготовку Гитлера к войне. Его письмо о Берлине, названное «Зоопарк», обратило внимание фашистской немецкой печати, в которой началась кампания как против автора статьи, так и против всего литовского народа. Тогдашний посол гитлеровской Германии в Каунасе Цехлин, как это водится, заявил протест сметоновской власти. Позднее, вернувшись из Парижа, Цвирка рассказывал:
— Мне повезло, я счастливо проскочил через Германию обратно в Литву. Правда, пришлось выждать месяц-другой, пока дело не забыли. Очень возможно, что немецкие фашисты и не знали, что я нахожусь в Париже, иначе со мной все могло случиться… Ведь известно, что им все равно, чей ты гражданин, Германии или другого государства, — там, в концлагерях, места хватает… Так что я, возвращаясь назад, Германию проехал, не останавливаясь даже в Берлине… Да мне и не хотелось видеть это поветрие. Хватит, насмотрелся в тот раз…
Получив премию за «Землю-кормилицу» и договорившись о путевых очерках с «Литовскими ведомостями», Пятрас вместе с женой объездил Западную Европу. Он посылал мне письма из Парижа, потом из Северной Италии, с Корсики. В Париже Пятрас завязал новые интересные знакомства, прежде всего с Луи Арагоном, побывал на митингах Народного фронта. В своих письмах он советовал мне непременно поехать в Париж. Я сам давно об этом мечтал.
В конце июня я уехал в Западную Европу — второй раз в жизни.
Франция давно привлекала меня. Обычно страну начинаешь любить, лишь увидев ее. С Францией дело обстояло иначе. Я полюбил ее, прочитав первые французские книги, выучив первые строфы французских стихов. Меня все больше привлекала эта страна, о которой с таким восхищением говорили на лекциях Владас Дубас и Лев Карсавин. Площадь Бастилии и Консьержери, Нотр-Дам и Лувр, Версаль и Фонтенебло — все это давно стояло у меня перед глазами. Сколько раз я их видел на старых картинах, гравюрах! Как часто я читал Расина, Руссо, Гюго, Бальзака, Мопассана, как любил Бодлера, Верлена, Рембо! И вот я сам еду в город, мостовая которого когда-то содрогалась от залпов Французской революции и Коммуны. Он и сейчас, в сумерках Европы, оставался островом старой демократии и свободы…
Ехал я через Германию — через Тильзит и Кенигсберг. Едва я пересек рубеж, как бросилось в глаза великое множество людей в форме. Они слонялись на вокзалах, распевая лающие песни, шагали по улицам, резко отбивая такт по мостовой, упражнялись на площадях — ложись, вставай, беги, коли! Вокруг Кенигсберга на ровных и плодородных полях Пруссии были разбиты палаточные городки. Солдаты с противогазами шагали по проселочным дорогам и пели, пели — их песня доносилась до вагонов.
Кенигсберг, куда я попал впервые, казался огромным городом. Трудно было поверить, что когда-то здесь находился крупный центр литовской культуры, что в нем были напечатаны первые литовские книги, что бурасы — крепостные крестьяне — Донелайтиса везли сюда зерно своих господ. Теперь город чисто немецкий, он кишит черными, коричневыми, синими формами. Я встретил знакомого лингвиста Пятраса Йонцкаса, который собирал материал для филологической работы. Он повел меня в так называемый «Суд крови» — замковый ресторан, устроенный в помещении, где когда-то рубили топором головы. Как и в Тильзите, на улицах развевались флаги со свастикой.
Берлин был таким же тяжелым, цементным, закопченным и запыленным. Как и в тот раз, над домами летели поезда, движение было просто страшное. Из окон вагонов виднелись платформы с пушками, пулеметами, танками. Всюду мелькали военные — одни сидели у оружия на платформах, другие выглядывали из окон встречных пассажирских поездов. Все дышало войной.
В берлинской гостинице пожилая тощая немка очень обрадовалась, когда я подарил ей литовскую колбасу. Она нюхала и ласкала эту колбасу, как котенка, говорила, что давно не видела такого лакомства. Оставив свой чемодан в гостинице, я вышел в город. Когда вернулся, оказалось, что все мои вещи переворошены — кто-то мной заинтересовался. Мне стало не по себе.
В витринах книжных магазинов стоит «Майн кампф» Гитлера, «Миф XX века» Розенберга, сочинения никому не известных авторов, на обложках — вооруженные солдаты, взрывающиеся бомбы. Нигде нет книг писателей, которыми несколько лет назад гордился весь народ, которых читал весь мир.
На следующий день на вокзале, с которого мне надо было ехать в Париж, я встретил одного каунасца, хирурга П. Этот хирург ехал в Париж для усовершенствования. Теперь он вызвался составить мне компанию и в пути все время рассказывал о своем дяде. Тот чуть ли не в 1880 году эмигрировал в Париж, открыл переплетную мастерскую, переплетал роскошные издания и прославился в высшем свете. Теперь дядя умер. В Париже живут его наследники, на помощь которых П. надеется.
Когда на бельгийской границе в вагон вошли бельгийские контролеры и крикнули что-то по-французски, я расстроился: я совсем их не понимал. Они еще раза два крикнули, пока я наконец не догадался, что это обыкновенный возглас: «…sieurs, dames, vos passeports».[101]
В Париж мы прибыли ранним утром. Обшарпанные грузовики крестьян везли овощи и прочие продукты в знаменитое «чрево Парижа». Такси доставило нас прямо к наследникам дяди.
Они только вставали. Появилась какая-то женщина в халате, с накрученными на бигуди волосами, из дверей высунулся смуглый юноша в ночной рубашке до полу. Узнав от матери, что приехал родственник покойного дядюшки из далекой, неизвестной Литвы, юноша обрадовался. Он вызвался помочь нам найти гостиницу и, поскольку были каникулы, обещал опекать нас весь день и показать Париж.
Вскоре юноша, настоящее дитя Парижа, поселил нас в крохотной дешевой гостинице на бульваре Сан-Мишель. В только что открывшемся кафе мы выпили кофе и пустились осматривать город.
Когда мы вышли к Сене, справа возник такой известный силуэт собора Парижской богоматери! Мы хотели как можно скорей попасть к нему, но наш гид повернул по набережной в противоположную сторону. Мы проходили мимо сотен букинистов, занявших целые километры набережной, торгующих книгами, гравюрами, старыми картами. Вдалеке маячила Эйфелева башня, возвышался Дворец инвалидов, парламент, а на другой стороне реки протянулся один из самых больших музеев мира — Лувр…
Навстречу шли люди — парижане, приезжие из провинции и других стран мира. В толпе мелькали желтые лица китайцев и японцев, черные лица негров. В эти дни проходила Всемирная выставка, на которой были павильоны всех континентов. Да и вообще в этом городе всегда было много студентов из Азии и Африки.
Удивительнее всего в Париже было то, что все казалось знакомым. Казалось, здесь прожил уже много лет и после недолгого отсутствия снова вернулся в родной город. Наш гид все вел нас и все показывал. Через каждые десять шагов он сажал нас на улице за столик в кафе, мы пили кофе, а перед полуднем — аперитив со льдом. Время от времени мы втроем выпивали бутылку холодного вина, которую владелец кабака выносил из погреба, — бутылка была грязная, покрыта плесенью.
Когда путешествие пришло к концу (мы едва держались на ногах), гид ушел домой, пообещав на следующее утро снова продолжить с нами осмотр Парижа. А мой спутник, растянувшись в постели, продолжал рассказы о своем покойном дядюшке. После первой мировой войны многие люди, уезжавшие из Америки в Литву, останавливались у него. Один ксендз, зайдя к дядюшке, заявил:
— Еду в Литву. Хочу посмотреть, что они там делают… Читаю про разные нехорошие вещи, — кажется, они там школы строят, книги выпускают… Вот дураки!
— А что им надо делать? — спросил дядюшка у ксендза.
— Как так что? — отрезал тот. — Пускай шоссе, дома строят! А от книг да школ лишь социалисты заводятся…
У моего спутника было всего лишь две темы для бесед: войны и ксендзы. Ксендзов он не любил, как и его дядюшка, а про всякие, сражения — под Ширвинтай и Сейнами с поляками или под Верденом — он говорил так интересно, словно сам там был и все видел.
На следующее утро, не дождавшись гида, мы выпили кофе и заглянули на квартиру офранцузившихся потомков дядюшки. Тут нам мать заявила, что юноша от нечего делать начинает разлагаться, — о, как это легко в этом городе! — и поэтому отец утром отослал его a la campagne.[102]
Хирург отправился на поиски клиники, в которой ему предстоит усовершенствоваться, а я целыми днями бродил по Парижу. Пятрас Цвирка уже вернулся в Литву. Большинство литовцев, которые здесь учились, тоже разъехались на каникулы.
Когда впервые попадаешь в другое государство, сталкиваешься с различными мелочами, которые кажутся тебе неудобными, а то и шокируют. Когда в Париже, в ресторане, я попросил к обеду черного хлеба, гарсон с удивлением ответил:
— Pain de seigl[103] мы не держим.
— Но ведь в Париже есть все, — сказал я ему.
— А черного хлеба нет и не будет.
— Почему?
Гарсон презрительно рассмеялся и объяснил:
— Сходите в музей, там написано…
— А что же написано?
— Там написано, что, пока нами правил король, а мы были рабами, он ел белый хлеб, а мы — черный. Когда мы сделали революцию и отрубили королю голову, мы все стали господами и с тех пор едим только белый… Вот что написано в музее… А черный хлеб — pour lespauvres.[104]
— В каком же музее так написано? — поинтересовался я.
— Неважно, — отмахнулся гарсон, и я понял, что он сам хорошо не знает.
(Эту беседу я не раз вспоминал в те годы, когда Париж был оккупирован гитлеровцами. Кажется, многие тогда там не ели не только белого, но и черного хлеба.)
Поначалу в Париже меня многое сбивало с толку. Странно, когда видишь, что курильщики бросают окурки не только на землю, но даже на ковер, да еще придавливают каблуком, чтобы ковер не загорелся. Едят апельсин или банан и бросают кожуру не в мусорный ящик, а тут же, на землю. В кафе посетитель читает газету или дешевый роман и, кончив его, даже не оставляет на столике, а швыряет на пол и, уходя, наступает ногой. За день на улицах Парижа, в кафе, ресторанах набирается толстый слой бумаги, кожуры, затоптанных картонных коробок и прочего мусора. Когда я сказал однажды одному французу, что меня, побывавшего в Германии, поражают такие порядки, он обиделся и закричал;
— Я тоже был в Берлине! Видел я немецкий порядок… On veut hurler[105] от такого порядка… Только «штраф, штраф, штраф» на каждом шагу!.. А у нас — свобода, делай что хочешь! Ночью машины и дворники проходят через город, и утром опять все чисто. Не нужен нам немецкий порядок! Не надо нам их: «Штраф, штраф!»
Француз заставил меня призадуматься не только над различием в национальном характере народов, но и над смыслом некоторых, казалось бы, повседневных явлений…
Я поднимался на Эйфелеву башню, бродил по Всемирной выставке. Это целый город. В огромных павильонах европейские и заморские страны выставили все, чем могли похвастаться: станки и чемоданы, духи и кружевное белье, игрушки и автомобили, костюмы жокеев, охотничьи ружья, огромные телескопы, новейшие радиоприемники. Я разыскал и павильон Литвы. Большинство литовских посетителей оставались им недовольны. Технику, культуру и искусство нашей страны представляли лишь огромный «Скорбящий Христос» работы Юозаса Микенаса и бюст Антанаса Сметоны. Литовское правительство так и не нашло ничего более интересного, чем янтарные изделия и национальные ленты.
В центре выставки возвышались два павильона — они стояли друг против друга. Один из них, с известной скульптурной группой Веры Мухиной — рабочим и крестьянкой, поднявшими серп и молот, — принадлежал Советскому Союзу, а напротив находился павильон гитлеровской Германии, украшенный злым, нахохлившимся орлом. Прохожие смотрели на символическую картину, — казалось, враждебные эмблемы вот-вот сцепятся. У каждого, кто приходил сюда, непременно возникала мысль, что основные силы современной Европы — коммунизм и фашизм. Назойливо напрашивалась мысль, что эти силы неизбежно столкнутся и от результата этого столкновения зависит многое в будущем мире…
В Европе войны еще не было, хоть она витала в воздухе. По улицам шагали сторонники Народного фронта, подняв вверх кулаки. Мимо летели грузовики, набитые местными фашистами. Франция содрогалась от стачек и демонстраций. Газеты писали о новой форме забастовок — рабочие не покидают фабрику, а остаются в ней жить, и сюда родные доставляют им продукты. Но иногда казалось, что никто не верит в угрозу войны.
Я очень удивился, когда литовский посол Пятрас Климас пригласил меня в посольство. Я не был с ним знаком и подумал, что, наверное, надо зарегистрировать мой заграничный паспорт. Но посол, культурный человек и демократ, следивший за печатью и интересовавшийся литературой, наверное, знал мою фамилию. Он принял меня очень учтиво, расспрашивал, как нравится Париж, советовал, куда надо съездить во Франции. Когда я поделился с ним своими впечатлениями о Германии и спросил, что думает посол о будущей войне, Климас улыбнулся и ответил:
— Чепуха! Гитлер и не думает воевать… Ясное дело, он хочет кое-что выторговать, исправить Версальский договор. Но кто будет в наше время воевать? Никто этого не хочет. Кроме того, западные демократии достаточно сильны, у них есть деньги и оружие… А Гитлер? Поднимает шум, но никто к нему всерьез не относится. Война? О нет! Ее не будет. Будьте уверены…
Позднее я часто вспоминал это мнение умного человека, историка, дипломата, работавшего в одном из главных центров Европы, и думал, что он мне передал тогда не только свои мысли, но и мнение французов, а также других дипломатов. Какая наивность! Когда вся Германия дрожала от топота сапог варваров, не один только Пятрас Климас относился к этому как к игре…
Я находился в Париже и 14 июля — во время национального праздника. Было интересно с утра до вечера следить за демонстрациями трудящихся, которые никто не разгонял, разве что местные фашисты издали грозились кулаками. Я ходил по ночному Парижу и смотрел на танцующую молодежь, слушал игру оркестров, видел, как над Сеной поднимались и гасли огненные цветы, звезды, фонтаны. Не знаю, по какому случаю был этот фейерверк — то ли по случаю Всемирной выставки, то ли в честь праздника свержения Бастилии. Но красив он был чрезвычайно. Хотелось верить, что люди созданы для труда и радости, а не для разрушений, мучений и смерти…
Как удивительно было путешествовать по Франции — летней, зеленой, прекрасной, изобилующей памятниками искусства и истории. Через Виши и Клермон-Ферран добравшись до Прованса, я любовался веселыми улицами старинного Авиньона, папским дворцом, слушал песню гида, которая звенела среди толстых стен дворца, забрался на башню, куда когда-то взбирался папский мул, описанный Альфонсом Доде. Я гулял по крохотному городку Тараскону, прославленному во всем мире тем же Доде, — с огромным замком на берегу стремительной Роны, надгробьями вельмож в церкви и сотнями стариков, греющихся на солнцепеке, Я любовался удивительным фронтоном монастыря святого Трофима и руинами античного театра в Арле, стараясь найти в кофейнях, залитых вечерними огнями, что-то ван-гоговское.
Потом я ходил по пестрым, шумным улицам огромного Марселя, смотрел, как продавцы поливают из шлангов живых устриц, целые кучи которых свалены на тротуар, как сверкает на солнце Средиземное море, как качаются на воде дымящие пароходы, как матросы играют в кости и гуляют по набережной, обняв за талию черноволосых девушек. Потом — солнечный Лазурный берег с Ниццей, Каннами, Монте-Карло, с тысячами белых вилл, рощами олеандров, виноградниками и белыми яхтами в море… Я побывал на пляже в Ницце, бродил по длинному, провонявшему бензином Английскому бульвару, по которому мимо пляжа беспрерывно носились автомобили, воняя бензином. Удивлялся старушкам, которые сидели в шезлонгах и нюхали бензин, а некоторые, надев резиновые туфли, чтобы не поранить ноги об острые камни пляжа, пытались купаться. Они были похожи на тощих кур. В Гренобле долго искал музей уроженца этого города писателя Стендаля и еще раз убедился, что нет пророка в своем отечестве. Никто не мог сказать, где этот музей: одни думали, что я ищу ботанический сад, другие — Альпийский парк, третьи вообще не слышали про Стендаля. Лишь полицейские после долгих поисков и переговоров по телефону дали мне точный адрес музея.
Лион привлекал старыми домами, революционными традициями, рабочими кварталами. Потом я снова вернулся в Париж.
Войдя рано утром в гостиницу, своего врача я застал еще в постели. Я удивился, что комната похожа на мусорную свалку, — еще не закончилась стачка персонала гостиниц, и никто не подметал комнат, не стелил кровати, вода и то не шла из крана. Мой товарищ носил ее по лестнице откуда-то со двора.
Он не преминул рассказать еще несколько историй про ксендзов и битву под Ватерлоо. А парижские истории он закончил следующим приключением. Вчера он шел по набережной и увидел на столике букиниста завернутую в целлофан книгу «32 вида любви». Надеясь купить пикантное произведение, которое потом можно будет показать друзьям в Литве, он заплатил приличную цену и принес книгу в гостиницу. Разорвал целлофан и принялся читать. В начале книги были примерно следующие слова: «Юноша, ты приехал в самый прекрасный город мира — Париж. Здесь ты надеешься найти то, о чем мечтал: удивительных женщин, романтичную любовь, то, чего вообще нельзя найти, — счастье. Приехав, забыв все, ты готов кинуться в пучину, имя которой — Париж. Юноша, я — твой друг. Я хочу тебе только добра. От души советую тебе: остановись, подумай, что делаешь! Ты не знаешь, что жизнь прекрасного города полна опасности не только для души, но и для тела. Сам того не чувствуя, можешь оказаться в пучине отвратительного греха и болезни…» У моего товарища лопнуло терпение, он швырнул книгу в угол. Он долго не мог себе простить то, что заплатил за книгу цену нескольких бутылок отличного вина…
Возвращаясь домой, я остановился в Вердене. Мне хотелось побывать на месте сражений минувшей войны. Я увидел огромное кладбище, казематы под исполинской крепостью, забитой человеческими костями, увидел разрытые снарядами поля, которых еще не коснулся плуг земледельца, — земля была напичкана взрывчаткой. Побывал на развалинах фортов Дуомон и Во, у траншеи, в которой живьем были завалены солдаты, — из нее все еще торчали штыки. Форты восстанавливали, словно должна была повториться ужасная трагедия минувшей войны, с такой силой изображенная в романе Анри Барбюса «Огонь».
Нет, человечество, видно, ничему не научилось. Оно снова идет по старому пути, который уже приводил однажды Европу на край бездны.
На германской границе в поезд вошли таможенники и пограничники. Они потребовали открыть чемодан и тотчас же конфисковали французские газеты и журналы. Вообще они поглядывали на меня с подозрением. Может быть, их интерес привлек красный галстук, купленный в Париже, и берет, которых в Германии не носили. А может, еще что-нибудь. Они несколько раз возвращались в купе, рассматривали мой паспорт, потом снова велели открыть чемодан. Наконец потребовали выйти с чемоданом из вагона и отправиться в таможню. Там меня снова подвергли обыску и все косились на галстук и берет. Наконец один из таможенников сказал:
— Мы знаем, вы — французский офицер. Вы едете в Литву инструктором.
Так вот где собака зарыта, как говорят немцы! Вот в чем они меня заподозрили. Мне стало не по себе. Ведь известны случаи, когда, наплевав на международное право, нацисты арестовывали даже иностранцев и содержали потом их вместе со своими гражданами в концлагерях. Как можно хладнокровнее, я заявил, что я — гражданин Литвы, что возвращаюсь из Парижа, и все. Наконец-то мне позволили вернуться в вагон. Поезд тронулся; и у меня стало спокойнее на душе.
В Берлине я постарался не задерживаться. Переночевал и на следующее утро уехал. Пока я ходил на вокзал справиться о поездах, в гостинице снова кто-то рылся в моем чемодане. Все здесь казалось мне чужим и холодным — и озабоченные лица прохожих, и несметное множество людей в военной форме на улицах, на площадях, на вокзалах, в закусочных Ашингера, и открытые автомобили с офицерами — с тусклым взглядом, холодными лицами, напыщенных, уже теперь чувствующих себя завоевателями мира… Это давило, словно ночной кошмар. И я успокоился, лишь когда поезд миновал границу и въехал в Литву.
ПОВОРОТ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Начался новый учебный год. Я жил воспоминаниями о недавней поездке. Меня потряс Верден, и я написал о нем очерк для альманаха «Просвет», который издавался вместо закрытой «Литературы». Альманах должен был редактировать Креве, но первые две книги вышли под редакцией Корсакаса. Первая книга альманаха появилась осенью 1937 года. В ней участвовали многие сотрудники закрытой «Литературы». Прогрессивные писатели и не думали замолкать или менять свои позиции.
В эти месяцы я с большим удовольствием переводил роман Катаева «Белеет парус одинокий», хотя знал, что издать его будет нелегко. И правда, издательство «Сакалас» отказалось выпускать книгу. После долгих проволочек согласился «Фонд печати».
Настроения как в Клайпеде, так и во всей Литве были мрачные. Продолжались военно-полевые суды, которые карали длительными сроками, а то и смертью крестьян, восставших против фашистской власти. Хотя суд проходил в основном при закрытых дверях, нельзя было скрыть от народа эти жестокости. Поговаривали, что в Каунасе оборудована газовая камера, в которой осенью казнили крестьянина Маурушайтиса.
Наказывая крестьян, литовские фашисты выпускали из тюрем сторонников Ноймана и Засса. В Клайпедском крае, особенно после выборов в сеймик, на которых победили нацисты, началось невиданно широкое и наглое гитлеровское движение не только против литовского правительства, но и вообще против литовцев. Все страшнее бывало выходить на улицу, особенно в сумерках, — тебя могут встретить не только бранью, но и побить.
В эти тревожные дни в мир пришел новый человек. Я очень хотел, чтобы Элиза вместе со мной побывала во Франции, но она не могла поехать. Теперь, в сентябре, она сказала однажды вечером:
— Проводи меня до больницы…
Нам надо было пройти несколько сот метров до двери больницы, и мы решили идти пешком. Я обнял Элизу за плечи, она взяла мою руку и гладила, словно чувствуя, что я беспокоюсь.
— Я совершенно не боюсь, — сказала она, и я увидел ту же, сейчас немного усталую улыбку, которая столько раз радовала и успокаивала меня.
— Ну конечно, — ответил я. — Ты у меня храбрая…
Элиза снова улыбнулась, жалобно посмотрела на меня и исчезла за дверью больницы. Сестра милосердия увела ее куда-то по коридору. Я вернулся домой, сел и попытался читать. Но понять ничего не мог. Я сидел словно оглушенный, ходил по комнате, потом писал, но не то, что хотел.
Из Каунаса приехала мать Элизы — ласковая, добрая женщина. В ее глазах я видел тревогу и безмолвный вопрос, на который не мог ответить.
Наутро в больнице мне сказали, что у меня родился сын. Потом я увидел бледное лицо на белой подушке. Я сел у кровати. Элиза снова взяла мою руку и сказала:
— Вот видишь, все хорошо…
— Да, — ответил я. — Все будет хорошо, пока у меня будешь ты.
Сына мы назвали именем моего покойного отца — Томасом.
Дома начались новые заботы. Но я был счастлив. Теперь Элиза с сыном жили в соседней комнате, и я с тревогой и радостью часто просыпался ночью, когда просыпались они. И я снова засыпал, думая, что ждет моего сына в эту тревожную, мрачную эпоху, в которую он пришел. Хотелось, чтобы бури прошли стороной, не коснувшись его. Увы, за моими окнами был мир, который жил своими законами. Эти законы с каждым днем становились все бесчеловечнее…
Стояла золотая осень, и меня безудержно тянуло на родину. Я собирался написать рассказы, в которых главное место должны были занять люди и пейзаж родных мест. Во время осенних каникул я побывал в родной деревне, где нашел тех же любимых людей. Они все еще жаловались на тяжелые времена, возмущались насилием и полицией. Они спрашивали у меня, что станется с Клайпедой, и трудно было им ответить — не хотелось верить самым худшим предчувствиям.
Из деревни я вернулся, набравшись впечатлений, заново ощутив все, что знал сызмальства. Как-то понятней и ближе стали мне люди со своими заботами и делами. «Сегодня я вернулся из деревни и Каунаса, — писал я своему другу Жилёнису. — Особенно полезной была поездка на родину, так как за неделю я набрал здесь столько первосортного материала для повести, что не могу нарадоваться».
Я работал как никогда быстро, забыв все вокруг. То, что я знал раньше, видел и пережил, переплеталось с новыми впечатлениями, и я чувствовал, что рождаются образы и люди, новые для меня самого и вместе с тем знакомые. Я не знал, что получится, но писал и писал целыми вечерами, даже ночи напролет. Я сам удивился, когда поставил последнюю точку, кончив рассказ, который позднее получил название «Дерево и его побеги». Но в сознании возникали новые образы, и я уже думал о новых прозаических работах. Я чувствовал, что наступает зрелость, что выросли требования к самому себе.
Каждый день я получал весточки из Каунаса. Мои друзья интенсивно работали. Пятрас Цвирка еще в прошлом году опубликовал роман «Мастер и его сыновья». Борута готовил к печати большую повесть «Деревянные чудеса». Жилёнис издавал свой первый роман «Школа в Будвечяй». Каунас меня и привлекал и отпугивал. Я писал Жилёнису: «Гимназия мне надоела… Все мечтаю о Каунасе, но… Едва туда поеду, как опять хочется обратно: сплетни, интриги, все наступают друг другу на пятки — невыносимо».
Я уже привык общаться с читателем, теперь не представлял себе жизни без тесного контакта с ним. «После рождества я надеюсь активнее работать в «Культуре» и «Литовских ведомостях», — писал я Жилёнису, — хоть эти органы мне и не очень нравятся. Ничего не поделаешь, иначе нельзя поддерживать связи с читателем».
Дела в Европе стали еще хуже. Весной 1938 года гитлеровская Германия наконец завершила свои старые планы — присоединила Австрию. Как в 1933 году из Германии, так теперь из Австрии в другие страны бежали лучшие писатели и работники культуры.
Несколько дней спустя панская Польша вручила Литве знаменитый ультиматум об установлении дипломатических отношений. Фашистское правительство Литвы без малейшего сопротивления приняло ультиматум, отказавшись от захваченной столицы — Вильнюса. Конечно, народ Литвы никогда не отрекался от него. Позднее мы узнали, что, если бы не серьезные предупреждения Советского Союза, Польша напала бы на Литву. Наш народ мучительно переживал этот ультиматум. И пожалуй, сильнее всех переживали литовцы Клайпедского края — им стало ясно, что правительство Литвы бессильно перед угрозами империалистов.
Перед лицом подобных событий наша интеллигенция все острее анализировала положение и искала своего места. Уже давно среди интеллигенции произошло идейное расслоение. Но лучшие ее представители перед лицом растущей угрозы фашизма и империализма повернули по новому пути.
Особенно характерна позиция широко известного поэта Людаса Гиры. Долгие годы он был теснейшим образом связан с правящими кругами. Но, съездив в Советский Союз, он изменил свои взгляды. Еще раньше он смело участвовал в праздновании пушкинских дней в Каунасе. Этот вечер превратился в антифашистское событие. Гира много писал о борьбе Пушкина против царской реакции, о его известности в Советском Союзе, и это звучало необычно. Кроме того, Гира издал несколько номеров своего журнала «Литературные новости», посвященных юбилею Пушкина и культуре Советского Союза. Старый поэт одобрительно отозвался об антифашистском альманахе «Просвет». Все это впечатляло читателей — с ними говорил не какой-нибудь левак, а Людас Гира, который долго считал, что в буржуазной Литве все идет как полагается. Восхищенный гражданским мужеством поэта, я написал ему письмо, которое решил опубликовать в газете «Литовские ведомости». Мой старый друг Йонас Шимкус хотел его «протащить», как он не раз «протаскивал» такой материал о Советском Союзе, который другим редакторам казался неприемлемым. Увы, это письмо так и не появилось.
Может быть, это письмо было причиной того, что между мной и Гирой завязались более тесные отношения. Раньше, хоть мы и были знакомы, мы относились друг к другу холодно. Теперь у меня все больше симпатии вызывала новая позиция поэта, хотя многие левые интеллигенты тогда сомневались в ее прочности.
…В Испании продолжалась гражданская война. Империалистические государства, прежде всего Франция и Англия, старались если не помогать, то хоть не мешать франкистам. Многие наши газеты были заполнены материалом о героической борьбе испанцев и интербригад. Не имея возможности иначе поддерживать испанский народ, мы жертвовали деньги на покупку оружия.
Из Испании до нас дошла весть, что на Арагонском фронте весной 1938 года погиб антифашистский литовский писатель Алексас Ясутис.[106]
Все росла обоюдная ненависть между литовцами и гитлеровцами в Клайпеде. Еще перед выборами в Клайпедский сеймик немцы на Тильзитском мосту повесили соломенное чучело «жемайтийца» и потом его сожгли. Так «культурная нация» демонстрировала свое отношение к «низшей расе», словно предупреждая, чего ждать литовцам от нацистов…
В ФИНЛЯНДИИ
Летом 1938 года мы отправились в путешествие по Эстонии и Финляндии. Об этом путешествии я мечтал с гимназических времен — тогда я читал литовский перевод «Калевалы» и был просто потрясен ее суровой северной красотой. Меня восхищали и удивительный роман финна Алексиса Киви «Семеро братьев», и Линанкоски, и Юхан Ахо.
* * *
Выйдя из Таллинского порта, пароход пересек голубой Финский залив. Миновав прибрежные острова, островки и скалы, он причалил к набережной, за которой начался город, непохожий на другие. Хельсинки называли белым городом не только из-за летних белых ночей, но из-за домов, больших, монументальных, чаще всего построенных из белесого камня. По обеим сторонам просторных улиц на расстоянии друг от друга возвышаются здания, а между ними торчат огромные гранитные скалы. Вокруг цветут цветы. Некоторые дома построены всемирно известным финским архитектором Саариненом. Особенно радуют здания железнодорожного вокзала и парламента — просторные, светлые, мощные и изящные. Всюду поражает непривычный порядок и чистота — все подметено, отмыто, подстрижено, покрашено. Ночью так светло, что можно на улицах читать газету или книгу. Мы ходили по городу, по богатым магазинам, в которых продавцы говорили на финском и на шведском, а при необходимости — и на немецком языке. На улицах, в гостиницах, в автобусах кишели немецкие туристы. Буржуазия повсюду подчеркнуто показывала свою благосклонность к Германии и ненависть к соседу — Советскому Союзу. Когда в старинном городе Виипури (Выборг) под Ленинградом, купив газету, я спросил у киоскера, почему здесь нельзя говорить по-русски, он осмотрелся, не слышат ли его, и ответил:
— Боятся. По-русски почти все умеют, но говорить боятся…
Позднее в средней Финляндии, на курорте Пункахарью, мы познакомились со студентом из Хельсинки, который служил во время летних каникул в гостинице. Вскоре выяснилось, что он неплохо говорит по-русски и хорошо относится к Советскому Союзу. Можно было догадываться, что он — член компартии. Он с ненавистью говорил о нацистах, нахлынувших в Финляндию, и о стремлении Советского Союза избежать войны, о его национальной политике, благодаря которой Финляндия является независимым государством. Нетрудно было понять, что в Финляндии немало людей думают так, как этот студент.
В Хельсинки мы посетили видную писательницу Майлу Тальвио. Она заинтересовала нас тем, что в свое время, еще в конце прошлого века, жила в Литве, в местечке Плокщяй, и дружила с Винцасом Кудиркой. Мы позвонили по телефону и поехали за город, где жила писательница. Нас встретила высокая женщина в длинном белом платье, с двумя рядами янтарных бус на шее (как она объяснила позднее, одни бусы подарили ей литовцы, а другие — латыши). Трудно было поверить, что этой женщине шестьдесят семь лет — такой она казалась бодрой, подвижной, даже молодой.
— Сюда может прийти весь литовский народ, — сказала она на чистом литовском языке.
Писательница ввела нас в просторный дом, в котором висело множество портретов ее друзей и стояло скульптурное изображение Алексиса Киви, изваянное видным финским скульптором Вайно Аальтоненом, а рядом висели финские гусли — кантеле. Майла Тальвио вспомнила свою дружбу с Кудиркой, горести Литвы, порабощенной царем, и на ее голубых глазах блеснули слезы. Она запела литовские песни, поговорила о словах, общих для литовского и финского языков. Из города вернулся ее муж — спокойный, медлительный профессор-славист И. Миккола. С ним было трудно говорить из-за его глухоты, но и он обрадовался, поняв, что его дом посетили литовцы.
Обедать нас пригласили в сад. Здесь к нам присоединились финский композитор и двое гостей из Венгрии.
После обеда хозяева показали нам музей на чистом воздухе, устроенный неподалеку на острове. Со всех концов Финляндии сюда были перенесены старинные деревни. Старые церкви, бани и корчмы, романтические клети, где спали девушки, — все это казалось уютным и интересным. Когда мы вошли в старую, закопченную деревянную избу, Майла взволнованно сказала:
— На чужбине финн всегда тосковал по трем вещам: черному хлебу, запаху родной избы и светлым финским ночам…
Осмотрев капкан на медведя и оборудование старинной почты, мы попали в миниатюрный дом, в котором когда-то жил один из величайших финских писателей Алексис Киви. Здесь еще находится его столик, на котором был написан роман «Семеро братьев», здесь стоит и чайник, в котором Киви кипятил воду, а на стене висит ружье, — этот великий человек жил так скромно и неприхотливо, что в основном кормился дичью, на которую охотился сам…
Как с хорошими друзьями мы попрощались с писательницей и ее мужем, прикоснувшись к прошлому нашей культуры, которое она изобразила в своем романе «Колокол».
Мы побывали у знаменитого водопада Иматра; он крутил турбины большой электростанции.
А потом мы пустились на далекий север Финляндии, к Ледовитому океану. Волшебная коса Пункахарью, замок Савонлина, озеро Сайма; водопады, леса, белые ночи, Оулу, на другом конце Финляндии, у Ботнического залива, с парком на сотнях островков, соединенных мостами; наконец, Рованиеми, в пяти километрах от Полярного круга; незабываемые картины, чудеса природы и человеческого труда.
* * *
В гостинице «Гапза» в городе Рованиеми мы никак не могли уснуть. На дворе сияла белая ночь. Люди курили, смотрели на небо, разговаривали — неторопливо, на звонком непонятном языке. Дым из их трубок медленно уходил в прозрачное светлое небо.
На дворе было тепло. Почти немощеная столица Лапландии утопала в травах. Эти травы лезут из канав, у тротуаров, растут во дворах, источая пьянящий аромат. Мы с Элизой после долгой прогулки по городу и окрестностям сидим в своей комнате, смотрим в светлое небо и удивляемся, что часы показывают уже полночь. Все-таки, хоть ночь и не наступает, пора спать, завтра нам предстоит большое путешествие к Ледовитому океану.
Увы, а может, и хорошо, что в Европе кончились те сказочные времена, когда на север можно было податься лишь с запасом продуктов. Тогда дорога от Рованиеми до моря занимала месяц: единственный путь шел через болота, камни и чащи, по ней нельзя было проехать на машине. Сейчас эта длинная дорога превращена в отличное шоссе. Правда, кое-где узкое. Эти 532 километра дороги финны проложили после мировой войны. Она уходит на север дальше, чем Мурманская железная дорога в СССР. Финны гордятся, что это шоссе — единственное в мире, так далеко уходящее на север.
Мы ехали по берегу реки, оставляя слева озаренную солнцем столицу Лапландии. За рекой, которая стремительно катилась по зеленым камням, возвышалась гостиница, у которой вчера мы встретили первую и, странное дело, единственную представительницу лопарей в национальной одежде, в остроносых сапожках и с признаком культуры — очками на носу. Больше коренных жителей в столице не оказалось.
Прохладное утро сверкает лучами золотого солнца на холмах, у шоссе, висит в каплях росы на траве. В открытое окно врывается чистый воздух. В квадрате окна возникают горы, на которых лохматится лес; вот они далеко, на горизонте, потом спускаются ниже, приближаются, растут, а вот мы уже на гребне, и через секунду перед нами новая гора и новая долина.
Машина останавливается. Шофер говорит:
— Мы перед географической достопримечательностью — Полярным кругом. Здесь начинается настоящая земля лопарей, здесь уже не растет рожь. Мы въезжаем в царство северных оленей.
И впрямь, на обыкновенном деревянном столбе прибита доска с надписью на четырех языках: финском, шведском, немецком и английском: «Полярный круг». Первый северный олень шагает по шоссе навстречу нашей машине; подняв рогатую голову, он смотрит на нас, шевеля губами. Нельзя сказать, чтобы он был пугливым.
Мы едем по сплошному лесу. За вершинами деревьев виднеется погожее голубое небо, не такое, как у нас, а бледнее. Зимой здесь несколько месяцев не будет солнца.
То слева, то справа сверкают прохладные северные озера, отражая каменистые берега, деревья и цветы Заполярья. Летом этот край зелен. Но и эта зелень своеобразна, она цветет и растет совсем не так, как на юге. Северная зелень куда блеклее, спокойнее. Она насыщена тишиной и печалью. Подчас кажется, что этот пейзаж умер, — такой он тихий, застывший.
Домов все меньше. На склонах гор, спрятавшись словно птицы от ветра, они укрылись от ураганов и мороза, который бушует здесь большую часть года. Странно, как эти люди живут: даже ячмень здесь уже не растет, не говоря о других злаках. Нет и плодовых деревьев. Дети местных жителей лишь в сказках слышат о тех волшебных странах, где растут яблоки, груши, вишни. Изредка видны еще пасущиеся коровы, лошади, попадаются навстречу пеший путник, двуколка или машина.
Мы едем все дальше на север. Опытный шофер, накрыв фуражкой с козырьком свою седеющую голову, ловко управляет машиной на поворотах шоссе. Солнце поднимается все выше, осушая следы дождя, но воздух необыкновенно чист, и приятно, когда ветер врывается в машину. В автобус залетает дикая пчела и бьется об окна, пока паренек, сидящий напротив нас, не ловит ее и не выпускает на волю.
В автобусе рядом с нами сидит финн, который сам впервые едет на север. Он в теплом свитере, крепкий, широкоплечий, широколицый, с седыми висками. Как все финны, он не отличается разговорчивостью, но охотно отвечает на наши вопросы. На другом сиденье немец из Кенигсберга, вооруженный книгами и картами. Видно, он хочет получить от поездки максимальную пользу и, если можно так сказать, путешествует точно: тычет пальцем в каждую горку, озеро и реку, отмеченные на карте, охотно вступает в разговор со всеми пассажирами машины и старается просветить их своим теоретическим знанием северного края. Рядом с ним — господин с дамой, у них на коленях лежат шубы. Они кажутся смешными другим пассажирам: куда они денут свои шубы, если на севере будет так же тепло?
Первая остановка — маленький городок Соданкюла. Видно, его не так уж давно выстроили у шоссе. Деревянные дома чистые, новые, красивые. Здесь есть ресторан, гостиница, почта, телефон, телеграф, врач, аптека, больница и метеорологическая станция — все необходимое для путника или местного жителя.
Соданкюла уже далеко продвинулся на север. Выйдя из автобуса, путешественники озираются — где же представители лопарей — странного северного народа? Но их найти не так уж легко. Мелкие местные торговцы торгуют народными изделиями в киосках у шоссе. На земле и на столах разостланы оленьи и волчьи шкуры, вышитые зеленые и красные шапки, табакерки, трубки с длинными гибкими чубуками, финские ножи с рукоятками из оленьей кости, украшенными выжженным орнаментом, костяные кольца, серьги, сапоги из оленьей шкуры — мехом наружу.
Увы, продавцов нет. Видно, они разошлись по своим делам. Северный товар, никем не охраняемый, стоит в открытом киоске. Во многих местах мы видели вещи, оставленные у дороги, их берет лишь тот, кому они предназначены. После долгих поисков путешественники находят продавцов в лопарской одежде, но какое разочарование: это не лопари, а чистокровные финны.
— Послушайте, — возмущается немец из Кенигсберга, обращаясь ко мне. — Где же лопари? В Соданкюле они должны быть. Это написано в путеводителях, я могу показать!
— Да, они есть, но только, не летом, — вмешивается финн. — Летом лопари на одном месте не сидят — они угнали своих оленей куда-нибудь в горы или к озеру.
В ресторане путешественники едят второй завтрак. Как всюду в Финляндии, здесь накрыт обильный стол: отварная и жареная рыба, овощи… Мы пьем кофе с финским хлебом, поджаренным тонкими ломтиками. После завтрака едем дальше.
* * *
За Соданкюлой начинаются поразительно прекрасные виды. Сотнями километров здесь тянутся леса, которых не касалась рука человека. Ели и карликовые березы, сваленные ветром или одряхлевшие от старости, падают друг на друга. Они выглядят как скелеты, с облупившейся корой, отбеленные солнцем и дождем. В лучах незаходящего летнего солнца сверкают сотни одиноких хрустальных озер, в прохладной воде отражаются небо и скалы, а иногда и стада оленей, пришедшие на водопой. Озера кишат рыбой. Через дорогу то и дело перебегают олени, и машина иногда должна останавливаться. Иногда леса исчезают, и дорога идет мимо широкого болота, поросшего мхом и кустарником. Потом вырастают голые горы, поросшие зеленым лишайником, шоссе бежит вдоль стремительных рек, мимо озер, по равнинам.
Солнце начинает спускаться к горизонту, с деревьев, хлопая крыльями, поднимаются совы и филины. В лесах стоит бесконечная тишина, здесь нет певчих птиц. Входишь в лес, прислушиваешься и слышишь только рев реки, крик филина или просто тишину.
Под вечер въезжаем в Ивалу. Еще несколько лет назад это была скромная деревушка. Сейчас здесь стоит хорошая гостиница, с уютной столовой, комнатами отдыха, читальней. Огромная медвежья шкура украшает вестибюль.
На белоснежных столиках сверкает посуда; студентки из Хельсинки, приехавшие на летние заработки, обслуживают гостей. Студентки в костюмах лопарок.
За окнами сияет незаходящее солнце. Блестит река Иваль, которая втекает в озеро Инари. Это озеро подходит почти вплотную к северным берегам Норвегии, и у него можно встретить немало лопарей с огромными стадами оленей, сетями и палатками.
Наша дорога сворачивает на северо-восток. Мы едем по берегу Инари, поросшему убогой полярной растительностью. Над застывшими северными водами летают птицы, а там, вдалеке, снова открываются голые горы самых разнообразных форм. Трупы деревьев, омытые дождем, лежат по сторонам дороги.
Весь этот пейзаж не менялся тысячи лет. То же незаходящее солнце согревало полярным летом эти нетронутые горы, леса и озера. После ледникового периода выросли здесь леса, широкие луга, и жизнь зароилась там, где стометровые слои льда оставили после своего исчезновения горы, скалы, ущелья, реки и озера.
Городок Сальмиярви вырос у озера того же названия — видно, тоже за последние несколько лет. Длинный ряд новых деревянных домов протянулся у воды. Здесь, как и всюду на севере, строятся заводы, лесопилки, деревообрабатывающие фабрики. По озерам протянулись мосты из плотов. Где-то вдалеке слышен звон пил, он странно нарушает необычную тишину. По мосту через озеро идут местные красотки; любители рыбной ловли сидят у воды.
Оказывается, мы уже давно едем по территории северной Норвегии, которая здесь вклинилась в Финляндию. Попасть в Норвегию отсюда очень просто: здесь трудно найти пограничника, даже если он понадобится. Единственные конфликты, которые иногда возникают между Финляндией и Норвегией, отличаются миролюбивым характером. Всему виной быстроногие олени. Эти свободные животные не признают таможен и карантинов, они идут туда, где больше мха и где этот мох вкуснее. Пока мы находились в Хельсинки, одна газета писала об одном таком конфликте. 3600 финских оленей перешли норвежскую границу и объели там весь мох. Норвежские дипломаты собрались на заседание и, обсудив создавшееся положение, решили предъявить счет финскому правительству. Финские олени через рубеж были высланы обратно на родину. Этим закончился конфликт…
* * *
Поздний вечер, а точнее говоря — ночь. Мы поворачиваем на восток, в сторону советской границы. Красное солнце огненным шаром маячит над хребтами гор. Тихий вечерний воздух. Из кустарника поднимаются вспугнутые птицы. У какого-то озера туристы ставят палатку. Становится прохладно. Очень длинное путешествие, начавшееся утром, не утомило нас. Сейчас мы подъезжаем к Ледовитому океану. В жизни мало бывает таких минут. Иногда горы скрывают шар солнца, но вот он снова появляется над нами, опрокидывая широкие тени в глубокие ущелья. Ошеломляюще дикая красота смотрит на нас с гор, из долин, и кажется, что ты в заколдованной стране, полной бездонных озер и привидений. Так мы едем до полуночи, пока не оказываемся в Петсамо, маленьком городке рядом с фиордом.
Но что это? Горы становятся лиловыми. Вода фиорда — алая как кровь, зеленая, голубая, снова алая и черная. Все горит в неверном свете солнца, спустившегося почти до горизонта.
Блестит, сверкает, горит вода фиорда. Справа гора, напоминающая голову лежащего тюленя. Под ней — русский монастырь, низенькая деревянная колокольня, колоколов которой можно коснуться рукой. Узкая полоса между СССР и Норвегией, проход к океану, в 1920 году досталась Финляндии, хотя его население в основном русское, не считая лопарей, которые живут по всему северу.[107]
Солнце словно стоит на месте. Может быть, оно уже всходит. Двенадцать часов ночи, а по нашему времени уже час, но мы видим солнце, красное, огромное, и, пока мы не оказываемся в самом северном финском поселке Линахамари, оно все еще стоит там же, где было в Петсамо.
Все спят. Двери и окна домов закрыты. На дворе ни души, хотя ясно как днем.
Линахамари — поселок под горами. Зимой фиорд здесь не замерзает, потому что неподалеку проходит Гольфстрим. Каменная двухэтажная гостиница заполнена. Хозяйка гостиницы говорит, что в час ночи поздно заказывать номер.
— Не унывайте, — говорит наш шофер. — Я видел в фиорде пароход «Ямери» — там есть мои друзья. Надеюсь, они устроят вас.
Человек, который доставил нас за пятьсот с лишним километров, не оставляет нас на произвол судьбы. Так поступают все финны. Мы спускаемся вниз к фиорду, к набережной, к которой причален красивый туристский пароход.
Капитан и команда корабля еще не спят, что-то делают на палубе, пригоршнями смахивая с лица и шеи мошкару, защищаясь от нее густым дымом трубок. Увидев шофера, они принимаются расспрашивать, что слышно в далеких краях, за Полярным кругом, но он сперва говорит о нас. Ура! Ночлег есть!
Проснулись мы около полудня — бодрые, отдохнувшие. Отодвинули занавески, за иллюминаторами засиял яркий день.
Фиорд безмятежен. Со всех сторон окружают его горы. Солнце снова поднялось высоко. На дворе тепло, как у нас летом. Бесконечное безмолвие окружает воду и горы. На одной из гор торчит дикий козел. Вид — как на картинке художника-примитивиста. Тайна козла выяснилась на следующий день. Его изготовили местные юмористы.
Позавтракав, мы поднимаемся в горы, с которых откроется вид на широкий Ледовитый океан. Рядом с дорогой — убогие лачуги рыбаков. На горе цементный водоем, из которого по трубам деревня получает чистую воду. По ущелью с шумом летит вниз горный ручей. Мы поднимаемся в места, где нет людей. После доброго часа пути мы оказываемся на вершине; слева, среди скал и болот, блестят озера. Цветут розовые травы, качаются стебельки мха. В выемках камней блестит вода — в лужах отражаются светлые тучи. Здесь лишь камень, облака и солнце. Здесь, на ветру, оно греет слабо. Не увидим ли мы медведя, который катит мохнатой лапой камни вниз? Но вокруг ни души — ни зверя, ни человека.
И вот после долгого пути перед нашими глазами открывается океан.
Здравствуй, океан, поднимавший корабли Нансена и Амундсена! Здравствуйте, северные острова, погруженные в туман, здравствуй и ты, далекий полюс!
Усталые, тихие, мы вернулись той же тропой, одурев от ветра, воды и глубокого неяркого северного неба, которое нависало над нами — крохотными живыми точками природы.
* * *
День отъезда выдался дождливый и мрачный. О палубу парохода стучали мелкие, назойливые капли дождя. С севера небо покрывал туман, густые тучи. Горы и фиорд изменились.
В гостинице завтракали англичане, американцы, шведы, немцы. Мы с Элизой тоже сидели в уютном зале, глядя на темные тучи, катящиеся по вершинам гор. Мы замерзли, пока дошли от парохода до гостиницы. Душистый кофе нас сразу согрел. Я вспомнил капитана, который за стаканом виски в Петсамо предлагал мне отправиться в Шпицберген — он собирался туда ловить рыбу; подумал о далеких островах с высокими горами, ледниками, солнцем, не заходящим четыре месяца подряд, и мне стало тоскливо.
К гостинице подъехал автобус. В нем сидел другой шофер.
Мы еще раз пересечем землю лопарей — на этот раз в тумане. В воображении южан этот край всегда был сумрачен. Не зря в «Калевале» он назван именем Похьолы с постоянными эпитетами «туманный», «темный», «мрачный».
Но мы видели землю и небо, озаренные полуночным солнцем, — и это солнце мы навсегда запомнили и увезли домой.
СЕРЬЕЗНЫЕ СОБЫТИЯ И ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
В конце сентября в Мюнхене Чемберлен и Даладье капитулировали перед Гитлером. Они отдали ему Судетский край и создали все условия для захвата Чехословакии. «И у нас еще полно идиотов, которые верят, что Чемберлен уберег нас от войны», — возмущался Пятрас Цвирка.
Нацисты в Литве еще больше обнаглели. В Клайпедском крае было упразднено военное положение. На виду у всех стали действовать гитлеровские военные организации, которые на всякий случай назывались спортивными. Газета «Мемелер дампфбоот» начала печатать «Мою борьбу» Гитлера.
Теперь гитлеровцы в Клайпеде сами контролировали печать и кино. Никто уже не мешал им печатать на месте и распространять присланную целыми мешками из Германии пропагандистскую литературу, а в кинотеатрах Клайпедского края шли фильмы, возбуждавшие расовую ненависть и открыто разжигавшие психоз новой войны.
Мы часто просыпались по ночам, услышав даже на своей тихой улочке стук кованых сапог. Это шагал гитлерюгенд или военизированные «спортсмены». Глухо рокочет барабан, слышна гавкающая песня — и кажется, кого-то ведут на виселицу. Становится пакостно на душе. До утра не удается заснуть — словно тяжелый кошмар навалился на грудь.
Влияние немецкого фашизма виделось на каждом шагу. Продавщицы магазинов, которые до этой поры свободно говорили по-литовски и по-немецки, по приказу владельцев вдруг забыли литовский язык. У нас в гимназии Эйнарас в учительской еще нахальнее восхвалял Гитлера и его победы. Что он говорил на уроках, я не знаю. Другие учителя, которые сперва смело спорили с ним, теперь приумолкли и съежились — они подумали, что будет, если и здесь начнется «истинно немецкий порядок». А когда литовки (в том числе и Элиза) вывозили в колясках детей в ближний лес или просто на улицу, маленькие немцы сыпали песок им в глаза…
Все опаснее было говорить на улицах по-литовски. Однажды вечером мои знакомые — композитор Еронимас Качинскас и музыкант Зенонас Номейка — гуляли по улице и разговаривали. Вдруг к ним подбежал какой-то гитлеровец и ударил Номейку палкой по голове.
Как я упоминал, жили мы в доме немки Фригяман. Мы с Элизой часто говорили об этой семье, состоящей из трех женщин — хозяйки, ее дочери и матери. Бабушке было лет восемьдесят, но она была еще бодрая, подвижная. Это настоящая немка гётевских времен: никогда не пройдет мимо, не сказав «Guten Tag»,[108] не заглянув в коляску и не произнеся «Susses Kind»,[109] не поговорив о музыке и цветах. Казалось, для нее не существует ни Гитлер, ни гитлеризм, она не различает немцев и чужих. Владелица дома была уже другой. Раньше у нее иногда бывали муж и жена, евреи. Не знаю, что объединяло эти две семьи — старые знакомства или деловые связи; во всяком случае, фрау Фришман радушно встречала своих гостей и сама заходила к ним. Теперь семья евреев в наш дом уже не заходила. С нами фрау Фришман держалась более чем официально — в разговоры не вступала и заботилась лишь о том, чтобы мы в установленный срок, не опоздав ни на день, платили ей за квартиру и следили за чистотой в комнатах и на лестнице. А вот ее дочка, высокая бледная девушка с редкими светлыми волосиками, держала себя нахально. Встречаясь на лестнице или у дома, она с нами не здоровалась и не отвечала на «Добрый день». Каждый день она бегала на сходки гитлерюгенда, — видно, она была готова сделать ради великой Германии все, чего потребует от нее фюрер. Спустя некоторое время она исчезла из Клайпеды. Бабушка сообщила нам, что юная нацистка в Берлине сломала ногу. Мы ее не жалели…
В конце минувшего лета мы с Цвиркой путешествовали по Жемайтии. Моего друга давно привлекали эти места: он там еще не бывал. Теперь мы посетили столицу Жемайтии Тедыняй, купались в живописном озере Германтас, забрались на несколько городищ, заглянули в Плунге. У озера Платяляй я встретил приятеля детских лет, Пранаса Янушявичюса из соседней деревни. Этот весельчак женился, растолстел, его изба кишела детьми.
После этого путешествия еще сильней хотелось писать. Удивительно ярко стояли перед глазами когда-то близкие люди. Я снова написал несколько рассказов для сборника. О путешествии я написал очерк «В святой Жемайтии». Несколько раз очерк задерживала цензура. Наконец он прошел, пришлось лишь заменить заголовок.
Литературная работа помогала справиться с тяжелым настроением. Клайпедский кошмар еще усиливали литовские поклонники Гитлера, которые начали здесь издавать журнальчик «Поход». Они открыто проводили свои собрания и агитировали за теснейшие связи с гитлеровской Германией.
Я думал о Каунасе. Вспоминал Верхнюю Фреду, Пятраса.
Пятрас недавно снова побывал в Советском Союзе; у него там уже появились друзья, особенно среди писателей. Он внимательно следил за жизнью Советского Союза, за ростом литературы и культуры. Не раз в своих разговорах мы приходили к выводу, что ни Гитлер, ни панская Польша не сумели проглотить наш край лишь потому, что существует Советский Союз, который заинтересован в нормальном развитии Прибалтийских республик. Пятрас много работал в Обществе по изучению культуры народов СССР, которым руководил Винцас Креве. Вернувшись из Советского Союза, Пятрас писал статьи о достижениях Советской страны, — разумеется, цензура пропускала не все.
В Каунасе находился мой старый друг Казис Борута, которого жизнь швыряла то в эмиграцию, то в тюрьму. Последние годы он долго болел, но не впал в отчаяние. Здесь жил Йонас Шимкус, который уже несколько лет работал в редакции «Литовских ведомостей» и протаскивал в своей газете наши с Пятрасом произведения.
Костас Корсакас продолжал учиться в университете и редактировал журнал «Культура».
В «Культуре», как и в «Литовских ведомостях», сотрудничали почти все прогрессивные писатели. Саломея Нерис, вернувшись из Парижа, вышла замуж за скульптора Бучаса. Они поселились за Каунасом, в. Палемонасе, в крохотном домике. В свои приезды в Каунас я часто встречал ее и радовался, что ее убеждения не изменились, — как все мы, она высказывалась против фашизма и активно участвовала в левой печати.
В Клайпеде я часто вспоминал кафе Конрадаса и думал, кого я нашел бы в нем, если бы неожиданно туда явился. Без сомнения, за столиком сидел бы Пятрас и спорил бы, например, с религиозным поэтом Бернардасом Бразджёнисом, доказывая, что все равно настанет такое время, когда бабы устроят из исповедален курятники. А может быть, Пятрас сцепился бы с каким-нибудь фашистом и говорил, что теперешняя политика ведет Литву в пропасть. В подобных стычках он не отличался осторожностью и каждому, то всерьез, то в шутку, доказывал свои убеждения.
Юозас Мильтинис,[110] долгое время живший в Париже, человек, с которым интересно поговорить не только о театре. Попивая кофе, он внимательно листает томик Андре Мальро или Олдоса Хаксли, восхищается талантами, еще мало известными в Литве.
Я вижу Юозаса Микенаса, замечательного скульптора и хорошего товарища, спокойного, тихого, иронически глядящего на всех. Здесь же интересный график Мечис Булака. Если подойдешь к Булаке и спросишь, как он поживает, тот помолчит ровно сорок пять минут, потом не спеша проведет рукой по длинным льняным волосам, помолчит еще пятнадцать минут и ответит:
— Как поживаю? Ничего, сносно…
Таким манером можно вести разговор о жизни, любви, искусстве, и обо всем этом у Булаки есть четкое мнение, так что с ним всегда стоит поговорить.
В углу кафе в мой последний приезд в Каунас сидел и играл в шахматы поэт Владас Сухоцкис. Без сомнения, он сидит там и сейчас, — наверно, с того дня еще не вставал ни разу с места.
Не видать больше Гербачяускаса.
И конечно, непременно здесь можно встретить Йонаса Марцинкявичюса — пополневшего, вечно торопящегося, вечно говорящего о своих репортажах, романах, встречах с помещиками и настоятелями, которые попадались ему в частых поездках по Литве. Пятрас который уже раз доказывает мне, что Йонас — большой талант, но пишет он слишком быстро. Пишет он как машина — романы, репортажи, новеллы, все, что берут газеты и издательства. Этот талантливый человек стал рабом прессы.
Да, в Каунасе я бы встретил друзей, увидел бы врагов. Так или иначе, в Каунасе я бы не чувствовал себя таким одиноким, как здесь. За несколько лет я здесь почти ни с кем не сблизился… А там — один Пятрас чего стоит!
И я вспоминаю его рассказ — один из тысячи…
Каунасский университет присвоил уважаемому всеми писателю Видунасу звание доктора «гонорис кауза». Его приветствовал ректор, тоже уважаемый всеми толстяк профессор Ремерис. Это торжественное событие Пятрас изображал следующим образом:
— «Дамы и господа, э-э», — начинает приветственную речь Ремерис. В президиуме сидит Видунас, приехавший из Тильзита, а зал битком набит людьми. «Уважаемые дамы и господа, э-э… Кого же мы видим? Мы видим уважаемого Видунаса… Позвольте мне, как юристу, со всех сторон разобрать Видунаса и поглядеть, э-э, так сказать, откуда у него ноги растут… Что такое Видунас? — спрашивает Ремерис и сам себе отвечает: — Видунас — это дерьмо, уважаемые!» Тут Видунас от удивления подскакивает на месте, а зал лишается дара речи. «Да, уважаемые, — продолжает Ремерис, — Видунас — это дерьмо, из которого растут прекрасные цветы…» Здесь все приходят в себя, аплодируют, Видунас улыбается.
«Дальше, уважаемые, посмотрим, кто такой Видунас, — продолжает Ремерис. — Видунас, уважаемые, это хулиган». Тут Видунас бледнеет, а по залу прокатывается волна возмущения. «Тише, уважаемые, э-э, — говорит Ремерис. — Я юрист и знаю, что говорю. Я полностью отвечаю за свои слова. Прошу, уважаемые, позволить мне объяснить свою мысль. Кого мы называем хулиганом? Я не ошибусь, если скажу: хулиган — это тот, кто поднимает шум, когда все спят, и всех будит. Наша нация спала, уважаемые, э-э. А что же делал Видунас? Он поднимал шум до тех пор, пока не разбудил нашу нацию. Прошу прощения, но как назвать такого человека? Только хулиганом!»
Видунас улыбается, зал аплодирует. А Ремерис говорит дальше:
«А теперь возьмемся за Видунаса как следует, э-э. Видунас — это безжалостный вор и бандит (снова общее удивление). Да, дамы и господа. Я, как юрист, подчеркиваю и полностью отвечаю за свои слова… Это вор и бандит, который украл и похитил мое сердце, — Ремерис прикладывает руку к груди. — Прошу вас, уважаемые, проверить, я полагаю, что он похитил и ваши сердца, — пока Видунас находится здесь, мы можем, э-э, восстановить справедливость — вернуть украденное добро!
Уважаемые, э-э, за все гнусности и мерзости, которые допустил на своем веку Видунас, за его сочинения «Вечный огонь», «Тени предков» и многие другие, я, как юрист, требую навеки заключить его в тюрьму — в тюрьму нашего сердца, чем разрешите мне закончить мою скромную приветственную речь…»
Уже получив диплом почетного доктора наук, говорит Видунас. Он встает на трибуну — очень тонкий, длинноволосый. Осматривает зал, потирает ладони и начинает:
«Еду я, значит, через Жемайтийский край и думаю: литовский народ перемер. Потом гляжу — у дороги два пастушонка играют камнями. Один пастушонок схватил с земли камень и хотел в меня бросить. Но другой остановил его руку и сказал: «Что же ты делаешь? Ведь это наш пророк Видунас едет!..» Сказав это, он отобрал камень и бросил на землю… А что это значит? — Видунас делает паузу и, когда зал замолк, продолжает: — А это значит, что на нашей родине уважают пророков, это значит, что литовский народ жив…»
Хорошо бы поговорить с Пятрасом…
Многое влечет меня в Каунас. В Клайпеде — хороший театр, но я скучаю и по театру нашей временной столицы.
Государственный театр находился в городском саду, все спектакли, и музыкальные и драматические, происходили в одном помещении. Сюда я ходил часто, если были деньги на билет. В театре было много способных актеров и отличные художники, из них выделялся Мстислав Добужинский.
В оперу мы часто ходили с Ляонасом Скабейкой. Теперь он уже умер. Я не раз видел «Пиковую даму» с прекрасными декорациями Добужинского, в которых словно заново родилась строгая красота Петербурга пушкинских времен. Меня восхищали «Евгений Онегин», «Аида», «Кармен». В оперном театре работали талантливые люди, и в первую очередь всемирно известный Кипрас Петраускас,[111] который отличался прекрасным голосом. Он был самым популярным человеком Литвы. Однажды в Каунасском театре я слышал Шаляпина — он пел Мефистофеля в «Фаусте» (его старый друг — Кипрас Петраускас — исполнял партию Фауста). Когда Шаляпин — высокий, костлявый, с острой бородкой — впервые вышел на сцену, по залу пробежала дрожь испуга… Артист физически действовал на зрителя — не только своей игрой, но и какой-то внутренней силой. Его бас звучал не так мощно, как в годы славы, но все-таки это была настоящая сила природы — большая, стихийная, чарующая.
В Каунасе можно зайти и в Художественный музей — галерею Чюрлениса. В галерее всегда пусто — лишь целыми часами стоят перед картинами поклонники Чюрлениса, в том числе Саломея Нерис. Во время «Третьего фронта» мы с юношеским пылом пытались «развенчать» Чюрлениса. Теперь мы научились его понимать и любить.
Древний Каунас сблизил меня с еще одной областью культуры. Чем дальше, тем труднее мне было жить без кино. Большинство кинотеатров Каунаса находились на Лайсвес-аллее. Назывались они обычно по-иностранному. Например, «Метрополитен», «Палас», «Триумф», «Сатурн», «Паладиум», «Форум». Каждую неделю показывали здесь, новые, в основном немецкие и американские, фильмы. Как известно, фильм долго оставался немым — игру теней на экране объясняли титры. Во время сеансов какая-нибудь захудалая пианистка барабанила на расстроенном пианино веселые или печальные мелодии, смотря по тому, что происходило на экране. Чрезвычайной новостью был первый звуковой фильм, в котором пел Ол Джолсон, этот фильм появился в Каунасе в 1929 году. Я помню, как мы смотрели этот фильм разинув рты, а выйдя из зала, целый вечер проговорили в кафе о будущем звукового кино. Цвирка, Шимкус и я не могли прийти к единому мнению по этому поводу. Даже Чарли Чаплину тогда казалось, что звуковое кино не будет развиваться. Сотни кинолент не оставили никакого следа в памяти. Но некоторые из них я помню и много лет спустя — даже лучше, чем некоторые современные фильмы. Это монументальные немецкие фильмы «Нибелунги» Фрица Ланга, «Голубой ангел» с Марлен Дитрих, английские «Частная жизнь Генриха VIII» и «Бунт на «Баунти». Изящный и печальный фильм Рене Клера «Под крышами Парижа». А «Кристина» с незабываемой Гретой Гарбо! Публика любила «Огни большого города», «Золотую лихорадку» Чаплина. Женщины были без ума от Рудольфа Валентине, мужчины — от Анни Ондра. Часто шли фантастические фильмы — «Кинг Конг», «Франкенштейн» и другие.
В этом потоке хороших, неважных и просто плохих фильмов постепенно стали появляться образцы нового содержания и новых стилевых исканий. Это были советские фильмы, в числе которых потрясающее впечатление произвел «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Он появился у нас спустя несколько лет после его выхода в свет, потому что цензура долго не пропускала его на экран. Цвирка очень любил фильмы «Мать» по Горькому и «Чапаев». Песенка из «Веселых ребят» «Кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет» стала популярной во всем Каунасе.
…Ну, а каунасские книжные лавки?
Каждый раз, проходя по Лайсвес-аллее мимо книжных магазинов, я останавливался у витрин, а то и проходил внутрь. Самым крупным магазином был «Фонд печати», который сам издавал книги. Книжный магазин «Наука» торговал советскими изданиями. В этом магазине можно было встретить тех, кто интересовался советской литературой. Устроившись в углу, какой-то русский эмигрант философствовал о советской литературе. Он утверждал, что видел издание Льва Толстого, в котором всюду, где Толстой написал «бог», большевики вставили «нарком», а где был «ангел», там теперь напечатано «комиссар». Подобные россказни казались нам смешными. Заходили мы и в немецкий книжный магазин, через который мы выписывали левые журналы. В киосках продавали белогвардейский рижский орган «Сегодня» и парижский «Последние новости». Когда к власти пришел Гитлер, прогрессивная литература исчезла из немецкого магазина. В Каунасе было и несколько букинистических лавок. Здесь можно было встретить разных чудаков, которые рылись в стопках книг, — вечных студентов, мелких чиновников. Самую большую букинистическую лавку на улице Гедиминаса держал некто Ляонас. Здесь часто бывал знаменитый Поворотникас, совершенно обнищавший «журналист». Он гордо восседал рядом со столиком Ляонаса, выпускал из носа дым, заложив ногу на ногу в дырявых башмаках.
— Одного человека признаю — Толстого. А все остальные — мерзавцы, — философствовал Поворотникас.
— Почему мерзавцы? — тихо протестовал Ляонас. — Всякие бывают…
— Нет! — отрубал Поворотникас. — Честное слово, только Толстой человек.
Помолчав, он продолжал:
— Посмотрите на меня — что со мной люди сделали!.. На кого я похож?.. Неужто можно ходить в таких башмаках? А я хожу. Мерзавцы кругом… Но золото, господин Ляонас, блестит и в грязи, верно?
— Золото блестит, — говорит Ляонас. — А вот грязь можно вставлять хоть в золотую раму — не заблестит…
Да, улучив минуту, я любил заходить в книжные магазины и укромные лавочки!
БЕЗ КЛАЙПЕДЫ
Вождь клайпедских нацистов Нойман, которого сметоновское правительство выпустило из тюрьмы, работал не покладая рук. В январе 1939 года в городе открыто проходили демонстрации по случаю шестилетия гитлеровского режима. Может быть, мы бы вздохнули полегче, скажи нам кто-нибудь тогда, что уже прошла половина срока, отпущенного историей Гитлеру. Улицы, словно в Германии, заполнили штурмовики. В гости прибыл начальник тильзитского гестапо Грефе и прочие «деятели». Посланные из Германии инструкторы почти на виду у всех вооружали нацистские организации и готовились к «решающему» дню.
Не трудно себе представить, что пережили в эти дни литовские патриоты. Правительство до последних дней скрывало от общества грозящую опасность. Но после того, как Гитлер в марте захватил Чехословакию, даже самые наивные оптимисты лишились иллюзий. И вот 22 марта 1939 года разнеслась жуткая весть — правительство согласилось передать Клайпедский край Германии.
Республику охватило беспокойство. Все чувствовали, что Гитлер не остановится у границы Клайпедского края, а если сегодня и остановится, то эту границу перешагнет завтра. С особым ужасом ощутили это мы, жители Клайпеды. В Берлине еще шли литовско-германские переговоры, а у нас в городе уже началась паника. Никто не мог сидеть дома, все вышли на улицы, и паника ежеминутно увеличивалась. Говорили, что через час-другой появятся вермахт, гестапо, что немцы уже перешли Неман. Многие плакали на улице, подняв кулаки, угрожая Германии, открыто ругали власть. Оставив в Клайпеде все свое имущество, литовцы убегали из нее, как из зараженного чумой района. Но нашлись и такие «патриоты», которые, дожидаясь гитлеровской армии, вывесили на своих домах заранее приготовленные флаги со свастикой. Предательство буржуазии, как всегда в подобных случаях, было ясно всем — пускай правит сам черт, мы и с ним договоримся.
День отъезда из Клайпеды был одним из самых тяжелых в моей жизни. Гитлеризм, об ужасах которого мы слышали по радио, читали в газетах, был все-таки далеко от нас — где-то в Германии и даже на фронтах Испании. Теперь он схватил за глотку Литву и для начала, как тогда говорили, выгрыз ее легкие. Если Вильнюс называли сердцем Литвы, и Сметона легко отказался от этого сердца, то теперь у Литвы не стало легких. Сможет ли она жить дальше? Не пробьет ли час ее окончательной гибели?
Неведомая, грозная судьба ждала Литву, ее народ. Неизвестное будущее ждало моих учеников, к которым я привязался и которых полюбил за эти несколько лет.
(После Отечественной войны я мало кого встретил из них. Некоторые работают врачами, некоторые стали учеными. Большинство парней-клайпедцев были мобилизованы в гитлеровскую армию и убиты в войне.)
С трагическим чувством я вернулся в Каунас. Весь город гудел словно улей. Никто не скрывал своей ненависти и презрения к фашистской власти. Думающие люди знали, что над Литвой нависла угроза и что только существенные перемены в стране и тесные связи с Советским Союзом могут спасти Литву от полной гибели.
Литовское правительство, чувствуя всеобщую оппозицию, пошло другим путем — решило напугать народ, введя «Закон о чрезвычайном положении», угрожая смертными казнями и тюрьмой. Это, конечно, было не в новость. В правительство включили христианских демократов и ляудининков, словно этот маневр мог спасти положение…
В Каунасе мы временно остановились у тестя. Увы, места здесь было мало, а людей много. Мы принялись искать квартиру. Плата, как во всех городах, была страшно высокой. Мы обошли десятки домов — найти квартиру в Каунасе оказалось невозможным.
Каждый день, встречаясь с Пятрасом и другими товарищами, я снова пытался включиться в жизнь Каунаса. Но неожиданная перемена места, испытания последних месяцев меня совсем выбили из колеи. В литературной работе я всегда нуждался в душевном спокойствии, а его не было.
Что же делать? Как включиться в сопротивление? Выходил альманах «Просвет», друзья поручили мне его редактировать, начиная с третьей книги. Я помню шумные совещания о так называемом «Фонде культуры». Идея была не новая — мы хотели по примеру других государств (скажем, Латвии) основать организацию, которая собирала бы средства на развитие литературы, искусства, музыки. За все время своего правления буржуазия с презрением и равнодушием относилась к культуре. Наша прогрессивная интеллигенция уже давно поняла, что литература и искусство помогают нации выжить во времена потрясений. Я помню, что на одном совещании мы обсуждали даже способы действия этого фонда в том случае, если бы Литву оккупировали нацисты или Польша. Но эта идея тогда так и не была осуществлена.
Расистский угар проникал из Германии в Литву. В Литве не было открытых еврейских погромов, но, зная настроения литовских нацистов, мы ждали их. По просьбе прогрессивной еврейской общественности в эти месяцы я часто участвовал в литературных вечерах, где делал доклады о прогрессивной литовской литературе и читал свои произведения.
Представился случай впервые увидеть Вильнюс. Интересно было узнать, какие настроения царят в Польше. В начале мая мы с Элизой приехали в оккупированную столицу.
Вильнюс показался нам запущенным и забытым городом, куда более бедным, чем Каунас, но и куда более красивым. Мы поднимались на гору Гедиминаса, заходили в костелы, гуляли по улочкам Старого города, у реки. От каждого дома, от каждого цветущего садика, дворика, арки и статуи в костеле веяло чем-то и давно знакомым, дорогим и новым, ласкающим сердце. Здесь мы встретили литовских интеллигентов, которые показывали нам свой город и возили по окрестностям. Настроения в Вильнюсе нас удивили — здесь все были уверены, что в случае войны с Германией Польша немедленно разгромит Гитлера. Впервые я столкнулся с этими настроениями в парикмахерской. Парикмахер, наточив бритву, сразу угадал, что я не местный. Узнав, что я из Каунаса, он обрадовался, сказал, что сам он литовец, но говорить по-литовски не умеет, и тут же заговорил о нацистах:
— Негодяи! Они захватили вашу Клайпеду. Но с Польшей этот номер не пройдет! Мы им покажем, где раки зимуют…
Когда я выразил свои сомнения в польской мощи, брадобрей даже покраснел от волнения и, размахивая перед моим носом бритвой, расхохотался:
— Германия? Что такое Германия?! Голодная страна. В первые же дни она исчерпает свой бензин. А без бензина в наше время… А Польша, уважаемый, держава! И патриотизм… Вы даже не можете себе представить в Каунасе, что такое польский патриотизм!
Я думал — наивный человечек, что он понимает? Дня через два друзья повезли нас полюбоваться волшебными Тракайскими озерами и руинами древнего замка. Здесь мы попали неожиданно для себя на праздник так называемой «Морской и колониальной лиги». Кусочек моря у Польши был, так что морская организация совершенно естественна, но вот о польских колониях нам еще не приходилось слышать…
Едва только организаторы праздника узнали, кто мы такие, они насильно усадили нас как почетных гостей в первом ряду. Оказалось, что в Тракай случайно заглянул и путешественник-француз. Его посадили рядом с нами. Начались речи, слушая которые казалось, что разгромить Германию — раз плюнуть. И один, и другой, и третий ораторы подчеркивали, что в будущем столкновении (что оно будет, в этом никто не сомневался) с одной стороны Гитлера будут бить поляки и литовцы (здесь ораторы упомянули Грюнвальдскую битву), с другой — французы. Все смотрели на нас и аплодировали…
Потом началась парусная регата по случаю праздника; мы уже не остались — нам и так хватало впечатлений.
Удивительнее всего, что и в Варшаве и в Кракове настроения были точно такие: достаточно тронуть — и Гитлер свалится. Один вильнюсец снабдил нас рекомендательным письмом к краковскому профессору-историку. Профессор полдня показывал нам удивительный город. Интеллектуал говорил то же самое, что мы слышали от вильнюсского брадобрея и от тракайских болтунов. Он тоже уверял нас, что Польша Германии не боится, что она даже одна сумеет отразить нападение, хотя, разумеется, англичане и французы… Меньшинства? Да, это слабое место Польши. С литовцами, белорусами, украинцами, евреями поляки не всегда вели себя разумно, но в случае войны меньшинства тоже непременно поддержат усилия Польши… А насчет всего остального — нет никакого сомнения…
Мы с Элизой ходили по зданию Краковского университета, смотрели польскую живопись в Сукеницах, побывали в Марианском соборе и любовались фигурами деревянного алтаря работы Вита Ствоша. Видели и памятник Грюнвальдской битве, созданный литовцем Антанасом Вивульскисом, который позднее разрушили нацисты. Словом, мы делали все, что полагалось делать тысячам приезжих, — как всегда, в Кракове было много туристов. Город удивительно интересный, похожий на Вильнюс. Нас удивляло и трогало, что над воротами, на саркофагах королей, рядом с польским орлом виднелся древний литовский герб «Погоня». Это память о тех временах, когда Литва и Польша составляли одно государство.
Недалеко от Сукениц мы заметили старинный дом с мемориальной доской: в нем когда-то жил Гёте. Мы заглянули в ресторанчик, который помещался в историческом доме. Во время обеда мимо нас несколько раз прошел дородный человек. Вслушавшись в нашу речь, он подошел и спросил, не из Литвы ли мы. Когда мы ответили утвердительно, он заговорил на чистейшем жемайтийском наречии. Он сказал, что живет здесь уже много лет, женился и вот — завел даже ресторан. Он пригласил нас вечером к себе.
Там мы познакомились с женой жемайтийца — полной полькой, страшно разговорчивой и гостеприимной. Собирались специально приглашенные гости — как мы поняли, посмотреть на «литвинов», а жемайтиец все рассказывал, как он истосковался но Литве, и по его щекам катились слезы. В прошлом году он получил известие, что в Литве умер его брат. С иностранным паспортом он через Латвию выехал в Литву, еще надеясь успеть на похороны. Увы, пограничники не впустили его, и он, коренной жемайтиец, стоял у литовской границы, смотрел на родной край и плакал… Это было еще перед установлением дипломатических отношений.
Мы побывали и в Варшаве. Центр города выглядел очень пышно. Богатые особняки утопали в деревьях и цветах, на улицах полно было элегантных автомобилей, кафе заполняли роскошные дамы и господа, еще не успевшие разъехаться по курортам. Торчал странный небоскреб — единственный в городе. Мы встретили молодого писателя-вильнюсца Альбинаса Жукаускаса, который изучал здесь журналистику. Он водил нас по столице, рассказывал различные истории, старался познакомить нас с новой польской литературой, демонстрировал кафе, в котором сидит вернувшийся из Литвы Гербачяускас, продолжая философствовать о привидениях и о будущем Польши и Литвы.
Польша произвела на нас интересное, но противоречивое впечатление. Без сомнения, это была своеобразная страна, своеобразный культурный и политический организм. В эти тревожные дни она жила как-то беззаботно, слишком уверовав в свои силы. В буржуазной среде царили презрение к другим нациям и ненависть к Советскому Союзу. Возвращаясь из Варшавы в Вильнюс, мы столкнулись в поезде с молодыми шовинистами. Они нахально и цинично издевались над нашим языком и нравами. Эти юноши напомнили нам наших «патриотов», которые тоже считали всех поляков вечными врагами и не могли без ненависти говорить о польской культуре. Вот плоды обоюдного шовинистического воспитания.
Вернувшись в Каунас, я вскоре уехал в восточную Литву, к большому озеру Сартай. Здесь, в городке Дусетос, жил мой брат Пранас, недавно ставший ветеринаром.
Я жил спокойно, пил молоко, ел ягоды и грибы, утром работал, а днем ходил купаться. В Дусетос я часто ходил на заседания суда — мне хотелось поближе узнать, какие беды мучают крестьян. Вскоре я познакомился со многими жителями местечка — учителями, землемерами, лавочниками, почтарями. Они приглашали меня на вечеринки, маевки, я ни разу не отказывался — хотел изучить жизнь маленького местечка и потом написать о нем книгу. Что выйдет — новеллы или роман, я еще сам не знал. Я знал только, что в книге будут действовать мои новые знакомые и что я покажу убожество их жизни. Режим превращал людей в карьеристов, пьяниц, в лучшем случае — в чудаков. Но исторические события так и не позволили мне кончить эту книгу.
Иногда местечко будоражило какое-нибудь из ряда вон выходящее событие. Разнеслась весть, что рыбаки поймали в озере сома. Сбежалась половина жителей Дусетос. Огромный сом, длиной с двух взрослых мужчин, такой, которого трудно представить себе в наших водах, был доставлен к берегу. Рыбаки зацепили его за жабры железным крюком с веревкой, и великан, засыпая, еще дергался. Жалко было смотреть на его израненное тело. Владелец рыбы уже звонил на Паневежскую мыловаренную фабрику, собираясь требовать за сома 25 литров.
Вдруг на берегу началась суматоха. Оказалось, что чья-то няня пришла посмотреть на сома, принесла младенца и оставила, посадив его на мостки, где бабы стирали белье. Ребенок вдруг свалился в воду, и его вытащили уже мертвым…
За озером жил очень интересный рассказчик. Я часто бывал у него, и он излагал мне нескончаемые истории из времен мировой войны, в которой он участвовал.
Однажды я засиделся у него допоздна. Вместо того чтобы идти несколько километров вокруг озера, новый приятель решил перевезти меня на лодке в Дусетос. Когда мы вышли из избы, небо было темным, сильный ветер гнал тучи. По озеру бежали волны, но мы все равно тронулись в путь. Я сел за вторую пару весел.
Вскоре мы очутились посреди озера — озеро длинное, разветвленное, но узкое, словно река. Грести пришлось против ветра. Лодку бросало в стороны, и я с непривычки скоро устал. Приятель шутил, но в местечке уже гасли последние огни. Прошел час, другой, а мы все еще стояли на том же месте. Мы гребли изо всех сил, пока не рассвело. Пошел мелкий, назойливый дождь, но мы не обращали на него внимания — и так уже давно промокли до последней нитки. В конце концов, когда уже взошло солнце, ветер затих и озеро успокоилось, мы догребли до берега где-то далеко от местечка. Выбравшись из лодки, мы оба упали на землю, не в силах сделать ни шагу. Так я узнал, что озера этого края не менее коварны, чем море.
Когда-то, в годы «Третьего фронта», когда мы втроем путешествовали по Литве, Пятрас заметил, что каждый городок в Литве имеет три неизбежных достопримечательности: женщину легкого поведения, дурака и Швейцарию, иначе говоря горку, поросшую кустами, показать которую местные интеллигенты водят каждого приехавшего. В Дусетос Швейцария была всюду. Ходила и сумасшедшая, изредка разражаясь непристойностями.
Из этого местечка я привез законченный сборник рассказов, который назвал «Ночь». Об издании книги я легко договорился с издательством. Рукопись отправилась в типографию. Ни один редактор ее не читал. Тогда книги выходили в таком виде, в каком отдавали их в печать авторы или переводчики. Иногда они были подготовлены тщательно, добросовестно, а иногда кишели невероятными ошибками.
Так кончилось лето, освещенное солнцем восточной Литвы. За работой я забыл все свои горести. Но, конечно, ненадолго.
Неожиданно для самого себя я был назначен учителем в мужскую Гимназию «Заря». Похоже было, что в эти трагические для Литвы дни Министерство просвещения махнуло рукой на мои взгляды. А может быть, оно надеялось, что я их переменю. Первый день нового учебного года совпал с событиями, которые, наверное, стали самой существенной гранью в жизни всей Европы.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТОЛИЦУ
Война между Германией и Польшей не была неожиданностью. Но Польша развалилась слишком уж быстро, и это ошеломило нас. Ходили различные слухи. Поговаривали, что в правительстве Литвы есть люди, которые хотят и Литву вовлечь в войну на стороне Германии. Это было бы мерзостью и безумием — совсем недавно Польша и Германия совместно разделили чехословацкий район Тешин. Вильнюс — наша историческая столица, у всего нашего народа болела за него душа, но было преступлением и глупостью пытаться возвращать его ценой союза с нацистами. К счастью, этого не произошло. Целыми днями каунасцы сидели у радиоприемников и слушали немецкие сообщения, полные хвастовства и злорадства. Мы слышали также и польское радио, сообщавшее о героической обороне Вестерплатте. Позднее радио начало передавать безнадежные сообщения о нескончаемых налетах на Варшаву. «Nadchodzi… nadchodzi… nadchodzi…»[112] Ужас охватывал при мысли, что на наши города завтра-послезавтра посыплются бомбы Гитлера, а его танки покатятся по нашим полям, сметая все на своем пути.
Это были тревожные и жуткие дни. «В гимназии началась работа, — писал я Жилёнису. — Мы с тобой виделись в мирное время, а теперь пишем друг другу в войну. Какой ужас! Какая бессмыслица! Я сомневаюсь, стоит ли мне сейчас публиковать свой сборник — не это теперь нужно людям».
Польша переживала тяжелую трагедию. Немцы угоняли в плен ее армии. Города продолжали гореть. Живые хоронили мертвых. Правительство, так долго «дружившее» с Гитлером и злобно настроенное против Советского Союза, бежало, оставив государство на волю судьбы. В Литву через границу покатились штатские и военные беженцы. Граждане страны, которая недавно послала Литве злобный ультиматум, теперь просили убежища и получали его. Простые люди Литвы жалели беженцев и, чем могли, помогали им.
17 сентября мы узнали о новых значительных событиях. Красная Армия, защищая от гитлеровского нашествия белорусов, украинцев и литовцев, вошла в Западную Украину и Западную Белоруссию. Вскоре она достигла Вильнюса. Воцарилось тревожное ожидание. Мы не ошиблись — 10 октября, через 19 лет после позорного похода генерала Желиговского, Советский Союз торжественно передал древнюю столицу и Вильнюсский край Литве.
Это был единственный луч солнца и огромная радость той мрачной, темной осенью. Трудно себе представить, что пережил тогда каждый честный литовец — независимо от его взглядов! Свершилась извечная мечта — Литва обрела свое сердце! Стиснув зубы, держа кукиш в кармане, правительство Литвы 10 октября в Москве подписало «Договор о передаче Вильнюса и Вильнюсской области Литовской Республике и договор о взаимной помощи». Опираясь на этот договор, Советский Союз ввел в Литву военные подразделения. Мы видели, что это изменяет международное положение Литвы в лучшую сторону. Было ясно, что теперь от агрессоров Литву будет защищать одна из самых могущественных держав мира, которая и раньше поддерживала ее на международной арене.
Когда каунасцы собрались на митинг у советского посольства, сердца всех полнились благодарностью. У правительства были совершенно другие планы, ему подобная демонстрация не могла понравиться, и оно отдало приказ разогнать ее. Никогда раньше еще так четко не проявлялась взаимная ненависть литовского общества и правительства. Не только рабочие, но и интеллигенция и даже представители буржуазии видели, кто наши, друзья, а кто — враги.
Я тоже участвовал в этой демонстрации. Как отвратительно было видеть полицейских, которые избивали людей резиновыми дубинками и увозили их куда-то на грузовиках. Иногда казалось, что и в Каунасе обосновалось гестапо.
Все литовцы рвались увидеть столицу. Журналисты и люди искусства арендовали автобус и двинулись в Вильнюс. Как раз в эти дни Советский Союз фактически передал Вильпюс литовской армии, которая шагала из Каунаса.
«Вильнюсская земля, начинающаяся за Вевисом, за зелеными воротами по ту сторону бывшей демаркационной линии, — писал я тогда, — была мокрая от осенней слякоти, ее застилал туман. Тяжелые тучи, ползущие над землей, ежеминутно угрожали разразиться дождем. Зеленые хвойные леса, испещренные красными заплатками берез и кленов, были полны осенней тишины, красоты и грусти. По обе стороны шоссе открывалась широкая панорама лесов, полей и глубоких оврагов с нищими усадьбами крестьян, которые сиротливо торчали под осенним небом. На шоссе наш автобус обгонял сотни военных грузовиков, обозы и пехотинцев, лица которых под тяжелыми шлемами улыбались, превозмогая усталость… На обочинах шоссе то и дело попадаются сгоревшие составы машин польской армии.
По обеим сторонам дороги десятки, сотни людей. Оборванные, голодные, бледные. Они машут солдатам, здороваются с нами, бросают цветы. Чем ближе к городу, тем больше людей. Местами целые толпы стоят у дороги. Это вильнюсцы вышли навстречу войскам за город. А нескончаемые колонны солдат уже шагают по вильнюсским пригородам. И наш автобус по запруженным людьми улицам мчится к центру, в сердце Вильнюса, к Кафедральному собору, к его торжественным гигантским колоннам.
Едва останавливается автобус, как его обступают сотни людей. Нас приветствуют литовцы, другие говорят по-польски, по-русски, по-еврейски, по-белорусски. Люди в основном выглядят бедно. На серых, бледных лицах — следы военных лишений. Дрожат от холода бывшие польские солдаты в оборванных шинелях, городская беднота слоняется по улицам без работы, нищие просят милостыни — хоть пять грошей… Униформы, униформы — даже дети начальной школы ходят в форменной фуражке. Столпившийся вокруг нас народ бесцеремонно щупает нашу одежду и с любопытством расспрашивает:
— Сколько у вас стоит такое пальто?
— Почем галоши?
— Можно ли будет достать сахару?
— У вас хватает хлеба?
Трудно удовлетворить всеобщее любопытство.
Большая новость для них литовские сигареты и литовские спички. Они долго рассматривают их, как диковинку.
С громким лязганьем проезжает мимо огромный советский танк, проходит колонна советских солдат. Только мы обращаем на них внимание. Вильнюсцы к ним уже привыкли. На красивых конях скачут литовские воины. Развеваются флаги — Литвы и Советского Союза… Множество транспарантов на улицах на литовском и польском языках приветствуют Литву и ее армию. На стенах домов — остатки недавнего прошлого — еще виднеются приказы, польского правительства о мобилизации и реквизициях, предостережения опасаться шпионов, которые сидят в каждой подворотне. Рядом висят приказы и объявления советских властей и — они еще не успели высохнуть — распоряжения литовских властей. Вильнюсцы изучают их — они понимают, что приближается неведомое будущее.
Толпы на улицах все растут. Они уже запрудили мостовую. Вильнюсская милиция руководит движением на улицах, чтобы могли пройти войска.
Я смешался с толпой. Что думают эти люди, после девятнадцатилетнего перерыва снова увидевшие литовскую армию?
Трудно что-нибудь прочитать на лицах. Некоторые не могут удержаться — кричат: «Вале! Вале!» В основном это, конечно, меньшинства — белорусы, русские, евреи, караимы, татары. Они понимают, что панский кнут, которым размахивали над их головами правители бывшей Польши, больше не вернется. Они надеются на благосостояние и большую свободу. Хорошо, если б они не разочаровались! Есть и поляки, которые приветствуют новых хозяев Вильнюса. Это люди, которые пережили крушение клерикально-панской Польши и поняли, что та Польша больше не вернется. Но немало и таких, которые смотрят на нас, крепко сжав губы, с потухшим взглядом. Это бывшие польские офицеры, помещики, бюрократия. Все те, кто ничего не забыл и ничему не научился, те, кто мечтает о восстановлении «державы» с еще более широкими границами. Об этих людях говорил мне знакомый вильнюсец в кафе Штраля за чашкой искусственного чая с единственным кусочком сахара вприкуску. «Вы видите, — сказал он, — эти вытянутые, злые физиономии? Все они, в каракулевых пальто с лисами, еще несколько дней тому назад трусили, злились, не показывались на улице — где-то попрятались, как хорьки в норах. Теперь они вылезли обнюхать воздух. Это самая несимпатичная часть жителей Вильнюса. Они принюхиваются и до сих пор думают лишь о своей карьере и паразитическом образе жизни. Они не могут себе представить, что их дни сочтены, и готовы защищать свои привилегии ногтями и зубами».
Продавцы газет уже бегают по улицам с литовскими газетами. Многие покупают их, даже не понимая по-литовски. Люди изголодались по газетам и известиям. Во многих местах уже висят объявления о новых курсах литовского языка. На них записывается очень много народу. А в толпе то и дело слышны фразы:
— Мой отец только по-литовски говорил.
— Говорят, в литовском языке очень трудная грамматика…
— Вы уже записались на курсы? Я уже выучил несколько слов.
Некоторые лавочники, не дожидаясь приказа, сами сменили польские вывески на литовские.
Как много чепухи говорили о Вильнюсе у нас! Интересно проверить все эти слухи у самих вильнюсцев.
— Тиф? Дифтерит? Нет, об этом в Вильнюсе никто не слышал.
— Голод? В городе, конечно, кое-чего не хватает. Но, кажется, никто еще с голода не умер. Лавочники припрятали большинство товаров, когда вошла Красная Армия, поэтому многого стало не хватать. Кроме того, спекулянты все скупают. Но в деревне продуктов не меньше, чем обычно. Поляки почти не успели реквизировать, а большевики у мужиков ничего не взяли — только у помещиков.
* * *
По улице Мицкевича все еще идут литовские войска. Катятся: танки, пушки, грузовики, скачут кавалеристы, шагает пехота. Площадь Ожешко не пройти — тысячные толпы слушают речи на литовском, польском, белорусском, еврейском языках. Это слово командующего литовскими вильнюсскими войсками генерала Винцаса Виткаускаса и приветствия вильнюсцев. Сумерки, туман и моросящий дождь не могут разогнать толпы, кричащие и бросающие цветы. Едва увидев в толпе литовца, вильнюсцы со всех сторон окружают его и спрашивают на разных языках:
— Когда можно будет поехать в Каунас?
— Какой будет курс злотого?
— Будут ли делить поместья?
Женщина держит за руку девочку примерно шести лет. Дочка по любому случаю кричит: «Вале!»
— И ты уже литовка? — спрашивает по-польски мать.
— Да, мама, — всерьез отвечает девочка.
* * *
Я не буду описывать исторические торжества Вильнюса. Добавлю несколько штрихов, чтоб закончить эти заметки.
Острабрама. Вечер вступления литовских войск в Вильнюс. Холодно. Моросит дождь. Сотни две поляков с шляхетскими усами, жены бюрократов в мехах, чтоб не схватить насморка. Большинство мужчин еще не успели снять польскую военную форму. С образа Марии свешивается литовский флаг. Поляки, охваченные религиозным экстазом, молятся — жутко, страшно, словно собираясь умереть. Нетрудно расслышать в их словах плач по погибшей Польше и надежду вернуть снова привилегии, поместья и хорошо оплачиваемую службу. Но Мария равнодушно выслушивает эти истерические вопли, и, когда мы поворачиваем обратно, еще издали слышна эта страшная молитва.
* * *
29 октября. Гора Гедиминаса… Сотни людей поднимаются на нее — многие впервые в жизни — и молча глядят на Вильнюс, который распростерся внизу, — вечный город Литвы, такой прекрасный, такой непохожий на города соседних государств, словно жемчужина из далекой Италии, заблудившаяся под северным небом. Как близок он сердцу! Крыши и башни костелов, дворцы, колонны и статуи — удивительное литовское барокко и готика — все это привлекает к себе мысли и душу литовца. Городской муравейник — кварталы бедноты, гетто — поражает нищетой, а дворцы польских аристократов, ксендзов, епископов и монастырские строения занимают целые кварталы. Этот Вильнюс полон преступного неравенства, полон социальных и национальных несправедливостей, предрассудков и панского безумия. Нелегкая борьба предстоит всем тем, кто жаждет увидеть Вильнюс не только прекрасным, но и счастливым, зажиточным. Кнут папского гнета уже сломан, но, может быть, он еще попытается подняться. Литовский народ должен постоянно следить за тем, чтобы никогда больше не вернулся тот гнет, под которым столько лет прожил Вильнюс».
…Мы с Элизой очень обрадовались, когда наконец нашли двухкомнатную квартиру в Верхней Фреде, на той же улице, где живут мой тесть и Цвирка. Квартира устроена в конюшне, где владелец дома раньше держал лошадей, чтобы ездить в Каунас. Комнаты темные, тесные, но вокруг много деревьев, чистого воздуха. Мы надеялись, что сыну здесь будет хорошо. По соседству жил Пятрас, и теперь мы проводили вместе много часов, когда я возвращался на автобусе с работы, — мы гуляли по тенистым улочкам Верхней Фреды, по Ботаническому саду, говорили о политике и гадали, что же будет дальше.
Вышла из печати книга моих рассказов «Ночь». Читатели и критика встретили ее хорошо. Некоторое время спустя книга получила даже премию типографии «Луч» в две тысячи литов, которые поправили мое пошатнувшееся финансовое положение (несколько путешествий опустошили мой карман).
Весной 1940 года всех нас порадовало новое явление в прогрессивной литературе. Это была книга рассказов мало известного до той поры молодого писателя Юозаса Балтушиса. В своем сборнике «Неделя начинается хорошо» Балтушис писал в основном о жизни рабочих, писал по-новому, сочно, талантливо, и казалось, что это работа опытного мастера. Я уже и раньше, кажется с 1932 года, встречался с этим курьером Общества распространения печати, а позднее — рабочим типографии. Немало рассказывал мне про него Борута, который первый заметил способности Балтушиса. Казис ему много помог книгами и литературными советами. Балтушис казался скромным, трудолюбивым и упорным человеком. Он рассказывал мне эпизоды из своей недолгой, но трудной биографии, и рассказывал так образно, что я не мог слушать его без восхищения. Мы радовались, что Юозас Балтушис пришел в литературу иным путем, чем мы, — можно сказать — прямо от кулацкого стада и от сохи, пройдя крестный путь батрака и рабочего. В его крепком рукопожатии, во взгляде прищуренных глаз чувствовались мужицкая сила, осторожность, хитрость и мудрость. Это был молодой старик. Молодой по возрасту, старый по жизненному опыту.
Шли дни, сумрачные и тревожные. Европа все больше катилась в ад войны. Изредка мы слышали по радио истерический лай Гитлера — он рядился миролюбцем, поносил западных плутократов, пел о своих победах.
А в Литве?
Литовское правительство продолжало вести антисоветскую политику, оно искало помощи против нового нежеланного союзника в военном договоре Прибалтийских республик, в укреплении связей, особенно торговых, с Германией. А рабочие, которыми руководила Коммунистическая партия, чувствовали, что настало время развернуть борьбу за хлеб и работу, за демократию и свободу. Самым ярким проявлением этой борьбы было столкновение с полицией рабочих и безработных в Лампеджяй, в котором участвовало две тысячи человек и которое тотчас же поддержали каунасские фабрики забастовкой протеста. Сметона продолжал вести секретные переговоры с Германией, целью которых было отдать Литву нацистам и выторговать для себя привилегии — главное, сохранить в целости свое имущество.
Казис Борута писал в эти дни в стихотворении «Братьям-поэтам»:
Земля небольшая, поэтов — чуть-чуть, и те — воробьями в навозе живут. Один бы хоть начал от ужаса выть и жить как поэт,— по призванию жить. Службенку, халтурку постыло тяни… Обычные. серые, скучные дни. Никто ведь не пустит пулю в лоб, не скажет никто великих слов.Стихотворение было написано под Каунасом, где Борута несколько лет назад выстроил домик на холме. За окнами домика белела заснеженная долина.
В конце февраля здесь, подальше от охранки, мы собрались поговорить о судьбе Литвы и своих задачах в грозный исторический момент. В совещании участвовали Цвирка, художник Стяпас Жукас, Марцинкявичюс, Корсакас, Шимкус, Микенас, Жилёнис. Наш разговор в основном шел о «культурной политике» клерикалов, об их наглости в выдвижении своих сторонников. Шимкус горячо объяснял, что как клерикалы, так и фашисты всегда объединяются против левых сил. Микенас говорил, что в это опасное время задача искусства — служить народу. Было ясно, что этот скульптор недюжинного таланта все глубже задумывается над местом художника в борьбе двух миров и без колебаний сворачивает налево. Марцинкявичюс, начавший свой литературный путь в правой печати, теперь часто встречался с Цвиркой, Борутой, и его взгляды изменились. В своем творчестве он тоже все острее критиковал буржуазную действительность. К сожалению, условия его жизни были особенно трудны, и последний свой роман «Крепостные», надеясь на большой гонорар, он отдал «Обществу святого Казимира». Марцинкявичюс жаловался, что католические издатели требуют выбросить из его романа ксендза, который прижил детей со своей хозяйкой. Мы советовали Марцинкявичюсу не иметь дел с клерикалами. Я говорил о том, что нам следовало бы собираться чаще, выработать план действий и, где только возможно, давать идейный отпор реакционерам.
Сама жизнь заставляла нас объединяться, советоваться, искать общих путей в борьбе за нужды своего народа.
А Вильнюс в эти дни снова начал превращаться в культурный центр Литвы. Писатели решили, что литературные премии на этот раз должны быть вручены в Вильнюсе. И вот в начале марта литовские писатели впервые собрались на свой праздник в колонном зале Вильнюсского университета.
Премии вручал ректор университета Миколас Биржишка. Многим из собравшихся показалось странным, что государственную премию дали не самому видному литовскому писателю Креве за его значительную новую книгу «Колдун», а правому поэту Бернардасу Бразджёнису. Все хорошо помнили, что клерикальная печать упорно критиковала Креве (он стал ненавистным для них человеком) и ратовала за Бразджёниса. Почитатели Креве (не только «левые») подготовили приветственный адрес Креве с множеством подписей, который тут же прочитали. Клерикалы расценили это как демонстрацию против их лауреата и издевались в своей печати над Винцасом Креве.
По случаю вручения премий был устроен литературный вечер, на котором я прочитал стихотворение «Сквозь дым войны». У правых это вызвало ярость, — не упоминая фамилии, меня в газете обвинили во всех смертных грехах.
Весной исполнилось десять лет со дня смерти Маяковского. Ни одного советского поэта мы не любили так, как Маяковского. Многие из нас — Цвирка, Борута, Корсакас и я — написали большие статьи, в которых рассказали о влиянии Маяковского на нашу литературу, а меж строк старались сказать и больше. Юозас Микенас вылепил барельеф поэта. Мы решили в одном из самых больших залов устроить вечер памяти Маяковского. Но он, к сожалению, не состоялся. «Вам, наверное, уже известно, — писал Цвирка своему другу М. Аплетину в Москву, — что вечер памяти Маяковского не состоялся. В последнюю минуту, когда все уже было готово, начальник полиции уезда запретил его. Правда, нам сообщили, что вечер можно провести, но с условием, что полиции будут предъявлены все тексты докладов о Маяковском и тексты его стихотворений, которые будут читать со сцены, и если вечер проведут с пригласительными билетами, в закрытом зале. Мы решили, что декламировать обкорнанные полицией стихи Маяковского при закрытых дверях — настоящая казенщина. Поэтому мы пока отложили наш вечер.
Подобные действия органов власти доказывают, что буржуазия ненавидит и боится Маяковского, поэтому прогрессивная общественность, интеллигенция, писатели еще больше любят его».
Только теперь Юкнявичюс выпустил в Каунасском театре премьеру «Топаза», который я перевел еще в Клайпеде. Постановка отличалась антикапиталистической направленностью, и правые газеты начали было приставать к режиссеру. Но было неудобно запретить европейскую пьесу, с триумфом обошедшую сцены всего мира…
В четвертой книге альманаха «Просвет» я напечатал и свои стихи «Сквозь дым войны». Как и каждое издание, наш «Просвет» перед выходом из печати побывал у цензора. Все, что хотел, он вычеркнул, все, что хотел, — оставил. Четвертая книга альманаха уже продавалась в книжных лавках.
И вдруг меня вызывает директор гимназии и заявляет: министр просвещения сообщил, что за стихотворение «Сквозь дым войны» (я увидел, что альманах лежит на столе директора) я уволен с работы.
Как? Почему? Эти стихи были написаны чуть ли не в 1931 году, они предназначались для последнего, не вышедшего номера «Третьего фронта». Потом под названием «Неизвестный солдат» я попытался было напечатать его во второй книге альманаха «Труд». Теперь я опубликовал его потому, что опасность войны угрожающе росла; мне казалось, что надо во весь голос кричать о войне, империализме и фашизме. Директор сказал, что меня понимает, но ничего поделать не может. Шепотом он добавил: насколько он понял, это указание самого президента, и даже министр не может его изменить…
Что ж, я снова безработный. Теперь дело труднее, чем когда-то в Министерстве сельского хозяйства. Дома меня ждут жена и сын…
Я узнал некоторые подробности о своем увольнении. А они таковы. Известный генерал Нагявичюс сломал ногу и лежал в больнице. Его проведать в больницу прибыл Сметона. На столике Нагявичюса у кровати лежали книжные новинки, в том числе и «Просвет». Нагявичюс в страшном возмущении заговорил, что у нас публично проповедуют большевизм, и как доказательство этого показал Сметоне мои стихи. Тот прочитал, и очень может быть, что у него волосы встали дыбом. Вернувшись из больницы, Сметона вызвал министра просвещения и сказал, что невозможно оставлять в школе человека, который пишет «такие» стихи. Министр просвещения, разумеется, тотчас же выполнил приказ президента.
Самое странное, что мне попало за произведение, пропущенное цензурой. Вряд ли наказывали авторов в подобном случае. Но ведь генерал и президент стояли выше закона, а я, как и другие граждане Литвы, не пользовался особыми правами в своем государстве. Этот приказ я не мог обжаловать…
Все-таки нашлись люди, которые хотели заступиться за меня. Позднее я узнал, что, кажется, Винцас Миколайтис-Путинас и София Чюрлёнене-Кимантайте ходили к Сметоне и просили вернуть меня на работу. Но это не подействовало. (Позднее Пятрас Цвирка писал об этом событии в своей статье «Как отбирать людей», написанной уже после побега Сметоны за границу: «Просьбы учеников, родительского комитета, отдельных граждан не подействовали. Министр просвещения не передумал. Когда к Сметоне явилась делегация литовских писателей, «вождь» категорически отказался вернуть преподавателя в гимназию и добавил: «Насколько мне известно, ваш учитель не без способностей… А человек со способностями и так не пропадет».)
Я искал работу. При помощи Йонаса Шимкуса меня пригласили редактировать еженедельный литературный отдел газеты «Литовские ведомости». Дав согласие работать в газете ляудининков, я, разумеется, и не думал отказываться от своих взглядов. В первых же литературных приложениях я поместил материал о выставке литовской книги в Москве. Хорошие отзывы посетителей, которые я получил через представителя ВОКСа в Литве Ф. Молочкова, показывали, с каким уважением и дружбой встретили москвичи первое скромное проявление нашей культуры в своем городе. Я напечатал материал о Маяковском, о Жемайте, начал публиковать роман Вилиса Лациса «Сын рыбака», сам дал статьи о Марке Твене и Эмиле Верхарне.
Чтобы поддержать Винцаса Креве, на которого нападала реакция, я решил попросить у него интервью о книге «Преданья старых людей Дайнавского края», которая еще в детстве произвела на меня неизгладимое впечатление и которая недавно вышла в новом издании. Креве назначил мне встречу в своем деревянном доме недалеко от долины Мицкевича. Я шел к нему не без робости — нас разделял не только возраст и не только то, что я несколько лет был его студентом. Креве для меня, как и для всего нашего поколения, был крупнейшим писателем-классиком. Но встретил меня Креве запросто, без пиджака, только что встав от завтрака, улыбаясь бледным, изборожденным морщинами лицом. Я сотни раз встречал его в университете, на улице, а в последнее время в кафе «Метрополь», где почти каждый день писатели встречались перед обедом и делились новостями за чашкой кофе. Но мне еще не приходилось близко общаться с ним.
«Профессор Винцас Креве, — писал я в своем очерке, — сейчас просто неуловим: большую часть недели он живет в Вильнюсе, работая в университете, и лишь на день-другой появляется в Каунасе. У него много хлопот как у председателя Общества литовских писателей и Общества по изучению культуры народов СССР».
В маленькой комнатке, все стены которой заставлены книжными полками, Креве рассказывал мне, как он написал свою книгу, вспоминал о давно минувшей молодости, далеком городе Баку, о первых своих шагах в литературе. Перед тем как напечатать свой очерк, я дал его просмотреть Креве. Он прочитал мои заметки и, не поправив ни слова, вернул. По его улыбке я понял, что очерк ему понравился.
…В Западной Европе было тревожно. Еще в апреле Германия оккупировала Данию, Норвегию, в мае ворвалась в Голландию, Бельгию и Люксембург. В конце мая англичане, побросав военную технику, отступили из Дюнкерка. В начале июня немцы уже приближались к Парижу. Что случится с Литвой? Этот вопрос не давал покоя ни днем, ни ночью…
Не мне одному было ясно, что кровавая свастика не развевается на улицах наших городов и тысячи людей не бегут прятаться от угрозы смерти лишь потому, что у Литвы прочный тыл — великая страна социализма. Лучшие силы нашего народа — рабочие, крестьяне, интеллигенция — хорошо знают, кто захватил Клайпеду и кто вернул нам Вильнюс. И хотя в том же Вильнюсе фашистски настроенные студенты провоцируют стычки с поляками, хотя наши клерикалы дерутся с польскими в вильнюсских костелах, — все это временное явление. Лишь Советский Союз сумел заменить ненависть между народами дружбой, уважением и любовью. Мы должны учиться у него жить по-новому, думал я. Каждое утро солнце восходит с востока.
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО
— Давно пора кому-нибудь из нас съездить в Эстонию, — сказал Винцас Креве-Мицкявичюс, когда мы, как обычно в последнее время, сидели перед обедом в кафе «Метрополь» за чашкой кофе. — Надо бы договориться о сотрудничестве между писателями. Все ж соседи, а друг друга, можно сказать, не знаем.
Балис Сруога затянулся острым дымом сигареты «Кемел» и что-то одобрительно буркнул. Пятрас Цвирка снова сострил. Сидя рядом с Корсакасом, я листал только что вышедший сборник его статей «Писатели и книги».
— Послушай, — обратился ко мне Креве, — а ты бы не мог выполнить эту миссию?
— Что ж, — ответил я. — Вы, профессор, — председатель Общества писателей. Если пошлете, поеду, хоть и не знаю за собой дипломатических талантов.
— Надо, непременно надо съездить! — продолжал Креве. — Эстонцы — приятный народ, да и литература у них хорошая. Ведь верно? — спросил он у Корсакаса.
— Один Туглас чего стоит! — ответил Корсакас. — А с каким наслаждением читали у нас «Томаса Нипернади»… Помните, профессор, как мы с Тугласом весь вечер просидели в «Метрополе». Он так хотел с вами познакомиться…
Вот я и в Таллине — и не первый раз. Два или три дня заняло обсуждение с эстонскими писателями того, что стоит перевести и издать на своих языках из братской литературы. Если латвийская литература нам уже была неплохо известна — в основном по милости Костаса Корсакаса и Юстаса Палецкиса, переведших немало книг, — то за двадцать лет мы так и не узнали эстонской литературы. В беседе участвовало немало эстонских писателей — поэт Хенрик Виснапуу (его стихи переводились на литовский), симпатичный старичок, такого же небольшого роста, как наш Креве, — видный прозаик Майт Метсанурк. После совещания они повезли меня в приморский курорт Пириту, где, под негромкий шелест прибоя, мы лакомились вкусным эстонским обедом. А вечером мы сидели в Таллинском оперном театре и слушали мелодии, которые никогда не надоедают, особенно когда ты молод.
Дон Хозе темпераментно пел, Микаэла клялась в целомудренной любви и вспоминала милую маму, огненная Кармен демонстрировала свои прелести. Во время антракта, в фойе, эстонцы познакомили меня с корреспондентом ТАСС.
— Вы из Каунаса? — спросил он и загадочно усмехнулся. — Вам известно, что Сметона убежал из Литвы?
Дальше слушать «Кармен» стало невмоготу. Корреспондент ТАСС больше ничего не знал или не хотел говорить. Ничего не слышали и мои новые друзья. Сбежал Сметона! Человек, который установил давящий режим, вернул помещикам поместья, убивал в газовой камере сувалкииских крестьян; при его власти тысячи хозяйств пустили с молотка, тысячи крестьян уехали в другие страны на поиски куска хлеба; его режим душил печать, уничтожил свободу слова и совести… С этим злосчастным стариком у меня были и личные счеты.
Уехать в тот же вечер я не смог. На следующее утро я позавтракал в кафе с эстонскими друзьями, но ничего нового так и не узнал. В газетах только сообщалось, что Сметона убежал из Литвы. Было ясно, что в Литве происходят важные события, приходит конец режиму, надоевшему всем.
Когда поезд остановился в Риге, я выбежал на привокзальную площадь и увидел танки, со всех сторон окруженные толпой. На башенках сидели советские танкисты с красными звездочками на шлемах и с любопытством озирались, а толпа бросала им цветы. Загремела революционная песня. Накупив в киоске газет, я вернулся на перрон. Пересев в каунасский поезд, я стал лихорадочно листать газеты в поисках новостей.
На первый взгляд в них тоже не было ничего нового. Газеты по-прежнему писали о побеге Сметоны. Но вот нечто более интересное. В Литве — новое правительство! Фамилии министров искажены, но я кое-как догадался, что в новое правительство вошли Юстас Палецкис (исполняющий обязанности президента республики и премьер-министр); его заместитель и министр Иностранных дел — Винцас Креве-Мицкявичюс; министр обороны и командующий армией — генерал Винцас Виткаускас; министр сельского хозяйства — Матас Мицкис, правосудия — Повилас Пакарклис. И впрямь было от чего волноваться. Стало ясно, что власть взяли новые люди, антифашисты! Некоторых из них я хорошо знал.
А вот сообщение, читая которое я не знаю, смеяться мне или удивляться. Газета пишет, что новым министром просвещения Литвы назначен генерал Венцлова. Фамилия моя, — может быть, речь идет даже обо мне, но с каких это пор я генерал?! В купе входят литовские актрисы, возвращающиеся из Риги, среди них — знакомая солистка оперы Винце Йонушкайте. Они взволнованы. Завидев меня, они бросаются ко мне:
— Господин министр, разрешите поздравить… Вы теперь наше начальство… Не обижайте нас…
Оказывается, они уже раньше успели ознакомиться с газетными новостями. Артистки сразу поняли, что к чему: на самом деле, министр просвещения управляет не только школами, начиная с детских садов и кончая университетом, но и театрами (их в Литве всего два), музеями, библиотеками (их тоже очень мало). Артистки говорят со мной заискивающе, как будто от меня уже зависит их судьба и карьера… А поезд летит по полям Латвии. На границе по вагонам прошли таможенники, проверяя паспорта и багаж, а мы продолжали гадать, что же найдем в Литве.
День выдался теплый и солнечный. Зеленели луга. Люди работали в поле. Под Шяуляй мы увидели на лугу несколько советских самолетов. У железнодорожного полотна стояли летчики и дружески беседовали с людьми, делились табаком. Все выглядело донельзя буднично.
В Каунасе, прямо с вокзала, я позвонил домой в Верхнюю Фреду. Ответила жена. Она была взволнована, радовалась моему благополучному возвращению, говорила, что для меня есть куча новостей. Мы договорились, что она выйдет мне навстречу.
Миновав мост, я увидел вдалеке на железнодорожной насыпи Элизу, которая бежала ко мне и еще издали махала рукой. Задыхаясь, она стала рассказывать, что уже раз десять звонили по телефону и спрашивали, не вернулся ли я из Таллина.
— Откуда звонили?
— От Палецкиса. Ты же знаешь, он теперь… И она взахлеб рассказывала последние новости.
Едва мы вошли в комнату, как затрезвонил телефон. Да, звонили из Совета Министров и просили меня без промедления прибыть к Юстасу Палецкису.
Наспех умывшись, даже не попив чаю, я сел в автобус (они в то время ходили довольно редко) и уехал в город. На улице Донелайтиса, в красивом двухэтажном особняке, находился кабинет министров. За широким сверкающим столом сидел Юстас Палецкис, мой близкий знакомый еще по университету, хороший товарищ, антифашист, недавно вернувшийся из ссылки. Я заметил, что он утомлен, видно несколько ночей провел без сна. Лицо у него было бледное, веки покраснели. При виде меня он протянул руку, указал на стул и сказал:
— Давно тебя ищем. Кончается формирование Народного правительства. Тебе придется стать министром просвещения.
— Что вы?! — воскликнул я. — Я — литератор, бывший учитель. Я и не помышлял о таком…
— Никто из нас не помышлял, — сказал Палецкис. — Фашистский режим пал. Создается новая Литва, понятно?
— А чье это пожелание, чтоб я стал министром? — не сдавался я.
— Народа! — коротко ответил Палецкис.
Это слово меня обезоружило.
— Раз уж так, то нечего сопротивляться, — ответил я.
— Значит, по рукам. В любую минуту можешь принять дела в министерстве. Теперь им временно руководит Креве, но он занят и вроде бы не успел еще там разобраться.
Я зашел к Креве, но он оказался на совещании. Рабочее время подходило к концу, и я решил отложить посещение своего министерства до завтра.
Выйдя из Совета Министров, я гулял по городу. Каунас, древний город, который я так хорошо узнал за полтора десятка лет, сегодня выглядел другим. В центре появились незнакомые люди, одетые куда хуже, чем те, кто тут бывал раньше. Они веселились, громко разговаривали, смеялись — чувствовалось, они понимают, что наконец настал их час. Я встретил собратьев по перу.
— Ты слышал, Йонаса Шимкуса назначили редактором газеты «Летувос айдас»?[113]
— Нет, пока еще не назначили. Только поговаривают…
— А Цвирка?
— Я его не видел. Он хочет оставаться, как и был, писателем. Читал сегодня его статью? Рубит сплеча!
Вернувшись во Фреду, я поздно вечером дождался из города самого Цвирки. Он до полуночи рассказывал мне, как узнали про побег «вождя нации», как прихвостни Сметоны в ужасе тоже бросились бежать, как были арестованы самые ненавистные его приспешники — директор департамента безопасности Повилайтис и бывший министр внутренних дел Скучас, которые плели интриги против советских гарнизонов, вступили в заговор с гитлеровцами. Пятрас говорил о заседаниях в Совете Министров и во Дворце президента, о друзьях, которые после падения старой власти приступили к созданию Народного правительства. Оно намерено положить в основу своей политики дружбу с Советским Союзом.
Цвирка ушел, а я долго не мог заснуть, несмотря на утомительную поездку. На следующий день я уже всходил по ступеням лестницы Министерства просвещения. Мне доводилось бывать здесь и раньше, когда министерством управляли слуги Сметоны. Я видел, как они спесиво расхаживали по коридорам. Я был рядовым учителем, с людьми вроде меня они в разговоры не вступали. Разговаривали они короткими рублеными фразами, с ними не было смысла спорить — заранее было ясно, что ничего же выйдет.
Когда я попал в кабинет министра Йокантаса, со своего места встал человек, у которого я должен был, как говорится, «перенять власть». Я видел его не раз, знал, что в Мариямпольской гимназии, где я учился, он когда-то преподавал латынь и как-то даже был директором. «Детки, спишите с доски латинские склонения и спряжения и повесьте у кроваток, а на сон грядущий и проснувшись помолитесь и повторяйте правила, повторяйте», — учил он гимназистов. Именно он не так давно лишил меня места по приказу Сметоны. Да, встреча была не из приятных. Но что поделаешь…
Министр узнал меня и начал прямо:
— Вы знаете, так неладно получилось… уж так неладно…
— Что именно?
— Да вот с вами, господин министр… Думаете, я по своей воле? Приказали…
— Это теперь неважно, — сказал я.
— Ну, разумеется… Вы, надо полагать, на меня в обиде?.. Думаете, я… А я тут меньше всех виноват… Как же ослушаешься президента!..
— Ясное дело, президента надо слушаться… Но оставим это. Есть дела поважнее…
— Ну, разумеется, господин министр… Вы пришли перенять министерство. Пожалуйста… Но у меня есть личная просьба. Вы меня куда-нибудь в гимназию… Я же был директором…
Бывший министр еще что-то доказывал, пока не убедился в том, что я ему не угрожаю и не обещаю, и тогда ушел. Некогда было думать о каком-то церемониале передачи министерства.
Оставшись в одиночестве в кабинете, я не успел даже как следует собраться с мыслями. В приемной уже сидели посетители. Бывшие министерские начальники, войдя в кабинет, заявили, что разбираются в положении и намерены лояльно относиться к новой власти. Не было смысла ожидать от них чего-то иного.
Найти новых людей оказалось не просто. Все же в скором времени пришли в министерство такие опытные педагоги, прогрессивные деятели, как Юозас Жюгжда, Юозас Генюшас,[114] Винцас Жилёнис и немало других. Пришел и Людас Гира. «Я ведь сперва прирожденный педагог, а только потом — поэт», — утверждал он. Кое-кого, правда, пришлось убеждать, даже просить. Одни думали, что не справятся, другие мечтали о работе в иных областях. Понемногу министерство заполнили новые люди. Начальником культурного департамента (позднее — управления по делам искусства) я пригласил литератора Пятраса Юодялиса, который за последние годы заметно полевел, усердно работал в журнале «Литература» и других наших изданиях. Во Дворце президента его кандидатуру утвердили довольно оригинально. Юстас Палецкис наложил резолюцию на мою визитную карточку, так как другой бумаги не оказалось под рукой.
Посещение Юстаса Палецкиса тоже запало мне в память. Миновав обширный зал Дворца президента, я вошел в бывший кабинет Сметоны. Поговорив с Палецкисом о делах, рассказав о своей работе, я покосился на шкафчики с книгами.
— Интересуешься библиотекой Сметоны? — спросил Палецкис. — Загляни.
Я открыл один из шкафчиков. На полках стояли молитвенники, несколько книг Платона на древнегреческом языке, сочинения Сметоны, какие-то случайные издания.
— Библиотека была в другой комнате? — спросил я.
— Да нет. Здесь все, — ответил Юстас Палецкис.
Многое пришлось решать самому, не дожидаясь указаний.
Каждый день в бывшем дворце министров по улице Донелайтиса проходили заседания нового Совета Министров. Заседания чаще всего вел Креве. Я сразу же заметил, какой он настойчивый человек. Заседания он проводил быстро, твердо зная, чего хочет, не позволял министрам долго разглагольствовать. На первых же заседаниях стало ясно, что докладывать ему надо покороче, точно и ясно мотивируя; что решения он тоже принимал быстро. А ведь обсуждались тогда важнейшие вопросы, вставшие перед Народным правительством в первые дни его работы: амнистия политзаключенных, легализация Коммунистической партии, роспуск реакционных организаций, расторжение конкордата с Ватиканом, коренное переустройство аппарата власти и армии, множество других проблем.
Креве, разумеется, и на этом посту остался писателем, а не политическим деятелем. Я замечал некоторую его субъективность — например, когда дело касалось реорганизации университета. Здесь Креве многое менял по своему усмотрению, и не всегда достаточно продуманно. Время показало, что Креве не уловил сути тогдашних событий, хоть и не было оснований сомневаться в его личной искренности, в его ненависти к старому режиму, клерикализму, Сметоне. Когда Народное правительство прекратило свою деятельность, Креве вернулся к научной работе. В министерстве с каждым днем прибывало работы. Одним из первых моих распоряжений было — изъять из библиотек сочинения «вождя нации» и брошюры, прославлявшие его на все лады. Сочинения «вождя нации» в обязательном порядке навязывали государственным служащим, за них высчитывали из жалованья. Для получавших мизерное жалованье чиновников это было настоящим бедствием. Едва был издан приказ о прекращении выплаты жалованья ксендзам, раввинам, попам и пасторам — всей этой черной армии, которая поддерживала старый режим (они почему-то состояли в штате Министерства просвещения), как к нам хлынули служители культа всех мастей с расспросами, что же будет дальше. Я объяснял, что их жалованье пойдет на обучение безграмотных. Ко мне, надо сказать, приходили сотни и тысячи человек. Шли руководители бывших партий, сотрудники всяческих учреждений, связанных, а то и не связанных с Министерством просвещения. Поначалу было трудно решить, как вести себя с этими посетителями. Когда я посоветовался с Креве, тот только рассмеялся:
— Все они теперь рвутся узнать, как и что. А ты лучше помолчи и послушай, что они говорят. Это будет куда интересней. Они ждут обещаний. А ты молчи и обещаний никому не давай!
Однажды утром я нашел на своем министерском столе стопку визитных карточек дипломатических представителей иностранных государств. «Что это значит? Неужели они все ломятся в мой кабинет?! А может, мне надо к ним ехать?» — думал я. Правила дипломатии изучать мне не доводилось. Я позвонил Креве. Он уж мне посоветует — все-таки министр иностранных дел.
— Не волнуйся! — со смехом ответил Креве. — Это простая формальность. Таким манером иностранные дипломаты представляются новому правительству. Наше министерство напечатало и разослало им твою визитную карточку, других Министров — тоже. На этом все и кончается.
В министерство приходило множество людей — учителя, профессора, журналисты, актеры. Одни рассказывали об обидах, нанесенных им старым режимом, другие выражали свою лояльность или даже преданность новой власти, третьи приходили с различными идеями — предлагали создавать новые школы и театры, музеи, библиотеки, просили уволить того или иного чиновника и т. д.
Однажды в мой кабинет вошел Кипрас Петраускас. Высокий, красивый человек с изящными манерами актера. Бросалось в глаза, что он взволнован.
— Что ж, товарищ министр, — звонко сказал певец. — Времена меняются. Я много лет работал для своего народа, хочу работать и дальше.
— Я рад, что вы приходите к нам одним из первых, — сказал я ему.
— Выходит, будем работать вместе! — с нескрываемой радостью сказал Кипрас Петраускас («Неужели он мог в этом сомневаться?» — подумал я). Он обнял меня, расцеловал и, крепко пожав руку, ушел.
А между тем не только в министерстве, но и за его стенами, во всей Литве, все кипело, бурлило. Из тюрем и концлагерей выходили изнуренные за долгие годы заточения, но закаленные узники, члены Коммунистической партии. В зале палаты труда мы встретили их как борцов за свободу родного края, никогда не склонявших головы перед палачами. Рабочие каунасских фабрик впервые свободно вышли на демонстрацию. По-летнему легкий ветерок развевал красные стяги и транспаранты, лица людей сияли радостью — народ понимал, что больше не вернется капиталистический гнет, что полиция и охранка не будут избивать людей, как это было прошлой осенью, когда нам вернули Вильнюс.
Подавляющее большинство населения Литвы ликовало в предчувствии новой жизни, в которой рабочий человек станет хозяином, однако не было недостатка и в тех, кто съежился в своей скорлупе и выжидал, что же будет дальше. Ближайшие холуи Сметоны удрали за границу, в гитлеровскую Германию, но осталась плутократия, которая привыкла чувствовать себя полновластным хозяином не только в своих поместьях, на фабриках и в банках, а и во всей Литве. Остались люди, воспитанные старым режимом и преданные ему. Вся эта публика с первого же дня с нетерпением ждала, как же развернутся международные события. Война, Гитлер — вот на что они надеялись.
В учреждениях установился новый порядок. ЭЛЬТА[115] руководил Костас Корсакас, министром внутренних дел стал известный антифашист М. Гедвилас,[116] генеральным секретарем его министерства — мой знакомый со времен «Третьего фронта» коммунист А. Гузявичюс. М. Навикайте-Мешкаускене теперь стала директором департамента земельной реформы.
У моих помощников в Министерстве просвещения энергии, энтузиазма хоть отбавляй, но всем нам недоставало одного — опыта. Мы знали, что всю политику в культуре и просвещении надо повернуть в новое русло. Но как это сделать — мы не совсем понимали. Немало наших педагогов, да и не только педагогов, были воспитаны в клерикальном профашистском духе. Гимназии были превращены в цитадели реакции, где насаждались национализм и шовинизм — ненависть к другим народам, в первую очередь к русским и полякам. Молодежи вдалбливали мысль, что Литва окружена врагами, но мы настолько могучи, что для нас плевое дело разгромить какую-нибудь Польшу (надо думать, подобным же образом и полякам вдалбливали мысль, что они разгромят всех своих соседей, и мы видели, что из этого вышло). Неолитуаны, скауты, атейтининки, павасарининки и прочие организации — вот куда втягивали нашу молодежь фашисты и ксендзы, вот где они готовили для себя смену. Приходилось без промедления, в корне, менять всю систему воспитания. Но как и с чего начать?
Среди сотен лиц, мелькавших в эти дни в моем кабинете, я отчетливо запомнил милое лицо Саломеи Нерис.
Пришла она одной из первых. Раскрасневшаяся, счастливая, глаза так и сверкают. Радостно было видеть ее оживление. Она обняла и расцеловала меня — кажется, впервые в жизни.
— Как я рада! — взволнованно сказала она. — Как я рада, что начинается новая жизнь… И как хорошо, что ты здесь…
Я начал было объяснять, что не хотел идти в министерство, но Саломея со мной не согласилась. Сама она решила все свое время посвятить творчеству и поэтому попросила освободить ее от обязанностей учительницы.
— Всюду столько нового, что голова идет кругом… Писать, писать — вот что мне нужно… Сколько новых тем! Какое чудесное настроение! Я чувствую, что могу сделать что-то хорошее… Такое время!..
Я вспомнил, что министерство недавно получило предложение выделить кому-нибудь стипендию для поездки в Швецию. Я не знал, что это была за стипендия, кто ее дает, но напомнил о ней Саломее.
— Я всегда любила путешествия, — с улыбкой сказала она. — Но теперь лишь чудак мог бы воспользоваться этой стипендией. Уезжать из Литвы в такое время… Нет, Антанас, ты, конечно, шутишь. — Саломея вдруг встала, крепко пожала мне руку. — Но я тебе мешаю. За дверью же несколько десятков человек!
Мы попрощались. Я обещал уволить ее из школы, а она пригласила меня в свой домик в Палемонасе, где мне ни разу еще не приходилось бывать.
После напряженной работы, бесконечных заседаний настоящим блаженством было в это жаркое лето вырваться хоть на несколько часов за город. За городской чертой повеяло свежестью лугов. Голубое небо было чистым и безмятежным. В Палемонасе я добрался до двухэтажного «гнездышка», который выстроили молодожены — Бернардас и Саломея Бучасы, вернувшиеся из Парижа. Хозяева радушно встречали гостей. Среди них, насколько помню, были Винцас Миколайцис-Путинас и Юозас Юргинис.[117] Компания была небольшая, мы гуляли, восхищаясь спокойствием дня, ходили к Неману, старались не говорить о повседневных заботах. Потом обедали в столовой, крохотной, как и все комнатки этого домика. И все равно не смогли обойти молчанием события, которыми жила наша страна, не могли не вспомнить о войне, идущей на Западе.
Провожая нас, Нерис остановилась у калитки и сказала:
— Война… я часто о ней думаю… — В ее голосе я почувствовал страх. — Не затронет ли птица войны своим крылом и нас?
Кто-то из гостей рассмеялся, сказал, что бояться нечего, но я еще долго помнил взгляд поэтессы, судорогу ее губ, ее пальцы, крепче сжавшие ручонку сына.
И месяца не прошло с создания Народного правительства, как на 14 июля 1940 года были объявлены выборы в Народный сейм. В первые же дни существования новой власти был опубликован подписанный президентом республики закон о выборах в сейм. Я помню бурное предвыборное совещание нашей интеллигенции в Каунасском театре. На нем выступали П. Цвирка и М. Мешкаускене, актеры и художники — в каждой речи чувствовалось желание выбрать такой сейм, который бы выразил волю народа жить по-новому и свободно.
Помню совещание в бывшем дворце таутининков «Пажанга», где второй секретарь Центрального Комитета вышедшей из подполья Коммунистической партии Литвы Адомас-Мескупас, позднее, в годы Отечественной войны, погибший в Литве партизаном, — говорил о предстоящих выборах сейма и их подготовке. В ту же ночь с художником Юозасом Микенасом мы выехали в Вилкавишкис помочь в организации выборов.
Бургомистр Вилкавишкиса Викторас Галинайтис, назначенный на эту должность уже Народным правительством, встретил нас с радостью. Здесь мы подготовили план предвыборных собраний и митингов по уезду. Я хорошо помню митинг на одной из площадей Вилкавишкиса, где с большим пылом выступали не только горожане, но и крестьяне, собравшиеся с окрестных хуторов. Когда мне пришлось подняться на приготовленную наспех трибуну, я очень волновался — у меня не было опыта публичных выступлений перед такой аудиторией, да и некогда было заранее написать речь. Но радостные лица в толпе придали мне смелости, и, насколько я помню, речь вроде удалась. На следующий день я увидел ее на страницах каунасских газет.
Потом мы с Микенасом разделились: он, кажется, вернулся в Каунас, а я получил указание организовать выборы в Мариямполе. Прибыв в город своей юности, я не обнаружил в нем старых знакомых. Однако мне довольно быстро удалось найти энтузиастов из числа местной молодежи, которые за несколько дней нарисовали множество предвыборных плакатов, транспарантов, лозунгов, — мы так и не дождались печатных материалов.
Во всей Литве проходили предвыборные митинги. В каждом городе развевались алые стяги, виднелись портреты руководителей Советского Союза и Литвы, а также — довольно часто — пертреты Жемайте и Винцаса Кудирки. Во многих из этих митингов участвовал и я.
В Мариямполе, заседая с активистами, которые приходили из мастерских, деревень, школ, из тюрем, я увидел в каунасских газетах портреты кандидатов в Народный сейм. Там был и мой портрет как кандидата в депутаты сейма от Каунасского округа. Я несколько дней тому назад дал согласие на выставление своей кандидатуры. В этом и следующем номерах газеты я увидел и других знакомых — Пятраса Цвирку, Юозаса Банайтиса, Микалину Мешкаускене, видных революционеров, которых я увидел впервые на встрече с политзаключенными в палате труда, — Пранаса Зибертаса, Юозаса Григалавичюса, Янкелиса Виницкиса и других.
Фашизм я ненавидел всей душой. Я знал, что фашизм — это жестокий гнет, уничтожение культуры, наконец — война. А новый строй, который был установлен в Литве под руководством Коммунистической партии, — это мой строй, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы Литва возродилась для новой, лучшей жизни.
Пятрас Цвирка, с которым я почти каждый день виделся в Каунасе, а по вечерам встречался во Фреде, позвонил мне по телефону и сказал:
— Послушай, завтра выборы. Наша гостья Анна-Луиза Стронг (прогрессивная американская журналистка, которая находилась тогда в Каунасе и впоследствии написала книгу об установлении советской власти в Литве) решила посмотреть, как они будут проходить. Нельзя ли нам на твоей машине объехать часть Литвы?
Итак, утром 14 июля, в дождь, мы двинулись в южную Литву. Было воскресенье. По дорогам и проселкам на телегах и пешком народ толпой валил в местечки на Немане, в Кудиркос-Науместис, Шакяй, Вилкавишкис. Наша гостья, полная, но невероятно бойкая женщина, останавливала машину и фотографировала женщин, которые босиком шлепали по обочине на пункты голосования. Мы часто останавливались, выходили из машины и переводили вопросы нашей гостьи встречным людям, а их ответы — ей. Журналистка была поражена, с какой охотой, с каким доверием к новому правительству, с какими надеждами на новую жизнь люди стремятся к урнам. Все ждали от сейма чего-то невероятного. Люди верили, что Народный сейм найдет способ вытащить безземельных и малоземельных крестьян из долгов и горя, что он поможет устроиться на работу безработным, что в каждую избу заглянет солнце.
Под вечер мы оказались в Мариямполе — в городе моей юности, где и я немало помог в подготовке к выборам. Город утопал в флагах, все стены были оклеены плакатами. Многие уже успели проголосовать. Из уезда приходили вести, что из-за сильного дождя в дальних местностях проголосовали еще не все. Вечером из Каунаса сообщили, что выборы продлены на один день.
Выборы в Народный сейм прошли триумфально. Этот факт не станет отрицать ни один объективный наблюдатель, который тогда имел возможность следить за их проведением. Чем это объяснить? Сметоновский режим настолько опостылел большинству населения Литвы, что каждый ждал чего-то нового, лучшего. На мой взгляд, много значила и угроза со стороны фашистской Германии. Люди инстинктивно чувствовали: новое правительство, действуя сообща с ближайшим нашим другом — Советским Союзом, помешает гитлеровскому дракону, проглотившему прошлым летом соседнюю Польшу, уничтожить слабую Литву.
Без сомнения, огромную роль в проведении выборов в Народный сейм сыграла недавно вышедшая из подполья Коммунистическая партия Литвы. Она долгие годы нелегально руководила борьбой литовских трудящихся и теперь, уже в легальных условиях, стала руководящей силой новой жизни. Коммунисты, изнуренные долгими годами тюрем, днем и ночью трудились на ключевых постах, сплачивали вокруг себя трудящихся, помогали им в организационной, агитационной работе — разъясняли народу международное положение, рассказывали о новой жизни. Когда я 11 июля приехал из Мариямполе в Каунас, здесь на огромном митинге на площади Вилейшиса, на Зеленой горе, развевались знамена, а транспаранты возвещали: «Да здравствует социалистическая Литва!», «Мы требуем вступления в Советский Союз!» Вскоре эти лозунги распространились по всей Литве.
Народный сейм должен был собраться в Каунасском театре 21 июля. Был разгар лета. Дни стояли жаркие, теплые ночи не давали отдохнуть после дневной усталости. Организационный штаб Народного сейма обосновался в нескольких номерах «Литовской гостиницы». Днем и ночью здесь раздавался треск пишущих машинок; только что избранные депутаты сейма готовили свои будущие речи и декларации. Шли непрерывные совещания. Всем было ясно, что Народный сейм примет кардинальные, важнейшие решения. Это волновало, вызывало огромный интерес и возбуждало разнообразные догадки. Было ясно как день, что прошлое — гнусная, прогнившая фашистская диктатура — больше не вернется и Литва пойдет по новому, социалистическому пути.
В «Литовской гостинице» мелькали знакомые и незнакомые лица. Кажется, здесь я впервые увидел молодого революционера с решительным выражением лица и пронзительным взглядом — Антанаса Снечкуса,[118] тогда первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы. Бросалось в глаза, каким большим авторитетом он пользуется среди товарищей. Здесь я ближе познакомился с Пранасом Зибертасом, двадцать лет проведшим в буржуазных тюрьмах, — рослым, седым человеком. Впервые увидел легендарного Людаса Адомаускаса,[119] в прошлом ксендза, который боролся в одних рядах с коммунистами и томился в сметоновских тюрьмах. Это был невысокий человек с густой седеющей бородой. Его лицо светилось доверием к людям и внутренним благородством. Я познакомился здесь и со старым революционером Каролисом Диджюлисом, говорившим медленно, осторожно подбирая слова, — казалось, больше склонным думать, чем говорить. Людас Гира, навалившись грудью на край стола, куда падал яркий свет из-под абажура, на длинных узких полосах бумаги торопливо набрасывал статью или будущее свое выступление. Время от времени он перелистывал стенограммы буржуазного сейма в поисках каких-то материалов и снова принимался писать — размашисто, нервно, то и дело встряхивая головой. В комнаты, занятые штабом Народного сейма, входили и незнакомые мне люди — рабочие и крестьянские депутаты, съехавшиеся со всех концов Литвы. Пятрас Цвирка делился с ними куревом и шутил, а молодые, еще неопытные журналисты беседовали с депутатами и что-то записывали. Появилась и, нежно улыбнувшись, тут же исчезла Саломея Нерис.
Мне никогда не доводилось присутствовать на заседаниях буржуазного сейма. Но мы знали, что среди депутатов этого сейма давно уже не было рабочих или мелких крестьян. В него не попадали писатели, художники, актеры. В сейме заседали помещики, банкиры, ксендзы, кулаки. Теперь в Каунасском театре собрались новые депутаты сейма. Среди его представителей — враги фашистского режима из числа прогрессивной интеллигенции. Мало у кого из них был опыт руководящей работы, а уж депутатами сейма, кажется, не довелось быть никому. Но время поставило перед ними задачи огромной важности, о которых многие даже вчера не задумывались и которые надо было решить в ближайшее время.
Известный журналист, враг фашизма Юстас Палецкис, исполнявший обязанности президента республики, горячей речью открывает первое заседание Народного сейма. Старейший представитель сейма Людас Адомаускас, известный революционер Жемайтийского края Мечис Гедвилас и самый молодой депутат Викторас Диткявичюс избираются во временный президиум.
Нет смысла подробно излагать ход прений Народного сейма. Председателем сейма избран Людас Адомаускас, но заседание ведет в основном Мечис Гедвилас — гладко, энергично, как будто он провел на месте председателя долгие годы. Достаточно напомнить, что в первый же день своей работы, по предложению Антанаса Снечкуса, сейм принял постановление огромной важности — провозгласил Литву Советской Социалистической Республикой и постановил ходатайствовать перед Верховным Советом СССР о принятии Литвы в состав Советского Союза. В прениях выступали рабочие и крестьяне, а также представители интеллигенции, в том числе Цвирка и Гира. Постановления были приняты единодушно.
Во второй день работы Народного сейма многие делегации пришли поздравить народных представителей, принявших историческое решение. Писатель Костас Корсакас прочитал приветствие от трудовой интеллигенции, в котором выражались гордость за принятые вчера постановления и решимость создавать новую Литву. Приветствие подписали С. Нерис, Борута, Таллат-Кялпша, Груодис, С. Шимкус, Матулис, Зиманас, Гудайтис, Жукас, Грибаускас, Юргинис, Й. Шимкус, Кимантайте, Марцинкявичюс, Тарабильдене, Бутенас и многие другие. Казис Борута, прибывший на заседание сейма, прочитал стихотворное приветствие:
Призвали вас Решать судьбу отчизны. Решили вы За братьев и сестер. Нам руку дружбы Протянул великий Сосед и друг — СССР.Учащийся Владас Мозурюнас приветствовал Народный сейм от лица молодежи. Участник боев за Советскую Литву 1918 года генерал Феликсас Жемайтис-Балтушис, недавно назначенный новым командующим войсками, поздравил сейм от Народной армии.
Второй день работы Народного сейма был почти целиком посвящен аграрному вопросу и, после продолжительных прений, завершился принятием декларации, провозгласившей: «Всю землю Литвы с ее недрами, все леса и воды считать принадлежащими народу, то есть государственной собственностью. Землей будут владеть те, кто ее обрабатывает».
Кроме того, Сейм постановил определить по всей Литве для крестьянских хозяйств ограничительную норму в 30 гектаров для одного хозяйства, а излишек земельной площади крестьянских хозяйств, превышающий эту норму, превратить в государственный земельный фонд, с целью содействовать безземельным и малоземельным крестьянам в приобретении земли. Крестьяне были освобождены от выкупных налогов по прежней земельной реформе, а правительству было поручено обсудить вопрос о том, как снять с крестьян бремя долгов, столь тяжело давившее их во время господства буржуазии.
На третий день было принято постановление о национализации банков и крупной промышленности. На последнем заседании была избрана делегация, которая должна была передать Верховному Совету СССР в Москве просьбу Народного сейма о приеме Литовской Советской Социалистической Республики в семью народов Советского Союза. В эту делегацию вошли двадцать депутатов, в том числе и автор этих строк.
Трудящиеся Литвы с горячим одобрением встретили постановления Народного сейма. На Лайсвес-аллее, перед театром, состоялся грандиозный митинг, на который, казалось, пришел весь Каунас. На митинге выступали депутаты сейма и рабочие Каунаса. Участники митинга с огромным энтузиазмом встретили представителей сейма, только что завершившего работу и принявшего исторические решения.
Нельзя не упомянуть и некоторые курьезы. Известный клерикальный деятель профессор Стяпонас Колупайла согласился участвовать в Главной комиссии по выборам в Народный сейм и лояльно в ней работал. Вместе с делегацией трудовой интеллигенции прибыл приветствовать Народный сейм и клерикальный деятель историк Зянонас Ивинскис. В сейме обличал буржуазию писатель Людас Довиденас, раньше тесно связанный с буржуазной печатью. На второй сессии Народного, сейма он ликовал по поводу вступления Литвы в Советский Союз. (Когда позднее гитлеровцы оккупировали Литву, Довиденас издал книгу лживых «воспоминаний», в которой охаивал все, что раньше сам защищал в Народном сейме, — Советский Союз и наших революционеров; он снова переметнулся к своим прежним работодателям.)
В печати появлялись новые произведения известных и еще никому не известных поэтов и писателей. В те достопамятные дни почти все важнейшие газеты республики поместили «Поэму о Сталине» Саломеи Нерис.
…Сталин… С его именем связывали освобождение Литвы от капиталистического гнета революционеры, вышедшие из тюремных камер или концентрационных лагерей, сознательные рабочие и крестьяне, интеллигенты — все, кто радовался крушению власти плутократии и зарождению новой Литвы. Портреты Сталина появлялись на каждом митинге и на демонстрациях рядом с портретами руководителей республики и писателей — Жемайте, Кудирки. И все же нам казалось, что такое преувеличенное прославление одной личности неестественно, как-то непривычно. «Да, Сталин, без сомнения, человек большого ума и воли, — сказал мне однажды Цвирка. — Но зачем ломиться в открытую дверь? Зачем всюду кричать, что он гений?» Без этого имени не обходились в эти дни ни одна публичная речь, ни одна политическая статья. «Сталин — это партия, это лучшее, что есть в Советской стране», — объясняли нам члены партии. И когда мы читали поэму Нерис, посвященную Сталину, нам казалось, что она говорит не столь о нем, сколь об истории своего народа, что она воспевает вообще героическое начало в революции. И все-таки потребовалось время, чтобы перестало удивлять постоянное упоминание имени Сталина.
А жизнь неуклонно шла вперед. Молодой, никому еще не известный поэт Эдуардас Межелайтис писал в газете:
Человека, как пса, продавали Там, где молоты громко куют. Нынче новое время настало И рабочие вольно поют. Над хибарками и над дворцами Красный флаг мы подняли навек. Взяв свободу своими руками, На работу идет человек.Я никогда еще не видел Витаутаса Монтвилу таким, каким я встретил его в те дни на Лайсвес-аллее. Он шел, высоко подняв голову, словно силясь разглядеть вдалеке что-то неожиданное и радостное. Всеми нервами, всем сердцем он наслаждался свободой — ведь канули в прошлое времена, когда его таскали по камерам следователей, когда над ним глумились охранники и надзиратели, когда его произведения черкали и коверкали фашистские цензоры. Мы поздоровались, и я спросил:
— Редко тебя вижу. Как поживаешь?
Впервые за много лет я увидел на его лице улыбку.
— Работаю. Пишу. Никогда еще не писал с такой охотой. И наблюдаю жизнь, встречаюсь с рабочими. Недавно ездил в Мариямполе. Нет, теперь — дело другое…
Монтвила, как и раньше, не отличался разговорчивостью. Но по его глазам я понял, что за лаконичным «дело другое» скрывается великая перемена не только в жизни нашего края, но и в его биографии: настало время, когда поэт мог заговорить во весь голос. И этот голос звенел на фабриках, в мастерских, несся с полос газет к людям, путь к которым так долго был закрыт для поэта.
…В министерстве меня поджидали повседневные заботы. Не хватало школ. Не было учебников, пригодных для новой школы. Надо было менять репертуар театров. Нужны были новые театры, филармония, библиотеки и читальни. Университет должен был открыть свои аудитории для сотен, а то и тысяч представителей молодежи, которые не могли попасть в него раньше. А взрослые? Сколько у нас неграмотных? За ближайшие годы их надо обучить! Надо приглашать специалистов, советоваться, создавать школы для взрослых, народные университеты; А армия учителей? Как их перевоспитать? Как выбить из их голов клерикальные и националистические идеи? Как создать нового учителя, который смог бы воспитывать молодежь в духе дружбы народов, интернационализма? Забот была тьма-тьмущая. Я часто забегал в здание Министерства иностранных дел, в котором обосновался Центральный Комитет Коммунистической партии.
…Дела важные и пустяковые, серьезные и легковесные. Благородные идеи, а рядом — мелочность и подлость.
Вот довольно известный актер. Он входит в мой кабинет, свысока здоровается, ведет себя непринужденно. Сев в кресло, он излагает свое дело:
— Буду говорить начистоту. Продулся в карты. И по-крупному. Несколько тысяч литов. Сметона обещал покрыть мой долг. Ну, его уже нет. Теперь, когда у власти новое, наше правительство, я полагаю, господин министр (по старой привычке он меня величает «господином»), что вы покроете мой должок или попросите президента…
Я не отличаюсь горячностью, но едва удержался, чтобы не вышвырнуть этого «творца» из кабинета…
Некогда было думать об этих мелочах. Приходили молодые ксендзы. Они говорили, что бросают свое ремесло, и просили назначить их учителями. Кое-кого я послал преподавать латынь. Приходили корреспонденты и просили рассказать им о работе и перспективах на будущее. Правда, то, что появлялось в газетах, было мало похоже на мои слова.
А однажды утром уполномоченная комиссия Народного сейма собралась на Каунасском вокзале. В Москву ее провожала огромная толпа — журналисты, родные с цветами. Итак, я второй раз еду в Москву.
Лишь в поезде мы немного передохнули после напряженных недель и дней. Здесь как следует знакомились писатели и старые революционеры, члены уполномоченной комиссии. Нас, писателей, было трое — Цвирка, Гира и я. Нерис с Корсакасом уехали в Москву несколькими днями раньше.
Толпа встретила наш поезд в Белоруссии, на станции Молодечно, — видно, здесь уже знали, что в Москву едут посланцы новой советской республики. Огромная толпа собралась в Минске. С вокзала нас доставили к современному многоэтажному зданию, в котором помещались все министерства Белоруссии (это гигантское здание уцелело в войну). Здесь, у памятника Ленину, состоялся короткий митинг, на котором выступали представители Литвы и Белоруссии, в том числе известный белорусский поэт Петрусь Бровка, позднее ставший нашим близким другом. Завязывались первые знакомства с руководителями братской Белоруссии. Позднее, особенно в годы войны, пришлось с ними сотрудничать, вместе сражаться против фашистских захватчиков. Литва издавна поддерживала тесные отношения с белорусской культурой — в Вильнюсе когда-то жили и работали белорусские классики, которых хорошо знал Людас Гира. Теперь возобновились традиционные связи.
На следующий день поезд прибыл в Москву. На Белорусском вокзале мы сразу попали в дружеские объятия москвичей. Перед вокзалом стояла украшенная цветами трибуна, с которой члены правительства СССР и представители Москвы выступали с приветственными речами, а руководители нашей делегации им отвечали. С первых же мгновений мы почувствовали себя среди друзей.
Наша делегация на разукрашенных цветами машинах по улице Горького двигалась к центру города, к гостинице «Москва». По обеим сторонам широкой магистрали, где высились новые, светлые здания эпохи социализма, нас ожидали тысячи москвичей. Они махали руками и платками и бросали цветы в машины. Поселили нас в гостинице «Москва». Во время войны мне не раз приходилось жить в ней, я останавливался здесь и в послевоенные годы.
Третье августа навсегда вошло в историю нашего народа. В этот день наша делегация — по Красной площади, мимо Мавзолея Ленина — вошла в Кремль. Огромное впечатление произвели на нас сотни депутатов в национальных костюмах (среди них выделялись представители среднеазиатских республик). Поднявшись по сверкающей лестнице, уже в кулуарах Верховного Совета, в просторном Георгиевском зале, мы увидели людей, имена которых раньше встречали в газетах или на страницах книг. В толпе депутатов шли полярные исследователи Шмидт и Папанин, писатели Алексей Толстой и Михаил Шолохов, прославленные рабочие, колхозники — они старались познакомиться с нами, поговорить, даже вместе попозировать фотографу.
Когда мы вошли в зал заседаний Верховного Совета Советского Союза, весь Президиум стоя долго приветствовал нашу делегацию. Здесь мы впервые увидели людей, которые с Октябрьской революции и гражданской войны были известны всему миру. В Президиуме стояли и аплодировали нам Калинин, Ворошилов, Буденный, маршалы и министры. Впервые мы увидели и Сталина. Он стоял в последнем ряду Президиума и тоже аплодировал.
С большим докладом на совместном заседании обеих палат Верховного Совета выступил Юстас Палецкис. Выступали Матас Мицкис, Пранас Зибертас и другие. Саломея Нерис читала отрывок из своей поэмы. Наши делегаты выступали на литовском языке, на русский язык их речи переводил стоявший рядом переводчик. Впервые в истории язык литовского народа зазвучал в залах Кремля. И не только здесь. Эти речи по радиовещанию передавались всему Советскому Союзу, всему миру. Впервые в истории так широко слушали голос нашего народа.
Это историческое заседание не раз уже было описано, и я не собираюсь повторять общеизвестные факты. Не просто сейчас передать то чувство, которым мы тогда жили. Мы понимали, что с этого дня начинается новая страница литовской истории, точнее — новая эпоха, которая в корне будет отличаться от всего прошлого. Мы понимали, что отныне у каждого из нас — новые права и новые обязанности, что наш народ наконец-то не одинок перед лицом бушующей на Западе войны, что от фашистской угрозы нас защищает вся мощь страны социализма.
Президиуму Верховного Совета была вручена декларация Народного сейма — волеизъявление литовского народа, Верховный Совет единодушно принял новую Литовскую Советскую Социалистическую Республику в семью братских народов. Долго гремели, смолкали и снова раздавались овации в огромном белом зале. За Президиумом глядела в зал белая статуя Ленина.
Мы посетили Мавзолей Ленина, возложили венок и благоговейно прошли мимо создателя страны социализма. Мы побывали в музеях, парках, театрах Москвы. Познакомились с членами латвийской и эстонской делегаций. Между прочим, в Большом театре мы впервые встретились тогда с видным латышским писателем-революционером Андреем Упитом.
В один из этих дней нам сообщили, что нас вызывают в Кремль. В холле гостиницы собрались не все — только девять членов нашей делегации, в основном те, кто занимал тогда руководящие посты в республике. Среди нас были А. Снечкус, Ю. Палецкис, И. Адомас-Мескупас, М. Шумаускас, генерал В. Виткаускас и другие. Когда, прибыв в Кремль, мы поднялись по лестнице на второй этаж, нас провели в большую комнату с обшитыми темной панелью стенами. На стене висел лишь портрет Ленина. На длинном столе, накрытом зеленым сукном, стояли бутылки минеральной воды, стаканы, лежали блокноты и карандаши, а также большие коробки с папиросами, кажется «Герцеговина Флор». Со своих мест поднялись поздороваться с нами трое — Сталин, Молотов и Жданов. Больше в комнате никого не было.
Неизвестно, знали ли другие члены делегации заранее, на какую встречу мы отправляемся. Для меня все это было полной неожиданностью. Сталин, поздоровавшись с каждым за руку, пригласил садиться, и мы заняли места за столом. Он указал на папиросы и закурил сам — не трубку, как мы привыкли видеть на фотографиях. Ю. Палецкис, как старший в нашей делегации, поднявшись, поблагодарил за прием Литвы в состав Советского Союза и за приглашение на сегодняшнюю встречу, но, не дослушав его, Сталин снова пригласил его жестом руки садиться, улыбнулся и сказал:
— Здесь мы собрались по-дружески поговорить, без всякой официальности.
Наша беседа продолжалась два с половиной часа. Она шла неторопливо. Сталин выразил свое удовлетворение тем, что в Советский Союз вошли новые, Прибалтийские республики. Он добавил, что литовский язык — очень древний и своеобразный, — так ему говорили. Кто-то из нас коротко рассказал о борьбе литовского народа против фашизма, за советскую власть. Сталин спросил, не переезжает ли, правительство нашей республики в Вильнюс. Услышав, что еще нет, он заметил:
— Вильнюс — столица Литвы. И место правительства, конечно, в Вильнюсе.
Несколько вопросов Сталин задал генералу В. Виткаускасу — о литовской армии, о ее вооружении. Услышав о типах литовских самолетов и толщине танковой брони, Сталин усмехнулся и сказал:
— Нет, в войне нынче такое оружие не пригодится. Такую броню пробьют противотанковые орудия самого малого калибра.
Я смотрел на Сталина и его ближайших сотрудников. Сталин был среднего роста, в чесучовом пиджаке стального цвета. Его лицо мне показалось здоровым и энергичным. Зато у Молотова цвет лица был явно нездоровый, зеленоватый, он казался утомленным или больным. Разговор за столом шел уже непринужденней, чем вначале, и оба помощника Сталина что-то записывали в свои блокноты — видно, как его, так и некоторые наши замечания.
Когда разговор коснулся вопросов просвещения, Сталин высказал мысль, что в республиках учение должно проходить на основном языке республики. «Учащиеся, — сказал он, — должны изучать и русский язык, который помогает сотрудничать всем гражданам нашего государства».
— А как ведет себя в Литве Красная Армия? Говорите начистоту, — вдруг спросил Сталин.
Наши товарищи ответили, что ведет себя она отлично. Кто-то рассказал даже, что проходящие войска следили за тем, чтобы не сломали у дорог ни единого деревца и не вытоптали ни пяди хлебов. Сталин остался явно доволен ответом.
Говорил он не спеша, тихим голосом. Казалось даже, что он старается больше слушать других, чем говорить сам. Когда наши товарищи попросили помочь республике некоторыми машинами и оборудованием, Сталин обратился к своим помощникам, и те занесли наши просьбы в блокноты.
В конце беседы Сталин сказал нам:
— Вы в своей республике новые, недавно поставленные люди. Помните, что народ должен вас уважать. Старайтесь заслужить делами уважение народа, авторитет в его глазах.
Я полагаю, не стоит объяснять читателю, какое большое впечатление произвела на нас всех эта встреча. Ведь в это время Сталин был не только руководителем нашего государства — это был один из самых известных людей планеты. Это был человек, который, как нам казалось, может и должен отразить гитлеровское вторжение. В его руках была сосредоточена огромная власть. С нами он говорил просто, по-дружески. Хоть мы из газет хорошо знали о проходивших несколько лет назад в Москве различных процессах «вредителей», хотя ходили какие-то неясные слухи о репрессиях, но мы не знали ничего, что бы позволило связывать все это с личностью Сталина. Наконец, Сталин был человеком, который помог нашему народу освободиться от ненавистного режима.
И еще одно событие этих дней оставило неизгладимое впечатление. Это была встреча с московскими писателями, устроенная в известном грузинском ресторане «Арагви».
На встречу с литовскими, латышскими и эстонскими литераторами, прибывшими на сессию Верховного Совета СССР, пришли известные советские писатели — Михаил Шолохов и Всеволод Иванов, Валентин Катаев и Константин Федин, Константин Тренев, Евгений Петров, Василий Лебедев-Кумач, критик Валерий Кирпотин, украинский драматург Александр Корнейчук и другие. Хозяином на приеме был Алексей Толстой. Он, энергичный и радушный, так и сверкал остроумием. Новые друзья, с которыми мы впервые сидели за одним столом, оказались душевными людьми. Все они, кроме, пожалуй, Шолохова, были старше нас, но еще молодые люди, хотя уже пользующиеся всесоюзной, а то и мировой известностью. Наш разговор за столом, уставленным кушаньями и кавказскими винами, шел о новых советских республиках. Мы рассказывали друзьям о литовском языке, литературе, истории, обычаях, а они, по нашей просьбе, говорили о новинках советской литературы и тут же спорили о них. Наше положение было трудней — литовская литература, если не считать «Земли-кормилицы» Цвирки, изданной в Москве несколько лет тому назад, и только что вышедшего сборника стихов Гиры да «Поэмы о Сталине», была неизвестна в Советском Союзе (еще меньше ее знали в других странах).
Вокруг стола ходил грузинский рог с вином (не зря мы находились в грузинском ресторане!). Только один из нас — Людас Гира, которого тут же кто-то прозвал акыном, — сумел осушить этот рог. Этот факт был встречен с восторгом. Серьезный разговор сменялся веселым, друг за другом следовали тосты за гостей и хозяев.
У меня с той поры сохранилось несколько снимков, сделанных тогда в Москве. Жаль, что никто не зафиксировал картин этого дружеского вечера. Но веселое настроение и непринужденная застольная беседа, столь характерные для писательских встреч, надолго сохранились в памяти у всех участников этого приема.
Когда мы вернулись в Литву, делегацию Народного сейма, исполнившую волю нашего народа, искренне и торжественно встречали Вильнюс и Каунас. Привокзальные площади, расцвеченные вечерними огнями, украшенные цветами трибуны, пылкие приветственные речи, улицы, заполненные огромными толпами…
Так началась новая жизнь. Каждый день приносил новые победы, неудачи, заботы и снова победы. Мы были гражданами уже не крохотного буржуазного государства, а исполинской социалистической державы. И думать и жить приходилось новыми масштабами и новыми категориями.
Примечания
1
Цвирка Пятрас (1909–1947) — один из основоположников литовской советской литературы и крупнейший мастер прозы (роман «Франк Крук», «Земля-кормилица», «Мастер и его сыновья», рассказы, публицистика).
(обратно)2
Нерис Саломея (1904–1945) — крупнейшая литовская советская поэтесса, лауреат Государственной премии СССР.
(обратно)3
Марцинкявичюс Йонас (1900–1953) — советский прозаик (роман «Вениамин Кордуш» и др.).
(обратно)4
Шимкус Йонас (1906–1965) — советский поэт и прозаик, один из организаторов литературной жизни в Советской Литве.
(обратно)5
Гербачяускас Юозапас Альбинас (1876–1944) — писатель и критик-декадент.
(обратно)6
Биржишка Миколас (1882–1962) — литературовед, реакционный политический деятель, умер в США.
(обратно)7
Дубас Владас (1887–1937) — историк романских литератур, профессор.
(обратно)8
Страздас Юстинас (1895–1967) — агроном, в Советской Литве известный колхозный организатор.
(обратно)9
Грицюс Аугустинас (1899–1972) — прозаик и драматург (рассказ «Люди», пьесы «Накануне», «Жаркое лето» и др.).
(обратно)10
Балдаускас (Бальджюс) Юозас (1902–1962) — фольклорист и этнограф, профессор.
(обратно)11
Кирша Фаустас (1891–1964) — поэт-символист, умер в США.
(обратно)12
Бинкис Казис (1893–1942) — поэт и драматург, одно время глава литовского футуризма (сб. «100 весен», пьесы «Поросль», «Генеральная репетиция» и др.).
(обратно)13
Римидис Антанас (р. 1905) — поэт-футурист, живет в США.
(обратно)14
«Четыре ветра» — журнал литовских футуристов, издавался в 1924–1928 годах.
(обратно)15
Бурба Йонас — художник.
(обратно)16
Ах, милый Ганс, что ты делаешь! (нем.)
(обратно)17
Инчюра Казис (р. 1906) — поэт и драматург.
(обратно)18
Ляудининки — либеральная мелкобуржуазная партия.
(обратно)19
Жюгжда Юозас (р. 1893) — советский историк, академик.
(обратно)20
Петренас (Тарулис) Юозас (р. 1896) — прозаик, участник движения футуристов, живет в США.
(обратно)21
Ушинскас Статис (р. 1905) — советский художник, декоратор, витражист.
(обратно)22
Стролис Людвикас (р. 1905) — советский художник, керамик.
(обратно)23
Йонинас Витаутас Казимерас (р. 1907) — выдающийся график, иллюстратор книг, живет в США.
(обратно)24
Биржишка Вацловас (1884–1956) — известный библиограф, умер в США (брат М. Биржишки).
(обратно)25
Жянге Юозас (р. 1899) — поэт-футурист.
(обратно)26
Швайстас Юозас (р. 1891) — прозаик, живет в США.
(обратно)27
Пожела Каролис (1896–1926) — один из организаторов и руководителей КП Литвы, после фашистского переворота 1926 года расстрелянный вместе с коммунистами Ю. Грейфенбергерисом, К. Гедрисом и Р. Чарнасом.
(обратно)28
Тильвитис Теофилис (1904–1969) — народный поэт Литовской ССР (поэмы «Дичюс», «Пахари», «На земле литовской» и др.).
(обратно)29
Пялецкис Юстас (р. 1899) — прогрессивный общественный деятель в буржуазной Литве. В 1940–1967 гг. Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР, с 1966 г. — Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР, в настоящее время Председатель Комитета защиты мира Литовской ССР.
(обратно)30
Моркус Пранас (1893–1947) — незначительный поэт-футурист.
(обратно)31
Юодялис Пятрас (1909–1975) — литературовед, переводчик.
(обратно)32
Струнке Никлаус — латышский график, сотрудничавший в антифашистских изданиях.
(обратно)33
Якубенас Казис (1908–1950) — поэт-антифашист.
(обратно)34
Гелванис-Корсакас Костас (р. 1909) — советский литературовед, академик, поэт.
(обратно)35
Райла Бронис (р. 1909) — литератор, в молодости примыкавший к антифашистам, позднее — ренегат и реакционер, живет в США.
(обратно)36
Таутининки — националистическая партия фашистского толка, 1926–1940 годах правившая в Литве.
(обратно)37
Жвайгждулис (Снарскис) Казис (р. 1906) — поэт-антифашист, переводчик «Двенадцати» А. Блока.
(обратно)38
Моркунас Пранас (1900–1941) — поэт и переводчик, погибший при обороне Москвы.
(обратно)39
Блазас Генрикас — журналист, вначале либерал, в конце жизни реакционер, умер в США.
(обратно)40
Вайчюнас Пятрас (1890–1959) — поэт-символист, драматург, работавший и в советской литературе.
(обратно)41
Калпокас Пятрас (1880–1945) — крупный живописец-реалист.
(обратно)42
Мишкинис Антанас (р. 1905) — поэт.
(обратно)43
Коссу-Александравичюс Йонас (1904–1975) — поэт эстетского направления, реакционер, умер в США.
(обратно)44
Бразджёнис Бернардас (р. 1907) — поэт-мистик, реакционер, живет в США.
(обратно)45
Восилюс Александрас — студент, участник покушения на фашистского диктатора А. Вольдемараса, казнен.
(обратно)46
Булота Андрюс (1907–1973) — участник революционного движения, юрист, заслуженный деятель культуры Литовской ССР.
(обратно)47
Буйвидайте Броне (р. 1895) — поэтесса и прозаик.
(обратно)48
С 1920 по 1939 год столица Литвы Вильнюс была оккупирована панской Польшей. В Литве в это время было создано «Общество освобождения Вильнюса», которое издавало свою литературу.
(обратно)49
Бичюнас Витаутас (1893–1945) — реакционный литературный критик, театральный деятель.
(обратно)50
Лауринайтис Пятрас — прогрессивный литератор, переводчик Ильфа и Петрова и др.
(обратно)51
Якштас Адомас (1860–1938) — католический деятель, поэт, реакционный критик.
(обратно)52
Ритмичность и мелодичность речи (польск.).
(обратно)53
Мицкявичюс-Капсукас (1880–1935) — один из основателей КП Литвы, выдающийся деятель литовского и международного революционного движения.
(обратно)54
Йомантас Вилюс (1891–1960) — художник.
(обратно)55
Ваши билеты! (нем.)
(обратно)56
Выпей, братец, налей,
Станет веселей.
Выпей, братец, налей,
Брюхо пожалей.
Горе долой и заботы долой,—
Пиво пусть льется рекой! (нем.)
(обратно)57
Да, да, Литва… Вольдемарас… Настоящий мужчина… (нем.)
(обратно)58
Врач (итал.).
(обратно)59
Лишь для тех, кто не боится головокружения (нем.).
(обратно)60
«Жибурелис» («Огонек») — прогрессивная организация, помогавшая неимущим учащимся, которая была создана еще в царское время и действовала в буржуазной Литве.
(обратно)61
Склерюс Каетонас (1876–1932) — крупный живописец-реалист.
(обратно)62
Тислява Юозас (1902–1961) — поэт, примыкавший к футуристам, в 1933 г. уехал в США, где и умер (сб. «В руках Немана», издан в Вильнюсе в 1967 г.).
(обратно)63
«Красные губы и красное вино Таррагоны» (нем.).
(обратно)64
Пундзюс Бронюс (1907–1959) — выдающийся советский скульптор.
(обратно)65
Бружас Антанас (р. 1893) — журналист.
(обратно)66
Шименас Антанас — литературный критик, участник движения футуристов.
(обратно)67
Пуйда Казис (1883–1945) — прозаик, драматург, переводчик.
(обратно)68
Кела Казис (1898–1963) — прогрессивный писатель, прозаик.
(обратно)69
Микуцкис Юозас (1891–1972) — поэт, Многие годы жил в США, в 1968 г, вернулся в Литву.
(обратно)70
Булака Мечис (р. 1907) — советский график и декоратор.
(обратно)71
Тарабилда Пятрас (р. 1905) — советский художник.
(обратно)72
Григонис Матас (р. 1889) — писатель, педагог.
(обратно)73
Балтрушайтис Юргис (1873–1944) — поэт-символист, писал на русском (сб. «Земные ступени», «Горная тропа») и литовском (сб. «Венок из слез» и др.) языках. В 1920–1939 гг. был послом буржуазной Литвы в Москве.
(обратно)74
Клеть, в которой писатель написал свою знаменитую поэму «Аникшчяйский бор». В настоящее время мемориальный музей А. Баранаускаса.
(обратно)75
Атанас Баранаускас — литовский поэт и языковед.
(обратно)76
Билюнас Йонас (1879–1907) — прозаик, классик литовской литературы. Прах Билюнаса, умершего в Польше, перевезен в Литву в 1953 г.
(обратно)77
Донелайтис Кристионас (1714–1780) — великий поэт, основоположник литовской художественной литературы (поэма «Времена года»).
(обратно)78
Драздаускас Валис (р. 1906) — литератор-антифашист, переводчик.
(обратно)79
Пранскус-Жалёнис Бронюс (1902–1964) — пролетарский поэт, позднее литературовед, профессор.
(обратно)80
Маргерис Альгирдас (р. 1889) — прогрессивный писатель, работавший в США. В 1967 г. поселился в Литве.
(обратно)81
Юкнявичюс Ромуальдас (1906–1963) — известный советский театральный деятель, режиссер.
(обратно)82
Гудайтис-Гузявичюс Александрас (1908–1969) — участник революционного движения, лауреат Государственной премии СССР, народный писатель Литовской ССР (романы «Правда кузнеца Игнотаса», «Братья», «Заговор» и др).
(обратно)83
Тамошайтис Изидорюс (1889–1943) — журналист, реакционный политический деятель, один из идеологов фашистского режима в Литве.
(обратно)84
Микенас Юозас (1901–1964) — народный художник СССР, скульптор.
(обратно)85
Балтушис Юозас (р. 1909) — народный писатель Литовской ССР, прозаик и драматург (роман «Проданные годы», пьеса «Поют петухи» и др.).
(обратно)86
Грибас Винцас (1890–1941) — выдающийся скульптор, расстрелянный буржуазными националистами в начале гитлеровской оккупации.
(обратно)87
Гудайтис Антанас (р. 1904) — народный художник Литовской ССР, живописец.
(обратно)88
Теперь в этом доме находится мемориальный музей Пятраса Цвирки.
(обратно)89
Бутенас Юлюс (р. 1908) — советский прозаик, литературовед.
(обратно)90
Вишинскас Повилас (1875–1906) — прогрессивный писатель и общественный деятель.
(обратно)91
Вайткус Миколас (р. 1883) — клерикальный поэт, драматург, прозаик. Живет в США.
(обратно)92
Шаулисы — члены полуфашистской военизированной организации.
(обратно)93
Шемерис-Шмераускас Салис (р. 1898) — поэт-футурист.
(обратно)94
Ремейка Йонас (р. 1891) — педагог, краевед.
(обратно)95
«Литовская газета», «Клайпедский пароход» (нем.).
(обратно)96
Симонайтите Ева (р. 1897) — советский прозаик, народная писательница Литовской ССР (романы «Судьба Шимонисов», «Вилюе Каралюс» и др.).
(обратно)97
Кулакаускас Телесфорас (р. 1907) — советский график.
(обратно)98
Визгирда Викторас (р. 1904) — художник, живет в США. Выставка его картин в 1967 г. была устроена в Вильнюсе.
(обратно)99
Кнюкшта Антанас — книгоиздатель, деятель культуры.
(обратно)100
Шейнюс (Юркуиас) Игнас (1889–1959) — прозаик, правый политический деятель, умер в Швеции.
(обратно)101
… пода и дамы, ваши паспорта (франц.).
(обратно)102
В деревню (франц.).
(обратно)103
Ржаной хлеб (франц.).
(обратно)104
Для бедных (франц.).
(обратно)105
Выть хочется (франц.).
(обратно)106
Ясутис (Юльмис) Алексас (1910–1938) — писатель-антифашист, участник Интербригады, погибший в Испании.
(обратно)107
В настоящее время район Петсамо (Печенги) входит в состав Советского Союза.
(обратно)108
Добрый день (нем.).
(обратно)109
Милое дитя (нем.).
(обратно)110
Мильтинис Юозас (р. 1907) — выдающийся советский театральный деятель, режиссер.
(обратно)111
Петраускас Кипрас (1885–1968) — советский театральный деятель, оперный певец, основатель литовской оперы.
(обратно)112
Приближается… приближается… приближается… (польск.)
(обратно)113
«Литовское эхо», орган правящей партии.
(обратно)114
Генюшас Юозас (1892–1948) — советский педагог.
(обратно)115
Литовское телеграфное агентство.
(обратно)116
Гедвилас Мечис (р. 1901) — прогрессивный общественный деятель в буржуазной Литве. В 1940–1956 гг. — Председатель Совета Народных Комиссаров и Совета Министров Литовской ССР, с 1957 г. — министр просвещения Литовской ССР.
(обратно)117
Юргинис Юозас (р. 1909) — советский историк.
(обратно)118
Снечкус Антанас (1903–1974) — советский партийный и государственный деятель, с 1940 г. до своей смерти первый секретарь ЦК КП Литвы.
(обратно)119
Адомаускас Людас (1880–1941) — участник революционного движения, в 1941 г. нарком Госконтроля Литовской ССР. Расстрелян гитлеровскими оккупантами.
(обратно)



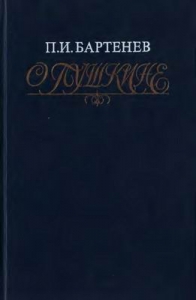
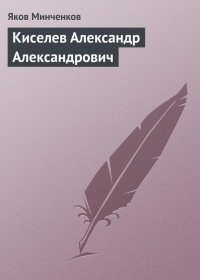

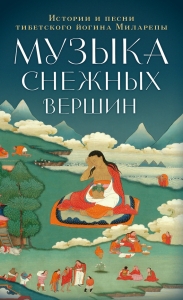

Комментарии к книге «В поисках молодости», Антанас Томасович Венцлова
Всего 0 комментариев