Наталия Будур • ГАМСУН Мистерия жизни
«Не судите, да не судимы будете»
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
Мф. 7: 1–2Великий Гамсун…
Писатель, которым восхищались все известные умы России. Популярность Гамсуна в нашей стране в XIX — начале XX века была огромной. Не успевали его книги выйти в Норвегии, как они тут же переводились на русский язык и продавались с поразительной быстротой. Невероятный «спрос на Гамсуна» продолжался вплоть до 1934 года, когда был напечатан последний роман трилогии об Августе (трилогия включает в себя романы «Бродяги», «Август», «А жизнь идет»).
А затем наступил период полного забвения. О Гамсуне, особенно после 1940-х годов, было непозволительно говорить. Он перестал существовать не только для читателей, но и для литературных критиков и историков литературы.
И лишь в 1970 году в издательстве «Художественная литература» вышел двухтомник Кнута Гамсуна, который немедленно стал библиографической редкостью.
Затем о писателе вновь забывают — до 1990-х годов. И тут уж последовал настоящий бум Гамсуна (не только в нашей стране, но и по всему миру). За последние полтора десятка лет вышло великое множество произведений — романы и публицистика, новеллы и пьесы — и не только в издательствах Москвы и Петербурга, но и в провинциальных городах России.
О Гамсуне стали много говорить, Гамсуном стали интересоваться… И не только его книгами.
Творчество норвежского писателя было под своеобразным запретом и в России, и в самой Норвегии из-за поддержки Гамсуном нацизма. Хотя до сих пор на вопрос «предатель ли Гамсун?» никто не может дать однозначного ответа.
Нам трудно себе представить: национальный герой Норвегии, лауреат Нобелевской премии, автор гуманистических произведений — нацист?
Тем не менее Гамсун после окончания Второй мировой войны был арестован, отправлен в психиатрическую клинику, осужден и проклят всем норвежским народом. Именно всеобщее презрение больше всего и огорчало писателя. И все же Гамсун не сдавался. Он много раз говорил, что не нуждается ни в чьем понимании и сочувствии.
«Уже повторяется как клише: Гамсун не был политиком, — писала жена Гамсуна Мария. — Да, ему не хватало для этого многих качеств, но мне кажется, что это не умаляет его достоинств. У него было свое мнение о политике, как и о многом другом, и он никогда не оставался равнодушным, он готов был сражаться за свои взгляды. Его мнение о политике было прежде всего этическим, национально окрашенным и эмоционально связанным с идеалами юности.
Существует еще одно клише: если бы он был моложе, он бы во время войны стал совершенно иным и избежал уготованной ему участи. Но я знаю его немного больше и считаю, что это немыслимо. Я даже думаю, что будь он помоложе, он бы с удвоенной силой боролся за свои идеалы.
Делаются попытки развести по разные стороны писателя и человека, чистить эту луковицу, чтобы найти там съедобную мякоть. Думаю, дело окончится как обычно: в итоге за луковичной шелухой останется пустота.
Кнут имел среди людей свое собственное предназначение, уготованное ему Творцом, давшим ему также силы нести свой крест. Поэтому не надо его жалеть и прощать, он никогда в этом не нуждался. Но я считаю, что его своеобразный характер, иногда кажущийся таким суровым, но на самом деле очень чувствительный, должен быть понят теми, о ком он так беспокоился. В первую очередь молодежью».[1]
Своему немецкому издателю Гамсун еще в 1928 году написал: «Я не чудо и уж тем более не достопримечательность».
На рассказ же своего сына Арильда о том, что к 90-летию отца один литературный критик написал большую статью, в которой попытался объяснить поведение великого соотечественника, писатель вздохнул и ответил: «О Боже, последние 50–60 лет они только и делают, что пытаются объяснить меня. Я скоро не выдержу».
Не стоит и нам делать ту же самую ошибку и пытаться «объяснить» Гамсуна. Его надо принимать таким, каков он есть.
Да, он всегда любил Германию и ненавидел Англию и Америку. Искренне любил и так же искренне ненавидел.
Свое отношение к Америке Гамсун выразил еще в книге путевых очерков «О духовной жизни современной Америки» (1889), где заявил, что в Америке нет и не может быть никакой духовной жизни, что рев и гул машин погубили всякое воспоминание о культуре в американском обществе. Даже через тридцать лет после Первой мировой войны в одном из писем Гамсун напишет: «Снова и снова получаю я подтверждение мнению, сложившемуся у меня в юности».
Англичане же высмеяны писателем не только в речах, письмах и статьях, но и в художественных произведениях. Так, Хью, второстепенный персонаж в «Бенони» и «Розе», является самой настоящей карикатурой на англичан. Сэр Хью относится к людям как к мусору, он необыкновенно раздражает норвежцев, и писатель недвусмысленно дает понять, что основная причина такого гнусного поведения — его национальность.
Нелюбовь Гамсуна к англичанам была столь явной, что это позволило Виктории, дочери писателя от первого брака, утверждать, что, когда отец узнал о ее решении выйти замуж за англичанина, то послал ей следующую записку: «Если ты выберешь своего англичанина, то можешь больше не рассчитывать на меня в будущем».
Да, таков был Гамсун — порывистый, яростный, неукротимый, неистовый.
Его любовь к Германии — это (и не в последнюю очередь!) нелюбовь к Англии и Америке. Это — нежелание принять новые пути капиталистического развития Норвегии, которая ориентировалась на Англию. Это попытка вернуться к своим крестьянским корням. Гамсун на протяжении всей жизни настойчиво повторяет слова о необходимости возврата к природе, он критикует «плоды просвещения» и говорит о полной бесполезности литературы (поистине странное утверждение для всемирно известного писателя!).
Для того чтобы еще лучше понять отношение Гамсуна к Германии, необходимо вспомнить о его отношениях с этой страной, а также с Англией и Америкой с самого начала.
Мировая известность пришла к Гамсуну именно через Германию. Первая книга о нем была написана немцем Карлом Морбургером в 1910 году. Когда в 1898 году Гамсуну было отказано в государственной стипендии, только немецкий издатель Альберт Ланген и Германия поддержали писателя материально и создали условия для написания «Виктории».
Когда в 1914 году разразилась война между Германией и Англией, Гамсун первый раз открыто заявил о своей приверженности Германии. Он писал Лангену: «Все эти годы, все время — еще задолго до войны — я писал и говорил только дружелюбно о Германии, потому что я — германец!»
Гамсун обвинял Англию в бомбардировке беззащитной Александрии во время оккупации Египта. Он считал, что страх потери золотых месторождений и алмазных копей — единственная причина, из-за которой Англия отказывается отдать Трансвааль. Укором Британии звучало цитированное им стихотворение Киплинга о бурах, в котором английский поэт призывает «истребить их, этих животных».
К России же Гамсун всегда благоволил и считал, что «неестественный альянс между Англией и Россией скоро прекратит свое существование».
Гамсун противоречив. Как и многие другие писатели! Он занят поисками сильной личности — и находит ее в Германии, стране своего любимого Ницше. Кроме Ницше, Гамсун в качестве других литературных кумиров называл еще Стриндберга и Достоевского.
Если говорить об отношениях Гамсуна и нацизма, то и здесь много неясного и спорного.
Несмотря на нелюбовь к евреям, Гамсун спасает многих из них во время Второй мировой войны. Он неоднократно обращался к Тербовену, главе нацистского правительства в Норвегии, с протестом против создания концентрационных лагерей. Он единственный, кто, по словам пресс-секретаря Гитлера Дитриха, осмелился возражать самому фюреру.
Встреча Гитлера и Гамсуна состоялась 26 июня 1943 года. О ней много говорили и писали. Утверждали даже, что Гамсун сам хотел увидеться с фюрером и выступил инициатором своего визита в Берлин.
Однако в материалах следствия по делу Гамсуна сохранились протоколы допросов, на которых писатель говорил: «Я был страшно измучен… и в Вене надеялся на отдых. Но неожиданно в отеле я получил сообщение, что со мной хочет встретиться Гитлер и что он послал за мной свой личный самолет. Я кричал. Я просил послать вместо меня Харриса Ола, потому что сам я был совершенно без сил. Но мне ответили, что хотят видеть именно меня… Я должен был ехать… Рисхолд получил от немцев приказ привезти именно меня. Никто иной не мог меня заменить».
Подчеркнем еще раз, что отношения Гамсуна с нацистами вообще не так просты, как кажется на первый взгляд. Он никогда не подавал личного заявления о принятии в партию, но никогда и не скрывал своего сочувствия и поддержки сторонников Квислинга и Тербовена.
14 октября 1942 года в статье «Почему я стал членом Национал-социалистической партии» Гамсун пишет: «Благодаря своему здоровому крестьянскому сознанию и способности избирать верный путь, а также интуиции, я стал человеком Квислинга. И я являюсь им вот уже много лет».
15 января 1942 года он заполняет анкету, присланную местным отделением нацистской партии в Арендале, и на вопрос о членстве отвечает следующим образом: «Я не подавал заявления официального о вступлении в партию, но я всегда считал себя человеком Квислинга».
Гамсун полагал непозволительным для истинного художника показывать неуверенность и сомнения. Он ощущал в неуверенности что-то позорное. В «Мистериях» Гамсун пишет, что великий писатель «не может колебаться и сомневаться». Утверждение это, несомненно, связано с поисками великой личности, стремлением самому быть непогрешимым.
Любовь к Достоевскому тоже отчасти объясняется тем, что Достоевский, по мнению Гамсуна, был достаточно силен и независим, и колебания были ему несвойственны. Гамсун утверждал, что Достоевский являлся великой и сильной личностью, что он с самого начала знал о своей гениальности.
«Вообразивший себя гением Достоевский, — писал Гамсун, — работал над своим развитием и ушел так далеко, что до сих пор никто его не догнал. Кто знает, написал бы Достоевский свои великие произведения, если б не вообразил себя гением? А так у нас есть двенадцать томов его произведений, и никакие другие двенадцать томов никогда с ними не сравнятся. И даже другие двадцать четыре тома. Взять, к примеру, его маленький рассказ „Кроткая“. Совсем небольшая книжечка. Но это великая книга, недостижимо великая.
Забавно, однако, сказал Белинский, думаю я: Достоевский не уйдет далеко, если он уже сейчас вообразил себя гением вместо того, чтобы работать над своим развитием. Ведь Белинский хорошо знал расхожие представления Западной Европы того времени. Столько-то фунтов английского ростбифа в неделю, столько-то книг, столько-то „культурных импульсов“ — это и есть развитие гения. Да, Достоевскому следовало бы кое-чему научиться, и прежде всего скромности, которая в глазах всех заурядных личностей является добродетелью».
…Итак, полюбив однажды Германию и возненавидев Англию, Гамсун остался навсегда верен этой любви и этой ненависти.
Исходя из этого, его можно считать фашистом и расистом. Он смертельно боялся коммунистов, мечтал о Великой германской империи на территории всей Европы. Можно говорить, что это чувства и желания потерявшего рассудок глухого старика. Но до последних своих дней Гамсун сохранял удивительную ясность ума, чему наилучшим доказательством служит написанная им в 1949 году в возрасте 90 лет книга «По заросшим тропинкам», которую критики назовут «по-прежнему живой, ёмкой и яркой».
Приверженность (или сочувствие?) идеям фашизма всегда компрометировала и всегда будет компрометировать Гамсуна — и как человека, и как писателя.
И об этом не надо забывать.
Но это не повод осуждать его творчество, с упорством маньяка мечтая о забвении его чудесных и поэтичных книг.
Гамсун писал, отвечая на вопросы профессора Лангфельдта, проводившего его обследование: «Я никогда не анализировал себя и свою душу, зато в книгах создал несколько сотен разнообразных типов характеров — и каждый был мною, вырос из моей души, со всеми достоинствами и недостатками, как любой выдуманный персонаж.
…Не думаю, что в моих произведениях есть хоть один цельный персонаж, которого не раздирают противоречия. Они все без „характера“, их всех мучают сомнения, они не плохие и не хорошие, они такие, какие есть, со всеми своими нюансами, своим меняющимся сознанием и часто непредсказуемыми поступками.
Вне всякого сомнения, и я таков.
Вполне возможно, что я агрессивен, что во мне есть понемногу всех тех качеств, которые называет профессор, — ранимости, подозрительности, эгоизма, доброты, ревности, прямоты, логичности, чувствительности, холодности натуры… но все эти качества присущи любому человеку. И я не могу решить, какое их них преобладает в моем характере.
То, что я смог сделать, объясняется Даром Божьим, благодаря которому я смог писать книги. Но его-то как раз я анализировать и не могу».
Брандес назвал этот дар «Божественным безумием».
Гамсун один из самых великих писателей последнего столетия, оказавших влияние практически на всех известных современных европейских писателей.
Лучшее, что могут сделать почитатели гения Гамсуна, — это постараться понять его и ход его мыслей. Это необыкновенно трудно, но возможно.
И, читая книги Гамсуна и книги о нем, давайте будем помнить: «Не судите, да не судимы будете».
Глава первая ДЕТСТВО И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ
«Дом моего детства был беден, но бесконечно мил и дорог мне. Я плакал от радости и благодарил Господа Бога, когда мне удавалось вернуться к родителям от своего дяди — Ханса Ульсена, брата матери, который морил меня голодом и всячески притеснял. Возвращаясь домой, я просился пойти пасти овец. На выгоне я ложился на траву, разговаривал сам с собой, играл на рожке, писал стишки на клочке бумаги — как и все деревенские мальчишки. Я ничем особым не выделялся среди сверстников, быть может, был более норовистым и взрывным. В нашей семье дети бесконечно уважали отца, но еще больше любили мать — добрую и терпеливую с нами. Она сберегла все мои детские вирши и отдала мне их, когда я уже вырос. У нее был мягкий и проникновенный голос, но все-таки общались мы больше с отцом — да и научил нас всему он…
Мой же дядя причинил мне большой вред, он совершенно не знал, как обращаться с детьми, хотя он и сделал для моей семьи много хорошего».
Так вспоминал восьмидесятилетний Гамсун свое детство.
Родился он 4 августа 1859 года в семье Педера (Пера) и Торы Педерсен.
Многие поколения Педерсенов были ремесленниками, не изменил традиции и Педер. Он стал хорошим портным — хорошим настолько, что его часто приглашали «на выезд». Однако большая семья — жена, тесть, шурин, дети Петер, Уле, Ханс, Кнут, Мария, Турвальд и София — требовала больших расходов. Педеру приходилось кормить много ртов, и жила его семья более чем скромно.
Жену свою Тору Гармутреет Педер Педерсен встретил во время «командировок» по стране, когда по приглашению заехал на хутор ее отца, находившийся на озере Вога.
Дед Гамсуна по материнской линии — Уле Треет Гаммельтрейн[2] — величественный и мудрый старик — был настоящим хранителем крестьянских традиций. Он не только умел прибить доску, но и прекрасно лечил животных. Все в усадьбе делалось его руками. И трудолюбивый Педер пришелся по душе будущему тестю. На хуторе Гармутреет он быстро стал своим.
Обвенчались Педер и Тора 14 октября 1852 года. К этому времени они уже были родителями семимесячного Петера. Педеру Педерсену было 27 лет, а его жене — 22 года.
Сначала молодая семья жила на хуторе Гаммельтрейна, и Педер помогал тестю в ведении хозяйства. Однако норвежское сельское хозяйство в те времена не давало особой прибыли, и вскоре семейство разорилось. Интересно, что впоследствии сын Гамсуна Туре[3] вспоминал, что разориться его деду помог кофе — «благословенный и очень дорогой напиток»! «Но моя бабушка только в нем черпала поддержку и утешение, — писал Туре Гамсун, — он был для нее лекарством от всех болезней, начиная от зубной боли или порезанного пальца и кончая самыми разнообразными огорчениями».
Для Педерсенов и Гармутреетов это разорение было не просто тяжелым ударом, а настоящей трагедией, ведь усадьба в Боге принадлежала семье на протяжении нескольких веков, да и сам род Торы был одним из самых старейших и почтеннейших в долине Гюбдрансдален, корни его уходили на глубину девяти веков. Но делать было нечего — и семья приняла решение переехать из одного из красивейших уголков Норвегии на север, к старшему брату Торы Хансу, который еще до замужества сестры смог там «закрепиться».
Ханс Ульсен Гармутреет, который сыграл заметную и, вероятно, роковую роль в жизни Кнута, родился в 1827 году. Он был очень трудолюбивым и целеустремленным, в отличие от своего брата Велтрейна,[4] который предпочитал веселиться, рассказывать разные невероятные истории и был не прочь пропустить рюмочку-другую. После переезда на север — в Нурланн — Ханс весьма успешно вел дела в Хамарёй на пасторском хуторе Престейде, держал лавку, покупая и продавая разные товары, был почтмейстером и занимался районной библиотекой — закупал книги и выдавал их на руки. Дела его шли так хорошо, что вскоре после переезда ему удалось прикупить собственный хутор — Гамсунд. Но работать в усадьбе было некому — и Ханс решил пригласить в качестве бесплатных работников своих родственников.
Прежде чем решиться на ответственный шаг, Педер съездил, посмотрел на дом — и семья перебралась туда в полном составе.
Сначала жизнь на новом месте, если не для взрослых, то для малышей, была похожа на сказку. В очерке из раннего детства «Среди животных» Гамсун описывает настоящий рай для детей на лоне природы. Однажды Кнут с братом повстречали в лесу олененка, который сам пошел за ними в усадьбу и остался там жить. Но идиллическая жизнь в усадьбе была наполнена не только играми и развлечениями. Дети заботились о домашних животных, как это положено в крестьянских хозяйствах, — и именно на них лежала обязанность избавляться от старых и больных любимцев, дабы не длить их мучений. Почти не меняя тона, все в том же очерке Гамсун рассказывает, как мать попросила его избавиться от старой и больной кошки — и он повесил ее. Что ж, такова была жизнь на хуторе, и смерть составляла ее неотъемлемую часть…
Ощущение счастья в детстве было во многом связано у Гамсуна с Велтрейном, его любимым дядей, который переехал на север вместе с отцом и семьей сестры. Своих же собственных детей и жену он оставил в Гюдбрансдалене.
Два дяди — два мира.
Один — Велтрейн — весельчак и балагур, бродяга и чудесный рассказчик, мечтатель и пьяница, разбудил в душе Кнута жажду творчества. Сам Гамсун вспоминал, что в счастливые минуты узнавал в себе Велтрейна, слышал, как произносит его словечки, а став писателем, совершил то, к чему дядя так и не смог приблизиться.
Другой — Ханс Ульсен — угрюмый и больной, расчетливый и раздражительный. Он был замкнут и подозрителен даже с теми, кто желал ему добра.
Исследователи творчества Гамсуна не раз указывали на то, что все радостные страницы его книг так или иначе связаны с Велтрейном, а все мрачные и трагичные — с Хансом Ульсеном. Сам же писатель признавался, что причиной «неврастении», мучившей его всю жизнь, стали тяжелые годы, проведенные у дяди.
Ханс Ульсен страдал paralysis agitans. Ему было трудно двигаться, у него дрожали руки, и большую часть времени он был вынужден проводить в заточении у себя дома. Естественно, что приключившаяся с ним беда не способствовала улучшению характера. Но мириться с бессилием и невозможностью заниматься делами Ханс не собирался — и довольно быстро придумал выход из, казалось бы, безвыходного положения. Поскольку родичи были ему должны, он решил долг «обменять» на их сына Кнута, который к тому времени уже научился читать и писать. Тора не раз с радостью рассказывала брату, что мальчик — самый смышленый из младших детей, да и пишет он быстро, и еще у него такой красивый почерк… Все это очень устраивало Ханса. А потому, придя к родственникам в гости, он буквально потребовал отдать ему на время Кнута — чтобы мальчик стал выполнять кое-какие его поручения, пас скот, писал деловые письма и читал вслух по вечерам.
Тора плакала и молила брата не отнимать у нее ребенка, а Педер обещал отдать долг. Вот только отдавать его было нечем — всё, что было у семьи Педерсенов, принадлежало Хансу, и все прекрасно это понимали. И в конце концов после долгих раздумий в полном отчаянии родители приняли решение отправить Кнута к дяде — как они говорили, «на пробу». Однако задержаться в доме Ханса мальчику пришлось на пять лет.
* * *
Гамсуну действительно было нелегко. Он перебрался в дом дяди, когда тому исполнилось всего сорок два года, но болезнь превратила его в дряхлого полупарализованного старика. Эгоистичному и жесткому, ему даже в голову не приходило, что в дом пришел не взрослый человек, а маленький девятилетний мальчик, которому не по силам работать с утра до вечера. Ханс и помыслить не мог, что ребенок хочет играть, что для него это, собственно, и есть главная форма работы и познания жизни. О таких глупостях мальчик не мог и заикнуться.
Кнут должен был стать опорой больного — в прямом и переносном смысле этого слова. Он должен был не только выполнять работу по дому и различные деловые поручения, разносить письма и газеты, читать и писать то, что требовал дядя, но еще и ухаживать за ним, помогать передвигаться. Быть может, если бы Ханс был с ребенком добр и приветлив, тот и ответил бы ему взаимной любовью, но ничего хорошего, кроме тычков и оплеух, Кнут от дяди не видел.
Когда мальчик делал необходимые записи в книге почтовых расходов и учета корреспонденции, Ханс всегда сидел рядом, зажав в руке линейку — и стоило Кнуту ошибиться, как линейка со свистом опускалась ему на костяшки пальцев, рассекая кожу до крови. Однажды Ханс ударил мальчика своим «педагогическим» инструментом по голове, да с такой силой, что линейка разлетелась на части. И с тех пор перешел на тычки костылем.
Работать приходилось с утра до вечера — и никто никогда не хвалил ребенка, а потому нет ничего удивительного в том, что вскоре Кнут возненавидел своего мучителя. Чувство это было столь сильно, что, даже глубоким стариком, Гамсун постоянно вспоминал, как за все пять лет, проведенных в доме дяди, так ни разу и не лег в постель сытым.
Воспоминания о том ужасном периоде жизни легли в основу его рассказа «Привидение», написанного в 1898 году, — через год после смерти Ханса Ульсена.
«Пасторская усадьба была построена на берегу фьорда в необычайно красивом месте, совсем рядом с домом днем и ночью грохотала Глимма, приливное течение.
…Церковь и погост были расположены неподалеку, на холме. Вокруг деревянной церкви в беспорядке располагались могилы, на плитах которых никто не клал цветов, зато у каменной ограды на тучной кладбищенской земле выросли настоящие заросли малины с крупными сладкими ягодами. Я знал каждую могилу… и часто разговаривал с могильщиком.
…Я часто находил на погосте кости и пряди волос, которые всегда старательно предавал земле, как и учил меня могильщик.
…Но однажды я нашел на кладбище зуб».
Этот зуб принес мальчику много несчастий — за ним пришел хозяин-мертвец и постучал ночью в окно. Кнут страшно испугался, но понял, что зуб надо закопать в кладбищенскую землю. Он так и сделал, но мертвец не успокоился — и приходил вновь и вновь.
Рассказ этот очень важен для понимания не только творчества Гамсуна, но и его внутреннего мира. Издевательства дяди нанесли психике мальчика такой вред, что он не только стал видеть галлюцинации, но и на всю жизнь сохранил удивительную веру в потусторонние силы.
Надо сказать, что Кнут предпринимал не одну попытку освободиться от дяди и его «опеки». Однажды он сбежал от Ханса и его чудом нашли почти замерзшего в поле у соседнего хутора. В другой раз он нанес себе увечье только для того, чтобы попасть домой и побыть хоть немного с родными. Мальчик поранил себе ногу тяжелым топором, когда рубил дрова во дворе. Но сделал он это так, что все выглядело как несчастный случай. Ногу-то он себе покалечил, а вот домой его не отправили. Несколько дней мальчик пролежал в постели в доме мучителя. Его навестила мать, и по ее заплаканным глазам Кнут увидел, что она все поняла — но сделать все равно ничего не могла.
Однако случались в детстве Гамсуна и светлые минуты. Впервые в жизни он получил доступ к книгам. В бедном доме его отца были только газеты, на которые подписывалась семья, и книга псалмов, а вот в доме Ханса Ульсена располагалась настоящая библиотека. В ней нашлись и сказки братьев Гримм, и крестьянские новеллы Бьёрнстьерне Бьёрнсона, и книги многих других норвежских писателей. Были в ней и книги по истории, географии, физике, химии. В «гамсуноведении» считается совершенно доказанным, что отрицательное отношение Гамсуна к Англии, сыгравшее в его судьбе громадную роль, сложилось в детстве — и во многом благодаря книгам по истории, которые имелись в библиотеке Ханса Ульсена.
На мальчика произвели сильнейшее впечатление два факта, вычитанных им в то время. Первый — дело о мошенничестве одной английской экспортной фирмы в 1818 году в норвежском городе Будё. Когда мошенничество было обнаружено, норвежские власти применили силу и заставили англичан уехать, оставив свои товары в Будё. Однако, вернувшись домой, коммерсанты обратились к властям Швеции, в унии с которой находилась в то время Норвегия, с требованием возместить понесенные убытки. В результате длительных переговоров на государственном уровне, в 1821 году английской фирме была выплачена большая компенсация за «понесенные потери». А еще через двенадцать лет, в 1833 году выяснилось, что предоставленные британцами документы были фальсифицированы. Однако дело пересматривать не стали.
Вторым ужаснувшим мальчика фактом стал обстрел Англией Копенгагена в течение 72 часов во время наполеоновских войн.
Как известно, детские впечатления могут стать самыми сильными и сохраниться на долгие годы. Так произошло и с отношением Гамсуна к Англии, которую он ненавидел всю жизнь.
Но вернемся к тем немногим радостям, которые случались у Кнута в детстве.
Разнося почту, он иногда заглядывал домой. А еще у него были на других хуторах товарищи, с которыми он мог немного поиграть или просто поговорить. Но вскоре о таких «развлечениях» прознал Ханс — и начались порки еще хуже прежних. Силы были еще не равны — и мальчик по-прежнему оставался во власти дяди, который даже учиться разрешал ему урывками.
В приходскую школу Гамсун пошел, когда переехал к дяде. В те времена в Норвегии существовали специальные «передвижные» школы, которые переезжали из района в район. В такой школе дети обязаны были набрать 60 «школодней» в течение года. Однако из-за работ по хозяйству сделать это Кнуту практически никогда не удавалось. Так, в первый год обучения он смог прийти на занятия всего лишь 11 раз. Следующие два года ему удавалось более или менее «поспевать» за сверстниками, а вот последний год окончить не пришлось. В 1872 году, когда Кнуту исполнилось 13 лет, он продолжил занятия, как мы бы сейчас сказали, в средней школе, и 1 мая 1874 года получил аттестат об ее окончании со следующими отметками: Закон Божий — 2, Катехизис — 2, Чтение — 2, Пение — 3, Чистописание — 1,5, Математика — 2, Поведение — 2. Самой лучшей (высшей) была оценка за чистописание. По иронии судьбы, именно красивый почерк заставил дядю обратить на Кнута внимание и вытребовать его себе в качестве писца, и именно им (почерком) Гамсун гордился до конца жизни.
* * *
Но даже мучениям когда-нибудь приходит конец. Мальчик повзрослел и превратился в подростка, а Ханс Ульсен постарел, здоровье его совсем пошатнулось, и он, как многие тяжело больные люди, обратился к религии.
В те годы по Нурланну прокатилась волна так называемого «религиозного пробуждения», которое возглавил священник Ларс Офтедал из Ставангера. О самом Офтедале, бородатом богатыре, говорили, что его веселый нрав не очень-то радует Господа Бога, ведь многие сестры во Христе после его благословения подозрительно быстро оказывались в «интересном» положении. Но до северных районов страны слухи о разгульных выходках миссионера не доходили, и Ханс Ульсен стал настоящим фанатиком нового религиозного движения. Чуть ли не силой заставлял он взрослых и детей преклонять колена и свидетельствовать о Христе. Естественно, что насильственного воспитания в угодном Богу духе не избежал и Кнут.
В своей статье 1889 года Кнут рассказал об отвращении, которое испытывал к пастору Офтедалу и его приспешникам, тем самым рассчитавшись с людьми, изувечившими его детство.
Друг детства Кнута Георг Ульсен вспоминал, что с самых юных лет в Гамсуне чувствовалась сила воли и большое мужество. Он никогда, несмотря на все притеснения, не выглядел сломленным или забитым ребенком. Он всегда мечтал победить — конечно, морально — своего мучителя.
С каждым годом дядя становился все слабее, а племянник все сильнее. Теперь Ханс так зависел от подростка, что даже есть без него не мог — Кнут кормил его с ложечки. Но Ульсен обладал поистине дьявольским хитроумием и испытывал невероятное желание удержать возле себя племянника как можно дольше. Прекрасно понимая, что бить подростка он теперь не может, Ханс принялся запугивать его страшилками в духе Офтедала о смертных грехах и воздаянии на том свете.
Но даже угрозы адских мучений не смогли сломить волю мальчика, хотя и ужасно действовали на его богатое воображение, заставляя пережить поистине страшные мгновения, — и вскоре Кнут сбежал домой. Ханс был уже не в состоянии требовать, чтобы Кнут постоянно жил в его усадьбе.
Мучения в доме Ульсена сказались не только на психике Кнута, но и на душевном здоровье его матери. У нее началось тяжелое нервное заболевание. Вот как об этом времени пишет ее внук, Туре Гамсун: «Кнут понимал, что родителей гложет какая-то тревога. Особенно часто грустной бывала его мать. Как обычно, она быстро делала всю работу по дому и по-прежнему заботилась о детях. Но у нее часто случались странные приступы, когда она убегала в поле, в лес или в горы и там кричала во весь голос без слов. Это могло длиться часами. Тихая покладистая жена Педера Портного бродила в одиночестве по округе и буквально выла. Никто не мог понять, что с ней такое приключилось, да и сама она не могла объяснить своих поступков. Однако после таких приступов ей как будто становилось легче. Подобное случалось с ней и раньше, но не так часто… А вот после того, как семья попала в кабалу к Хансу Ульсену и Кнут уехал из дома, мать все чаще и чаще стала убегать в лес, повергая родных в настоящий ужас.
Только отец Торы и Ханса, старый Гаммельтрейн, знал, как помочь дочери.
Однажды он уехал куда-то вместе с Педером и Торой. Они направились в пасторскую усадьбу… к Хансу… О чем они с ним там толковали, так и осталось тайной, но вернулись они домой в Гамсунд счастливыми… Когда Кнута позвали в дом… мать, вся в слезах, обняла его и с радостью сказала, что он останется дома до Рождества, а там видно будет… Во всяком случае, жить он теперь всегда будет дома, а не у дяди».
То Рождество было одним из самых счастливых в детстве Кнута. Мария Гамсун, жена писателя, пишет в своей книге «Под золотым дождем»: «Он сам рассказывал мне о Рождестве на его хуторе, Гамсунде. У них не было рождественской елки, но в подсвечнике горели три свечи. И все наедались досыта во славу Божию. Портной Пер задвигал тяжелую швейную машинку в угол и накрывал ее покрывалом. А все большие и маленькие кусочки ткани аккуратно сворачивались, закалывались крупной латунной булавкой и складывались в выдвижной ящик стола, на сам же стол ставилось праздничное угощение. А Кнуту, тогда еще мальчику, разрешалось оставить службу у дяди и вернуться домой, чтобы встретить Рождество вместе с родителями и другими детьми.
Когда же Кнут рассказывал мне о посещении церкви в рождественское утро, о богослужении в храме Хамарёй, то мне чудилось в этом что-то библейское, что напоминало о Евангельском повествовании о Рождестве Христове.
По всем дорогам, при свете звезд, северного сияния, в снегопад стар и млад шли в церковь.
В красках, как на старинных гобеленах, слегка поблекших, но все же различимых, рисовал Кнут празднично убранный храм, с желтыми свечами в подсвечниках, — там были сотни свечей, как представлял себе мальчик. Набожные прихожане принарядились к Рождеству: мужчины одеты в несколько курток сразу — чем больше курток, тем выше благосостояние, уважение; а саамы — в таких ярких цветах, какие только можно изобрести в долгую и темную нурланнскую зиму. И пастор, во всем своем великолепии, и пение псалмов…»[5]
Да, Кнуту удалось освободиться от дяди — но не от душевных ран, которые тот ему нанес. Мария Гамсун вспоминала: «Конечно же он мог быть упрямым. Это было частью его обороны. В девятилетнем возрасте его послали работать у очень строгого дяди, брата матери, которому задолжали родители Кнута. Там он провел пять долгих, тяжелых лет. Сначала у дяди, а потом в годы мятежной юности Кнут использовал все свои качества, в том числе и упрямство, и это помогло ему выжить.
Сам он иногда говорил: „Кем бы я, спрашивается, мог стать, если бы в детстве и юности я получал достаточно еды“.
Он намекал на нервы. А я при этом думала: „Разве только нервы являются твоей тайной как писателя?“»[6]
Как бы то ни было, но вполне возможно, что почти агрессивное отрицание авторитетов, которым Гамсун отличался всю свою жизнь, являлось подсознательной реакцией даже на самую призрачную попытку навязать ему чужую волю. И уж точно не случайно, что практически все старики в его романах выглядят отталкивающе. Лишь со временем писатель научился относиться к «теме стариков» с некоторым юмором и иронией, которая, однако, перерастает в настоящую истерическую манеру письма, как это случилось, например, с описаниями Монса и Фредрика Менсов в романах «Бенони» и «Роза».
Глава вторая БРОДЯГА
Кнуту уже четырнадцать. Он взрослый парень, тяжелые годы у дяди остались позади. Он окончил школу и живет теперь не в пасторской усадьбе, а дома в Гамсунде.
Там многое изменилось. Братья разъехались по стране, а старший, Петер, так и вовсе уплыл в Америку. Пусто стало дома, там более что нет там и Велтрейна. Он умер от нервной горячки в 1869 году. Но рассказы его, рассказы бродяги и мечтателя, живут в душе Кнута.
Юноша мечтает отправиться в Гюдбрандсдален, в котором родились его родители, мечтает пожить свободной жизнью, мечтает забыть о годах мучений… И просит родителей отпустить его в Лом. В этот период в нем впервые проявляется тяга к странствиям — «охота к перемене мест» — он не может долго жить в одном городе, в одном доме, и это состояние останется в нем на всю жизнь. Он пишет письмо своему крестному — торговцу Турстейну Хестехагену и просит принять его к себе на работу. Турстейн отвечает, что будет рад видеть крестника, и даже высылает ему денег на дорогу. В этом же письме торговец уверяет, что если Кнуту не понравится у него, то он сможет в любое время уехать домой.
Ну что ж, дело сделано: разрешение родителей получено, приглашение от крестного есть, да и деньги в кармане у Кнута завелись чуть ли не первый раз в жизни. И осенью 1873 года он уезжает из Престейда на пароходе.
* * *
В Ломе его встретили хорошо. Жить Кнут стал в доме Турстейна, а работать в его лавке. В свободное время юноша готовился к конфирмации.[7]
Высокий и сильный, он всегда был готов выступить в роли вожака молодежи, а потом принять на себя ответственность за совершенное. Кнут был заводилой в играх, всегда мог придумать что-нибудь смешное, но он никогда не пользовался своим преимуществом для победы над слабым. Однажды во время игры в чехарду он нечаянно сбил с ног девочку. Она ушиблась и заплакала. Кнут помог ей встать, отряхнул платье и в качестве утешения протянул блестящую монетку.
Его не могли не любить сверстники — ведь он всегда старался защитить их.
«Конфирманты из главного прихода, — пишет Туре Гамсун, — считали себя достойнее и „выше“ тех, кто жил в маленьком Вордалене, к которому принадлежал и Кнут. На каждом занятии у пастора подростки из Фоссебергома сидели на лучших местах на передней скамье. Так уж сложилось. Но Кнут изменил положение дел. Однажды, когда пастор еще не пришел, он подошел к ребятам из Фоссебергома и просто столкнул их со скамьи».
Нельзя сказать, чтобы Кнут отличался особым усердием на этих занятиях, но, даже не зная ответа на заданный вопрос, он всегда мог выступить, чтобы заслужить похвалу. Пастор оказался умным человеком и даже в буйно ведущем себя подростке смог разглядеть талантливого человека. Он неоднократно говорил его крестному, что из Кнута выйдет толк.
А вот сам Турстейн Хестехаген ничего особенного в хулиганствующем недоросле не замечал — и даже приказал стереть с дверных наличников в лавке написанные там Кнутом стихи. Но надо быть справедливым: так сделали бы большинство родителей и крестных, посчитав писание на стенах за простую шалость.
После конфирмации 4 октября 1874 года Гамсун недолго прожил в Ломе. Новообретенная свобода горячила кровь — и случилось то, что должно было случиться: он поссорился с пытавшимся контролировать его крестным и решил уехать домой в Хамарёй. Но Турстейн был против — и тогда Кнуту пришлось проявить характер. Он достал письмо годичной давности, в котором Хестехаген обещал отпустить мальчика, если тому что-нибудь не понравится, показал его крестному — и в результате получил свободу да еще и денег в придачу на обратную дорогу.
* * *
Дома юноша тоже не задержался и вскоре устроился на работу в нескольких километрах от Гамсунда младшим приказчиком у Валсё — местного богача и настоящего властелина округи. Получить работу в его магазине в Транёйе было большой удачей для пятнадцатилетнего подростка. Это означало и новое положение в местном обществе.
Правда, младший приказчик — не самый уважаемый человек в лавке, но тем не менее именно он, а не покупатели, принадлежит к империи Валсё. Кнут заважничал, стал носить шляпу набекрень, а по жилетке в карман спускалась цепочка от часов. Вот только самих часов в жилетном карманчике не было — на них не хватало денег. Все прекрасно об этом знали и частенько спрашивали юношу, который час. Кнут лишь смеялся в ответ и показывал цепочку без часов, говоря, что всему свое время: будут деньги — будут и часы.
Позднее Гамсун, всегда отличавшийся прекрасным чувством юмора и самоиронии (когда ему самому того хотелось), использует опыт работы в Транёйе в своем романе «Городок Сегельфосс». Он с улыбкой опишет молодого лавочника Теодора, который утром «надевает кольца и вступает в свое царство — свою лавку. Покупатели, толпящиеся в помещении и мешающие ему пройти, расступаются перед ним, он откидывает доску, проходит за прилавок и опускает доску на место. Теперь он тут главный. В подчинении у него — два приказчика, а ящики и полки полны разных товаров, какие только может пожелать человек».
Работа принесла Кнуту не только минуты гордости, но и минуты счастья и разочарования. Впервые в жизни он серьезно влюбился — да не в кого-нибудь, а в младшую дочь торговца Валсё Лауру. Ничего хорошего из этой любви получиться не могло — слишком уж велика была разница в социальном положении, да и слишком молоды были влюбленные. Лаура ответила Гамсуну взаимностью, что не могло ускользнуть от внимательного взгляда ее отца, — и младший приказчик был буквально вышвырнут на улицу. Правда, сам писатель утверждал, что он потерял работу из-за банкротства Валсё. Последнее действительно случилось, вот только уехать Кнуту пришлось задолго до разорения «магната».
История трагической любви нашла развитие практически во всех ранних произведениях Гамсуна — и в его рассказах, и в романе «Бьёргер». Речь в этих первых опытах идет о чувствах, связавших бедного крестьянского юношу и девушку из богатой семьи.
После разорения отца Лаура, как считалось долгое время, вышла замуж за телеграфиста. Об этом писал и сам Гамсун. Однако недавно выяснилось, что Лаура умерла молодой и была похоронена на церковном кладбище в Транёйе, а за телеграфиста вышла ее сестра.
О смерти своей возлюбленной Гамсун мог не знать потому, что в это время колесил по стране.
* * *
О последующих двух годах его жизни (с 16 до 18 лет) сведения крайне скупы.
Известно, что он работал коробейником, а попросту был настоящим перекати-полем — бродягой. К такой жизни его склонил друг из Лома Уле Трюккет, который однажды забрел в Хамарёй с полным коробом товаров. Поскольку у Кнута на тот момент водились деньги, которые он заработал у Валсё, а беспокойство было у него в крови, да и рассказы дяди Велтрейна все еще будоражили воображение, сманить его оказалось совсем не трудно. Достоверно известно, что приятели решили вместе отправиться в северный город Будё, закупить там товаров, а затем разойтись в разные стороны — один должен был, почти как в сказке, отправиться на юг, а другой — на север, а затем они договорились встретиться и честно поделить заработанное.
Кнут вовсю наслаждался жизнью. Туре Гамсун, основываясь на воспоминаниях отца, пишет об этом периоде следующее: «Кнут путешествовал по округе. Пожалуй, самое большое впечатление произвела на него ярмарка в Стокмаркнесе, куда приезжали купцы даже из Трондхейма. Были здесь и фокусники, и различные аттракционы, евреи-часовщики и шарманщики… Жизнь на ярмарке была бурной. Здесь Кнут купил первые в своей жизни часы, которые всегда были с ним — вплоть до того момента, когда их пришлось продать в Кристиании.[8]
Кнут и Уле Трюккет тоже приняли участие в ярмарке. Они накупили товаров, истратив на них все свои деньги, и открыли палатку. Покупателям предлагалось буквально все — от булавок до шерстяных свитеров и роб для моряков. Молодые люди научились правильно торговать: сначала назначали высокую цену, а затем снижали ее, поэтому торговля шла бойко. Из Стокмаркнеса Кнут впервые смог послать домой деньги и подарки родным в Гамсунд.
Кнут торговал, разъезжая по стране, два года».
Так утверждает сын писателя, однако в отчете, написанном по просьбе психиатров Лагфельдта и Эдегора, сам Гамсун по-иному оценивает этот период своей жизни. В частности он говорит, что торговал не более двух месяцев, а дела его при этом шли столь плохо, что он с трудом мог содержать себя.
Как бы то ни было, но опыт коробейничества тоже оказался не лишним в творческом багаже Гамсуна и впоследствии нашел свое отражение в трилогии об Августе, где необыкновенно ярко, образно, со знанием дела и мельчайшими подробностями рассказывается о жизни бродяги.
Странствия по стране закончились в 1875 году, когда родители уговорили Кнута поступить на «учебу» к своему родственнику — сапожнику Бьёрнсону — в Будё.
Надо сказать, что юноша и сам понимал, что ему надо покончить с жизнью бродячего торговца. Оставаться коробейником до конца своих дней ему вовсе не хотелось. Однако и становиться сапожником Кнуту тоже было не по душе, тем более что учиться на сапожника требовалось пять с половиной лет — в компании с другими двенадцатью подмастерьями, и все это время приходилось подчиняться воле Бьёрнсона. А вот подчиняться кому бы то ни было Гамсун не собирался: слишком сильны были его воспоминания о Хансе Ульсене, который, однако, помог Кнуту устроиться на учебу, снабдив всё в том же 1875 году письмом-рекомендацией, где говорилось, что Кнут исполнителен, ловок, честен и сообразителен. Эти же качества Гамсуна отмечал впоследствии и сапожник Бьёрнсон.
Надо сказать, что склонность к рукоделию — работе руками — у Гамсуна была всегда, и он всю свою жизнь любил не только что-нибудь мастерить, но и даже делать эскизы и чертежи собственных домов. Руки у него были умелые, а пальцы действительно ловкие. Так что за четыре месяца в сапожной мастерской Кнут научился хорошо шить и чинить обувь.
Делай то, что хочешь сам! Пожалуй, именно таков был лозунг Кнута уже в юности. Не хочешь быть сапожником — смени работу. И Гамсун становится грузчиком на пристани, а затем — приказчиком в лавке.
* * *
Кнут никак не мог найти себе места в жизни — но при этом умудрился написать и издать первое свое произведение — повесть «Загадочный человек. Любовная история, случившаяся в Нурланне» (1877).
Повесть правильнее было бы назвать не любовной историей, а сказкой, поскольку действие в ней развивалось в соответствии с законами именно этого жанра. Речь в ней идет о страстной любви двух молодых людей — Рольфа Андерсона, бедного юноши, старательно скрывающего свое прошлое, и дочери богатого землевладельца Рённауг Ое. После многих испытаний, выпавших на долю Рольфа, он, наконец, обретает счастье и женится на возлюбленной, поскольку оказывается, что он вовсе не Рольф Андерсен, а Кнут Суннефьельд, единственный сын богатого торговца, который хоть и разорился, но все-таки смог оставить сыну кругленькую сумму денег.
Повесть эта не имеет никакого литературного значения, однако интересна тем, что в ней высказаны взгляды восемнадцатилетнего писателя. Совершенно очевидно, что молодой Гамсун своим идеалом и героем считал не крестьянина, как это будет в его поздних вещах, а хорошо образованного горожанина или крупного торговца в красивом и модном костюме.
Крестьянский труд в то время не привлекал Кнута, но и одна-единственная сентиментальная повесть прокормить его тоже не могла, тем более что продавалась она очень плохо, а вскоре и вовсе была разослана издателем в качестве «бонуса» в красивой упаковке постоянным клиентам.
* * *
Гамсуну надо было искать какую-то перспективную работу — и тут от отца приходит письмо, в котором он предлагает своему пока еще непутевому сыну-недоучке отправиться к ленсману[9] Нурдалу в Бё на Лофотенских островах.
Кнут принимает помощь отца и отправляется на Лофотены. Семья Нурдалов принимает его очень хорошо.
В доме у ленсмана много книг, которые Кнут может читать в свое удовольствие. Чтением и самообразованием Гамсун был одержим всю свою жизнь. Он всегда старался читать как можно больше, но никогда не стремился узнать о прочитанном мнение других. Всегда и во всем он полагался на собственное мнение и именно поэтому стал новатором в норвежской (и мировой) литературе. Но до «прорыва» пройдет еще много времени.
Пока же на Лофотенах Гамсун начитывает свой «минимум». Именно в это время он знакомится с творчеством знаменитого Бьёрнстьерне Бьёрнсона.[10] Его так называемые «крестьянские повести» («Сюннёве Сульбаккен», «Арне», «Веселый парень»), стилистически близкие устным преданиям и написанные истинно народным языком, произвели на юношу огромное впечатление. Он перестал искать развлечений, перестал ходить на танцы, перестал даже заигрывать с дочерью ленсмана юной Ингер. Но это вовсе не означало, что юноша скучал. Он вынашивал свое очередное творение, поскольку теперь уж точно знал, как и о чем надо писать.
И вскоре из-под его пера появляется «Бьёргер» (1879). Издать эту повесть Кнуту пришлось на свои собственные деньги, поскольку вышедшая незадолго до того поэма «Свидание», в которой довольно занудно рассказывалось о старом отшельнике с норвежских брегов, его вине пред Богом (он случайно убил в молодости возлюбленную) и искуплении этого греха, не принесла ее издателю не то что прибыли, а даже морального удовлетворения. Для литературоведов же «Свидание» имеет еще и «биографическое» значение, поскольку это первое произведение, подписанное именем Кнут Педерсен Гамсунд — с прибавлением к настоящему имени «Кнут Педерсен» названия родового гнезда — «Гамсунд».
Но с «Бьёргером» все было по-другому. Прежде всего, в этой книге, еще достаточно беспомощной с литературной точки зрения, уже видно, что писателя интересует не внешняя сторона событий, а человеческая душа. Недаром именно «Бьёргер» через несколько лет будет переработан в один из самых знаменитых романов Гамсуна «Виктория». В обоих романах любящие увлекаются силами, которые не в состоянии контролировать. Одна из этих сил — страстная любовь. Гамсун всю свою жизнь был во власти идеи о красивой и безнадежной любви. До последних дней он так и не избавился от мысли о том, что сильная любовь неизбежно оканчивается трагически.
Кроме того, именно в этой повести уже вполне определенно изложена точка зрения писателя на путь, которым должна следовать Норвегия. Как и Бьёрнсон, Гамсун считал, что жизнь норвежских крестьян веками остается исконной, неизменной, подлинной, «близкой той, что запечатлена в сагах». Эта жизнь, по его мнению, всегда должна оставаться образцом для всего норвежского народа.
Исследователи считают, что «Бьёргера» можно назвать ключом к творчеству Гамсуна, в нем уже есть все темы и мотивы, которые найдут свое развитие в позднейших произведениях писателя. Прежде всего это, конечно, экстатическая любовь к родной земле и природе, импульсивность и иррациональность его персонажей, особенно героинь (в первую очередь, Лауры). Появляется в «Бьёргере» и прототип так любимых Гамсуном чудаков и оригиналов — блаженный Тур, старший брат главного героя, скитающийся в горах и пишущий на клочках бумаги свои дневники.
«Этот образ носит и более глубокий экзистенциальный смысл, — пишет Э. Л. Панкратова, исследователь творчества Гамсуна и переводчик его произведений. — Ведь он как предшественник героя „Голода“ постоянно разговаривает и даже спорит со Всевышним: „Мне кажется, у меня есть право предъявить Всевышнему иск. Уж как я ни молился, не было у меня во рту ни крошки два дня и две ночи, а это уж куда как плохо. Здесь наверху не хватает также воды для питья, а это уже совсем некуда (на небольшом уступе на вершине Мюрру)“.
Пустопорожние разглагольствования нового местного учителя из „Бьёргера“ удивительным образом по своему духу абсурдизма и гротескности напоминают некоторые из речей Нагеля из „Мистерии“. Особенно замечательную в своем роде речь произнес учитель на деревенском празднике в ответ на совет одного из присутствующих стариков поучаствовать в общем веселии, выпив пива да сплясав пару халлингов:[11]
„Я мог бы ответить вам, по крайней мере, на пяти иностранных языках. Но, в сущности, это было бы то же самое. За такие слова вас следовало бы сослать куда-нибудь на Фарерские острова, которые, естественно, находятся в Европе, но не принадлежат Англии. Англия и Британское королевство, доложу я вам, совершенно очевидно означает одно и то же. Да, да, именно на Фарерские острова следовало бы тебя заслать, чтобы ты оставался там на веки вечные, вот так. Ведь пророк Иеремия говорит в одном из своих псалмов, то есть, вернее сказать, книг, что место тебе не на благословенной Богом зеленой земле, а на этих каменистых островах, которые лежат на той широте, что омывается со всех четырех сторон водами Атлантического океана, вот где ты мог бы оказаться…“
Эта черта раннего романа еще интересна и тем, что она сближает творчество Гамсуна с творчеством Чехова, персонажи которого также часто произносят абсурдные речи, смысл которых темен и непонятен окружающим либо изначально абсурден. С этим часто связано и присущее Чехову чувство юмора, причем в огромном диапазоне: от мягкой иронии до яркого гротеска.
Если говорить о сходстве в некоторых аспектах творчества Гамсуна и Чехова, то нельзя не заметить, как это сходство проявилось в одном из эпизодов „Бьёргера“, когда Лаура заходит в лавку своего отца, где за прилавком стоит Бьёргер:
„— Ну как, привозили ли нам сегодня чего-нибудь новенькое?
— Да, фрекен, прикажете показать?
Бьёргер поднялся и открыл стеклянный шкаф, где лежал товар.
— Вот, мы получили прекрасные перчатки на меху, расшитые пояса, фетровые сапожки, штиблеты, шелковые ленты. Извольте взглянуть.
Она взяла пару перчаток и направилась к двери, потом развернулась и снова подошла к прилавку.
— Я хочу подарить тебе это. — Она протянула ему черный шелковый шейный платок.
— Это мне?
— Да, тебе.
— Неужто мне в подарок?
— Да, возьми его, пожалуйста!
— Большое, большое спасибо!“
Весь этот жеманный диалог-разговор о покупках конечно же прежде всего связан с драматическим подтекстом личных взаимоотношений героев. Аналогичный диалог мы встречаем и в рассказе Чехова „Поленька“.
Ясное дело, ни о каком заимствовании не может быть и речи, налицо — типологическое сходство, когда, несмотря на разительные различия, сходны не просто жанровые сценки, а общая атмосфера, общее мироощущение и восприятие действительности».
* * *
После «Бьёргера» Гамсуна все стали называть писателем. Именно так его и представили пастору Августу Вееносу, который заглянул как-то к ленсману. Пастор с удовольствием поговорил с молодым человеком и даже позволил себе проэкзаменовать его, а в результате предложил Кнуту новую работу — место школьного учителя в округах Рингстад и Нюквог.
Гамсун с радостью и волнением согласился — все-таки не часто девятнадцатилетнему самоучке предлагают такое высокое место. Действительно, образование — это надежный путь чего-то добиться в жизни!
Преподает Кнут в младшем классе, где учатся ребятишки восьми лет. По воспоминаниям одного из учеников, наставником он был не просто хорошим, а превосходным, поскольку обучал детей через игру. Быть может, Гамсун вспоминал свое несчастливое детство, быть может, он и сам еще оставался ребенком, быть может, ему просто было интересно. Но совершенно точно — он всегда любил детей и всегда старался им помочь — даже будучи уже известным писателем.
Жена Гамсуна вспоминала: «У меня есть одно письмо, которое он написал в крайне бедственном положении, прежде чем приступить к работе над книгой „Круг замкнулся“:
„Дорогая Мария, я вкладываю в конверт письмо (от мальчика), которое надо прочитать Туре и Арильду, пока они находятся дома. Это касается меня. Мне трудно писать, но этот мальчик получил от меня ответ: я сообщаю ему, что хочу спросить у своих сыновей, соберем ли мы деньги ему на аккордеон. Подумай: если наши дети сумели скопить немного денег, экономя на танцах и кино, неплохо бы им сделать доброе дело для славного парня с хутора!“
Вложенное письмо было написано неумелой рукой:
„Господин Кнут Гамсун, главная цель того, что я сегодня пишу Вам, вот в чем: не могли бы вы купить мне аккордеон, я был болен четыре года. Мое самое большое желание — это пятирядный аккордеон, и чтобы получить его в подарок…“
Он очень жалел детей, что не типично для больших, взрослых мужчин. „Истерика“, — пояснял он, словно стыдясь этого, когда временами вынужден был отворачиваться.
Помню один эпизод в Хамарёе. Кнут узнал, что мальчик, подросток, с крохотного хутора, собирался плыть на лодке в больницу в Будё. Он обратил внимание на этого мальчика, тот был милым и приятным, но каким-то бледным и молчаливым.
В тот день, когда он с матерью должен был уехать, Кнут вдруг исчез прямо в середине дня. Он отправился в лес, сел на камне у дороги, по которой должны были идти оба путешественника. Он долго просидел там, ожидая их, держа в руке деньги, приготовленные им в подарок.
Впоследствии мать мальчика поведала мне об этом, но она думала, что я всё знаю».[12]
Любовь к детям Кнут пронесет через всю жизнь, он всегда будет стараться понять их желания и всегда будет стремиться уважать их волю. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, будучи еще молодым человеком, он смог заслужить после года работы учителем следующую характеристику от пастора Вееноса: «Господин Кнут Педерсен почти год проработал школьным учителем во вверенном мне приходе Бё и превосходно выполнял свои обязанности. Он не только хорошо образован, превосходно пишет и отличается достойным поведением, но еще и пунктуален, честен и порядочен».
Вполне возможно, что именно эта рекомендация помогла Гамсуну получить денежную помощь от великого Цаля.
* * *
«В Хьеррингее, километрах в двадцати севернее Будё, вел свои дела и торговлю матадор Эрасмус Бенедиктер Хьерсхов Цаль, — писал Туре Гамсун. — Подобно Вальсё из Транёя, он был здесь самым влиятельным человеком. На пристани выстроились в ряд принадлежащие ему дома и склады, а его лавка служила местом сбора жителей Хьеррингейя, содержимое складов и погребов лавки удовлетворяло все потребности округи.
…Для своего округа Цаль был настоящим благодетелем… Он подарил своему приходу пасторскую усадьбу со всеми угодьями и много лет подряд содержал на своем попечении всех бедняков Хьеррингейя… Это был добрый христианин и щедрый помощник в тяжелую минуту, и лишь в одном Цаль был суров и непреклонен: он не выносил пьянства.
…Цаль и миловал, и карал, как местный Господь Бог. Для этого у него были и власть, и средства».[13]
Войти в доверие к Цалю и заручиться его поддержкой было нелегко, но попробовать стоило. Во всяком случае Кнут решил послать ему письмо, в котором просил дать в долг 1600 крон — большую сумму по тем временам. Деньги эти нужны были Гамсуну, чтобы поехать в Копенгаген — литературную столицу Скандинавии того времени. Кнут понимал, что хочет быть писателем — и никем иным. Он являет собой поистине уникальный пример человека, который с ранних лет был буквально одержим желанием писать, верил в свои силы и терпеливо ждал «прорыва». Вот только ждать ему пришлось долгих десять лет…
Не все верили в силы Гамсуна — не поверил в него, например, издатель Кнудсен, который выпустил «Свидание» и отказался печатать «Бьёргера». А вот Цаль решил посмотреть на просителя — он никогда не отказывал в помощи, не составив собственного мнения о человеке.
Летом 1879 года Кнут приехал на «смотрины» — и успешно выдержал проверку: деньги после разговора с матадором были ему выданы.
Молодой человек принял их с благодарностью и помнил о вовремя оказанной ему поддержке всю жизнь. В 1916 году в газете трондхеймских студентов он писал: «В прежние времена такой матадор, властвовавший над всей округой, обладал всеми качествами, присущими настоящему человеку: тонким умом, заботой о ближнем, ответственностью за собственную страну и ее народ… Современные же воротилы — всего лишь предприниматели, которые и думать не думают о своем народе. Станет ли такое общество воспитывать гениев?»
* * *
Получив деньги, а значит, и возможность работать над новой книгой, Кнут, вопреки ожиданиям, отправляется не в Копенгаген, а в одно из красивейших мест Норвегии — Хардангер, которое так поэтично описывал в своих стихах любимый им поэт Хенрик Вергеланн. Там Гамсун пишет стихи и трудится над повестью из крестьянской жизни, которую озаглавил «Фрида». Впервые в жизни он начинает писать статьи в местную газету и даже принимает участие в дискуссии о качестве церковного пения в Хардангере.
Сохранились свидетельства современников, что красивый и самоуверенный молодой человек раздражал многих своими резкими выступлениями. Совершенно очевидно, что уже тогда проявилось в полной мере его стремление демонстративно идти наперекор общественному мнению и поступать только так, как он сам считал нужным, что в конце жизни приведет Гамсуна к трагедии.
Те несколько месяцев в Хардангере помогли молодому писателю избавиться от некоторой юношеской неловкости и неуверенности. И именно в это время происходит превращение простого крестьянского парня в модного молодого человека. Гамсун всю жизнь уделял должное внимание своей внешности, а в молодости — тем более. Мы помним, как еще подростком он трогательно носил цепочку для часов — без самих часов, как ему хотелось выглядеть франтом. Теперь у него наконец-то появилась возможность — и он стал щеголем. Купил модный костюм, вставил в глаз монокль и курил теперь дорогой табак. Впрочем, деньги Цаля Кнут расходовал очень осторожно и на ветер их не бросал.
Но главным для Гамсуна в жизни (и в юности, и в зрелом возрасте) всегда была его работа — он писал. И созданная им в Хардангере повесть, как считал молодой писатель, начавший именовать себя на «норвежский манер» Педерсоном, ему удалась. Он был совершенно уверен, что это лучшее из всего им написанного. И потому настало самое время ехать в Копенгаген к Фредрику Гегелю[14] в «Гюльдендаль».
Конечно, можно было бы издать книгу и в Норвегии, ведь первое истинно норвежское издательство «Аскехауг» уже было основано в Осло в 1872 году. Однако литературное общество того времени — времени Объединенных королевств Норвегии и Швеции — с присущим интеллигенции снобизмом — читало лишь книги, изданные в Копенгагене и Стокгольме. И, кроме того, для Гамсуна было очень важно издать свою повесть в «Гюльдендале», крупнейшем издательстве Скандинавии, где были выпущены произведения норвежской «великой четверки» — Ибсена, Бьёрнсона, Хьелланна и Ли.
Поэтому Кнут Педерсон отправляется именно в Копенгаген. Вот как описывал в разговоре со своим норвежским издателем Харальдом Григом сам Гамсун ту давнюю встречу: «Встречался ли я с самим Гегелем? О да! Только почему это так тебя интересует? Может, ты хочешь узнать, сколько мне лет, а? Но Гегель-то прожил еще много лет после той нашей встречи в 1897 году. В издательстве тогда был прилавок, как в настоящей лавке. Гегель стоял по одну его сторону, а я — по другую. Он сам принял мою рукопись и сказал, что на следующий день я могу прийти за ответом. Утром мне действительно дали ответ: передали конверт с рукописью, на котором в углу стояла одна только буква „П“ — „Педерсону“, — и сообщили, что в публикации мне отказано. Вот, собственно, и все. Гегеля я больше не видел.
Но накануне он все-таки немного поговорил со мной. Незадолго до этого Бьёрнсон распорядился сделать новое издание своей „Новой системы“, а отпечатанный тираж просто уничтожить. Гегель тогда, припоминаю, сказал что-то вроде: „Ну что ж, у Бьёрнсона и на это хватит денег!“ Я понял, что сказано это было с иронией».
Даже из этого скупого рассказа уже всемирно известного писателя становится ясно, каким тяжким ударом стал для него отказ Гегеля и его невнимание к молодому писателю, нежелание даже сказать ему хотя бы несколько слов одобрения.
Но Гамсун никогда не сдавался — ни в юные годы, ни в глубокой старости. И, ошарашенный приемом в «Гюльдендале», оскорбленный, но не сломленный, Кнут отправляется к одному из самых уважаемых на тот момент старых норвежских поэтов — Андреасу Мунку,[15] который жил в Копенгагене. Мунк отнесся к молодому писателю дружелюбно. Вот как описывает Гамсун свою встречу с Мунком в письме к Цалю:
«К сожалению, рукопись мне издать не удалось. Но я обратился к господину Мунку, который дал мне следующий отзыв: „После прочтения повести господина Педерсона „Фрида“ могу сказать, что у этого молодого человека определенно есть способности к писательскому делу“. Еще он добавил, что мое произведение написано в духе Бьёрнсона, а у Бьёрнсона сейчас в Копенгагене мало друзей, а всё больше недругов. Собираюсь послать рукопись в издательство в Христианию. Я совершенно уверен в том, что моя книга непременно будет там напечатана. Да и господин Мунк (профессор) сказал мне то же самое».
Сравнение рукописи с произведениями Бьёрнсона, которое вряд ли было задумано как комплимент, автору тем не менее показалось необыкновенно лестным, ибо в то время Гамсун старался во всем подражать великому писателю — в том числе, в манере одеваться и вести себя. Впоследствии эта манера в сочетании с некоторым внешним сходством привела к весьма неприятному недоразумению: Кнута стали считать внебрачным сыном Бьёрнсона.
Выше мы приводили отзыв Мунка о молодом писателе в изложении самого Гамсуна, однако достоверно известно, что к печати «Фриду» поэт не рекомендовал, зато дал Гамсуну денег на возвращение домой в Норвегию.
Как бы то ни было, но после месячного пребывания в Копенгагене, который успел полюбиться еще непризнанному гению, Гамсун возвращается в Норвегию.
* * *
Он направляется к своему кумиру — Бьёрнсону.
Жил «король поэтов»[16] в усадьбе Аулестад, довольно далеко от Кристиании, и почти весь долгий путь молодому Гамсуну пришлось преодолеть пешком. То ли юноша устал, то ли действительно, как утверждал он сам, поскользнулся на льду возле крыльца, но горничная, открывшая ему дверь, решила, что посетитель пьян, с трудом держится на ногах, и доложила об этом хозяину, а тот в аудиенции Гамсуну отказал, велев приходить на следующий день.
Переночевав на соседнем хуторе, Гамсун вновь приходит к великому соотечественнику. На этот раз его принимают и даже благосклонно берут в руки рукопись. Но вердикт Бьёрнсона, лишь быстро пролиставшего «Фриду» и даже не удосужившегося внимательно просмотреть повесть, оказался вновь неутешительным для автора.
Бьёрнсон открыл «Фриду», с неудовольствием наткнулся на фразу: «Юноша плакал», снова перелистал повесть и, пробормотав: «Ах, юноша все еще плачет», — заявил трепещущему Гамсуну: «Плохо! Очень плохо, молодой человек!» — и неожиданно предложил ему, «такому красивому и статному», попробовать себя на сцене и даже дал ему рекомендательное письмо к своему другу в Кристиании, актеру Йенсу Сельмеру.
По другой версии, изложенной американским другом Кнута У. Т. Эйджером, Бьёрнсон посоветовал юноше отложить перо до того дня, когда ему «исполнится тридцать лет, и поездить по стране, а быть может, и уехать за границу, чтобы изучить жизнь, во всех ее проявлениях, насколько это вообще возможно».
Гамсун был ошеломлен и чуть не потерял веру в себя. Во всяком случае, он решил попробовать стать актером. Единственным человеком, который продолжал верить в Гамсунаписателя, остался матадор Цаль. Он вновь прислал своему протеже немного денег, на которые тот снял небольшую комнату в Кристиании на Томтегатен в доме 11.
Теперь, когда прошло немного времени после болезненных для самолюбия отзывов о повести, Гамсун в состоянии самостоятельно ее оценить. Он садится в своем новом жилище на табурет перед печкой, внимательно читает «Фриду» — и бросает рукопись в огонь. Во всяком случае, так, со слов отца, описывает судьбу рукописи Туре Гамсун.
И буквально на следующий день отправляется к Сельмеру, который начинает заниматься с ним сценическим искусством. Однако вскоре актер понимает, что у Гамсуна нет ни малейшего призвания к театру, и начинает просто беседовать с молодым человеком о литературе, снабжает его контрамарками на хорошие спектакли, которые Кнут практически не посещает, и рекомендует не переставать писать.
Не писать Гамсун не может. Он пишет — стихи и предпринимает последнюю попытку получить «грант». В ту зиму в Кристианию приезжает шведский король Оскар, к которому писатель отправляется на аудиенцию. Свидетельств о приеме королем Гамсуна у нас несколько.
В письме к матадору Цалю сам молодой человек пишет, что не смог добиться разрешения на аудиенцию, зато поговорил с камердинером короля, который помог ему устроиться на работу в Дорожную службу.
В «Голоде», который считается автобиографическим произведением, Гамсун иронично описывает историю посещения героем короля. Рассказчик в романе находится на пороге голодной смерти и всячески пытается скрыть от окружающих свое бедственное положение, боясь, как бы хозяин комнаты не выбросил его на улицу. И когда горничная с иронией спрашивает, где же это он сегодня обедал, герой с вызовом отвечает, что только сейчас вернулся из самого дворца.
Еще раз вопрос об «отношениях» короля и Гамсуна был поднят в 1909 году, когда в одном из американских журналов было опубликовано интервью с профессором Расмусом Б. Андерсоном, который лично был знаком с писателем. Профессор утверждал, что сам Гамсун рассказывал ему о визите к королю Оскару и о том, что ему удалось показать королю свои стихи. Королю якобы стихи понравились, и он дал их автору 20 крон. Однако Гамсун, прочитав интервью Андерсона, отрицал все им рассказанное.
Что же касается получения Гамсуном работы в Дорожной службе, то вряд ли ею он был обязан королю или его слугам. Скорее всего, работу эту писатель получил благодаря Бьёрнсону, к которому обращался за помощью 24 января 1880 года. Все дело в том, что директор Дорожной службы, господин Краг, был другом Бьёрнсона. Именно для Крага Гамсун, всегда отличавшийся необыкновенно красивым почерком, переписывал зимой 1879/1880 года служебные бумаги.
Та зима была для писателя ужасной. Позднее он напишет в «Голоде»: «Это было в те дни, когда я ходил голодный по Кристиании…» Он совсем ослабел от голода, нервы его были расшатаны, и он раздражался даже по самому ничтожному поводу. Работу ему удавалось найти лишь изредка: он либо переписывал деловые бумаги, либо с трудом пристраивал небольшие статьи в мелкие газеты. Его еще продолжали мучить кошмары и призраки детства, и сил бороться еще и с новыми у него просто не было. Гамсун, по его собственным словам, постепенно опускался: «С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною. С каждым днем я все чаще поступался своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло — и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая-то черная плесень».[17]
Почти постоянный голод, сводящий с ума, хроническая нищета, кошмары и унижения…
Куда делись деньги, полученные от Цаля, ведь сумма была довольно приличной, до сих пор остается неизвестным. Вполне вероятно, что большая часть их была проиграна писателем. Да, Гамсун был игроком всю свою жизнь. Это сыграло роковую роль не только в его частной жизни, но даже в писательской карьере, когда его обвинили в плагиате (заимствованиях у Достоевского). Но об этом речь пойдет в свое время…
А в ту зиму жизнь Гамсуна в Кристиании была просто невыносимой. И настоящим спасением для него стала работа в Дорожной службе.
* * *
На строительстве дорог в Тотене Гамсун проработал почти два года — и сделал неплохую карьеру: от простого рабочего до учетчика.
Но помимо работы, которая давала небольшие, но все-таки постоянные средства к существованию, в жизни Кнута, помимо жажды писать, утвердилась еще одна страсть — игра в карты. Все свое жалованье он мог спустить за один вечер, но к проигрышу всегда относился спокойно. Иное дело — выигрыш! В жизни надо добиваться победы, а на неудачи не обращать внимания.
Друзья-рабочие считали его странным — и не только из-за пристрастия к игре, красивого почерка и образованности. Гамсун запоем читал взятые из районной библиотеки книги, что для местной публики было удивительно.
Надо признать, что основания считать писателя странным у его окружения были всегда. Так, квартирная хозяйка Торгейр Мария Кюсет, у которой писатель снял угол, вспоминала позже, что молодой человек явился к ней без вещей, зато все пять рубашек, что у него имелись в наличии, были надеты на нем. Торгейр Марии удалось убедить жильца, причем далеко не сразу, что надевать стоить лишь одну сорочку, а грязные отдавать ей в стирку.
Гамсун продолжал писать, но его почти не печатали. Известна всего лишь одна статья, написанная в Тотене в 1880 году и опубликованная в «Газете Йовика» 6 июля.
В это время он предпринимает и свою первую попытку чтения публичных лекций о литературе. По приглашению пастора Кристофера Брююна, с которым Гамсун уже некоторое время состоял в переписке, писатель отправляется к нему в гости в усадьбу Вонхейм. Там он смог сосредоточиться и изложить на бумаге свои мысли о новейшей литературе, в частности об Августе Стриндберге.[18]
Но на лекцию дорожного рабочего, организованную в Йовике, пришли лишь шесть человек, зато среди них был Юхан Энгер, редактор местной газеты. Ему-то как раз выступление Гамсуна очень понравилось — и на следующий день в газете появился весьма лестный отзыв о молодом и очень способном лекторе, поразившем всех своими ораторскими способностями. Поэтому Гамсун рискнул организовать еще одну лекцию — и на нее пришло уже семь человек.
Такое невнимание публики не очень-то и обидело не избалованного подарками судьбы юношу, плохо было другое — на поездку и организацию лекций Гамсун истратил все свои жалкие сбережения. Поэтому в Тотен ему пришлось возвращаться на занятые у Энгера десять крон.
* * *
А в Тотене ничего не изменилось… Все свободное время, подчинись окружению, молодой человек проводил весело — в игре, кутежах, танцах на вечеринках и прогулках с девушками по Тотенскому лесу. Однако Гамсун, всегда твердо уверенный в том, что рано или поздно станет писателем, прекрасно понимал, что подобная разгульная жизнь не для него. Надо было вырваться из порочного круга. Вот только куда он мог уехать? Где найти работу?
Единственным выходом для него, как и для множества его соотечественников, стала эмиграция в Америку.
Тем более что от старшего брата Петера, уже несколько лет назад уехавшего в США, пришло письмо, в котором он расхваливал свое житье-бытье за границей.
Романтизации Америки служила и поддерживаемая в прессе шумиха о красивой и легкой жизни over there,[19] и восторженная серия очерков Бьёрнсона о своем турне по Штатам в 1880–1881 годах.
Но для поездки через океан были нужны деньги. Дать их согласились друзья Гамсуна — семья Нильса Фрёсланда, управляющего спичечной фабрикой в Реуфоссе.
Нильс как-то сам подошел на улице к Гамсуну и сказал, что знает его и наслышан о стихах молодого человека, которые тот иногда читает своим товарищам. Молодые люди подружились буквально с первых минут знакомства. Гамсун стал вхож в дом Фрёсландов и даже провел Рождество в их родовой усадьбе, где всем заправляла матушка Фрёсланд.
Удивительной женщиной была мать Нильса! Умная и образованная, она немного разбиралась в медицине и травах, а потому слыла в округе знахаркой и ведуньей. Кроме того, она принадлежала к новопротестантской секте унитарианцев,[20] религиозному движению, основанному писателем Кристофером Янсоном.[21]
То Рождество было одним из самых счастливых в жизни Кнута. В усадьбе собрались именитые и интересные люди, которых он смог поразить свои идеями по поводу современной литературы и чтением стихов — не только своих, но и чужих. Однажды он так продекламировал, стоя на стуле посреди гостиной, поэму Ибсена «Терье Виген», что «плакали и мужчины, и женщины».
Растроганная и очарованная гостем матушка Фрёсланд решила во что бы то ни стало помочь ему найти свое место в жизни — и предложила стать священником. Однако Гамсун попросил взаймы четыреста крон, чтобы отправиться в Америку.
Деньги Фрёсланды ему дали, а также смогли получить у Бьёрнсона, друга семьи, к которому обратился Нильс, рекомендацию к американскому профессору Андерсону, хотя Бьёрнсон верил в Гамсуна не больше, чем в первый раз. В своей рекомендации Бьёрнсон не без ехидства написал, что Гамсун «в последнее время работал простым дорожным рабочим… согласен на любую работу, но очень хочет стать знаменитым». Однако надо признать, что великий писатель никогда не отказывал в помощи своему юному коллеге.
Итак, деньги и рекомендация были получены, и Кнут отказался от своей постоянной работы. В Дорожной службе им были так довольны, что даже вручили премию — пятьдесят крон. Их Гамсун потратил на новый гардероб и пенсне.
* * *
В январе 1882 года Гамсун приезжает в Гамбург, откуда должен был отправляться пароход «Одер» в Америку. Молодой человек является в контору судоходства «Норддойчер Ллойд», представляется и предлагает «бартерную сделку»: он пишет очерк о путешествии через океан, а компания предоставляет ему бесплатный проезд. К удивлению Кнута, бизнесмены согласились на его условия и даже купили ему билеты в Америку до Элроя, где жил брат Гамсуна.
Итак, вперед, в Америку!
Глава третья АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Соединенные Штаты Америки были и остаются по сей день заветной мечтой миллионов людей во всем мире. Эта страна является для многих сказочным государством, в котором сбываются все мечты, в котором человеку непременно повезет или он сможет «сделать себя сам». Америка не может не поразить воображение любого человека размахом и невиданными перспективами. Не стал исключением и Кнут Гамсун.
В своих письмах к друзьям в первые дни и месяцы своего пребывания «за океаном» он с восторгом описывает необыкновенные технические достижения: мостиз Бруклина в Нью-Йорк, тринадцатиэтажные дома в Нью-Йорке, железную дорогу, которая «идет буквально по воздуху», мэрию в Чикаго, «облицованную таким отполированным гранитом, что в него можно смотреться, как в зеркало», и многое другое.
Восторги очутившегося в центре технического прогресса крестьянского парня выливаются в стихи, которые тут же принимаются к печати журналом для скандинавских эмигрантов «Север» — «Norden».
Словом, всё складывается как нельзя лучше и кажется, что в стране удивительных возможностей жизнь пойдет по-другому, чем на родине.
И окрыленный первыми успехами Кнут отправляется к профессору Андерсону. Вот как, со слов отца, описывал Расмуса Б. Андерсона Туре Гамсун: «Профессор был одним из наиболее известных американцев норвежского происхождения в городе Мэдисон. Он преподавал скандинавскую литературу в местном университете, был другом и поклонником Ибсена и Бьёрнсона, уважаемым человеком средних способностей, но которому всегда и во всем везло. Столп общества и моралист, он всегда был на пике успеха, всегда следовал велению моды, но при этом не блистал умом и никогда не придерживался крайних точек зрения».
Андерсон был выдающимся пропагандистом норвежской культуры в Америке, неоднократно устраивал турне с лекциями корифеям скандинавской литературы, писал статьи о древнесеверной мифологии и открытии Америки Лейвом Счастливым, переводил исландские саги и произведения современных норвежских писателей, в частности, новаторские для того времени пьесы Ибсена (хотя сам и считал подобную драматургию не заслуживающей особого внимания).
Отношения его с Гамсуном не сложились, скорее всего, из-за снобизма одного и некоторой самоуверенности другого.
Вот как Андерсон описывал визит Гамсуна в своей автобиографии, вышедшей в 1915 году: «Летним днем 1882 года, как мне помнится, моя семья как раз обедала, в дверь нашего дома позвонили. Горничная была занята чем-то на кухне, и я сам пошел открыть дверь. На крыльце стоял высокий, стройный и хорошо выбритый молодой человек с густыми вьющимися волосами. Я был удивлен его сходством с Бьёрнстьерне Бьёрнсоном в годы его юности. В одной руке молодой человек держал шляпу. Он поклонился и протянул мне письмо, спросив, не я ли профессор Андерсон. Я взял письмо и с удивлением увидел, что оно от самого Бьёрнстьерне Бьёрнсона… Я предложил Кнуту Педерсону войти в дом и, узнав, что он еще не ел в тот день, пригласил его отобедать с нами. Через некоторое время я спросил Кнута Педерсона: „Ну, молодой человек, и что вы намерены делать в этой стране?“ Он тут же ответил: „Я приехал, чтобы писать стихи для норвежцев, живущих в Америке. Бьёрнсон сказал мне, что у моих соотечественников тут нет поэта, и я приехал исправить столь досадную оплошность“».
Вряд ли Гамсун, всегда относившийся к себе с иронией, в действительности мог произнести столь самоуверенную тираду, однако несомненно, что Андерсона неприятно поразила убежденность молодого человека в собственных силах и непоколебимое желание стать писателем, тем более что, как выяснил профессор, образования у его посетителя не было почти никакого.[22] А потому, чтобы не утруждать себя дальнейшей заботой о юноше, за которого все-таки просил сам Бьёрнстьерне Бьёрнсон, Андерсон решает помочь ему и рекомендует Кнута на должность… конторщика у купца в Элрое.[23]
Но в автобиографии профессора есть и еще очень важное для исследователей творчества Гамсуна свидетельство, которое, по оценке специалистов, можно считать истинным. Все дело в том, что Андерсон всегда ратовал за то, чтобы норвежские переселенцы меняли свои фамилии «Ларсон, Петерсон, Ульсон» (сын Ларса, сын Петера, сын Уле) на фамилии, производные от их родовых усадеб-хуторов. А потому он порекомендовал и Кнуту Педерсону — Кнуту сыну Педера — называться Кнутом Гамсундом — Кнутом из Гамсунда. Молодому человеку идея пришлось по душе, и с тех пор он стал зваться Кнутом Гамсундом.
Позже Гамсун категорически заявлял, что сам придумал «сменить» себе фамилию. Он говорил, что подписывался в письмах к Цалю «Гамсунном, Гамсундом и Гамсуном».
Как бы то ни было, но именно после встречи с Андерсоном Кнут стал только Гамсундом — и только им.
* * *
Оскорбленный и униженный, Кнут уезжает от профессора и отправляется к старшему брату в Элрой.
Петер Педерсон жил в Америке с 1868 года. Он уехал туда, когда ему было всего шестнадцать лет, а в двадцать он уже обзавелся семьей. На жизнь Петер зарабатывал портняжным искусством. Но его пальцы умели хорошо обращаться не только с иголкой и ниткой, но и со скрипкой и смычком. Среди друзей его даже звали Пер Музыкант. Вскоре выяснилось, что старший брат Гамсуна очень похож на их дядю — Уле Велтрейна, так что помощи от него ждать не приходилось. И Кнут устроился на работу к местному купцу, норвежцу My, воспользовавшись рекомендацией профессора Андерсона.
В апреле, по неизвестным нам причинам, Гамсуну пришлось расстаться с My и отправиться, как он напишет в своей последней книге «По заросшим тропинкам», «в маленький пыльный городок посреди прерии. Там даже речки не было, и леса тоже не было, росли только какие-то кусты».
Все вроде бы шло неплохо, Кнут работал на ферме у честных, пусть и небогатых людей, вот только очень он «тосковал по дому и часто плакал». «Моя хозяйка, — вспоминал Гамсун, — снисходительно улыбалась и научила меня слову „homesick“».[24]
Об этом периоде жизни писателя у нас есть сведения «из первых уст» — от него самого. Вот как он описывает то время: «Я проработал у своих хозяев несколько месяцев до тех пор, пока не выяснилось, что держать работника Лавлендам не по средствам. Расставались мы неохотно, и дело уже близилось к вечеру, когда я поехал в город. Спешить было некуда, ехал я не по большой дороге, а по тропинке, и то и дело присаживался помечтать. Там даже ручей подо льдом бежал не так, как дома, слабое биение струй подо льдом было дома тоньше и куда голубее. И я снова всплакнул.
На тропинке послышались шаги. Молоденькая девушка. Я знал ее, она была дочерью жившей по соседству вдовы. Вдова часто говаривала, что возьмет меня к себе в работники, когда я уйду от Лавлендов.
— Хеллоу, Нут.[25] Я тебя напугала?
— Нет.
— Я иду в город, — сказала она.
Она несла маслобойку, у которой отскочила ручка. Я вызвался помочь ей, маслобойка была мне с детства знакома, и я бы легко мог починить ее и сам всего лишь при помощи складного ножа, будь у меня под рукой кусочек сухого дерева.
Все время она щебетала, не умолкая ни на мгновение, а я пытался отвечать, используя свой скудный запас английских слов. Это было так мучительно, что я про себя пожелал ей провалиться в тартарары.
— Уф, до города, кажется, еще далеко?
— Да! Надеюсь, далеко, — засмеялась в ответ плутовка. Ей очень нравилась наша прогулка.
Наконец мы пришли в город, в мастерскую Ларсена. Уже темнело.
— Милый Нут, тебе придется проводить меня домой, — сказала Бриджит.
— Что?! — удивился я.
— Мне страшно возвращаться одной в темноте, — пояснила она.
Ларсен был датчанин, и он тоже сказал, что я должен ее проводить.
И вот мы пошли обратно. Становилось все темнее и темнее, под конец нам пришлось взяться за руки и сторониться веток, которые так и норовили хлестнуть по лицу. Но держать ее за руку было приятно.
— Мы забыли маслобойку! — вдруг вскрикнул я.
— Ну и что? — ответила Бриджит.
— Как это что?
— Да так. Ведь ты-то со мной!
Почему она это сказала? Я решил, что она влюбилась в меня, просто по уши влюбилась.
Проводив ее до дома, я хотел сразу же вернуться в город, но не тут-то было, я должен был поесть, поужинать, а затем меня оставили переночевать. Бриджит отвела меня в сарайчик, где стояла кровать. Наутро мать с дочерью уговорили меня остаться и немного поработать у них, и я осмотрел ферму. У них было два мула и три коровы. Вдова пожаловалась, что очень трудно нанять работников. Я же не привык работать один, самостоятельно, вот у Лавлендов, там был хозяин, мужчина, он-то мной и руководил, а тут одни женщины, они могли сказать лишь о том, что надо сделать в первую очередь. Само собой, я не собирался сидеть без дел, а потому сначала я нарубил гору дров, потом же стал вывозить на мулах навоз. Так шел день за днем.
Однако вскоре вдова поняла, что надо ей поискать более умелого работника, она пошла в город и наняла там финна, очень, между прочим, хорошего работника, родом он был из Эстерботтена и знал свое дело. А юная Бриджит уже и не радовалась тому, что заполучила меня, нет, она и в сторону мою не глядела, и за руку меня не брала.
Ну и дурак же я был, деревенщина из Нурланна! Больше уж никогда не поверю женским словам!
Работников в округе по-прежнему не хватало. Когда я опять оказался в городе, меня остановил на улице фермер и предложил поработать у него. Понял, наверное, по моей одежде, да и не только по ней, что я из вновь прибывших, нет, я не пропаду, спрос на меня есть. Вот и поехали мы к нему на ферму в повозке, запряженной двумя рослыми лошадьми. Как только мы приехали, хозяин сразу же приказал мне вырыть на опушке леса небольшую яму, он указал мне точные размеры в футах. Я управился быстро, а когда закончил, фермер принес на плече из дома гробик и опустил в могилу. Времени это тоже много не заняло. Я стоял, ожидая распоряжений, и он велел мне забросать могилу землей и выложить дерном. А сам ушел.
Господи, неужто он не вернется? Нет. Он что-то мастерил в сарае и не собирался отвлекаться от своих дел.
Я удивился, если не ужаснулся, мне было не по себе. Тело ребенка было предано земле, и все. Никаких обрядов, ни одного псалма. Хозяева мои были молоды, но по-английски я говорил плохо, и так и не узнал, к какой они прилежали церкви.
А в остальном жаловаться мне было не на что. В доме и на ферме все было ухожено, у них были отличные угодья, холеные лошади и сытые коровы. Вот только детей не было. Обязанности мне определили несложные, хозяин сам доил коров и ухаживал за скотиной, я же работал в поле. Хозяйка моя была веселой толстушкой. Она научила меня множеству английских слов, а для житья отвела комнатушку с окошком и кроватью. Странные они были люди, им вдруг захотелось взвесить меня на безмене, но крюк, на который повесили безмен, под моей тяжестью обломился, и я получил безменом по голове. Я не совсем понял, зачем им это, но они страшно обрадовались, а после все время хвалились, какой я у них упитанный. Когда моя хозяйка собиралась в город с маслом и пшеницей и за покупками, я иногда отвозил ее.
Когда закончились весенние работы, хозяин оставил меня на ферме, и я прожил у них до уборки урожая. Я пообвыкся и даже привязался к хозяевам. Они были немцами, а фамилия их — Шпир. На прощание мы крепко пожали друг другу руки.
Вскоре мне предложил работу на всю зиму еще один человек, он предложил мне вырубать железнодорожные шпалы. Но эта работа мне не подошла. Тогда он предложил мне взять у него в аренду маленькую ферму. Мне и это не подошло, и тогда он вздумал продать мне в рассрочку подводу с парой лошадей, чтобы я занялся извозом. У него было множество всяких хитроумных планов, и я с трудом от него отделался.
Вскоре мне предложили место посыльного в городском магазине — и я стал deliveryboy. Я разносил по адресам пакеты и коробки и возвращался в магазин. Это был самый большой магазин в городе, за прилавком стояло несколько продавцов. Хозяином у нас был англичанин Харт. Мы торговали всем на свете — от зеленого мыла до шелковых тканей, консервов, наперстков и почтовой бумаги. Я был вынужден выучить названия всех наших товаров, и мой запас слов, к счастью, изрядно пополнился. Через некоторое время мой хозяин решил взять другого посыльного, а меня поставил за прилавок.[26] Теперь я ходил с накрахмаленным воротничком и в начищенных ботинках, я снял в городе комнату и стал обедать в гостиницах. Фермеры, с которыми я был знаком еще раньше, лишь дивились, как быстро я пошел в гору. Однажды в магазин заглянула юная Бриджит с фермы и увидела меня за прилавком во всем великолепии, она поняла, как жестоко ошиблась, наверное, будет теперь по гроб жизни раскаиваться, что порвала со мной. Хотя, кто ее знает».
После работы у Харта Гамсун трудился все лето 1887 года на ферме у Дэлрампов в долине Ред-Ривер и пробыл там до конца уборки урожая.
Кем только не пришлось ему работать в это время — и посыльным, и свинопасом, и приказчиком, и конторщиком. И все время он продолжал писать — не только стихи, но и прозу. Гамсун не забыл о данном судоходной компании обещании описать свое путешествие в Америку и отослал несколько эссе и путевых очерков в Германию, однако они так никогда и не были опубликованы.
В Элрое, во время работы у Харта, он познакомился с преподавателем местной школы У. Т. Эйджером и вместе с ним снимал одно время комнату в отеле.
Эйджер был хорошим товарищем Кнуту и сразу же стал его поклонником. Он оставил нам воспоминания о том, как выглядел Гамсун в то время: «Высокий и крепкий, гибкий, как пантера, и выносливый, как лошадь. Длинные светлые волосы падали на плечи, и благодаря этой гриве Гамсун походил на молодого льва».
А вот какие слова начертал Кнут на обоях своего номера, рядом с нарисованным им же автопортретом: «My life is а peaceless flight through all the land. My religion is the Moral of the wildest Naturalism, but my world is the Aesthetical literature».[27]
На обоях в той гостиничной комнате остались и другие рисунки Гамсуна — в том числе ангел ночи, накрывающий покрывалом темноты мир. К счастью, у хозяина отеля хватило ума не уничтожить рисунки — и в свое время он с гордостью стал демонстрировать их постояльцам.
У Гамсуна было своеобразное чувство юмора — он не только разрисовывал обои, но и частенько разыгрывал своего друга Эйджера. Так, он мог заснуть, оставив на тумбочке рядом с кроватью сигару, нож и записку, в которой просил Эйджера выкурить сигару, а потом вонзить ему нож в сердце. При этом в записке было сказано, что она — подтверждение невиновности товарища по номеру в его убийстве.
Но Кнут не только работал и развлекался в Америке — он учился, в том числе и английскому языку. Его учителем стал коллега Эйджера, Генри М. Джонстон. Друзья вспоминали, что учился языку Гамсун больше по необходимости, чем для собственного удовольствия. Знание иностранных языков не было его заветной мечтой. Вероятно, Кнут всегда понимал, что никогда не сможет выразить свои мысли и чувства на чужом языке так же, как мог сделать это на родном норвежском. Правда, он предпринял попытку (первую и последнюю) написать любовную историю на английском языке — «A Vignette Picture», но написал ее так чудовищно — с грамматическими и прочими ошибками, — что Эйджеру с трудом удалось уловить суть дела.
Однако вернемся к занятиям с Джонстоном. Он не только преподавал Гамсуну английский, но и «вводил» его в современную американскую литературу, регулярно снабжая книгами Марка Твена, Лонгфелло, Брайанта, Уитмена, Эмерсона.
«Кнут, — пишет Туре Гамсун, — получил возможность познакомиться с произведениями американских писателей в оригинале…
О Марке Твене он слышал и раньше, но именно благодаря его произведениям он понял кое-что о построении американского общества и характере американского народа. У него открылись глаза на безумную и бесконечную гонку за материальными благами, деньгами, успехами в карьере, которые были основными целями рядового американца… И что самое главное, он увидел самого Марка Твена, побывав на его публичной лекции.
Для Кнута было важно увидеть человека собственными глазами и уж только после этого составить о нем свое мнение. Оно всегда было верным.[28] Кнут видел в свое время Бьёрнсона, а теперь ему довелось понаблюдать и за Марком Твеном… Он отметил скромность великого писателя, и ему это понравилось: „В нем я не заметил ничего аристократического или утонченного, он был скорее похож на углекопа, а не на литератора…“ Марк Твен всегда помнил о том, что вышел из народа. „Он стоял за кафедрой, и жесты его походили то на взмах руки пробегающего мимо официанта, то на движения человека, собирающегося схватить охапку сена“».
Побывав на лекции Марка Твена, Гамсун и сам увлекся мыслью о чтении публичных лекций о литературе. И начал он с доклада о Бьёрнсоне, сделанном в октябре 1882 года в Элройской школе. Кнут произвел на слушателей самое благоприятное впечатление, и в местной газете появился восторженный отзыв на лекцию, в котором все местные скандинавы призывались прийти на второй доклад молодого лектора, который должен был вскоре состояться. Две последующие лекции, прочитанные в соседних городках, подобного успеха не имели, и Гамсуну пришлось вернуться в Элрой и вновь устроиться на работу в магазин.
* * *
Будучи физически сильным человеком, Кнут никогда особо не задумывался о нагрузках, которые выпадали на долю его организма. И напрасно — однажды, поднимая мешок с солью, он почувствовал, как в груди что-то оборвалось. Это было внутреннее кровотечение в легком. На время о поднятии тяжестей пришлось забыть.
Проблемы со здоровьем были не единственными в жизни Гамсуна. Его любовные отношения с некоей Анной Джонсон зашли в тупик, а местный священник, побывавший на лекции о Бьёрнсоне, известном критике Церкви и христианства,[29] стал призывать паству не слушать молодого еретика.
Тем не менее Кнут продолжал писать — по-прежнему в духе Бьёрнсона. В 1883 году была закончена и напечатана в сентябрьском номере норвежско-американского журнала «Домашняя библиотека» повесть «Из долин» о роковой любви.
После Рождества 1883 года Гамсун, по приглашению Генри Джонстона, начавшего торговлю древесиной в маленьком городке Маделия, переезжает к нему в Миннесоту и становится счетоводом. Городок этот, по воспоминаниям писателя, был довольно неопрятным и неуютным, с некрасивыми домами и сколоченными из неровных досок тротуарами.
О жизни в Маделии мы знаем из очерка «Страх», который был опубликован в 1897 году. В нем, с присущей писателю иронией, рассказывается об одном случае, происшедшем с Кнутом во время отсутствия Джонстона и его супруги: «Я жил один в большом доме. Я сам готовил себе еду, ходил за двумя коровами Джонстона. Доил их, пек хлеб, варил и жарил. Первый мой опыт выпечки хлеба был не совсем удачным… Не очень повезло мне, и когда я в первый раз задумал сварить похлебку… Я налил молока в большую кастрюлю и насыпал туда ячменной крупы и стал мешать. Правда, вскоре я обнаружил, что похлебка получается слишком густой, и подлил еще молока. И опять размешал. Но крупа кипела и шипела, разваривалась и стала крупной, как горох, и опять не хватило молока; к тому же крупа разваривалась так быстро, что я боялся, что она полезет через край. Тогда я принялся вычерпывать массу в чашки и плошки и заполнил их все, но эта масса все лезла и лезла из кастрюли. И все время не хватало молока, похлебка стала густой, как каша. Наконец, мне ничего не осталось, как опрокинуть все содержимое кастрюли прямо на стол. И вся эта каша расползлась восхитительной лавой, спокойненько улеглась густым и толстым слоем на столе и засохла.
Теперь у меня была, так сказать, materia prima,[30] и, когда мне потом хотелось похлебки, я каждый раз отрезал со стола кусок каши, добавлял в эту массу молока и снова варил ее. Я героически ел эту похлебку каждый день, утром, днем и вечером, чтобы только с ней разделаться. По правде говоря, это был нелегкий труд, но в этом городе я не знал никого, кто мог бы мне помочь доесть ее.
И я в конце концов справился с этим делом без чужой помощи.
…И вот настала ночь, когда я испытал такой дикий ужас, какого не испытывал ни до, ни после этого…
Однажды целый день я был очень занят. Я не смог сдать наличные в банк и взял их с собой домой…
Как обычно, я и в этот вечер сел писать… Пробило два часа. И я услышал странную возню у кухонной двери.
Чтобы это могло быть?
…Я беру в руки лампу и направляюсь к двери… Там снаружи кто-то есть, слышен ясный шепот и скрип шагов по снегу. Я прислушиваюсь довольно долго, но все стихает.
Я возвращаюсь в гостиную и снова сажусь писать.
Прошло полчаса.
И тут я вскакиваю: взломали парадную дверь. Не только замок, но и засов, и я слышу шаги прямо в коридоре у моей двери.
…Сердце у меня не билось, оно трепетало. Я был не в состоянии не то что крикнуть — не мог издать ни звука; и я чувствовал свое трепещущее сердце прямо в горле, мне стало трудно дышать. В эти первые секунды я так испугался, что даже не совсем понимал, где я. Вдруг меня осенило, что надо спасать деньги. Я пошел в спальню, вынул бумажник из кармана и сунул в кровать, под белье. Потом я вернулся в гостиную. На это у меня ушло не больше минуты.
За дверью слышался негромкий разговор, начали ломать замок. Я вынул пистолет Джонстона и осмотрел его, он был в порядке. Руки у меня сильно тряслись, а ноги сделались как ватные.
Взгляд мой остановился на двери, то была необычайно крепкая дверь, из досок с поперечными перекладинами, она была даже не сбита, а крепко сколочена. Вид этой прочной двери придал мне силы, и я начал думать — до этого я думать не мог. Дверь открывалась наружу, значит, ее нельзя было взломать. Коридор за дверью был короткий и не давал возможности разбежаться. Я понял это и вдруг расхрабрился и громко закричал, что всякого, кто ворвется, я уложу на месте… Время тянулось. Я все более и более смелел и уже не прочь был геройски покрасоваться и крикнул:
— Ну, что вы решили? Пробиваетесь или уходите? Я спать хочу.
Тут немного погодя простуженный бас ответил:
— Мы уходим, сукин ты сын.
Я услышал, как кто-то вышел из коридора и по снегу заскрипели шаги.
Выражение „сукин сын“ в Америке, как, впрочем, и в Англии, является национальным ругательством, а поскольку я не привык безответно выслушивать подобное, я хотел открыть дверь и выстрелить в негодяев. Однако в последний момент одумался: может быть, ушел только один из негодяев, а другой, наверное, стоит и ждет, что я открою дверь, чтобы напасть на меня. Я подкрался к одному из окон, быстро поднял штору и выглянул. Мне вдруг показалось, что я вижу темное пятно на снегу. Я открыл окно, прицелился, насколько это было возможно, в темную точку и выстрелил. Щелчок. Я выстрелил еще раз. Щелчок. В бешенстве я опустошил всю обойму, наконец раздался один жалкий выстрел. Но грохот в замерзшем воздухе был оглушительный, и я услышал с дороги крик: „Беги! Беги!“
Тогда вдруг из коридора выскочил еще один человек, промчался по снегу и исчез в темноте. Я угадал. Действительно, некто остался в коридоре. И с ним я даже не мог как следует попрощаться, потому что в револьвере был один несчастный патрон, а я его уже использовал…
…Никогда в жизни я больше не испытывал подобного ужаса… Еще несколько раз, когда я испытывал страх, сердце оказывалось у меня в горле и мешало дышать — это память о той ночи.
Я даже не подозревал, что страх может выражаться таким необычайным образом».[31]
Гамсун действительно всегда умел принимать решения и находить выход из самых трудных ситуаций. Его никто и никогда не мог упрекнуть в отсутствии мужских черт в характере. Описанный выше случай — лучшее тому подтверждение.
Но, будучи настоящим «мачо», как мы бы сейчас сказали, он продолжал лелеять в душе мечту стать писателем и зарабатывать на жизнь не тяжелым физическим трудом, а литературным (надо сказать, не менее тяжелым и опасным). И в Маделии он продолжает не только писать, но и читать лекции.
3 февраля он делает доклад «Евреи, от Авраама до наших дней», на который приходят около ста человек. Это уже настоящий успех!
И Гамсун решает отныне читать лекции не бесплатно, а за деньги. Следующее выступление он планирует в Сант-Джеймсе, но билеты купило так мало народа, что лекцию пришлось отменить. Очередная неудача оказала столь сокрушительное впечатление на Кнута, что он говорит своему другу о принятом решении никогда больше не выступать с докладами.
И тут же судьба, как будто в компенсацию за все тяготы жизни в Америке, делает ему настоящий подарок: молодой человек совершенно неожиданно знакомится с Кристофером Янсоном, писателем и священником-унитарием, о котором столько всего слышал на родине и которого всегда безмерно уважал.
Пастор Янсон сейчас забыт не только в англоязычных странах, но даже и в самой Норвегии, хотя в свое время был очень известен по обе стороны океана. Именно он послужил прототипом пастора Станга, символа безграничной веры, в одной из самых известных пьес Бьёрнсона «Сверх наших сил» (1886).
Вот как сам Янсон описывает в мемуарах встречу с Гамсуном:
«Я встретил его случайно… На лесопилке я обратил внимание на высокого стройного молодого человека в золотых очках, аристократичного и интеллигентного. Он говорил по-норвежски. Я заговорил с ним. Было воскресенье, и он смог пойти со мной прогуляться по лесу. Я спросил его, доволен ли он своей работой — разгрузкой и погрузкой досок.
— Конечно, не доволен, но что мне еще остается делать, ведь надо на что-то жить.
— Тогда, быть может, вы предпочитаете работу для души?
— Само собой, только вот где ее взять?
И тогда я сказал ему, что мне нужен литературный секретарь, который помогал бы переводить мои работы для американского журнала и еще готовил бы материал для моих докладов. Я спросил, каковы его религиозные убеждения.
— Да особо никаких, — отвечал он.
Я рассказал ему об унитарианстве, о том, что мы выступаем против некоторых общепринятых догм. Тут выяснилось, что эти догмы не нравятся и ему».
Разговор закончился предложением Гамсуну занять место секретаря Кристофера Янсона. Конечно, Кнут с радостью согласился и, будь на то его воля, отправился бы в Миннеаполис в тот же день, но подвести друга, оставившего на него свое дело, он не мог. Гамсун благодарит пастора и просит дать ему некоторое время на улаживание дел.
Вскоре все проблемы были разрешены, и Кнут сел на поезд, следующий в Миннеаполис, где живет и работает Кристофер Янсон.
* * *
В середине апреля он уже вовсю помогает пастору — собирает деньги на различные благотворительные нужды, делает переводы с английского на норвежский и даже выступает в Назарет-холле — церковном зале, где собирались унитарианцы.
Оратором Гамсун оказался превосходным, его выступления часто имели ошеломляющий успех. В воспоминаниях Кристофера Янсона сохранилось описание одного из таких вечеров. После речи Кнута собравшимся должны были подать лютефиск.[32]
«Все уже было готово, а Кнут почему-то не появлялся. Праздник начался, на стол подали лютефиск, а Кнут все не приходил. Ситуация была не из простых: многие верующие знали о веселом характере молодого человека и его умении погулять, а потому были уверены, что он просто забыл о празднике. Наконец, в десять часов вечера Кнут изволил явиться и произнес остроумную и вдохновенную речь, в которой смог объяснить, в частности, и причину своего опоздания. Он рассказал, что плохо ориентируется в городе, — и просто-напросто заблудился. Во время вечерней прогулки он заблудился и никак не мог найти дорогу к Назарет-холлу. Добрые люди пытались помочь ему — но все их усилия были напрасны… До тех пор, пока он не уловил знакомый запах — запах родной Норвегии. Он пошел на него, запах становился все сильнее и сильнее… И вот он уже здесь».
Добрые и бесхитростные, унитарианцы просто обожали подобные истории, а потому нет ничего удивительного в том, что они всё простили беспутному и веселому гуляке.
Однако самого учения унитарианцев Кнут так и не принял[33] — впрочем, как и жена Янсона, фру Друде. Веселая и радующаяся жизни, она всегда поддерживала Гамсуна в его религиозных спорах с мужем. Фру Янсон очень хорошо относилась к Кнуту и проводила с ним много времени: беседовала с ним, играла на фортепиано, гуляла. По словам Расмуса Андерсона, друга семьи, фру Друде как-то призналась ему, что «пребывание в комнате вместе Гамсуном действует на нее как некий эликсир, придающий силы, духовные и физические».
Не меньше фру Янсон любили молодого секретаря и дети Янсонов. Кнут всегда умел находить общий язык с детьми, очень любил их и никогда не отказывал себе в удовольствии поиграть с ними. А они в ответ души в нем не чаяли и, когда «понарошку» готовили обед для своих кукол, всегда ставили для Гамсуна отдельную тарелочку.
Впоследствии Янсоны, и во времена работы у них Кнута ладившие между собой не очень хорошо, развелись. Кристофер женили на спиритистке, а фру Друде, с юности писавшая короткие повести и рассказы, по-настоящему пристрастилась к литературному труду и даже издала роман «Мира» под псевдонимом Юдит Келлер, шокировавшем публику. Многие посчитали, что в романе она рассказала о своей измене мужу с Гамсуном. В открытом письме в газету «Дагбладет» от 10 февраля 1898 года Гамсун писал, что, когда Юдит употребляет слово «неверность», то имеет в виду неверность духовную, а никак не физическую.
Как бы то ни было, но жизнь в семье Янсонов была для Кнута настоящей сказкой. Он мог работать в свое удовольствие — много читал, благо священник собрал прекрасную библиотеку, в которой можно было найти и книги русских классиков, и труды китайских философов, и произведения современных американских авторов. Читал Кнут очень своеобразно: он, по наблюдениям Кристофера Янсона, мог часами простаивать возле полок с книгами, доставая какую-нибудь из них, быстро пролистывая, кое-где задерживаясь на короткое время, а затем ставил томик на место и брал рядом стоящий. Когда же священник попытался обсудить «прочитанные» секретарем книги, то, к своему удивлению, обнаружил, что Гамсун обладает редким даром его друга Бьёрнсона: за пару минут он мог ухватить самую суть произведения, лишь пролистав его.
Янсон много разговаривал с Кнутом, обсуждал всевозможные литературные, политические и философские проблемы.
Словом, все шло просто прекрасно, пока однажды во время аукциона возле унитарианской церкви у Гамсуна не пошла горлом кровь. Призванный в дом Янсонов доктор Тамс объявил, что дела Кнута плохи: у него чахотка и жить ему осталось максимум три месяца.
Большую часть времени больной проводил в постели, а в голову ему приходили самые странные мысли. Вот как этот период он описал в своем письме Эрику Скраму,[34] датированном вторым днем Рождества 1888 года:
«…у меня было отчаянное желание пойти в бордель и согрешить. Нет-нет, Вы не ослышались, в бордель. Ведь я был на краю гибели! Мне хотелось совершить великий грех, чтобы он свел меня в могилу, я хотел умереть во грехе, прошептать „Ура!“ — и испустить дух. Какой стыд рассказывать об этом.
Я был в горячке, в каком-то угаре. Я строго относился к самому себе всю жизнь — но к чему эта строгость теперь, когда дни мои сочтены? Я был просто-напросто вне себя.
Я открылся фру Янсон, рассказал о происходящем в моей душе, и фру Янсон — в ней, видимо, не все человеческое умерло — ответила, что очень хорошо понимает меня. Подумать только, именно так она мне и ответила! Но это случилось, вероятно, потому, что она была тогда слишком снисходительна ко мне, более, чем я того заслуживал, так снисходительна, что я растерялся.
Я продал свои часы, чтобы иметь деньги для этого шага, в полной тайне заказал экипаж;, ибо я был болен и не мог идти, и был уже готов ехать. Но получилось так, что мадам все-таки не смогла понять меня до конца, она узнала о моей затее и отказала в экипаже.
Вот так провалилась моя затея. Но я не жалел об этом тогда — не жалею и сейчас, ибо уверен, что умер бы там на месте.
Вы ведь понимаете, что такие безумные идеи могут взбрести в голову только молодому человеку, стоящему на краю могилы! Мне было совершенно все равно, что ожидает меня „за роковой чертой“, я не думал об этом, хотя и тогда верил, что не все кончается со смертью. Один профессор теологии навестил меня в те дни, очень милый человек, который знает меня с пеленок, — я нагрубил ему в разговоре с ним, обидел его, хотя и невольно.
Я был крайне возбужден. Прошли вечер, ночь и утро. А потом мне просто-напросто представилась возможность согрешить в том самом доме, где я жил; эта возможность была мне буквально предоставлена.
Но я не захотел ею воспользоваться.
Вы понимаете меня? Так всегда происходит со мной. Мне даже предложили ключи от врат — красный бант на занавеси, урочный час, один раз стукнуть в дверь, — но я отказался. Если бы я сам молил о ключе, тогда бы я за себя не поручился. Так много значит для меня малость. Есть ли еще такие люди на свете или я один идиот в целом мире?
Но затем моя страсть нашла другой выход: я полюбил свет. Уверяю вас, это была настоящая чувственная любовь, плотская. Много света, солнечный свет, дневной свет, огромные лампы, страшное пламя, дьявольский свет вокруг меня и везде. Фру Янсон думала, что я сошел с ума. Раньше я не понимал торжества Нерона при виде горящего Рима. Дело зашло так далеко, что однажды ночью я поджег занавески в своей комнате. И когда я, лежа, наблюдал этот огонь, то буквально всеми фибрами души ощущал, что „грешу“.
Безусловно, это было во многом следствием моей болезни, ведь я тогда серьезно болел. Но благодаренье Богу, во мне и сейчас продолжает жить мое „световое“ безумие. О таких вещах я предпочитаю не рассказывать; я ношу в себе многое, о чем не решаюсь говорить и писать, хотя о гораздо менее „бредовом“ я когда-нибудь попытаюсь сочинить историю в форме удивительной сказки, начинающейся словами: „Однажды я был человеком, который…“ Я думаю, что именно об этом или о чем-то подобном писал Бурже,[35] но, стало быть, написал он не очень хорошо. Я полагаюсь на Вас, ибо сам не читал ни слова из написанного им».
Это письмо представляет особый интерес для биографов Гамсуна и исследователей его творчества еще и потому, что дает возможность сделать один важный вывод о молодом писателе. Пассаж об отчаянном желании пойти в бордель и согрешить, совершить великий грех, чтобы он свел его в могилу, умереть во грехе — и испустить дух, о том, что строгое отношение к самому себе всю жизнь вдруг перестало иметь хоть какой-нибудь смысл, поскольку дни его были сочтены — всё это позволяет ученым (в том числе и такому серьезному литературоведу и страстному поклоннику Гамсуна, как Роберт Фергюсон) предположить, что в Америке Кнут все еще сохранял невинность.
Однако, несмотря на приступы безумия, гнев и ярость, а, быть может, именно благодаря им и желанию изведать в жизни все, что изведать не довелось, а также прекрасному уходу, к лету 1885 года Кнуту становится лучше.
Доктор говорит больному, что у него есть надежда, хоть и призрачная, на выздоровление, если он сменит климат — и уедет из Миннеаполиса.
* * *
Кнут принимает решение: если и суждено ему умереть, сделать это лучше всего дома, в Норвегии. Тем более что с собой он везет, как следует из письма Нильсу Фрёсланду, пятьдесят страниц рукописей, предназначенных для разных редакций в Кристиании. Конечно, он и сам понимал, что работает слишком много: пишет каждый день, с утра до вечера, а иногда прихватывает и ночь, но уж так он был устроен — пока мог, работал…
Потихоньку Кнут начал вставать и даже ходить (правда, с большим трудом) на прогулки. А Кристофер Янсон тем времени организовал сбор пожертвований на билет Гамсуну в Норвегию. Наконец деньги были собраны.
Из Миннеаполиса в Нью-Йорк Кнут ехал в первом вагоне состава. Он при первой возможности пытался выйти на площадку вагона и встать так, чтобы сильный встречный поток воздуха «омывал его легкие». Он верил, что ветер в состоянии выдуть из него болезнь. Ветер ли был тому причиной или желание Гамсуна жить, но в Нью-Йорке он почувствовал себя значительно лучше, а оказавшись дома после долгого морского путешествия через океан, вообще посчитал себя практически здоровым.
Глава четвертая ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Прибыв в Кристианию, Кнут нанес визит редактору газеты «Дагбладет» Ларсу Хольсту и передал ему рекомендательное письмо от Кристофера Янсона. Господин Хольст принял его весьма любезно и даже пообещал посмотреть написанные в Америке статьи.
Гамсун также смог договориться и с издателем Альбертом Каммермейером о том, что будет писать для крупнейшей газеты «Афтенпостен» рецензии на новые книги.
Несмотря на внешне удачно складывающееся положение дел в столице, оставаться там Кнут не захотел и отправился в горы, в городок Эурдал в Вальдресе. Доктор Эдвард Булль, осмотревший молодого человека в Кристиании, сказал ему, что чахотки у него нет, а вот сильное нервное истощение и общее слабое состояние здоровья налицо.
В письме к другу Гамсун признается:
«Я уехал в Вальдрес, быть может, горный воздух поможет мне выздороветь. Я больше не харкал кровью, последний раз это случилось, когда я плыл на корабле через Атлантический океан, и я надеюсь, что больше это не повторится. Но ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Врачи в Кристиании сказали мне, что зимой я точно не умру, а вот весна вызывает у них опасения. Ну что ж, я и так сделал все от меня зависящее, чтобы сохранить собственную жизнь, так что теперь будь что будет. Я ни на что не жалуюсь».
Городок Эурдал, где поселился Кнут, — одно из красивейших мест Норвегии. Почти все время он живет в гостинице, которую содержит семья Фрюденлюндов, и сын хозяина гостиницы, почтмейстер Эрик Фрюденлюнд, становится другом писателя. Эту дружбу они сохранят на долгие годы.
«В Эурдале, — писал Туре Гамсун, — Кнут, словно по мановению волшебной палочки, нашел свой стиль, который сохранил на всю жизнь. Блистательно точная и прозрачная манера письма отличает все его произведения, написанные в то время».
Как и обещал, он делает рецензии на новые книги для «Афтенпостен», сочиняет несколько рассказов,[36] а также заканчивает три очерка о жизни в Америке, которые были опубликованы в январе и феврале 1885 года и подписаны псевдонимом «Ego». Эти статьи можно считать рабочими набросками, из которых впоследствии (через три года) вырастет книга «О духовной жизни Америки», в которой писатель камня на камне не оставит от американской демократии, литературы, искусства, принципов воспитания…
Но писатель обрел в Эурдале не только свой неповторимый стиль, но и имя, под которым он и стал известен в мировой литературе. Весной 1885 года в столичном журнале в трех номерах была напечатана его статья о Марке Твене, в которой автор дал подробный и серьезный анализ творчества американского классика. Подписана была статья Кнут Гамсунд, но в результате типографской ошибки «д» отпало, и с тех пор писатель стал Гамсуном.
В самоироничном очерке «В турне», опубликованном в «Дагбладет» Ларса Хольста в 1886 году, Кнут пишет: «Я молодой гений, однако настолько не известный, что ни один редактор пока еще не в состоянии правильно написать мою фамилию: никто не помнит, встречал ли когда-нибудь мое имя, так что прославить его на весь мир задача почти невозможная. Гамсун! Мне требуется не меньше пяти минут, если я хочу написать эти буквы так, чтобы люди уразумели, что написано не Гансен, не Гамсум или Гаммерсунд, а просто Гамсун. Можно прийти в отчаяние от необходимости вбивать людям в голову эту новую фамилию…»[37]
Надо сказать, что «необходимость вбивать людям в голову» собственную фамилию у Гамсуна была даже в те времена, когда к нему уже пришла всемирная известность. Двадцать два года спустя, в июле 1908 года, он пишет будущей жене:
«Я получил письмо с короной, впервые в жизни, от королевского мажордома Рустада о том, что он имеет честь по королевскому поручению пригласить „Кнуда Гамсума“ на суаре в королевский дворец 1 августа в 9 часов. Просьба ответить. Тут мне, в сущности, трудно сказать „нет“, потому что, если я не приду, то и Король и Президент Франции хватятся и будут отчаянно меня разыскивать. Но я ответил, что, во-первых, зовут меня не Кнуд, а, во-вторых, не Гамсум, и, в-третьих, у меня нет супруги (но, видит Бог, она у меня будет! Чего я им не сказал). Но я все-таки полагаю, что это письмо предназначено мне. За то я нижайше благодарил, но, к величайшему несчастью, прийти не мог. О, мы оба прекрасно изъяснялись».[38]
Но вернемся обратно в Эурдал. Весной 1885 года произошло чудо[39] — Кнут полностью выздоровел. Некоторые биографы Гамсуна считают, что он был болен не чахоткой, а тяжелым бронхитом, но более правдоподобным и тем не менее никак не объяснимым с точки зрения здравого смысла представляется предположение, что Гамсуна вылечила жажда жизни и целеустремленность (желание во что бы то ни стало стать «настоящим» писателем).
«Вскоре, — пишет Туре Гамсун, — жизнерадостность била из него ключом, вокруг него царило праздничное веселье, и никто не поверил бы, что всего несколько месяцев назад этот человек был приговорен к смерти от чахотки. Местные девушки с изумлением глядели на поэта, который умел танцевать степ, отплясывал ирландский рил и пел ковбойские песни. Иногда он даже представлял собою некоторую угрозу для окружающих. Играя на лужайке в боччью,[40] он забавлялся от души и с силой швырял шары под ноги играющих. А сила у него, прямо скажем, была незаурядная, так что играющим приходилось высоко подпрыгивать или спасаться за кустами и деревьями!
Опьяненный здоровьем, Кнут едва не переступал грань дозволенного, однако ему все охотно прощалось. Кнут был счастлив. Он твердо верил, что только чудо вернуло его к жизни, когда он одной ногой уже стоял в могиле. И потому безудержно радовался своей молодости, ставшей наконец-то безоблачной и манившей его обещаниями. И друзья радовались вместе с ним».[41]
Друзья не только радовались — они еще и помогали Кнуту заработать денег. Так, Гамсун трудился с Эриком на почте. Это давало не только дополнительный (кроме гонораров за статьи и рассказы) доход, но и позволило Кнуту войти в круг знакомых Эрика, а среди них были образованные и уважаемые люди — например, врач Андреас Обель. В свободное время он не только писал стихи, но и возглавлял местный хор, участником которого вскоре стал и молодой писатель. Среди друзей Эрика нашелся даже сапожник — Ула Ульсен. К нему Кнут любил захаживать в мастерскую и с удовольствием брал в руки сапожный инструмент, чтобы не утерять навыков, полученных в детстве. Сапожник Ула останется другом Гамсуна на всю жизнь.
А вообще компания весело проводила время — собиралась в местном кабачке, слегка куражилась и травила анекдоты, пела и плясала, гуляла с девушками в лесу и отправлялась на прогулки в горы.
Летом 1885 года Эрика Фрюденлюнда призвали в армию, и Кнут стал замещать его. В это же время он выступает с циклом лекций о литературе для местной публики, но ничего хорошего из этого не выходит: жителям Эурдала были не интересны не только заморские писатели Гюго, Флобер и Стриндберг, но даже и собственные классики Бьёрнсон и Ибсен. Ради объективности надо заметить, что больше, чем литературной эрудицией, он поражал свою аудиторию пылкостью и живописностью красноречия и отчаянным радикализмом литературных взглядов, выражавшимся в нападках на крупнейших писателей.
Уже окончательно выздоровевшему и полному сил и устремлений Кнуту было скучно в Вальдресе. Удивительно, что вместо радости он испытывает в это время глубокое разочарование. В письме Николаю Фрёсланду, брату Нильса, он описывает свою жизнь как восхождение на гору, при котором он пробирается вперед крошечными шагами. И еще, впервые в жизни, он жалуется на свое происхождение: «И если бы у меня была твоя мать, Николай, то, при ее воспитании и поддержке, я много бы смог добиться».[42]
Но Гамсуна, даже в минуты грусти и отчаяния, всегда отличала несгибаемая воля и умение буквально идти напролом. И он решает предпринять новую попытку штурма столицы.
Зимой 1885 года Кнут уезжает из Вальдреса в Кристианию.
* * *
В столице Гамсун снял самую бедную и убогую, но зато самую дешевую комнатку, какую только смог найти. Конечно, ему сразу же захотелось окунуться с головой в литературную жизнь Кристиании, ведь он всегда с интересом следил за жизнью и борьбой на местном Парнасе. Но его никто не знал — а потому его просто не замечали.
Дела шли из рук вон плохо. Ни газеты, ни журналы не жаждали его печатать, коллеги даже не хотели с ним знакомиться.
Единственным писателем, с которым ему удалось поговорить, был Арне Гарборг.[43]
Со слов Туре Гамсуна мы знаем, что Гамсун обратился к Гарборгу, другу Кристофера Янсона, с просьбой посмотреть свои работу:
«Гарборгу они не понравились.
— Ваши произведения какие-то чужеродные, — сказал Гарборг. — Вы слишком много заимствуете у русских.
— У русских? Но я не знаю ни одного русского писателя.
— Например, у Достоевского.
— Но я не читал Достоевского.
Разговор зашел в тупик. Гарборгу нечего было больше сказать молодому писателю, и он не поверил, когда тот сказал, что не читал русских. Нет, ему решительно не понравился этот молодой писатель, который держался самоуверенно, что не подобало в его положении».
Тем не менее Гарборг решил помочь начинающему коллеге — и благодаря его протекции в «Дагбладет» был напечатан очерк «В турне», а также газета купила два рассказа «Грех» и «Лжец»[44] и эссе об Америке.
Но все-таки жизнь в Кристиании не складывалась. И поскольку писательская карьера в то время ему никак не удавалась, Гамсун вновь решил заняться чтением публичных лекций.
Он делает в Йовике доклад о Стриндберге, и неожиданно в «Дагбладет» появляется доброжелательная рецензия на его выступление, в которой его тем не менее называют господином Гомсумом.
Турне продолжается несколько месяцев, но успеха лектору не приносит. Гамсун пишет Эрику Фрюденлюнду письмо, в котором признается, что не знает, стоит ли продолжать «эту бессмысленную затею». Да, люди приходят на лекции и слушают они его очень внимательно, вот только людей этих — считаные единицы.
В это время «Афтенпостен» предлагает ему «постоянный ангажемент в газете», но потом внезапно отзывает свое предложение.
Жизнь Гамсуна становилась все тяжелее и тяжелее. Как и герой «Голода», он постепенно опускается на самое дно, лишается крова над головой. Одежда его обтрепалась, он голодал, и у него часто не было ни единой монетки в кармане, а нервы совсем расшатались: он легко впадал в истерику и часто был так высокомерен с окружающими, что больше походил на сумасшедшего.
«Теперь он ночевал в сараях, под штабелями досок на берегу Акерсэльвен или под открытым небом на одной из скамеек в Дворцовом парке, — писал Туре Гамсун. — Он делал отчаянные попытки творить даже в этих условиях. Ему хотелось использовать мгновения, когда голова, несмотря на физическое истощение, работала ясно. Но у него редко получалось что-нибудь стоящее, он вновь был слишком болен.
Из-за своего состояния он не замечал, как проходят дни. Если ему случалось есть несколько дней подряд, хоть понемногу, он сразу расцветал, но нервы от этого расшатывались еще больше, организм принимал уже не всю пищу подряд.
Гамсун пишет, обмотав руки тряпками, а перед глазами у него пляшет „вихрь огненных лучей, небо и земля пылают, люди и животные охвачены огнем, бездна, пустыня, весь мир в огне, вот он — последний день…“ Гамсун и есть тот самый молодой писатель из „Голода“, обессиленный, ожесточившийся, с горькой иронией наблюдающий за игрой своих нервов и за ухудшением своего состояния. И его душа наполняется ненавистью к той силе, к которой он втайне испытывает детское почтение.
„Я сидел на скамейке, размышлял над этим все больше и больше, ожесточался против Бога за то, что он так растянул эту пытку. Если Он полагал, что с помощью этих страданий приблизит меня к Себе, сделает лучше, заставив меня страдать и воздвигнув на моем пути все эти неудачи, то Он сильно заблуждался, в этом я могу поклясться. И я, чуть не плача от упрямства, поднял глаза к небу и сказал Ему, что накопилось у меня в душе“.
Ликующее безумие голода владело Гамсуном все лето. Он совершал самые немыслимые поступки. Однажды он стал в подъезде со шляпой в руке и начал громко петь. Вокруг собралась смеющаяся толпа. В конце концов явился полицейский и прогнал его… В другой раз он подошел к двери своего двоюродного брата, сапожника. При виде Гамсуна уважаемый ремесленник отшатнулся и захлопнул дверь у него под носом — он принял его за пьяного».[45]
Гамсун понимал, что так дальше жить нельзя. Еще чуть-чуть — и он бы сошел с ума или умер от голода. Надо было признать поражение — хотя бы на данном этапе — и решить, что делать дальше.
Помощь приходит — и вновь от торговца, как когда-то много лет назад. Богач и меценат гроссерер[46] Дублауг, с которым Кнута познакомил редактор Хольст, дает ему взаймы денег, небольшую сумму добавляет Хольст, — и уже осенью 1886 года Кнут уезжает в Америку.
Последние слова, по утверждению Туре Гамсуна, которые перед отъездом Кнут сказал одному из своих приятелей, были следующие: «Я писатель. И когда-нибудь обо мне заговорит вся Норвегия!»
Глава пятая АМЕРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
В Америку ехал уже не мальчик, но муж. В кармане у Кнута была «карточка прессы», в которой черным по белому стояло, что он, Кнут Гамсун, — путешествующий журналист, корреспондент «Дагбладет» и «Верденс ганг».
О путешествии через океан мы знаем в подробностях благодаря одноименному очерку («Через океан»), написанному в 1886 году. Это небольшое произведение интересно не только тем, что в нем запечатлен эпизод из жизни великого писателя, но и рассказом об одном из самых драматических периодов в истории Норвегии, когда во второй половине позапрошлого века великое множество людей стало переселяться в Америку. Даже сегодня в США есть несколько штатов, где многие жители говорят по-норвежски.
Путешествие было тяжелым, если не сказать ужасным. Гамсун пишет, что у берегов Америки «письмо, составленное пассажиром первого класса с благодарностью за приятное путешествие, было передано на среднюю палубу, чтобы его там подписали и другие, но в результате подпись оказалась лишь одна — одна! Даже члены экипажа не выдержали ужасной жизни на корабле. Многие просили меня честно написать обо всем. Коки прямо заявили, что не вернутся на борт после Нью-Йорка, среди машинистов тоже слышались жалобы, а с корабельным священником я сам отправился вглубь Америки — он просто-напросто удрал. В качестве причины общего недовольства называли плохого администратора — бывшего кока, только вступившего в новую должность. Однако возлагать на него всю ответственность было бы несправедливо: на линии „Тингвалла“ и раньше случались неприятности: команды постоянно разбегались, рассказывают, что убивали кочегаров, многие и сами кончали жизнь самоубийством».
Пробыв в Нью-Йорке всего один день, Гамсун уезжает в Чикаго. Он решает не зависеть от друзей в Миннеаполисе и попытать свои силы на новом месте.
Жизнь в Америке дает Кнуту средства к существованию, дает кусок хлеба, но как же тяжело было его заработать!
Поначалу Гамсун старается получить место журналиста — но ничего не получается. Правда, очерк «Через океан», отосланный Хольсту на три недели позже обещанного (по уважительной причине),[47] тут же публикуется в «Дагбладет», но найти работу в американских газетах так и не удается.
Две долгих недели Кнут каждый день писал письма-резюме по опубликованным в «Чикаго трибюн» объявлениям, но положительного ответа не получал. И тогда он решил не ждать больше милости от издателей, а устроиться железнодорожным рабочим. Как рассказывает сам Гамсун в письме к Эрику Фрюденлюнду, на строительстве железной дороги было занято человек пятьсот или шестьсот, и платили им довольно хорошо (1,75 доллара в день), но работа была адски тяжелой, не шедшей ни в какое сравнение даже с изматывающей работой на ферме. Трудиться приходилось при дикой жаре (100 градусов по Фаренгейту в тени). Три человека должны были носить железное «ярмо» весом в 1200 фунтов, а один рабочий подносил бочку цемента весом в четыреста футов. От цемента у Кнута страшно разъедало глаза.
Но через месяц он получил, по его же собственному выражению, «перспективную работу» — кондуктором на «электрическом трамвае». В Норвегии такого дива дивного и не видывали, поэтому Кнут считает своим долгом описать его в письме другу:
«Этот трамвай сам ездит по улице, и нет у него ни лошадей, ни парового котла, просто он катится по дороге и тащит за собой вагоны. А секрет этого чуда в том, что двигает вагоны лежащий в земле кабель, длиной во много миль. По этому кабелю бежит подвижный контакт трамвая».
Об этом периоде жизни Гамсуна нам известно немного. Несмотря на радужные перспективы, денег у него не прибавилось, и средств не хватало даже на теплую одежду. Стоять на пронизывающем ветру и собирать деньги за проезд было и утомительно, и просто холодно. И тогда Кнут придумывает выход: подобно местным бродягам он обертывает тело под одеждой старыми газетами. Ну и что, что при движении он издает какой-то странный шуршащий хруст, зато ему стало намного теплее, да и коллегам было чем развлечься: они то и дело тыкали пальцем в бок «шелестящему» Гамсуну.
Сохранились воспоминания друзей писателя, из которых мы знаем, что новоиспеченный кондуктор частенько, особенно по ночам, забывал о своих непосредственных обязанностях: он сидел, углубившись в серьезные книги — например, сочинения Аристотеля и Еврипида, и совершенно не обращал внимания на входивших в вагон пассажиров. Да к тому же по ночам он плохо видел и не всегда правильно объявлял названия остановок, но тем не менее выкрикивал их уверенно и громко. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что разгневанные пассажиры, вышедшие в кромешной тьме в каком-нибудь совершенно не нужном им месте, немедленно садились писать жалобы.
В должности кондуктора Гамсун проработал девять месяцев — большой срок, если принимать во внимание все его чудачества. Но, наконец, терпение руководства трамвайной компании лопнуло, и Кнут в очередной раз оказался без работы.
* * *
В Америке Гамсун продолжал писать. Именно там его идеалы и принципы оформились окончательно, а чувство художественной формы, языка и стиля стало безупречным.
Немного забегая вперед, скажем, что в Америке завершилось его духовное и творческое созревание. Пережитое и увиденное им в дни странствий нашло со временем выражение в его новеллах — таких как «Закхей», «В дни скитаний», «Женская победа» и другие. Жестокие, сурово и резко написанные, пропитанные знойным ветром прерий, они рассказывали о тяжком труде наемных рабочих на фермах, о праве сильного, которое было единственным решающим аргументом в степных просторах, где нередко выстрел из револьвера заканчивал ссору или драку, о волчьих законах мира скитальцев и бродяг и безжалостности человеческих отношений в больших городах.
Однако жизнь была не только жестока с Гамсуном, временами она делала ему и подарки.
В статье, написанной в 1928 году, Гамсун сообщает:
«Я написал короткое письмо одному американцу и попросил его дать мне 25 долларов, но при этом честно сказал, что вряд ли смогу вернуть их ему. И я сам пошел отнести это письмо. Путь мне предстоял не близкий, контора американца находилась возле самих скотобоен, и мне все время приходилось спрашивать дорогу. Контора располагалась у него в чудовищном месте, просто какой-то сарай, в котором буквально клубились толпы служащих. У дверей конторы стоял привратник. Этому молодому человеку я и отдал свое письмо. Я видел, как он прошел в центр сарая и замер возле возвышения, на котором за столом какой-то человек работал с бумагами. Это был сам Армор. Больше я не смотрел на него: мне было и стыдно, и ужасно неприятно получить отказ. Привратник быстро вернулся обратно, я увидел его, только он уже подошел ко мне и протянул двадцать пять долларов. Я немного растерялся, а потом по-идиотски спросил: „Неужели он дал мне деньги?“ — „Ну да“, — улыбнулся он в ответ. — „А что он сказал?“ — „Сказал, что your letter was worth it“».[48]
Позже Гамсун поймет, что, вероятно, он изложил свою просьбу на таком чудовищном английском, что Армор с трудом смог разобрать ее смысл, так что замечание о «стоимости» письма было скорее всего ироничным.
Однако в тот момент Кнуту было совершенно всё равно — с иронией или без нее дал ему денег «мясной король». Самое главное, что в мире живут добрые люди, подобные матадору Цалю, гроссереру Дублаугу и мистеру Армору. Теперь ему было на что уехать в Миннеаполис, к друзьям, без помощи которых, как выяснилось, ему обойтись не удалось.
Несмотря на нелюбовь Гамсуна к Америке, которую он пронес через всю свою жизнь и о которой подробнее мы будем говорить далее, он всегда был очень благодарным человеком и никогда не забывал о готовности американцев протянуть руку помощи. В очерке «Festina lente» он пишет:
«Мне хочется отметить всегдашнюю готовность американцев прийти на помощь, их способность к сочувствию, их щедрость. Я просто не в состоянии, находясь здесь, оценить должным образом кого-нибудь вроде Рокфеллера, Карнеги или Моргана, их пожертвования столь значительны, что я просто не знаю, как их измерить. Я говорю сейчас о готовности простых американцев прийти на помощь, с какой я сталкивался в обыденной жизни. Когда нужно, американцы откликаются немедленно и делают доброе дело, не думая ни о какой выгоде. Однажды я обратился с просьбой о пожертвовании на покупку книг для маленькой норвежской колонии близ того города, где я работал. Все прошло просто замечательно: д-р Бут сделал первый взнос, а потом его примеру последовали и многие другие, в конце концов я сам был вынужден их останавливать. Как-то мне довелось работать у небогатого фермера-ирландца, у которого случился пожар и сгорел дом. И тогда на помощь ему поспешили все соседи, и дальние, и близкие, они не только помогли потушить огонь, они выстроили ему новый дом! Мы все могли спокойно продолжать работать на полях, а когда дом был готов, просто поблагодарить за это благодеяние и въехать в него».[49]
* * *
Однако к Кристоферу Янсону Кнут отправляется не сразу. Все лето и осень он работает на большой ферме в долине Ред-Ривер.[50] Судя по всему, американский опыт был очень важен для Гамсуна, иначе он не стал бы описывать его так подробно. У нас есть воспоминания писателя (очерк «В прерии») о работе на ферме Дэлрампов:
«Необозримая золотисто-зеленая прерия раскинулась, как море. Не было видно никаких домов, кроме наших конюшен и спальных бараков далеко в прерии. Ни деревьев, ни кустов здесь не росло, только, насколько хватало глаз, пшеница и трава. Цветов тоже не было, разве что иногда среди пшеницы можно было наткнуться на желтые стебли дикой горчицы — единственного цветка прерии. Это растение считалось вредным. И мы вырывали его с корнем, отвозили на ферму и сжигали.
И птицы здесь не летали, никаких признаков ничего живого, кроме колыхавшейся под ветром пшеницы, и единственным доносящимся до нас звуком был несмолкаемый треск миллионов кузнечиков — единственная песнь прерии.
Мы жаждали тени. Когда в середине дня приезжала подвода с едой, мы ложились под ней на животы, чтобы укрыться от жары, пока мы уминали обед. Часто солнце палило нещадно. На нас были рубахи и брюки, шляпы и башмаки, меньше одежды быть не могло, иначе мы бы обгорели. Если, например, при работе рвалась рубашка, то солнце прожигало насквозь, до раны на коже.
Во время уборки пшеницы мы работали по шестнадцать часов в сутки…
Когда подошел сентябрь, потом октябрь, днем было по-прежнему жарко, но ночи стали холоднее. Часто мы очень мерзли. К тому же мы сильно недосыпали: бывало, нас будили в три часа ночи, когда было совсем темно…
У нас не было выходных, воскресенье был такой же день, как понедельник. Но в дождливую погоду мы могли ничего не делать и тогда сидели дома, играли в „казино“, болтали друг с другом и спали».[51]
После окончания уборки урожая Гамсун уезжает, наконец, в Миннеаполис.
* * *
Жизнь у Янсона действительно была сказочной. Священник, прекрасно зная по собственному опыту, что писатель должен иметь возможность работать, предложил Кнуту крышу над головой и стол в своем доме бесплатно, не требуя ничего взамен. Казалось бы, Гамсун должен был бы писать без перерыва, ведь о таких условиях жизни он даже и не мечтал. Однако ощущение счастья, овладевшее им в то время (снова среди друзей, снова можно шутить и смеяться, наслаждаться жизнью), не давало ему работать. Все больше и больше времени он проводил в компании друзей — журналистов местной газеты для переехавших в Америку норвежцев.
Все, с кем он общался в ту пору, вспоминали о нем как о щедром, честном и принципиальном человеке. Он всегда был готов прийти на помощь и поддержать друга в беде.
Итак, в Миннеаполисе Гамсун сочиняет мало, зато читает несколько лекций о писателях-реалистах, пишет статьи, в том числе и политические, в частности, выступает в защиту анархистов.
Но признание к нему как писателю в Америке тоже не приходит. Да и вряд ли такое было возможно даже в принципе, поскольку Гамсун всегда решительно противопоставлял себя американскому обществу. А потому он принимает решение уехать домой.
Он заранее разрабатывает настоящую стратегию своего возвращения и «внедрения» в скандинавское писательское сообщество. Вместе со своим другом, шведским журналистом Виктором Нильссоном,[52] который внимательно следил за литературной жизнью в Стокгольме и Копенгагене, он решает попытать счастья не в Кристиании, а в датской столице. Гамсуну было что предложить издателям — в Америке он закончил несколько рукописей.
Чтобы собрать денег на дорогу, он весной 1888 года читает лекцию в Миннеаполисе, где выступает с резкой критикой духовной жизни Америки и делает это, как всегда, с присущим ему талантом и остроумием. Зал от души веселился.
Сумма, полученная от продажи билетов, тоже была впечатляющей — сорок долларов. Однако и средств на организацию лекции было затрачено немало, поэтому на покупку билета пришлось занять денег у близких друзей.
Летом 1888 года Гамсун возвращается в Скандинавию.
* * *
На корабле, плывущем в Данию, Гамсуна ждала неожиданная встреча.
Как известно, Гамсун всю жизнь был страстным игроком, а потому он не видел ничего зазорного скоротать время долгого путешествия на «Тингвалле» за игрой в карты.
За этим-то неблаговидным занятием на палубе его и застал «невысокий опрятный господин с бородкой и в золотых очках», вышедший из каюты первого класса.
Гамсун, на секунду отвлекшийся от карт, узнал в этом неодобрительно смотрящем на его картежную компанию господине профессора Андерсона и не преминул поздороваться с ним.
Профессор с трудом вспомнил своего протеже и растерялся: он считал, что Гамсун умер от чахотки в Норвегии.
Самого же Кнута эта встреча позабавила и дала повод похвастаться: когда Андерсон сказал ему, что с 1875 года «является послом Соединенных Штатов в Дании», он с гордостью поведал ему о своих наполеоновских планах завоевания скандинавского Парнаса. Ничтоже сумняшеся он, как о давно решенном деле, сообщил профессору, что едет к «своему издателю в Копенгагене», и даже предложил посмотреть свою рукопись «О духовной жизни современной Америки». Профессор в ужасе отказался — и напрасно: именно эта книга, наряду с «Голодом», и принесла Гамсуну известность.
«К несчастью, — пишет Туре Гамсун, — во время разговора профессор Андерсон обнаружил в петлице помятого сюртука Гамсуна черный бант.
— У вас траур? — вежливо осведомился он. — Умер кто-то из близких?
— Да нет, — спокойно ответил Кнут, — я просто ношу траур по пяти казненным анархистам».
Андерсон ничего на это не ответил, но «зарубку» себе на память сделал. По приезде в Данию, он немедленно известил власти об опасном анархисте Гамсуне, прибывшем в Копенгаген. За Кнутом было установлено негласное наблюдение, которое велось в течение нескольких месяцев днем и ночью.
Совершенно очевидно, что профессор не просто невзлюбил Гамсуна, а по-настоящему возненавидел его.
Он не только объявил его «политически неблагонадежным», но еще и связался со своим коллегой, норвежским консулом Раудером, и настойчиво рекомендовал ему не иметь никаких дел с Кнутом, а затем отказал самому молодому писателю в отправке писем в Америку через посольство (отправка писем через посольство была в то время обычным делом).
У нас есть основания предполагать, что причиной таких сильных чувств было неприятие Гамсуна как «неотесанной и наглой» личности (известно, что в людях, встречавшихся с ним, он пробуждал либо любовь, либо ненависть), а впоследствии — тривиальная зависть к его успехам.
В своей автобиографии, изданной в 1915 году, Андерсон так отзывается о творчестве Кнута Гамсуна: «В его книгах есть такие ужасные куски, написанные так грубо и неприлично, что их даже невозможно зачитать вслух, даже если в комнате одни только мужчины. Люди, подобные Гамсуну, — настоящий позор для страны, которая признает их».
Что ж, этот пассаж — лучшая иллюстрация русской пословицы «сам себя высек».
Глава шестая ДОЛГОЖДАННЫЙ УСПЕХ
«На пути в Копенгаген судно „Тингвалла“ целые сутки стояло в порту в Кристиании. Но Гамсун не сошел на берег, — пишет Туре Гамсун. — На этот раз он плыл в Копенгаген. Денег у него было не больше, чем перед отъездом отсюда, друзей, как и тогда, в городе не было; как и тогда, он всем был чужой. К тому же он дал себе клятву, что, пока не одержит победу, ноги его не будет в Кристиании. Но эти сутки в порту, этот добровольный карантин, помимо его воли высвободили в нем такие мощные силы, которые уже в ближайшие месяцы обеспечили ему победу.
Гамсун в одиночестве бродил по палубе, и, словно во сне, вставали перед ним знакомые серые очертания города, он не испытывал ни малейшей радости от свидания с ним, но и не малейшей горечи. Его одолевали воспоминания, но они уже были не такие мучительные и не причиняли прежней боли — все это было уже далеко от него.
…И тут к нему пришла будущая книга… Он открыл сумку и достал свои записи.
…Весь вечер он просидел на скамье на палубе — он работал, как в лихорадке… Это были еще сырые наброски, сделанные наспех, как попало. Но книга уже сложилась у него в голове, он уже знал дорогу».[53]
Поэтому, приехав в Копенгаген, Кнут сразу же снял дешевую комнату и стал писать «Голод». Денег у него почти не было, время поджимало, а замысел книги просто жег его. Он писал и днем, и ночью, и удовлетворение от ощущения того, что пишет он хорошо, придавало ему сил.
Именно в это время у него родилась привычка писать в темноте, не зажигая света. В «Письме к немецкому переводчику» от 27 декабря 1908 года он поясняет:
«Большая часть моих произведений была написана ночью, когда, заснув на пару часов, я иногда внезапно пробуждаюсь. Сознание ясное, и чувства мои обострены. Карандаш и бумага всегда лежат наготове, у кровати. Света я не зажигаю. Стоит мне ощутить этот хлынувший поток образов, как я тут же начинаю записывать в темноте. Это стало столь привычным, что для меня не составляет никакого труда расшифровывать утром свои записи.
Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто в моем сочинительстве есть что-то мистическое: то, что я сочиняю в темноте, по ночам, это всего-навсего привычка, которая сложилась в те годы, когда у меня не было возможности ночью зажигать свет и мне приходилось обходиться без него».[54]
За короткое время Гамсун написал тридцать страниц. Теперь надо было показать их редактору. Денег у Кнута не оставалось. Правда, по приезде в Копенгаген он, по совету Виктора Нильссона, познакомился с редактором журнала «Ню Юрд» — «Новая земля» — господином Карлом Беренсом. При первой же встрече Беренс купил у Гамсуна статью о Кристофере Янсоне.
Кнут очень ценил сотрудничество с журналом, потому что был буквально поражен списком его авторов — Эдвард и Георг Брандесы, Август Стриндберг и Ула Ханссон.
Но вот «Голод» автор тем не менее решил предложить не в «Ню Юрд», а в газету «Политиккен». Дело в том, что газету возглавлял брат Георга Брандеса,[55] которым Гамсун всегда восхищался.
Эдвард Брандес[56] принял молодого писателя лично. Впоследствии эту встречу изобразил шведский писатель Аксель Лундегорд, которому о ней рассказал сам Брандес.
«— Сегодня ко мне в редакцию, — сказал Брандес, — приходил поговорить один норвежец. Само собой, он принес мне рукопись! Но меня, честно говоря, поначалу заинтересовал больше автор, чем его творение. Я редко когда встречал людей в таком жалком состоянии. Если бы только его одежда была в лохмотьях! Видели бы вы его лицо! Уж вы-то знаете, что я не сентиментален, но меня его лицо потрясло.
Я стал смотреть его рассказ. Для моей газеты он был слишком велик: занял бы полномера. А для фельетона в подвале с продолжением в следующем номере — слишком мал. Я тут же сказал об этом норвежцу и хотел уж было вернуть ему рукопись, но тут посмотрел в его глаза за стеклами пенсне… и не смог отказать. Я пообещал прочитать его рукопись и записал его имя и адрес. Он откланялся.
Я не сразу стал читать рассказ, а принялся за свою текущую работу, но все никак не мог выбросить из головы норвежца, его бледное лицо и подрагивающие губы. Он произвел на меня очень сильное впечатление, не могу даже передать словами какое… Но теперь-то я уже все понял.
Я отправился домой и прихватил с собой его рукопись. И после обеда стал ее читать. Чем дальше я ее читал, тем больше она мне нравилась. Ее автор был не просто одарен, как многие другие литераторы. В его рукописи было что-то от Достоевского…
Прочитав половину, я вдруг понял, что автор живет в Копенгагене впроголодь. Мне стало невероятно стыдно, и я немедленно послал ему десять крон.
Потом я вновь продолжил чтение. Чем дальше я читал, тем стыднее мне становилось. А, закончив чтение, я чуть не умер от стыда».[57]
Гамсун действительно голодал в это время, его фантазии были полны «картин лихорадочных душевных метаний». В письме к Эрику Скраму он пишет:
«Я мог бы — порази меня Бог! — заполонить мир. Но если уж Достоевского считают безумным, то что скажут обо мне? Ведь все те странности, о которых пишет Достоевский в трех известных мне книгах, а других я и не читал, и даже большие странности я переживаю каждый день, стоит мне только пройтись по Готерсгаде. Увы!
Вы понимаете, что я совсем не стремлюсь к тому, чтобы заинтриговать Вас. Я лишь прошу позволения посвятить Вас, Вас одного, в эту тайну; я так взволнован, я плачу. Нет на свете людей, переживших большие муки душевного бреда, чем я. Кое-какие из них я перенес в „Голод“, но сейчас все думают, что безумные поступки, совершаемые „Андреасом Тангелом“, — последствия голода. Но это не так. Увы!
Люди, вероятно, вообще считают меня сумасшедшим. Но я — черт возьми! — не сумасшедший!
…Однако мои нервы в ужасном состоянии. Этого я не отрицаю».
Эдвард Брандес оказался порядочным человеком: он не только оценил талант «норвежца», но и помог ему напечатать «рассказ» в «Ню Юрд».
До сих пор критики спорят, почему появившийся в ноябрьском номере журнала фрагмент «Голода» был, по просьбе самого Гамсуна, напечатан анонимно, ведь Кнут всегда не просто хотел, а стремился стать знаменитым.
Недоброжелатели писателя утверждают, что это было своего рода кокетством, стремлением разжечь интерес к книге, которая, по твердому убеждению Гамсуна, должна была стать «прорывом». Надо честно признать, что в желании прославиться нет ничего особенного, ибо стать известным мечтает, пусть даже в глубине души, любой литератор. Очень может быть, что Гамсун смог реально оценить свою книгу — и потом, выражаясь современным языком, «раскрутить» себя.
Пусть так, но каких нечеловеческих затрат — моральных и физических — эта «раскрутка» потребовала!
В рождественские дни 1888 года он пишет Скраму: «Вчера у меня было кровотечение горлом, но не сильное, и уж тем более не такое сильное, как в прошлый раз. Стало быть, что-то не в порядке с горлом или желудком. Но я всегда прихожу в странное состояние при виде собственной крови». А в письме Нильссону в январе 1889 года просит простить его за долгое молчание, поскольку «все равно это были бы письма о голоде, полные жалоб, а такие письма получать не очень-то приятно, а мне неприятно и писать их; такой уж, знаете ли, у меня нрав».
Гамсун имел право на кокетство, даже если оно имело место, и на славу, теперь уже совершенно очевидно, заслуженную.
Как бы то ни было, но после публикации отрывков из «Голода» скандинавский Парнас стало лихорадить: не заметить этого произведения было просто невозможно. Особенно интересует публику имя анонима.
В статьях, опубликованных в период с 19 по 30 ноября 1888 года в норвежской газете «Верденс Ганг», критиками ведется оживленная дискуссия как о самой книге (мы намеренно не называем «Голод» романом), так и о ее возможном авторе. В последней статье (от 30 ноября) высказывается предположение, что это Кнут Гамсун, «проживающий нынче в Америке, откуда он несколько раз присылал статьи в нашу газету».
Исследователи творчества Гамсуна также высказывают предположение, что он не хотел раскрывать свое имя до тех пор, пока вся книга не будет написана, ведь к тому времени «Голод» был уже почти завершен. В письме другу он говорил, что хотел бы издать его анонимно — уж больно «неприличной» и скандальной получилась книга.
Опубликовать отрывок Гамсуна вынудила нужда — и в том нет никаких сомнений. Самое удивительное, что именно нужда и голод и принесли ему известность.
Как только стало понятно, что «Голод» действительно написан Кнутом Гамсуном, дела его пошли на лад. Его, наконец, приняли в литературное общество. Он познакомился с Александром Хьелланном, Хансом Йегером и, конечно, Эриком и Амалией Скрам.[58]
А вот с деньгами у Гамсуна по-прежнему было плохо. Правда, «Голод» решил издать П. Г. Филипсен, которому принадлежал «Ню Юрд», и даже выплатил писателю аванс (100 крон), не дожидаясь сдачи рукописи, над которой тот продолжал работать, но эти деньги были немедленно Гамсуном потрачены. По одной версии, на уплату долгов, по другой — на короткую поездку в Швецию.
На что же жил писатель? Мы не раз говорили, что судьба была к нему благосклонна. Вот и теперь у него нашелся благодетель — вновь торговец, меценат, издатель «Библиотеки для тысячи домов» норвежец Юхан Сёренсен. Господин Сёренсен прислал Кнуту, в ответ на его просьбу, двести крон и предложил выплачивать ежемесячную стипендию. Деньги Гамсун с благодарностью принял, а вот от стипендии отказался — он уже надеялся на постоянный заработок.
На присланные Сёренсеном 200 крон Гамсун покупает себе приличную одежду и снимает другую комнату — получше и попросторнее.
* * *
В январе его приглашают прочитать лекцию для студентов Копенгагенского университета и предлагают приличное вознаграждение. Гамсун соглашается и выступает два раза — 15 декабря 1888 года и 12 января 1889 года. Говорил он о духовной жизни Америки. Лекции имели такой оглушительный успех, что Филипсен предложил Гамсуну отложить на время работу над «Голодом» и сначала собрать из своих докладов книгу.
На следующий день после второй лекции Кнут пишет Нильссону:
«Опубликованный отрывок из „Голода“ — лишь одна из четырех частей, объединенных общей темой; когда все они будут готовы, получится книга; а когда будет готова книга, я пошлю ее Вам. Но для этого нужно время.
Сейчас я занят написанием книги о духовной жизни современной Америки. Это, собственно, расширенное и дополненное издание двух докладов, которые я прочел в Студенческом обществе в Копенгагене за две последние недели. Издательская фирма Филипсена тут же предложила мне свои услуги, и я согласился, но материал требует существенной доработки. Именно этим я сейчас и занимаюсь.
Доклады были встречены с совершенно незаслуженным восторгом. Я никогда не выступал перед более благодарной аудиторией. Я решил, что они все просто сошли с ума. Георг Брандес присутствовал на моем последнем докладе и так тепло отзывался обо мне, как я только мог об этом мечтать. Если бы я действительно заслужил хотя бы половину из его похвал, то и тогда был бы великим человеком. Но я исхожу из того, что Брандес снисходителен — снисходителен к начинающим. И поэтому осторожно отношусь к его похвалам — даже более чем осторожно. Книга скоро выйдет, и Вы ее получите. Обещаю Вам».
Работа над книгой продвигалась очень быстро — и, несмотря на то, что ее начинали набирать, когда две последние части еще не были готовы, Гамсун успел к сроку и сдал рукопись 3 марта 1889 года.
Книгу очерков «О духовной жизни современной Америки» некоторые литературоведы даже называют памфлетом, настолько резко и язвительно выступил в ней Гамсун, обличая существующие и несуществующие пороки «заморского» общества.
«Правдивость — не двусторонность и не объективность… это бескорыстная субъективность» — таков эпиграф к книге, и это объясняет позицию автора: самое главное для него — абсолютная искренность. Роль субъективного фактора в книге столь велика, что за внешней объективностью суждений отчетливо слышен иронический голос Гамсуна.
;Квинтэссенцию книги можно выразить несколькими словами: американское общество переживает глубокий культурный застой.
Такие взгляды были присущи писателю далеко не всегда. Уезжая в Америку, он буквально грезил о стране невиданных возможностей. В письме домой он утверждал, что «испытывает восторг оттого, что находится в самой прекрасной и свободной стране на свете, справедливым устройством которой не могу не восхищаться». Американскую Декларацию независимости Гамсун называет «самым благородным и выдающимся законом в истории страны». Однако после нескольких лет жизни в США взгляды писателя резко изменились.
В своей книге он раскритиковал американскую литературу тех лет за ее провинциальность, несвободу и отсутствие вкуса, за пуританскую мораль, ибо, чтобы не прослыть возмутителями общественного спокойствия, писателям приходится «изъясняться многоточиями», а художникам остается «живописать… одежды». Литературу США Гамсун называл «беспросветно унылой и бездарной». Поэзия Уитмена вызвала у него скептическую иронию. Исключение он сделал лишь для Марка Твена. Правда, Гамсун не отрицал возможности развития американской литературы, но сомневался в том, что это вообще возможно.
Америка представлялась ему сборищем людей со всего света, страной столь нелюбимого им технического прогресса, разрушающего духовность, страной грохота, машин и — черного неба.
«Однако далеко не всё в картине американской жизни, нарисованной Гамсуном, выглядит убедительно, — пишут Э. Л. Панкратова и А. В. Сергеев. — Многие суждения продиктованы его антидемократической позицией, отрицательным отношением к идеям свободы и равенства, эстетскими представлениями об утонченной духовной культуре. Борьба против рабства для Гамсуна не что иное, как борьба против аристократии. „Настолько далеки американцы от аристократизма, что даже последняя знаменитая война, которую они вели, в сущности, явилась войной против аристократии. Может, даже это не столько была война в защиту морали и за освобождение негров, сколько война за уничтожение аристократов Юга“. Он хочет вывести на чистую воду „капиталистов в северных штатах“, которым „чуждо стремление к высотам духа, к аристократизму, к духовному избранничеству“».
«У республики явилась аристократия, — говорит Гамсун, — несравненно более могущественная, чем родовитая аристократия королевств и империй, это аристократия денежная. Или, точнее, аристократия состояния, накопленного капитала… Эта аристократия, культивируемая всем народом с чисто религиозным благоговением, обладает „истинным“ могуществом средневековья… она груба и жестока соответственно стольким-то и стольким-то лошадиным силам экономической неколебимости. Европеец и понятия не имеет о том, насколько владычествует эта аристократия в Америке, точно так же как он не представляет себе — как бы ни была ему знакома власть денег у себя дома, — до какого неслыханного могущества может дойти эта власть там».
Полемические суждения Гамсуна, оформленные в книгу очерков, прозвучали для слушателей совершенно неожиданно и вызвали широкий общественный резонанс и ожесточенные нападки. Началась настоящая битва титанов: с одной стороны с резкой критикой выступали Бьёрнсон и ряд других писателей как в Норвегии, так и за ее пределами, с другой — в защиту Гамсуна выступили Г. Брандес и А. Стриндберг. Последний в письме к Брандесу в апреле 1890 года отмечал, что Гамсуну «удалось в ней высказать именно то мнение», которое у самого Стриндберга «лежало на душе мертвым грузом».[59]
Впоследствии Гамсун изменил свой взгляд на американскую действительность. Ровно через двадцать лет после выхода в свет своей книги в письме Йоханнесу В. Йенсену он назвал ее «грехами и заблуждениями молодости».
* * *
Книга, которую сам Гамсун не «считал достойной себя», а критику — «не делом настоящего писателя», принесла ему не только успех, но и деньги (960 крон — громадную по тем временам сумму), которые были нужны ему не только на жизнь, но и на выплату долгов друзьям. Одним из первых он вернул деньги Эрику Фрюденлюнду и его семье.
Он пишет старому другу письмо — и не знает, как его начать:
«Отныне и вечно! И во веки веков! Эрик, черт меня побери, если я знаю, как мне из этого выпутаться! Я сидел и думал шесть часов, целых шесть часов я думал и ни до чего не додумался.
Итак:
Если ты считаешь, что за эти долгие годы я тебя забыл, то ты ошибаешься.
Но пойми, когда у человека не ладится, он становится таким уязвимым, что перестает писать.
Сердечное тебе спасибо за твой добрый привет в письме Акселя, этим приветом ты облегчил мне начало письма.
Теперь-то всё у меня в порядке!
Надеюсь, мне больше не придется молчать от стыда. Я прекрасно знаю, что ты ни словом не упрекнул бы меня, даже если б я написал тебе, где я. Это-то меня и мучило. Ты понимаешь меня, правда?
Избави тебя Господь, Эрик Кнудссен Фрюденлюнд, испытать то, что испытал я! Ты и представить себе не можешь, как у меня порой подводило живот. И в Америке, и здесь, дома. Сколько раз мне случалось есть всего лишь раз в неделю. Я сидел и жевал спички. Сухая пища, друг мой! И твердая! Черт бы ее побрал!
Но теперь-то у меня все в порядке!»[60]
Дела шли все лучше и лучше. У Гамсуна было много работы (в том числе он написал язвительные статьи о Нансене, Ибсене и Ларсе Офтедале),[61] и он смог, к собственному облегчению, потому что всегда тяжело относился к заемам, вернуть большую часть долгов своим старым друзьям.
* * *
Теперь к Гамсуну пришел настоящий успех. Он стал модным. У него появились верные друзья в Копенгагене, и среди них — Эрик и Амалия Скрам. Они, собственно, и представили его литературному обществу Дании.
Эрик Скрам всегда стремился помочь молодым норвежским писателям, особенно в то время, когда интерес его соотечественников к норвежскому искусству и литературе, господствовавшим в культурной жизни Копенгагена в 1830-е годы, стал пропадать. Он помог литературной карьере не только Гамсуна, но и другого норвежского писателя — Габриэля Финне.
В 1889 году Кнут был приглашен на Рождество к Георгу Брандесу.
«Эта была еще одна большая победа, — пишет Туре Гамсун. — Первый раз он был допущен в такой изысканно культурный дом, где полы были устланы мягкими персидскими коврами, кресла — глубоки и удобны, а стены — украшены картинами французских мастеров в светлых рамах. Здесь Гамсун впервые увидел Сезанна, К. Моне, Э. Мане и Гогена — произведения, которые год назад были выставлены в Копенгагене и произвели сенсацию. Для Гамсуна это был новый язык и новая красота, а живой остроумный маленький доктор был гостеприимным хозяином и делал все, чтобы Гамсун чувствовал себя здесь как дома».[62]
У Кнута появляется много новых знакомых и покровителей, но не забывает он и старых друзей. В 1889 году Гамсун несколько раз ездит в Кристианию, но неизменно возвращается в Копенгаген, где ему хорошо работается. Он понимает, что ключ к его успеху в жизни — «Голод».
Гамсун работает так много, а нервы его так напряжены, что он вынужден отказываться от приглашений, часто очень выгодных для него. Так, он даже отверг приглашение самого Бьёрнсона, кумира юности, который предложил молодому писателю приехать к нему и пожить в Аулестаде целый год, прекрасно понимая, что не сможет ничего написать в усадьбе, где постоянно ведутся интересные беседы и где всегда много гостей!
В это же время приходит предложение от Норвежского национального театра в Бергене возглавить его. Гамсун был тронут и обрадован приглашением, однако, несмотря на фантастическое годовое жалованье в четыре тысячи крон, с легкой душой отказался. Как он объяснил друзьям, ему было лестно получить предложение, потому что ранее эту должность занимали и Бьёрнсон, и Ибсен, но согласиться он не мог, поскольку почти не разбирался в театре. Но основной причиной, вероятно, было опасение вновь оторваться от работы над «Голодом». Такой роскоши Гамсун себе позволить не мог!
Весной 1890 года книга была завершена и практически тут же напечатана.
* * *
«Голод» можно считать автобиографическим произведением, в котором рассказывается о страшных и горьких месяцах жизни писателя в Кристиании.
Ледяное равнодушие, пренебрежение, черствость и жестокость — вот с чем приходится сталкиваться герою книги, испытывающему моральные и физические мучения. Лишь на самом дне, в жалких, грязных «комнатах для приезжих» герой находит сострадание и понимание. Общество ничего не хочет знать об «униженных и оскорбленных», о тех, кто оказался за бортом, чтобы никоим образом не нарушить свой покой.
«Голод» невозможно уложить в какую бы то ни было традиционную схему, невозможно даже определить жанр книги. Сам Гамсун не хотел называть «Голод» романом, а один из критиков в рецензии писал, что «это произведение нельзя назвать ни романом, ни новеллой, ни рассказом. Ему тесно в рамках понятий, разработанных до настоящего времени эстетической наукой. Это оригинальная, добротно выполненная работа, эпос в прозе, „Одиссея“ голодающего».
Книга, по существу, не имеет сюжета и рассказывает о жизни в Кристиании молодого человека, мечтающего стать писателем.
«Голод» — это поток сознания отчаявшегося, метания души, заключенной в измученном теле. При этом герой «Голода» — не обыкновенный человек, а гений, который не собирается взывать к общественному состраданию, а старается сам преодолеть выросшие на его жизненном пути невзгоды. Ему проще испытывать муки голода, но только не отказаться от собственных амбиций и планов.
«Это герой Достоевского, — писал американский критик Альрик Густафсон, — больной душой и телом, он превращает свою внутреннюю жизнь в сплошной поток галлюцинаций».
Герой «Голода» отдает себе отчет в том, что его состояние, быстрая смена настроения, переходы от отчаяния и гнева к эйфории — результат голода, но, с другой стороны, вызванные этим состоянием возникающие в сознании невероятные картины — это выражение его собственных желаний, надежд, и порождены они его разладом с миром, невозможностью войти в этот мир и найти в нем свое место. Он страдает не только от голода, но и от отсутствия социальных контактов и внутренней неудовлетворенности. Замкнутость человека в своем внутреннем мире делает почти невозможным человеческое взаимопонимание.
По выражению одного из переводчиков «Голода», современного американского поэта Роберта Блая, «живость и острота прозы Гамсуна потрясли всех». Книга написана короткими, емкими фразами, ясные и четкие описания чередуются с намеренно субъективными и многозначительными.
«Голод» был написан в то время, когда Артур Шопенгауэр, Эдуард фон Гартман, Фридрих Ницше, Август Стриндберг призывали обратить внимание на сложные подсознательные силы, которые управляют человеческой личностью.
Искусство социально ориентированное, к созданию которого в начале 1870-х годов призывал Г. Брандес, базировалось на идеях рационализма и естественно-научного материализма. К началу 1890-х годов оно переживало глубокий кризис, ибо уже не удовлетворяло духовных запросов молодых писателей, стремившихся выразить в художественном произведении свою собственную неповторимую творческую индивидуальность. Не случайно, сам Брандес одним из первых деятелей культуры в Скандинавии обратился к Ницше. В эссе «Аристократический радикализм» (1889) он объяснил свой интерес к творчеству немецкого философа потребностью в новых идеях, которые смогли бы вдохнуть новую жизнь в литературу Скандинавии, «слишком долго питавшуюся идеями прошлого десятилетия: какими-то теориями наследственности, немного дарвинизма, немного атеизма, немного женской эмансипации, немного культа народа и т. п.».
Тем не менее «Голод» Брандес принять не смог. В своем письме к известному критику Гамсун пишет:
«Господин доктор Брандес!
Я думал над Вашими словами о моей книге. Я не ожидал услышать от Вас, что она однообразна. Во-первых, действие в ней развивается в течение каких-то месяцев, а за такое короткое время вряд ли может произойти больше того, что я описал; во-вторых, я сознательно отказался от расхожих писательских приемов с изображением самоубийств, женитьбы, поездок на природу и бала у богатого торговца — это для меня слишком банально. Меня интересовало просто бесконечное движение души, и я считаю, что в „Голоде“ мне удалось описать психологические состояния, непривычность и новизна которых, во всяком случае, никак не могут утомлять однообразием. С первой и до последней страницы не повторяется ни одно чувство, то есть ни одно не похоже на предыдущее или последующее.
Мою книгу не следует воспринимать как роман. Достаточно других писателей, бросающихся писать роман, как только речь заходит о голоде, — от Золя до Хьелланна. Все они так и поступают. И если „Голоду“ не достает композиционной стройности, присущей роману, что, быть может, и создает невыгодное впечатление, то этот упрек следует принимать не более как совет, особенно если учесть, что я решил писать не роман.
Вчера вечером Вы, видимо, не успели прочесть достаточно, чтобы уловить внутреннюю связь и составить цельное впечатление о книге. Например, сцена, где „я“ ругает Небо, не вызвала у Вас иных ассоциаций, кроме слова „негодяй“; но сцена эта — выражение самого яростного гнева против Неба, которое я когда-либо видел напечатанным. И я не думаю, чтобы могло существовать что-то более сильное.
Если мы займемся подсчетами, то я полагаю, что, например, в „Преступлении и наказании“, так же как и в „Жермини Ласерте“, будет не больше душевных переживаний, чем в моей книге. Отчего же тогда моя книга более однообразна по сравнению с этими произведениями? Ведь в них так же, как и в моем, доминирует одно-единственное чувство. (Я надеюсь, что Вы не заподозрите меня в сравнении достоинств моей книги с вышеназванными; достоинства — это особый разговор. Я ни в коей мере не являюсь самонадеянным дураком.)
К следующей своей вещи я напишу длинное предисловие с тщательно обдуманными и обстоятельными разъяснениями. Мне стоило бы сделать это сейчас, но нет времени. Пусть все идет так, как идет, я ничего не могу изменить.
Я сделал попытку написать не роман, а книгу без женитьбы, поездок на природу и бала у богатого торговца, книгу об удивительных порывах чувствительной человеческой души, о причудливой жизни духа, нервных мистериях в голодающем теле. Я чувствую себя одиноким без Вас — если Вы лишаете меня Вашего понимания, то тогда, разумеется, незачем и продолжать. Я должен еще, наверное, добавить: я не прошу Вас сообщать о моей книге, я вовсе не так глуп, что бы Вы ни думали. Но то, что Ваше личное мнение о моей последней работе малоблагоприятно, является для меня ударом, у меня нет никого, кроме Вас. Именно потому, что моя книга — попытка создать что-то пусть не совсем новое, но своеобразное, я должен особенно внимательно прислушиваться к тому, что Вы о ней говорите.
Если бы Вы прочли „Голод“ целиком, то я был бы Вам очень благодарен. Взамен я обещаю не просить Вас прочитать мою следующую работу, но так как „Голод“ — моя первая настоящая книга, то мне необходимо знать, какое впечатление она производит.
Уважающий Вас
Кнут Гамсун».
* * *
«Голод» принес Гамсуну славу, и после появления романа он начал вести жизнь профессионального писателя. Помимо всего прочего, ему по-прежнему надо было возвращать долги, часть из которых так и продолжала «висеть» на нем, ведь, по его собственным словам, гонорар за «Голод» (210 крон) он «растратил, как свинья».
В письме Эрику Фрюденлюнду сразу после выхода «Голода» Гамсун пишет, что к Рождеству ему надо закончить следующую книгу. Это должна быть книга рассказов, за которые Гамсун рассчитывает получить какие-нибудь деньги и сразу же отослать их своему другу в Валдрес, чтобы тот «закрыл» серию очередных долговых выплат.
Гамсун измучен, морально и физически: бесконечная работа, практически без отдыха, не могла не действовать пагубно на его состояние. Он даже пишет Эрику: «Тебе хорошо, ты женат, у тебя дом, счастье и никаких забот!» И даже просит подыскать ему невесту, потому что «так устал шататься по свету в одиночестве, не имея рядом близкого человека, на которого бы я мог рассчитывать, не имея дома, переезжая из одного отеля в другой, из страны в страну, пересаживаясь с поезда на пароход. Я так устал, что сил у меня просто не осталось!»
Неудовлетворенность вызывают и плохие продажи «Голода»: первый тираж в 2 тысячи экземпляров разошелся с трудом. Однако это не помешало немецкому издательству купить права на книгу и издать ее в том же году на немецком языке.
Поскольку для работы над новой книгой нужны были прежде всего соответствующие условия и возможность сосредоточиться на тексте, Гамсун уезжает в норвежский городок Лиллесанд (буквально Маленький песчаный пляж), красивый и опрятный, который он, однако, вскоре невзлюбил и окрестил Филлесандом (Грязным пляжем).
Работать ему было тяжело — соседом по гостиничному номеру оказался «безумный музыкант», который пиликал на скрипке день и ночь.
Зато вскоре в Лиллесанд приехала молодая англичанка, которая решила перевести «Голод». Звали ее Мэри Данн. Это была богатая вдова двадцати девяти лет. Мэри тоже писала книги, и «Голод» произвел на нее большое впечатление.
Мэри и Кнут проводили много времени вместе. Завесу над их отношениями приподнимает рассказ «Пришла весна»,[63] написанный Данн по возвращении в Англию. Из него становится понятно, что англичанка была влюблена в Гамсуна и тому это было приятно, но он сразу дал понять молодой женщине, что его интересы ограничиваются переводом «Голода» на английский. Впоследствии писатель даже утверждал, что Мэри Данн сделала ему предложение руки и сердца. Так это или нет, мы не знаем, однако точно известно, что издателя на свой перевод «Голода» англичанка не нашла, и вскоре ее переписка с Гамсуном прекратилась.
* * *
Работа над сборником рассказов не клеилась, и Кнут решает написать роман. Это будут «Мистерии».
Но поскольку «Голод» многие не приняли, а кто-то счел просто «безнравственной» книгой, то Гамсун начинает писать статью «О бессознательной духовной жизни», которую литературоведы считают «программной» и «своеобразным комментарием» к «Голоду».
Она, действительно, позволяет многое понять в творчестве писателя. Гамсун говорит в ней о творческих личностях — людях тонкой душевной организации, которым присуща способность уловить «далекие сигналы из глубин воздушного пространства и морской стихии, мучительная и изумительная в своей остроте способность воспринимать звуки, позволяющая улавливать даже трепетание неведомых атомов, о существовании которых только догадываешься…»[64]
Для Гамсуна важно расслышать, различить и описать «безграничный хаос ощущений, причудливой жизни фантазии… загадочность нервных явлений, шепот крови, молитву суставов, всю подсознательную деятельность», а интуиция, мечта, фантазия в конечном счете оказываются более надежным инструментом исследования духовной жизни, чем позитивистская наука.
Статьей «О бессознательной духовной жизни» Гамсун очень гордился и был рад, когда ее напечатали в журнале «Самтиден».
Его счастливое письмо Эрику Фрюденлюнду звучало так:
«… Меня сейчас совсем замучил геморрой, или почечуй, заболевание заднего прохода, как тебе, наверное, известно, он свалился на меня, словно снег на голову. Сидеть не могу, пишу стоя и при всем при том испытываю адскую боль.
…Я только что закончил работу, которая будет опубликована одновременно в бергенском „Самтиден“ и в одном норвежском журнале. Тебе следует выписать „Самтиден“, он стоит всего лишь пять крон за год, это наш единственный журнал, к тому же он очень хороший.
…В октябре я поеду в Берген, прочту там лекцию по приглашению».[65]
Турне было совершено Гамсуном в 1890–1891 годах, и результатом его стала революция на норвежском Парнасе.
Глава седьмая РЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРНАСЕ
Со своими лекциями по литературе Гамсун проехал по всей Норвегии. Он имел такой оглушительный успех, что в некоторых городах даже пришлось отменять другие «увеселения» — например, в театре в Ставангере были отменены все спектакли в те дни, когда в городе выступал Гамсун.
У писателя было в это время две цели: совершить революцию на Парнасе, «расчистить» дорогу молодым писателям-психологам, свергнув старые авторитеты, и заработать денег, которых по-прежнему катастрофически не хватало.
Гамсун хочет писать, чтение лекций отрывает его от «Мистерий», и на несколько летних месяцев 1891 года он решает сделать паузу и приезжает поработать в «тихий уголок» Сарпсборг.
Гамсун писал, что «Мистерии» были созданы им в то время, когда он «был влюблен, был беден». В это время он пережил две любовные неудачи.
Первым увлечением была некая Каролина, работавшая горничной в отеле. Жители Сарпсборга реагировали на любовь Гамсуна так же, как и жители «маленького приморского городка» — на любовь Нагеля.
Другим увлечением писателя была в это время Лулли Льюис, которую писатель встретил в Кристиансанне у своих друзей Ханса и Каллы Неерос.[66] Лулли Льюис, по мнению многих исследователей творчества Гамсуна, стала прообразом Дагни Хьелланн. Однако отношения писателя и фрекен Льюис зашли в тупик, и Гамсун, разорвав помолвку, уехал из городка и постарался забыть о неудаче.
Он был очень удивлен, когда в 1935 году его адвокат, фру Сигрид Стрей, старая подруга Лулли, сообщила ему, что фрекен Льюис так и не вышла замуж, а свой разрыв с ним рассматривала как «величайшую трагедию жизни». Гамсун отвечал фру Стрей, что и предположить никогда не мог, что Лулли любит его.
Надо сказать, что Гамсун был необыкновенно красив и обаятелен, а уж тем более в молодые годы. На его выступления женщины ходили не столько послушать лекции, сколько посмотреть на лектора. Даже Арне Гарборг в своих воспоминаниях о турне Гамсуна не мог не отметить, как красив и, выражаясь современным языком, сексуален был автор «Голода». В письме к своей знакомой из Бергена Гарборг спрашивал в шутку, сколько дам завоевал Гамсун, а она отвечала ему: «Бог мой, он завоевал всех женщин Бергена. Они все пали к его ногам».
* * *
Осенью 1891 года Гамсун приезжает, наконец, в Кристианию, где читает три свои знаменитые лекции — «Норвежская литература», «Психологическая литература» и «Модная литература», в которых сформулированы основные принципы программы писателя, реализованные в его произведениях 1890-х годов.
Главным недостатком современной литературы, по мнению Гамсуна, является то, что она не удовлетворяет требованиям изображения психологической глубины. Признавая заслуги своих предшественников, представителей реалистической школы, «четверки великих» — Хенрика Ибсена, Бьёрнстьерне Бьёрнсона, Александра Хьелланна и Юнаса Ли, — он тем не менее считает, что они уже не могут служить примером для молодых норвежских писателей. Гамсун твердо убежден, что современный художник в первую очередь должен быть проникновенным психологом.
Сам того не зная, он следует за Зигмундом Фрейдом,[67] призывая понять происходящие в душе человека процессы, динамику его души, влечения, подавленные желания и представления, душевные конфликты — бессознательную духовную жизнь, которая должна быть главным объектом писателя.
Для литературы нового типа не годились тона и полутона реализма. Здесь были нужны новые средства: автор должен был описывать не только свет человеческого разума, но и тьму его подсознания.
Кроме того, когда иррациональное — антипод рационального — оказывается в центре внимания автора, из художественного произведения исключаются всякая тенденциозность и возможность моральной оценки. Искусство, по мнению Гамсуна, призвано быть «благородным», изображать «аристократов духа», утонченные, избранные натуры, к которым он причисляет и себя в силу своей особой нервной организации и художественного таланта.
Ниспровергающий пафос Гамсуна уравновешивался его высокой оценкой норвежской литературы в целом, «которая по праву пользуется известностью во всем мире». Однако эта литература годна лишь для «крестьянского населения» с его «мещанскими устремлениями». Поэтому «четверка великих» и пишет на потребу дня о «банкротстве фирм и мошенничестве, о судьбах влюбленной парочки и узкоколейки, о внутренних делах паствы прихода Святого Петра… об американских врачах-гинекологах и ошибках в норвежском переводе Библии».
Гамсун утверждает право писателя на изображение противоречивых, непоследовательных, «современных людей», переживающих кризисы и крушение надежд от колыбели до могилы, находящихся в нервном возбуждении, в душевной дисгармонии, в смутной, неопределенной тоске. Писатель имеет право писать обо всем субъективно. Новый герой и новый писатель-психолог должны, по мнению Гамсуна, обновить литературу, расширить рамки психологизма прежней, реалистической литературы, исследовавшей типические характеры в типических обстоятельствах в соответствии с наукой.
Лекции Гамсуна, по его приезде в столицу, вызвали такое внимание публики, что на них пришли многие известные деятели культуры: Эдвард и Нина Григ,[68] Фритьоф Нансен и даже Хенрик Ибсен, на которого (из норвежских писателей) молодой коллега нападал больше всего.
О предстоящих чтениях ходило много слухов. Говорили о словесной казни великих писателей, о надвигающемся скандале, поэтому нет ничего удивительного, что послушать Гамсуна собралось столько народа.
Скандал действительно грянул: молодой революционер камня на камне не оставил от классиков реалистической литературы.
Особую «пикантность» происходящему придавало присутствие на лекциях Ибсена, который был единственным из «четверки», пришедшим на выступление Гамсуна.
У нас есть воспоминания свидетелей и участников той знаменательной встречи. Особенно интересны воспоминания Хильдур Андерсен, последней музы Ибсена, талантливой пианистки.
Она вспоминала, как 7 октября вместе с Ибсеном сидела в первом ряду среди публики на первой в Кристиании лекции молодого Кнута Гамсуна. Гамсун был явно встревожен, обнаружив, что Ибсен принял приглашение и пришел на его лекцию. А пронзительный взгляд Ибсена, «неприкосновенной святыни» норвежской литературы, еще более усилил остроту нападок автора и одновременно увеличил его нервозность.
По словам Хильдур, Ибсен сказал ей через несколько дней: «Надеюсь, ты помнишь, что сегодня вечером мы идем на вторую лекцию господина Гамсуна?»
«Не хочешь ли ты сказать, — удивилась она, — что собираешься вновь отправиться слушать этого бесстыжего молодого господина?»
На что Ибсен ответил: «Должен же я поучиться, как мне следует писать свои вещи».
Своими лекциями, как мы уже говорили, Гамсун во что бы то ни стало пытался устранить старую литературу и заменить ее новой. А потому «четверку великих» надо было просто смести в сторону, убрать ее прочь с дороги!
Тем не менее литературоведы неоднократно с удивлением писали, насколько слеп был лектор в своем отрицании Ибсена, как не смог он разглядеть, что великий драматург уже давно встал на тот путь, за который ратовал сам Гамсун.
Самое интересное, что разглядеть своего преемника смог как раз Ибсен, который, справедливости ради стоит отметить, обладал не менее сложным и «упертым характером», чем Гамсун.
Зимой того же (1891/1892) года Ибсен начинает работу над пьесой, которая безоговорочно признана автобиографической, — «Строитель Сольнес». Сам автор и не отрицал, что строитель — он сам.
Совесть строителя нечиста: в прошлом он не был неподкупным и часто предавал собственные же принципы, да и перед будущим он в долгу, ибо часто давал надежды молодым и так же часто их не оправдывал.[69]
Суть «Строителя Сольнеса» — ответственность таланта. Поэтому главному герою противостоит еще один персонаж — молодой художник Брунвик, новый строитель, которому не дает пробиться Сольнес, но которого он оценивает по достоинству как талантливого человека. В образе Брунвика нетрудно узнать молодого Кнута Гамсуна.
Так что Ибсен прекрасно знал цену Гамсуну и понимал, что тот просто вынужден был выступить со своими революционными чтениями, чтобы расчистить себе дорогу.[70] Однако речи молодого коллеги его тем не менее сильно ранили.
Герман Банг[71] вспоминал, что как-то Ибсен присутствовал и на его лекции о «Гедде Габлер», в которой было указано на ряд неточностей в пьесе.
«Когда на следующий день, — пишет Банг, — я встретил Мастера на улице, он остановил меня и с какой-то мягкой иронией сказал:
— Вы были, по крайней мере, добры ко мне. (Он намекал на лекции Кнута Гамсуна, который скальпировал всю норвежскую литературу и предъявил публике отрезанную голову Хенрика Ибсена на золотом блюде своего красноречия.)».[72]
Надо сказать, что к критике весьма восприимчив был и сам Гамсун. Когда его три лекции, прочтенные в столице, вызвали резкое неприятие и многие журналисты разразились гневными статьями по поводу дерзости молодого писателя, Гамсун был очень уязвлен. Особенно же его задела резкая рецензия в «Верденс ганг», написанная редактором Томмесеном, которого он ценил и которого не смог простить: исследователи полагают, что именно Томмесен стал прототипом главного героя в созданном через несколько лет романе «Редактор Люнге».
Несмотря на нападки прессы, Гамсун продолжает турне с лекциями по Норвегии, а когда выдается время, работает над «Мистериями». По его замыслу, это должен быть роман, «подобного которому еще не было». Он хотел продолжить начатую в Кристиании революцию на Парнасе и совершить переворот в национальной литературе. «Я обязан написать этот роман хотя бы для четверки доморощенных пророков, — пишет он Скраму. — Меня переполняет материал, и я чувствую себя сильным, как лев».
«Мистерии» выходят в Копенгагене осенью 1892 года.
* * *
В «Мистериях», как и в «Голоде», писатель ставил перед собой задачу «исследовать иррациональную душевную жизнь современного человека». Поэтому нет ничего удивительного в том, что сын Гамсуна, Туре, назвал этот роман «самой странной, самой страстной и самой живописной из всех книг Гамсуна — неповторимым калейдоскопом необъяснимых сплетений, загадочным тропическим лесом».
Художественная архитектоника «Мистерий», самый принцип изображения жизненной ситуации, положенный в основу повествования, был отмечен новизной и оригинальностью.
Вся поэтика романа, система отношений его героев зиждутся на недосказанности, недоговоренности. Гамсун набрасывает на все происходящее покров тайны. Действие в его романе — драматичное, напряженное, строящееся на крайне острых психологических конфликтах и столкновениях — затянуто пеленой загадочности, неразгаданности. Истинные первопричины поступков действующих лиц, и в особенности главного героя романа Нагеля (он же Симонсен), скрыты под поверхностью событий.
Юхан Нильсен Нагель — главный герой книги, он же сам автор.
«С момента выхода „Мистерий“, — пишет Туре Гамсун, — и до сих пор идут споры о личности Нагеля. Идентифицировал ли себя Гамсун с тем, что Карл Нэруп называл в своей рецензии „карикатурой на гения, чужаком на Земле, идеей фикс Господа Бога“?
…Книгу можно толковать по-разному. Не считая героя „Голода“, от имени которого ведется рассказ, в „Мистериях“ Гамсун в первый и последний раз создал образ, во многом идентичный самому себе. Программа обязывала».[73] И далее: «С гордой аристократической неподатливостью, с нежным состраданием к отдельному человеку, с рабским унижением — он и есть Гамсун».
«Личность Нагеля расщеплена и полна противоречий, — пишет сам Гамсун о своем герое, — разочаровавшись в любви, выбитый из колеи пустотой будничного существования, он сходит с ума, теряет интерес к жизни и гибнет, бросившись в море».
Сюжет романа намеренно упрощен, ибо только так писатель мог создать «место» для подтекста. Подтекст — это основное слово для понимания самого феномена жизни и непостижимости ее загадки. Все в людской судьбе, все ее мистерии и неожиданные повороты — это проявления воли и желаний «таинственного зова жизни, и с этим уж ничего не поделаешь».
Дело происходит в небольшом городке, в который приезжает шарлатан Нагель, никому не известный и странный человек.
В романе «Женщины у колодца» (1920) Гамсун напишет: «В больших городах существует мнение, будто у жителей городков почти не бывает крупных событий: это ложный и обидный взгляд, ведь там бывают банкротства, мошенничества, убийства и скандалы совершенно такие же, как в большом свете».
Такие же удивительные события происходят и в маленьком городке «Мистерий», поскольку законы жизни одинаковы для всех.
Жизнь людей в романе как бы двоится, делясь на видимый слой, поверхностный и неистинный, и скрытый, таинственный и подлинный. Существует обычная, привычная жизнь, в которой все жители городка знакомы друг с другом, все друг другу примелькались и даже надоели. И существует жизнь, скрытая от людских глаз.
Но вот среди обывателей появляется бродяга Нагель, смущающий их своими разговорами и поступками. Он становится настоящим благодетелем для нищего и убогого Минутки, презираемого всеми горожанами, и бедной седой Марты, у которой хочет купить кресло, не имеющее никакой ценности. Внутреннее чутье Нагеля позволяет ему разгадать их тайны (Минутка некогда разбил сердце юной Марты и сломал ее жизнь), а заодно и проникнуть в сокровенную жизнь сонного городка: разглядеть тайные драмы и разбитые мечты, скрытые переживания и кипящие страсти, которые иногда выплескиваются наружу.
Собственно, Нагель ничего не знает точно, он обо всем догадывается, делает свои выводы на основе наблюдений, предположений, недомолвок, но догадки его наверняка правильные.
Самая же большая тайна, мистерия жизни, разгадать которую не по силам даже гению, — это таинство любви.
Этой силе человеку нет возможности сопротивляться, она захлестывает его, увлекает за собой — и часто губит, как это случается с бедным семинаристом Карлсеном. Он мучается от безответной любви к Дагни Хьеллан и кончает жизнь самоубийством, перерезав вены на руках.
Нагель издевается над его предсмертной запиской с цитатой из Виктора Гюго, но и самому ему не удается избежать любви к Дагни и не удается найти сил бороться с ней.
О герое романа мы ничего не знаем: Гамсун намеренно ничего не сообщает о нем читателю, ограничиваясь лишь скупыми намеками, из которых следует, что Нагель — представитель столичной богемы, ни во что не верящий, прожженный циник и скептик. Любовь к Дагни возродила в Нагеле надежду на счастливое будущее и возможность обретения внутренней гармонии, покоя в душе и, в конечном итоге, смысла собственного существования. Однако сил бороться за свою мечту у него не хватает — и он погибает, кончает жизнь самоубийством, проклиная свою неудавшуюся жизнь…
Мы уже говорили, что Гамсун замышлял «Мистерии» как продолжение полемики с реалистической литературой. И это действительно так. В романе повторяются многие из положений, выдвинутых в лекциях. Кроме того, в поле критики Гамсуна попадают все те же писатели-реалисты.
Для русского же читателя роман интересен еще и тем, что особое внимание Гамсун уделяет Толстому, который является одной из его главных мишеней.
Тема эта впервые затрагивается в разговоре Нагеля с фрекен Хьеллан (в восьмой главе), которая спрашивает: «Что вы думаете о Толстом?» — «Мне он не нравится, — отвечает Нагель, — хотя мне нравятся „Анна Каренина“ и „Война и мир“». На том разговор и кончается, но Толстой вновь становится предметом беседы, теперь уже главной темой, на мальчишнике Нагеля. Основная суть высказываний о главном герое: «Он великий писатель, но как философ он дурак…»
Подобное же мнение, правда, в совершенно другой форме, Гамсун выскажет в книге путевых очерков о путешествии на Кавказ «В сказочном царстве»:
«„Война и мир“ и „Анна Каренина“ — лучших произведений в этом жанре никто не написал.
…Что мне, насколько я понимаю, не нравится, это — попытки великого писателя стать философом. Это превращает его творчество в позу.
…Философия Толстого является смесью старых банальностей и его собственных, удивительно несовершенных затей».
Сам Гамсун никогда философией не занимался, он всегда хотел наблюдать за мистериями духа и жизни и, столкнувшись с ними, замирал как перед величайшей загадкой.
Все исследователи творчества Гамсуна в один голос говорят, что в «Мистериях» заметно влияние Достоевского.
«Отец читал „Преступление и наказание“ Достоевского, — пишет Туре Гамсун, — и до „Мистерий“, и во время работы над книгой. Он признавал, что Достоевский — писатель, у которого он научился многому, гораздо большему, нежели у других литераторов. Достоевский для него — великан, колосс, обладающий поэтическим гением, способный раскрыть красоту души человека, его отзывчивость и способность к самопожертвованию. Но, оставшийся в одиночестве, Нагель не склонится перед горькими слезами Сонечки. Ему нечего сказать людям. Ему проще ответить за содеянное — и погибнуть. Быть может, за совершенное некогда убийство? То нам не ведомо, это приходит к нему в ночных кошмарах. Самоубийство — выход для Нагеля, конец его мучениям.
Тридцать лет спустя Гамсун вернется к причинам, толкающим человека на великий грех самоубийства. Тогда он напишет роман „Последняя глава“. Но там, правда, все закончится совсем по-другому».
«Ранние романы Гамсуна „Голод“, „Мистерии“ и „Пан“ ввели в литературу „современного человека“ — исключительного героя в исключительных обстоятельствах, голодного, бездомного, одинокого, но жадного до жизни и мечтательного, — пишет скандинавист Г. Шатков. — Этот герой молод, восприимчив к красоте мира, непредсказуем в своем поведении; он мечтает писать великие книги в столице, или, как Нагель, влиять на умы людей в маленьком норвежском городке, или, как Глан, слиться с природой в лесной чаще. Он чувствует в себе силы для этого, но реализовать свои мечты не может и потому пропадает в безвестности или погибает. Ранние романы Гамсуна — это книги, воспевающие расточительную щедрость чувств и беспечную молодую любовь; они проникнуты благодарностью за миг человеческой жизни, когда „алая кровь горит огнем нерастраченных сил“. Но, вместе с тем, эти романы трагичны и свидетельствуют о тревоге автора за будущее его героев. Свое жизнелюбие и свою тревогу Гамсун передал с щемящей художественной силой, в изумительном языковом и композиционном стиле лирической прозы».
* * *
Гамсун в качестве одного из своих литературных кумиров называл Достоевского.
Как и Достоевский, Гамсун считал, что литература должна уделять как можно больше внимания душевному состоянию человека, «тайным движениям, которые незаметно происходят в дальних уголках души, необъяснимому хаосу ощущений, тончайшей жизни фантазий», то есть бессознательной духовной жизни.
Лев Толстой — в противоположность Достоевскому — «не устраивает» Гамсуна прежде всего потому, что не исследует, по мнению великого норвежца, духовной жизни человека, но пускается в философствования и учит жизни. В 1870 — 1880-х годах, пишет Гамсун, «появились произведения, которые были не столько продуктом вымысла, сколько прилежания и рассудочности. Можно было писать о чем угодно из жизни простых людей, следовало только быть „верным действительности“, благодаря этому в разных странах появилось много крупных писателей… Они стали вождями, они все знали и всему учили».
К таким вождям Гамсун относит и Льва Толстого, которому отказывает в праве «быть мыслителем и учителем жизни», ибо философия Толстого — это «смесь старых банальностей и далеких от совершенства собственных откровений».
К 1892 году писатель прочитал все произведения Достоевского, переведенные на норвежский язык. Над кроватью Гамсуна, в которой он и умер, висел портрет великого русского писателя.
Этот портрет был прислан Гамсуну одной из многочисленных поклонниц. Сын Гамсуна вспоминал:
«Книги Гамсуна издавались огромными тиражами в России, где у него было много восторженных почитателей. Ему писали офицеры и студенты с просьбой прислать автограф, русские княгини с литературными амбициями присылали ему украшенные короной любовные письма на английском, немецком и русском языках. Станиславский и Немирович-Данченко ставили его пьесы, и они шли с огромным успехом. Письма из Московского Художественного театра были увенчаны чеховской чайкой — они прилетали словно вестники победы».
Гамсун пишет Марии: «Вчера одна русская дама, которая просит у меня автограф и фотографию, прислала мне большую литографию с портрета Достоевского. Как интересно! Ведь Достоевский — единственный писатель, у которого я чему-то научился, он — самый великий из всех русских гигантов. Я вставлю этот портрет в рамку, и я пошлю этой даме красивый — а, может, лучше сказать, необыкновенно красивый или очень тонкий? — портрет господина Гамсуна, даже если ты рассердишься!»
После прочтения «Униженных и оскорбленных» Гамсун писал: «Книга убила меня, я был вынужден пойти и прогуляться, но так и не смог унять дрожи, сотрясавшей все тело».
Насколько хорошо Гамсун знал творчество Достоевского, стало очень важно в 1892 году, когда ему будет предъявлено обвинение в плагиате.
В новелле «Азарт», написанной в 1889 году, были найдены элементы сходства с «Игроком» Достоевского. «Игрок» впервые вышел на норвежском языке в 1889 году, и Гамсун, сразу же заметив сходство, попытался вернуть рукопись своей новеллы из редакции норвежской газеты «Верденс Ганг». Однако было слишком поздно, и в 1892 году разразился скандал. Позднее «Азарт» был переработан и под названием «Отец и сын» включен в сборник рассказов 1903 года.
В деле плагиата слово лучше предоставить самому Гамсуну, который, это стоит подчеркнуть, никогда не лукавил и свое честное имя ценил очень высоко.
В июне 1892 года он пишет свой немецкой переводчице:
«Дорогая сударыня!
Я только что получил статью из „Фрайе Бюхе“,[74] в которой меня обвиняют в плагиате. Мне советуют на нее ответить. С чего бы? Я никогда не отвечаю на подобные нападки.
Но именно Вам я хотел бы дать пояснения по этому вопросу.
Я не читал „Игрока“ Достоевского, когда работал над своим „Азартом“, да и давно это было. Уверяю вас, что если бы я прочитал это произведение, то уж точно написал бы свой рассказ по-другому — из одного только чувства самосохранения. Черновик к „Азарту“ был сделан мной очень давно — еще в Америке.
…Я прочитал роман Достоевского после того, как закончил работу над „Азартом“. Но, быть может, я слышал от кого-то рассказ о нем или читал рецензии? Такой возможности я не исключаю, да и доказать ничего не могу…
Если порыться в моих набросках, то, верно, сыщется материал на целый большой роман — в частности, мои собственные переживания от азартных игр, — так что мне есть чем объяснить сходство между нашими с Достоевским произведениями об игре. Но все мои оправдания будут бессмысленны.
Я прошу Вас ни при каких обстоятельствах и условиях не публиковать мое письмо. Мне претит оправдываться.
…И под конец хочу Вас спросить: быть может, вы знаете, как называется тот роман Достоевского, где появляется мой слуга из „Азарта“? Не знаю, переведен ли он на норвежский. Я не намерен более говорить о влиянии на меня Достоевского; за последние несколько лет я прочел, пожалуй, практически все его переведенные на норвежский произведения. Он чувствует так же, как я, — мне это совершенно очевидно, — и пишет так же, как я, только намного тоньше, выпуклее и богаче, ибо он — гений. Но мне тем не менее представляется странным, что кто-то может утверждать, что я мог чему-то у него научиться еще до того, как мне стало известно, кто он такой».
Позиция Гамсуна совершенно ясна. Она не менялась со временем, поскольку сам писатель был абсолютно уверен в собственной правоте, но тем не менее досадное недоразумение омрачало ему жизнь.
В 1893 году он пишет своему ярому противнику, редактору «Моргенбладет» Вогту:
«Я прочитал Вашу последнюю рецензию на мою книгу, в которой Вы вновь возвращаетесь к истории о моем якобы плагиате. Поэтому я считаю своим долгом ответить Вам исключительно в частном порядке. И я не хочу, чтобы хоть одно слово из этого моего письма было опубликовано.
…Неужели Вы действительно считаете, что я настолько туп — не говоря уже об отсутствии у меня элементарной порядочности, чтобы стать плагиатором? Я прочитал „Игрока“ Достоевского через полгода после окончания работы над „Азартом“, а в тот момент мой рассказ уже давно был в редакции „Верденс Ганг“. На следующее же утро после того, как я прочитал „Игрока“, я немедленно отправился в редакцию и попросил дать мне возможность переработать рукопись, но „Азарт“ уже был в наборе.
…Если бы это действительно был плагиат, неужели Вы считаете, что я настолько туп — не говоря уже об отсутствии у меня элементарной порядочности, чтобы дать согласие на перевод этой вещи на английский и немецкий?
У меня есть материал для целого романа об игре — собственные мои впечатления, и, собственно, именно страсть объясняет сходство между самыми разными произведениями об игре… Больше об этом мне и говорить не хочется».
Гамсун был слишком горд, чтобы оправдываться, а быть может, считал, что своими объяснениями только подольет масла в огонь. Кроме того, он считал, что развязанная в немецкой прессе дискуссия о плагиате была «срежиссирована» норвежскими писателями, живущими в Германии и обиженными выступлениями против них Гамсуна.
Первым «подозреваемым» стал Арне Гарборг, выпустивший в 1890 году роман «Усталые люди». В критических отзывах на «Мистерии» журналисты часто сравнивали «Усталых людей» с этой новой книгой Гамсуна — и, естественно, не в пользу последней. Гарборга даже называли «альтернативой» Гамсуну. Был ли Гарборг замешан в «немецкое дело», сказать трудно, но Гамсун считал, что без него не обошлось, потому что, помимо обвинения в плагиате у Достоевского, в статье был еще и прозрачный намек на плагиат у Гарборга (из его романа «Студенты-крестьяне»).
Так или иначе, но история получилась неприятная. Можно предположить, что только сильный характер Гамсуна и уверенность в своей правоте помогли ему «пережить» ее и продолжать работать.
Следующим романом стал «Редактор Люнге» — ответ уже не «четверке великих», а злобным критикам и критиканам.
* * *
Как всегда, работать в больших городах, где у него находилось много друзей и знакомых и слишком велик был соблазн развлечений, Гамсун не мог, а потому уехал заканчивать роман на датский остров Самсё.
Вскоре были написаны два памфлетно-критических романа — «Редактор Люнге» (1892) и «Новые всходы» (в оригинале — «Новая земля», «Ny Jord») (1893), — имеющие, как считают многие исследователи творчества Гамсуна, ныне чисто историко-литературное значение.
В «Редакторе Люнге» Гамсун дорассказал историю Дагни Хьеллан, вышедшей замуж за морского офицера и ставшей светской дамой, но по-прежнему помнившей о Нагеле.
В этом романе Гамсун очень зло, как истинный сатирик, нарисовал образ беспринципного газетного дельца, который считал возможным диктовать народу, как ему развиваться дальше.
Роман по праву называют приговором буржуазному либерализму. С другой стороны, в нем впервые были «озвучены» взгляды Гамсуна на вопрос о независимости Норвегии и ликвидации навязанной ей в 1814 году Швецией унии, расторгнутой лишь в 1905 году.
Интересно, что среди руководителей радикальных движений Европы наряду с именем Гамбетты писатель называл и имя Александра Ульянова.
«Новые всходы» были не менее сатиричны — но мишенью писателя стала уже художественная богема и — шире — художественная интеллигенция. Можно сказать, что «Новые всходы» тоже являлись своеобразным продолжением «Мистерий», потому что в этом романе описывалась среда, из которой вышел Нагель. Писатель иронизировал над большими и малыми божками этой среды, гениями на час, истекающими завистью друг к другу, и это было несомненной необходимостью защититься и успокоить уязвленное самолюбие.
Если богема с ее пороками, мелочностью и завистью вызывала у Гамсуна резко отрицательные чувства, то, основываясь на собственном опыте, он вывел в романе «сладкие» образы меценатов-торговцев.
Работа над произведениями продвигалась тяжело — писателя мучили плохое здоровье и отсутствие денег. Ему вновь пришлось читать лекции — и в Дании, и в Швеции.
Но когда вышел «Редактор Люнге», ситуация изменилась. Книга разошлась почти мгновенно, и практически тут же был напечатан второй тираж.
Критика на роман, как всегда, была разной. Нильс Кьяр[75] написал в «Дагбладет»: «Эта книга — настоящий подвиг в золотой век навозных ядовитых мух. У того, кто нападает, есть силы выдержать натиск. Ему хватит мужества и стойкости отражать удары. Давайте же низко поклонимся ему, если повстречаем на улице».
В «Верденс Ганг» рецензию написал Гарборг, сквозь зубы процедивший несколько добрых слов в адрес Гамсуна, но в целом полностью разгромивший книгу.[76]
Как бы то ни было, но у Гамсуна теперь появились деньги, а желание путешествовать никогда его не покидало. И вместе со своим другом, датским драматургом Свеном Ланге, он уезжает в Париж.
Глава восьмая ПАРИЖ
Париж 1890-х годов для большинства европейских художников был культурной столицей.
В Париже жила настоящая норвежская колония, включавшая в себя Юнаса Ли, Бьёрнстьерне Бьёрнсона, Эдварда Мунка,[77] Гюстава Вигеланна,[78] Эдварда Грига и многих других. Норвежцы общались преимущественно друг с другом, собираясь в кафе «Регенс». Лишь изредка Григ и Мунк появлялись в компаниях Поля Гогена и Уильяма Моларда.
Свен Ланге бывал в Париже раньше, и именно он представил Гамсуна датскому художнику Вилли Гретору, у которого Гамсун жил первое время. Гамсун, с его интересом к человеческим характерам и психологии, был в восторге от аморального Гретора.
Помимо собственных картин, художник делал и прекрасные копии с полотен старых мастеров, которые продавал, выдавая за произведения Рембрандта, Тернера и Ван Гога. Он был замешан в самоубийстве одного из своих друзей.
Драматург Франк Видекинд считал Гретора самым впечатляющим человеком, которого ему доводилось встречать, а Стриндберг, напротив, называл «проходимцем». Гамсун же впоследствии написал, что жизнь Гретора — это «роман, человеческий, захватывающий».
Гретор ввел Гамсуна в круг художников и писателей. Кроме того, Гретор познакомил Гамсуна с Альбертом Лангеном,[79] миллионером и издателем. Знакомство это было необыкновенно важно для писателя, потому что после скандала с плагиатом его немецкий издатель Фишер отказался выпускать «Мистерии», объясняя это тем, что предыдущий роман «Голод» плохо раскупается. Вот тут-то на помощь другу и пришел Гретор. По его рекомендации и при его участии Ланген издал «Мистерии» на немецком языке и с тех пор стал «постоянным» издателем Гамсуна.
В Париже Гамсун прожил три года, не считая короткой (на несколько месяцев) поездки в Норвегию, написал «Новые силы» и начал «Пана».
Тяжелая работа над романами отнимала у Гамсуна много сил и времени. Не улучшало настроения и то, что норвежская колония художников и писателей в это время отвернулась от него. Юнас Ли, лидер этой группы, не любил Гамсуна — он не забыл, что говорил о нем Гамсун в своих лекциях в 1891 году. А Фриц Таулов, художник и друг Ли, тоже относился к Гамсуну скептически, недолюбливая его «невротическое искусство». Поэтому большую часть своего времени Гамсун проводил с Ланге, Гретором и Германом Бангом.
Все новые работы Кнута принимались в штыки скандинавскими критиками. Статья о норвежской литературе, опубликованная в парижском журнале «Ревью де ревьюс», вызвала бурю негодования среди писателей в Норвегии. Гамсуна обвинили в том, что он не уделяет внимания таким звездам отечественной литературы, как Амалия Скрам, Арне Гарборг и Гуннар Хейберг, то есть фактически игнорирует их. В ответ Гамсун заявил, что писал статью о норвежской литературе в целом, а не об отдельных ее представителях.
В это же время Гамсун пишет Виктору Нильсону, что после приезда в Париж не мог «говорить или писать без того, чтобы каждое слово не вызвало бурю гнева в Норвегии, Дании и Швеции».
Насколько реальным было это ощущение ненависти, сказать трудно. Гамсун жалуется, что оказался в изоляции, но в конце 1882 года пишет, что «газеты, которые ругали меня последними словами, на следующий же день предлагали мне высочайшие гонорары, чтобы заполучить мои статьи».
Тем не менее не вызывает сомнений тот факт, что Гамсун действительно разворошил «осиное гнездо». С одной стороны, он делал это совершенно сознательно, ибо другого пути и возможности пробиться у него не было, да и силы (моральные и физические) выдержать осиные и змеиные укусы у него имелись. С другой стороны, эти укусы ранили его невероятно.
«В конце концов, — пишет Туре Гамсун, — выступления критиков и писателей стали столь личностными, не касающимися литературы, что сам Бьёрнстьерне Бьёрнсон выступил в защиту Гамсуна. Гамсун… был растроган, узнав об этом от друзей».
Особенно приятно было услышать, что в его поддержку высказался именно Бьёрнсон, которого он всегда, несмотря на собственную критику, бесконечно уважал и ценил. В 1913 году, отвечая на вопросы американского журналиста, Гамсун писал:
«Из наших классиков я ценю конечно же больше всего Бьёрнсона… Только он, единственный из старшего поколения, является лириком, и повести его хотя и не всегда ровны, но часто превзойти их невозможно. О его значении для норвежского языка знает каждый норвежец, да и сам он, как никто другой, был истинным норвежцем… Его пьесы — лучше всего в норвежской драматургии, потому что в них есть пульс жизни…
Бьёрнсон — лучшее из нашего наследия, и мы долго еще будем жить за его счет».
Во Франции Гамсун начал работу над «Паном». Ланген фактически спонсировал писателя, регулярно выплачивая ему небольшие суммы, которые тот немедленно тратил на жизнь и всевозможные увеселения. Он и сам знал, что часто просит деньги, а потому время от времени с обезоруживающей прямотой заканчивал свои просьбы фразой: «Но вы ведь богаты».
Много лет спустя, в беседе со своим адвокатом фру Сигрид Стрей, Гамсун пожалуется на то, что деньги, а равно и слава, как правило, приходят к пожилым людям, хотя больше нужны молодым — на развлечения, вино и кутежи. Фру Стрей с улыбкой возразила, что, наверное, в молодости господин Гамсун тоже ни в чем себе особо не отказывал — и в ответ получила лукавую усмешку.
Гамсун действительно наслаждался жизнью, ездил к друзьям за город и часто был даже не в состоянии вспомнить, что делал накануне. 21 марта он пишет Лангену: «I was drank last night, or else I would wrote this to you long ago, today I am ill, have of course bad conscience. Thank you!»[80]
«Когда я бывал с ним в Париже, — писал Юхан Бойер,[81] — этой столице мира, ему могло прийти в голову останавливать всех попадавшихся нам свободных извозчиков, скупать все цветы у уличных цветочниц…
„Господи, все нутро пересохло“, — пожаловался один художник, подсаживаясь к столику Гамсуна. Гамсун махнул рукой официанту и распорядился: „Принесите нам двадцать пять бутылок пива…“ После веселого завтрака мы по его настоянию поехали на нескольких извозчиках искать в городе какую-то лавку, где он уже давно видел замечательное туалетное мыло. В конце концов мы нашли эту лавчонку, и Гамсун набрал множество кусков мыла в серебряной обертке, а потом на улице стал одаривать прохожих этим сокровищем. При этом он так веселился, что забыть это просто невозможно. После тяжелой напряженной работы нервы Гамсуна нуждались в разрядке, и чего только он тогда не придумывал! Но он относится к счастливчикам, которым все заранее прощалось. Все эти проделки лишь добавляли новые штрихи к образу Гамсуна, который уже в то время был легендой и который поднимался все выше и выше к звездам».[82]
* * *
Однако Кнут не только веселился и работал в Париже. Именно в этом городе произошло его знакомство со Стриндбергом, которое имело колоссальное значение для Гамсуна.
Он уже давно внимательно следил за творчеством великого шведского драматурга, писал статьи и читал лекции о нем, начиная с 1881 года.
Одно время, как мы уже говорили, Кнут был буквально одержим Стриндбергом и часто писал о нем своим друзьям.
В одном из писем Гамсуна к Нильссону в 1889 году читаем:
«Со Стриндбергом я не встречался. У меня не было причин идти к нему лишь под предлогом знакомства. Я хочу держаться в стороне от великих людей до тех пор, пока не заслужу чести быть введенным в их круг. Я горд и не желаю в ответ на переданную визитную карточку получить известие, что того, к кому я пришел, нет дома (для меня). Нет уж, лучше я подожду.
Сегодня я послал Стриндбергу свою статью (на английском), которая была опубликована в журнале „Америка“. Я написал ее перед отъездом из Америки, но лишь сейчас она наконец была напечатана. В совершенно ужасном, изуродованном виде — статью искромсали и переделали так, что ее стало невозможно узнать. Меня не удивит, если я получу от Стриндберга письмо, в котором он будет ругать меня. В настоящем виде статья того заслуживает.
Кстати, со Стриндбергом сейчас происходит что-то странное. Брандес рассказывал мне, что его все время преследует страх сойти с ума. Он часто приходит к Брандесу и жалуется ему. Но у него сохранилась все та же замечательная работоспособность. Господи Боже мой, как этот человек работает! „Фрекен Жюли“ — прекрасная вещь, в тысячу раз лучше, чем „Женщина с моря“ Ибсена. Брандес рассказывал, что у Стриндберга в столе лежат двадцать две пьесы — только представьте себе, что это помимо уже изданных книг. В 1888 году было напечатано пять его работ. Он настолько плодовит, что даже Бальзак по сравнению с ним — пигмей. Кроме книг, он пишет еще и для журналов всей Северной Европы. Разрази меня гром, если больший труженик когда-либо жил на земле.
Случаются у него и ошибки, среди написанных есть просто плохие книги, но даже и в них у него бывают проблески — словно молния сверкнет в ночи, откровение, талантливая мысль, блистательный мазок гения — и вещь спасена! Его самую последнюю книгу, „Времена цветения“, я еще не читал, но, по словам Брандеса, она замечательна, он восхищался ею.
Я надеюсь когда-нибудь познакомиться со Стриндбергом. Я был приглашен на вечер, куда должен был заглянуть и он, но я не пошел туда — я горд по-своему.
Посылаю адрес журнала, где была напечатана моя статья о Стриндберге, на случай, если Вы захотите заказать ее. К сожалению, у меня нет экземпляра, который я мог бы послать Вам. У меня даже своего нет. Если бы Вы могли, когда будете посылать марки для своего экземпляра, заказать один и для меня, то я был бы Вам очень благодарен. Это обойдется Вам, помимо почтового сбора, всего в десять центов. Не могли бы Вы сделать это для меня, дорогой Нильссон? Моя статья вышла в 38-м номере (за 20 декабря). Я должен был послать деньги за свой экземпляр, но не могу послать ни датских денег, ни марок.
…A propos, „Экспериментальный театр“ Стриндберга все еще не создан. У этого человека, конечно, масса проектов, но вряд ли эту безумную идею можно осуществить здесь, в Копенгагене. Стриндберг даже не советовался по этому поводу с доктором Эдвардом Брандесом, а ведь доктор Брандес — драматург, и ко всему прочему он еще и друг Стриндберга. Но Стриндберг ни словом не обмолвился Эдварду об этом театре, так как знает, что тот отсоветует ему. Да, этот человек — натура яркая, горячая. „Только вперед!“ — вот его девиз. Но не всегда получается, как задумано».
Знакомство состоялось в 1894 году, Стриндбергу тогда исполнилось сорок пять лет, и Гамсун принял участие в его официальном чествовании. В письме к Лангену Гамсун описывал великого шведа как «ребячливого и гениального, выдающегося писателя и невероятного человека».
Стриндберг был действительно невероятным и очень сложным человеком, с расшатанными нервами и подвижной психикой.
«Их дружба, — писал Туре Гамсун, — всегда была „напряженной“, а темп ее можно определить как „стаккато“. После прогулок со Стриндбергом по вечернему Парижу по набережным Сены Гамсун приходил домой очень уставшим. Стриндберг был то неутомимым рассказчиком, который целиком и полностью овладевал вниманием слушателя и не давал ему расслабиться, и Гамсун часто чувствовал себя, как на приеме у стоматолога, то шел молча и за всю прогулку мог не произнести ни единого слова».
Август Стриндберг воспитывался в неблагополучной и состоятельной семье, которая вскоре разорилась. Его матерью была служанка, женщина из народа, с которой отец Августа оформил отношения лишь некоторое время спустя после его рождения. Стриндберг поэтому всегда чувствовал себя «ущербным». Кроме того, в детстве его настиг еще один удар: мать умерла, и ее место заняла мачеха, совершенно не обращавшая внимания на пасынка.
Всю свою жизнь Стриндберг был подвержен нервным срывам и метаниям. В 1894–1896 годах с ним произошли несколько мистических, а по мнению некоторых исследователей творчества шведского драматурга, и параноидальных, событий, в результате которых он стал учеником шведского мистика Эммануэля Сведенборга. В «Инферно», написанном в 1897 году, Стриндберг рассказал о пережитом нервном кризисе.
Во время болезни друга Гамсун начал сбор средств для него. Он пишет шведскому литератору Дольфу Паулю:
«Стриндберг сейчас болен. Я обратился через газеты,[83] чтобы собрать для него хоть какую-то сумму денег, но не уверен, что мы сможем это сделать. Шведские газеты, в которые я послал копию письма, даже не сочли нужным прислать мне ответ, не то что напечатать обращение. Материальное положение Стриндберга крайне непрочно».
Великий швед действительно остро нуждался, если не сказать, бедствовал. Неизвестно, знал ли он с самого начала о планах сбора денег, как впоследствии утверждал Гамсун, но когда письмо стало достоянием общественности, Стриндберг взорвался и страшно разозлился на инициатора воззвания. Деньги, заявил он, ему совершенно не нужны, и он уже дал распоряжение перевести собранные средства своим детям в Финляндию. Во время встречи с Гамсуном он, кроме того, заявил, что недавно получил в частном порядке большую сумму денег. Кнут почувствовал себя обманутым, и дружбе практически пришел конец.
Разрыв же наступил в апреле 1895 года, когда Стриндберг категорически отказался принять и собранные деньги, и самого Гамсуна, который принес их. Через несколько дней после визита Стриндберг покинул Францию.
С некоторым облегчением Гамсун писал Лангену:
«Мне сказали, что Стриндберг уехал из Парижа. Я не могу больше иметь с ним дела, он порвал со мной все отношения — без всякого на то основания. Он сумасшедший, совершенно сумасшедший. Как только ему собрали деньги (благодаря обращению в газете), он как будто сошел с ума от гордости и отказался впредь со мной разговаривать».
* * *
В январе 1894 года в Париже Кнут приступает к работе над «Паном». В первоначальном варианте Гамсун собирался назвать роман «Эдвардой», но затем отказался от этого названия, «поскольку роман не о героине, а о герое». Писатель решает, что назовет свое произведение «Паном», поскольку именно миф о боге леса лучше всего раскрывает замысел романа.
В романе «Пан», который критики называют «образчиком высокой поэзии», Гамсун рассматривает человека как частичку природы, ее непременный и неотъемлемый элемент. Герой романа лейтенант Глан живет в лесу со своим охотничьим псом Эзопом, которого он вынужден в ходе действия принести в жертву любви к Эдварде.
Он свободен и счастлив лишь в глуши леса, и жизнь в полном одиночестве и единении с северной природой представляется ему единственно возможной и гармоничной формой собственного существования. В цивилизованном мире он чувствует себя неуютно и неловко. Его «звериное чутье» и острый ум помогают понять суть поступков жителей рыбачьего поселка. Среди них ему скучно и неуютно.
Мысль о написании «Пана» пришла к Гамсуну еще задолго до поездки во Францию, поскольку перед отъездом за границу он передал в датское издательство рукопись новеллы «Смерть Глана», которая впоследствии стала заключительной частью романа.
«Что такое „Пан“ как литературное произведение? — писал А. Куприн в предисловии к сборнику произведений Гамсуна на русском языке в 1908 году. — Если хотите, это — роман, поэма, дневник, это листки из записной книжки, написанные так интимно, точно для одного себя, это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога любви… главное лицо романа остается почти не названным — это могучая сила природы, великий Пан…»
Работа над новым романом поначалу продвигалась очень медленно. В марте 1894 года Гамсун пишет другу: «Я работаю, работаю плохо и медленно, день и ночь, нервничаю, злюсь и хочу наслаждаться весной».
Позднее писатель объяснит, почему работа поначалу не спорилась.
«То, что книга до сих пор не готова, — писал он в сентябре того же года, — объясняется тем, что каждая глава — это поэма, над каждой строчкой приходится работать. В них нет диалогов, только отдельные реплики. Я не лукавлю, когда говорю, что каждая глава стоит мне недели работы, хоть главки и такие маленькие. Повсюду разбросаны символы, духи и сказки…»
Гамсун не был уверен в своих силах и так устал от травли со стороны скандинавских литераторов, что, посылая рукопись в издательство, просил издать роман анонимно (как в свое время «Голод») и не упоминать его имени. Он был уверен, что критики вновь плохо примут его новое произведение, — и ошибся.
«Пан» стал первым романом Гамсуна, принятым благосклонно придирчивой критикой. С этого времени писателю начинает сопутствовать успех, а «Пан» назван красивейшим коротким романом конца XIX века.
В этом произведении, по словам самого писателя, он пытался «объяснить чувствительную боготворящую природу души», а главный герой — это «Жан-Жак Руссо, попавший на север Норвегии и влюбившийся в нурланнскую девушку».
Тема любви — главная в романе, и любовь вновь рассматривается автором как всепобеждающая сила, сметающая на своем пути искусственные моральные преграды и препоны, установленные человечеством, которой невозможно сопротивляться и которая подчиняет себе человека. Эта сила настолько могущественна, что, как языческое божество, требует жертв.
Первой жертвой становится Ева, жена сельского кузнеца, влюбленная в Глана, которая гибнет под обломками взорванной скалы. Любовь превращает забитую женщину в самостоятельную личность, которая готова бороться за свои чувства. С другой стороны, она ничего не требует от Глана и просто довольствуется своим чувством. Лейтенант не отвечает ей взаимностью, но не может и не поддаться ее очарованию.
Любит же Глан Эдварду, любит страстно и мучительно. Эдварда обручена и «финскому барону отдана». Она совершенно не похожа на Еву. Она — сильная личность, готовая сражаться за свою любовь до конца — желательно до победы. И их отношения с Гланом исследователи творчества Гамсуна неизменно сравнивают с любовным поединком, к которому примешиваются обоюдная гордость и самолюбие.
«Импульсивность поступков Глана и Эдварды объясняется импульсивностью, взрывчатостью их любви, — пишет Б. Сучков. — Даже в те минуты, когда их души готовы открыться друг другу, что-то удерживает их. В отношениях Эдварды и Глана была некая тайна, почувствованная писателем, но до конца не разъясненная. Психологический рисунок борьбы двух сильных характеров сделан Гамсуном точно и объективно. Он показал, что за внутренними метаниями Эдварды стоит нечто большее, нежели каприз или юношеская незрелость. Эдварда ждет от любви чуда, необычайной полноты жизни. Ожидание чуда препятствовало ей верно оценить настоящее — то есть любовь Глана. Этот оттенок присутствует в чувстве Эдварды, однако и он не объясняет, почему не смогла возникнуть ее человеческая близость с Гланом.
Роман, начавшийся как идиллия, как гимн красоте мира, завершился драматическим, полным печали финалом и не разрешил конфликтов, увиденных писателем».
Гамсун, однако, досказал судьбы его главных героев в новелле «Смерть Глана», события в которой отнесены к 1861 году, то есть их отделяет от событий, описанных в «Пане», шесть лет.
Лейтенант, отправившийся на охоту куда-то в Индию, получает призыв от Эдварды, вышедшей замуж за барона, вернуться к ней, на родину. Глан же отвергает самую мысль о возможности новой встречи с любимой — и практически кончает жизнь самоубийством. Сюжет этой новеллы Гамсуна повторен Хемингуэем в новелле «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», тоже завершившейся смертью героя.
К истории же Эдварды и ее отца Мака Гамсун вернулся в романах «Бенони» и «Роза», увидевших свет спустя тринадцать лет, в 1908 году.
* * *
В Париже была написана и пьеса «У врат царства» (январь — апрель 1895). Это не только первая драма Гамсуна, но и первая часть трилогии об Иваре Карено.
Она, как писал Туре Гамсун, так же как и остальные пьесы, «страдала расплывчатостью композиции и вялостью действия. Правда, ей была присуща и сильная сторона драматургии Гамсуна — точные и глубокие реплики. Именно реплики в драмах Гамсуна характеризуют его героев, показывают их глубину, открывают их мысли, в том числе и скрытые».
Сюжет трилогии довольно разветвлен, и действие слишком запутано. Вторая часть трилогии — «Игра жизни» (1896) — вообще отдает мелодраматичностью, и в пьесу входит символика — тот самый художественный элемент, за который Гамсун резко критиковал в свое время Ибсена.
Гамсун говорил о себе: «Я не драматург. Я бы никогда не писал пьес, если бы не были нужны деньги. Но гонорар за пьесу бывает очень значительным. В пьесе труднее всего решить вопрос с женщинами. Создать хорошую пьесу без женских образов невозможно. Причем женщина должна все время говорить. Но привлекательная и тонкая женщина говорит очень мало, она обычно молчит, как тут построить драматургию?..»
Однако Гамсун никогда не любил деньги настолько, чтобы ради них идти на сделку с самим собой как с художником.
Театр вообще и пьесы в частности Гамсун не любил и никогда этого не скрывал. Он считал, что в пьесах трудно показать сложный внутренний мир героев, хотя сам и попытался это сделать.
Наиболее выдающимся драматургом Гамсун считал Стриндберга, который, по его словам, осознал «всю ущербность понимания психологии личности в современном искусстве» и в своих пьесах предпринял дерзкую попытку изобразить «душевно раздвоенного, дисгармоничного индивида».
Довольно высоко ценил Гамсун и поздние пьесы Ибсена, хотя и не мог до конца принять их. В письме Скраму он пишет:
«Дорогой Скрам, я не могу согласиться, что „Женщина с моря“ вовсе никуда не годится. Конечно, я никак не могу принять все эти „рыбьи глаза“, „чужака“ и т. д., но мне вдруг подумалось, что не все слова Элиды нонсенс. Дело только в том, что они вложены в уста не человека, даже не сумасшедшего, а просто не человека! Нет, я не могу безоговорочно согласиться с тем, что „Женщина с моря“ вовсе недостойная вещь, по той причине, что в книге есть некоторые слова, близкие мне в моем безумии. Я прошу Вас проверить, сдается мне, Вы найдете их в первой реплике Элиды на странице 108 (а может быть, и 118): у меня нет под рукой книги. Ибсен пробудил во мне самом одну мысль; слова о „людях — морских гадах“ — выражение особого состояния души, родственного моему, когда я был плотски влюблен в свет. Кровь подсказывает мне, что я нахожусь в духовной связи со Вселенной, со стихией. Может быть, однажды — в далеком будущем — люди перестанут быть людьми и сделаются такими существами, которые будут соотноситься с современными ныне людьми, как последние — с одноклеточными живыми существами, и смогут любить не только себе подобных, но и, к примеру, воду, огонь, воздух. Посмотрите, у Ибсена есть гениальные предвидения, уже в „Цезаре и Галилее“ он говорит о „третьем царстве“, но чувствует это недостаточно сильно, а язык его недостаточно гибок. Видит Бог, мне следовало бы самому попытаться написать эту реплику Элиды».
Для самого Гамсуна трилогия, которую объединяет образ Ивара Карено, свободомыслящего философа, вступившего в открытую схватку с господствующим общественным мнением и устоявшимися взглядами, стала лучшей. Для революционно настроенной молодежи и вольнодумцев во всем мире герой Гамсуна был образцом неприятия старого мира, стойкости и верности своим убеждениям, призывом к духовной свободе и независимости.
Трилогия Гамсуна внутренне полемична и посвящена теме отступничества, которая волновала в это время и многих других крупных скандинавских писателей (вспомним хотя бы Ибсена и его «Строителя Сольнеса»). Писатель прослеживает жизненный путь своего героя от молодого человека («У врат царства»), который готов не жалея сил бороться за собственные идеалы и принципы, до старика, который готов со всем согласиться ради собственного благополучия («Вечерняя заря», 1898), охотно становится депутатом стортинга и принимает богатство некогда оставившей его жены, пожелавшей вернуться в лоно законного супружества и получить прочное общественное положение.
«У врат царства» историки литературы считают одним из лучших произведений драматургии Европы. По словам Максима Горького, «никто до Гамсуна не умел так поражающе рассказывать о людях, якобы безличных и ничтожных, и никто не умел так убедительно показать, что безличных людей не существует».
* * *
Когда Гамсун писал «У врат царства», он был уже переутомлен непрерывной многолетней работой, неустроенностью, безденежьем и постоянной необходимостью выплачивать накопившиеся старые и новые долги, одиночеством и травлей со стороны собратьев по перу. В письме Лангену Гамсун пишет, что у него «нет больше сил» и каждые полчаса он вынужден делать перерыв. «Со мной все кончено, — говорит он. — Я работал на износ и надорвался. Настроение отвратительное, такое же, как ненастные дни в Париже. Ни с кем даже не могу разговаривать».
Поэтому после завершения работы над пьесой он уезжает в 1895 году в Норвегию — в надежде, что именно родная сторона, как всегда, поможет ему вернуть здоровье.
Глава девятая ГАМСУН И РОССИЯ
После выхода «Пана» Гамсун стал признанным «фаворитом» норвежской и мировой литературы. Сам Бьёрнсон называет «Мистерии» «одной из великих книг, заявивших о себе подобно неистовому снежному бурану», а описания природы в «Пане» считает «самыми прекрасными и великолепными в норвежской литературе».
Гамсун становится широко известен в Европе. «Голод», «Мистерии», «Новые всходы», «Пан» и «У врат царства» практически сразу же после выхода были переведены на немецкий язык. В 1895 году «Голод» выходит во Франции и получает необыкновенно высокую оценку критиков.
Возникает интерес к молодому скандинавскому гению и в России. В 1892 году печатается первый тираж «Голода» на русском языке — и с тех пор Гамсун становится кумиром интеллигенции в России, культовым, как говорят в наши дни, писателем.
Александр Блок считал Гамсуна «утонченным поэтом железных ночей, северных закатов, звенящих колокольчиков, проникшим в тайны природы». Александр Куприн посвятил творчеству Гамсуна целое эссе. Константин Паустовский «упивался книгами Гамсуна, так все было необычно».
В своем шутливом «Руководстве по флирту» (1910) Саша Черный советовал начинать атаку на даму с вопроса «Вы любите „Пана“?» и, услышав неизбежное «Да», продолжать военные действия… Кроме того, в другой своей сатире «Все в штанах, скроенных одинаково» (1908) он говорит о готовности героя бросить все и бежать в лес к лейтенанту Глану.
«Пан» действительно был особенно популярен в России. Сравнения с лейтенантом Гланом и его «звериным взглядом» стали распространенным приемом литературных описаний (например, записки А. Блока о молодом, посетившем его геологе, который ненавидит большие города и мечтает жить в хижине в горах, а у А. А. Ахматовой в «Поэме без героя» один из гостей одет «северным Гланом»). Чехов назвал «Пана» чудесным и изумительным.
Именем главной героини романа часто называли девочек. Эдварда Кузьмина, дочь известной переводчицы Норы Галь, пишет в воспоминаниях о матери:
«Нередко с веселым задором мама вспоминала, как в 1934 году получила премию на конкурсе пионерских песен вместе с Дмитрием Кабалевским (она за слова, а он, естественно, за музыку). А женой Дмитрия Борисовича в те времена была подруга маминой юности Эдда, Эдварда Иосифовна, в честь которой меня назвали (так что в нашем домашнем обиходе, как в скандинавском эпосе, были „Старшая Эдда“ и „Младшая Эдда“), — впрочем, не обошлось без влияния Гамсуна, героини его „Пана“. Так и мама своим именем (полным — Элеонора) обязана не только своему прадеду Леону Риссу, но и ибсеновской „Норе“, которую в семье боготворили благодаря незабываемой игре Веры Федоровны Комиссаржевской».
Популярность Гамсуна в нашей стране в XIX — начале XX века была огромной.
Не успевали его книги выйти в Норвегии, как они тут же переводились на русский язык и продавались с поразительной быстротой.
«Большую роль в популярности Гамсуна сыграли первые переводчики его произведений, — пишет О. Комарова. — И доказательством этого служит интерес, который вызвал Гамсун в среде писателей нового поколения — символистов, акмеистов, футуристов. Если мы посмотрим на имена переводчиков произведений Гамсуна, то обнаружим, что в 12-томном издании „Шиповника“ среди переводчиков: Т. 7 — Ю. Балтрушайтис („Виктория“, „У врат царства“, „В сказочной стране“, а кроме того он переводил „Голод“, „Тамару“, „Вечернюю зарю“) и С. Городецкий („Закат“); Т. 9, 10 и 11 — К. Бальмонт („Поросль“, „Царица Тамара“, „Под полумесяцем“, „Мечтатель“, „Воинствующая жизнь“). Первый перевод „Голода“ был сделан С. Поляковым, основателем издательства „Скорпион“ и личным другом К. Бальмонта и других символистов.
Существует немало свидетельств того, как высоко ценили они стилистическое своеобразие Гамсуна, его новых героев и тонкость психологических характеристик. Связь с поэтикой и символикой Севера ощущается в творчестве и в критических эссе Константина Бальмонта и Андрея Белого, Саши Черного и Александра Блока. Вспомним хотя бы названия первых произведений К. Бальмонта: „Под северным небом“ и А. Белого: „Северная симфония“.
Чистота и холод, Снежная дева и мистицизм — вот элементы этой поэтики. Ю. Балтрушайтис писал В. Брюсову из Норвегии в июне 1901 года: „Когда бродишь среди полуобнаженных, совершенно безлюдных скал, когда добираешься до какого-нибудь места, откуда вдруг открывается свободное море, какая-то тревога овладевает человеком, и неотложно, сейчас же хочется узнать окончательную судьбу людей“, и далее он пишет о том, что ответ можно познать только „наитием“. А потом спускаешься в село, к простым людям, которые не задают себе таких вопросов.
К. Бальмонт, неоднократно посещавший Норвегию, особенно глубоко „болел“ севером. Так, уже в 1903 году он избрал эпиграфом к одному стихотворению из сборника „Будем, как солнце“ строку из „Пана“, причем привел ее по-норвежски. В сборнике „Горные вершины“ (1904) он отозвался о Гамсуне как об утонченном певце нордических настроений, высоко оценил умение Гамсуна так владеть словом, что он „создает свое царство“.
Андрей Белый в эссе 1907 года „Настоящее и будущее русской литературы“ писал о том, что Ибсен, Гамсун, Метерлинк ввели нас в жизнь, где существует культ индивидуальности, музыки, поэзии, литературной формы, и отдавал должное символистам, которые познакомили русскую публику с творчеством Ницше, Ибсена, Уайльда, Метерлинка, Гамсуна.
Показательно, что Александр Блок просил издательство дать ему для перевода „Викторию“, его „любимое гамсуновское произведение“, или новеллы из сборника „Рабы любви“, но переводы для издательства Маркса „Рабы любви“, „Отец и сын“, „Победитель“ и „Голос жизни“ осуществила Любовь Блок. В 1907 году А. Блок написал статью „О реалистах“, о том, что в творчестве писателей-реалистов (Арцыбашев, Семенов) возник новый интерес к возрождению прекрасного тела, „к изображению свободной и чистой страсти“, и что это — следствие их увлечения Гамсуном. В „Обзоре литературы за 1907 год“ А. Блок хвалит издание „северных сборников“ и называет Гамсуна первым в ряду опубликованных в них скандинавских писателей. Спустя много десятилетий Илья Эренбург отзовется об этих годах как „об эпохе, которая прошла под знаком религиозных исканий, северных сборников и магии смерти“».
В 1907–1910 годах на русском языке в разных издательствах вышло три собрания сочинений Гамсуна, а увлечение им стало настолько повальным, что норвежский журналист российского происхождения Марк (Менартц) Левин в написанной для «Моргенбладет» статье (1910) утверждает, что в России установился «культ Гамсуна». Он с юмором пишет о необычной популярности Гамсуна в России и о желании буквально каждого русского познакомиться с великим писателем, о том, как все его (Левина) друзья и знакомые в Петербурге и Москве жаждут узнать подробности о жизни Гамсуна. Левин пишет, что особенно популярны дешевые издания книг Гамсуна по 1 копейке, которые напечатаны тиражом в 500 000 экземпляров.
Гамсун был очень популярен в России и после революции.
«В воспоминаниях Анны Лариной есть рассказ о том, что летом 1930 года Н. Бухарин рассказывал ей, как у Гамсуна замечательно описывается любовь, и, прочтя рассказ монаха Вендта, задал вопрос: „А ты можешь полюбить прокаженного?“ — пишет О. Комарова. — Или признание Е. С. Булгаковой, что любовь к гамсуновской „Виктории“ сблизила их с М. Булгаковым. Уместно также вспомнить и рассказ К. Чуковского о встрече А. Куприна с авиатором Уточкиным, страстным поклонником Гамсуна: „Со стороны можно было подумать, что это Уточкин — писатель“».
* * *
Заметим, что поначалу все произведения Гамсуна издавались пиратским образом, поскольку Россия не подписывала Бернской конвенции. Зарубежных писателей не могли не волновать тиражи их книг, выходящие без выплаты гонорара в России. В 1906 году Гамсун с большим раздражением пишет своей переводчице Марии Благовещенской: «Конечно, вы можете перевести описание моего путешествия на Кавказ. Русским вовсе не надо просить на это разрешения… как я уже сказал: Россия не подписала Бернской конвенции, и в Вашей воле переводить все, что Вам угодно».
Пытаясь остановить поток пиратских изданий, Гамсун заключает в 1905 году договор с русским издательством «Знание», которое получило эксклюзивные права на издание произведений норвежского писателя в России. Главным редактором «Знания» был Максим Горький, давний поклонник и почитатель Гамсуна. Издательство решило отметить начало сотрудничества выпуском нового романа, и весной 1908 года Кнут Гамсун пишет «Бенони», первую часть дилогии «Бенони» и «Роза».
Именно благодаря влиянию Горького произведения Гамсуна продолжали издаваться и при Советской власти. Вплоть до 1934 года, когда был напечатан последний роман трилогии об Августе (трилогия включает в себя романы «Бродяги», «Август», «А жизнь идет»).
Горький, назвавший Гамсуна великим и недосягаемым писателем, сохранил верность своему кумиру и после того, как Гамсун стал поддерживать нацистов. На своих семинарах он учил будущих писателей не смешивать политические убеждения художника и его творчество.
Гамсун и Горький во многом похожи. Еще А. Воронский указывал на то, что оба писателя «низкого» происхождения, из простых семей, что им обоим пришлось очень нелегко в жизни, что пробивались они к успеху «через тернии», оба всю жизнь много писали, а не почивали на лаврах, оба не принимали бездуховность современной Америки. Гамсун признавался: «Я пролетарий, как и Горький, с которым чувствую родство».
«Я думаю, что у меня есть основания благодарить вас за Ваши совершенно изумительные книги „Соки земли“, „Последняя глава“ и „Женщины у колодца“. Это гениальные книги, — писал Горький Гамсуну. — И я совершенно серьезно, искренне говорю Вам: сейчас в Европе Вы — величайший художник, равного Вам нет ни в одной стране».
Тем не менее исследователи обращают внимание на возможный элемент творческого соперничества. Так, при написании «Дела Артамоновых» Горький настойчиво просит жену присылать ему из Москвы свежие книжки Гамсуна — «Женщины у колодца» и «Местечко Сегельфос».
Между двумя великими писателями возникали и определенного рода трения. Прежде всего, это касалось денег, которые издатели никогда, как показывает история нескольких веков, не спешили выплачивать авторам.
В нашем распоряжении имеется целый корпус писем, которыми обменивались Гамсун и различные представители горьковского «Знания».
В 1908–1909 годах Гамсун не раз пишет возмущенные и унизительные для себя письма.
Так, в 1908 году он обращается к Петру Готфридовичу Ганзену,[84] переводчику многих произведений Гамсуна на русский язык, со следующей претензией:
«Совершенно очевидно, что за „Бенони“ я недополучил от господина Пятницкого много сотен крон. Все дело в подсчетах. Господа ссылаются на знаки, буквы и строчки, но, собственно, какая разница — пусть в строчке будет хоть одна буква, это все-таки строчка, поэтому надо считать и буквы, и пробелы между словами. В русском издании „Бенони“ на стандартной странице я насчитал 1700 букв. Значит, на 234 страницах — букв 397800. Если поделить количество букв на печатный лист, то есть на 35 000 знаков, то получится 11113 листа — по 250 рублей каждый. Значит, мой гонорар за „Бенони“ — 2830 рублей. Я получил аванс 2200 рублей. Значит, мне причитается еще 630 рублей… Хочу заметить, что мне помогли произвести все эти нудные подсчеты».
Недоразумения происходили не только из-за недополучения денег, но и из-за разных издательских «хитростей». Так, в 1909 году директор «Знания» К. Пятницкий пишет Гамсуну, что не мог прислать ему гонорар вовремя, потому что якобы не знал его «нового адреса». Гамсун же в ответ ядовито отвечает, что «просит впредь воздерживаться от неуплаты гонорара только потому, что новый мой адрес не известен издательству». И замечает, что всегда устраивает свои дела так, что почте Норвегии хорошо известно его «местоположение», а многие письма, получаемые им из-за границы, подписаны просто: «Кнуту Гамсуну, Норвегия».
В результате долгого и утомительного обмена «любезностями» график выплат был все-таки установлен. Максим Горький и Константин Пятницкий, жившие в то время в Италии, настойчиво напоминали в письмах своим сотрудникам, что деньги Гамсуну нужно высылать вовремя.
* * *
Россия была очень важна для Гамсуна и как страна, в которой, по его мнению, лучше всего умели ставить его пьесы.
Произведения Гамсуна шли на сценах МХТ (К. Станиславский и В. Немирович-Данченко), Александринки (В. Мейерхольд), в театре Веры Комиссаржевской.
Большим успехом пользовалась трилогия Гамсуна «У врат царства», «Игра жизни» и «Вечерняя заря».
«Игра жизни» особенно нравилась Станиславскому, и в книге «Моя жизнь в искусстве» он отвел «Игре жизни», которую называет «Драмой жизни», целую главу, а работу над пьесой оценил как поворотный пункт в своем творчестве.
Ивара Карено в течение многих лет (1909–1941) играл В. Качалов, а успех первых представлений пьесы вошел в историю театра. Качалов же признан лучшим исполнителем Карено во всем мире.
Пьеса имела скандальный успех в России.
«Достижения в области постановки, — писал Станиславский, — были велики, и это тем более важно, что мы явились тогда одними из первых пионеров, пробивавших путь к левому фронту…
Одна половина зрителей — левого толка, с присущей им решительностью, неистово аплодировала, крича: „Смерть реализму! Долой сверчков и комаров (намекая на звуковые эффекты в чеховских пьесах)! Хвала передовому театру! Да здравствуют левые!“
Одновременно с этим другая половина зрителей — консервативная, правая — шикала и восклицала с горечью: „Позор Художественному театру! Долой декадентов! Долой ломанье! Да здравствует старый театр!“»
Именно для России Гамсун написал в 1910 году и свою последнюю пьесу — «В тисках жизни» (другой вариант русского названия — «У жизни в лапах»).
Пьеса «В тисках жизни» была размножена Гамсуном и его женой Марией в нескольких экземплярах — с тем, чтобы она могла быть одновременно переведена на русский и немецкий языки. Для того чтобы хоть как-то помешать пиратству русских издателей, Гамсун взял себе псевдоним Менц Фейен. МХТ сделал две постановки — в 1910 и 1932 годах.
Именно с этой пьесой связано одно недоразумение, которое повлекло за собой самые неприятные последствия для обеих сторон.
Обычно все пьесы Гамсуна переводил для МХТ Петр Ганзен, и одновременно они печатались в горьковском «Знании». Так было до тех пор, пока в одной из актрис МХТ, Марии Германовой (1884–1940), с успехом выступавшей в ранее поставленных гамсуновских пьесах, не взыграло самолюбие. Надо отдать ей должное: она была не только хорошей актрисой, но и прекрасно образованным человеком, с тонким вкусом, владеющей не только многими европейскими языками (в том числе, и скандинавскими), но и санскритом.
Она в 1909 году приезжала в Норвегию и была принята Гамсуном. В разговоре Германова затронула вопрос о качестве переводов книг и пьес Гамсуна на русский язык и весьма неодобрительно отозвалась о переводах Ганзена. Определенные основания для критики Ганзена у нее были: Петр Готфридович далеко не сразу овладел всеми трудностями русского языка. И. А. Гончаров, «Обыкновенную историю» которого в свое время Ганзен переводил на датский, так отзывался о его переводах на русский пьес Ибсена: «Будь они переведены на настоящий русский язык, то и могли бы быть замечены публикой, как выдающиеся из ряда». Кроме того, Гончаров отмечал в переводах Ганзена недостаток «духа языка живого, разговорного». Так что доля истины в словах Германовой несомненно была. Трудно сказать, претендовала ли она сама на перевод новой пьесы, но, вероятно, речь об этом шла, поскольку у нас есть письмо Гамсуна В. И. Немировичу-Данченко, в котором он пишет: «Кто Ваш переводчик „У врат царства“? Знает ли он язык в совершенстве? Мне бы хотелось, чтобы мою пьесу перевела мисс Германова, но сможет ли она? Мне кажется, что со временем она станет тонко чувствующим переводчиком, передайте ей мой самый искренний привет!»
Путешествие Германовой в Норвегию случилось почти одновременно с поездкой в Скандинавию самого Петра Готфридовича Ганзена. Гамсун, который всегда был довольно резок в своих пристрастиях и антипатиях, вероятно, под влиянием разговоров с Германовой, отказался принять Ганзена. По словам самого Петра Готфридовича, Гамсун «ответил, что не принимает и не делает визитов».
«После этого, — продолжает Ганзен, — я послал ему прости и повесил трубку телефона. Если он на дружеское предложение в его пользу отвечает так тупо-надменно, то, очевидно, страдает манией величия, и в таком случае я не желаю иметь с ним впредь никакого дела. Я так и написал ему, что впредь отказываюсь и за себя, и за жену как от переводов его новых произведений, так и от всяких с ним сношений».
Тем не менее Ганзен сделал перевод одновременно для «Знания» и для МХТ. После читки в труппе пьесу признали неудачной. Однако Гамсун обвинил переводчика в некомпетентности и плохом качестве перевода и потребовал сделать новый. Германовой, быть может, как зачинщице скандала, перевод делать не дали и, перебрав несколько кандидатур, остановились на кандидатуре Раисы Михайловны Тираспольской, которая была очень слабым переводчиком. В результате театр получил пьесу в ухудшенном варианте, а «Знание» оказалось с двумя переводами, за которые надо было платить.
В МХТ новый сезон осенью 1910 года начинать было практическим нечем, а потому пьесу решено было ставить.
«„У жизни в лапах“ Гамсуна я распределил не совсем так, как Вы, — писал Немирович-Данченко болевшему в то время Станиславскому. — Певицу должна играть Германова, но эта роль по всем правам принадлежит Книппер. И на этой роли я еще бы мог поработать с ней, добиться чего-нибудь в „переживаниях“, хотя это будет значить добиваться того, что у Германовой вышло бы само собой — в смысле эффективности и тонкости психологии. И все-таки эта роль принадлежит Книппер».
Так Германова лишилась не только перевода, но и роли, которая, как считают некоторые исследователи творчества Гамсуна, была написана специально для нее.
Спектакль, несмотря на все опасения и «препоны», в Москве пользовался успехом, в том числе и благодаря игравшим в ней актерам — Качалову и Книппер.
Гамсун пишет жене в марте 1911 года: «Получил телеграмму от Данченко, что был great success и театр congratulates you. А это дорогого стоит».
Сын Качалова, В. В. Шверубович, вспоминал:
«В том же сезоне у отца был и еще один громадный успех — набоб Пер Баст в пьесе Гамсуна „У жизни в лапах“. Мне кажется, ни в одной роли ни до, ни после он не играл с таким наслаждением. Он немного стеснялся своего удовольствия от этой роли, уж очень она была сравнительно с шекспировским, Достоевским, островским, чеховским репертуаром легковесна, мелодраматична, внешне эффектна, бессодержательна… Но играть человека смелого, уверенного в себе, своем праве на счастье, страстного жизнелюбца, быть хоть на сцене таким, каким хотел, но не мог быть в жизни Василий Иванович, потому что ему мешал его лабильный темперамент, освободиться от вечных сомнений и колебаний — было весело и приятно. Играл он Баста изумительно. Он был красив, мужествен, дерзок, обаятелен, он был соблазнителен (как говорили женщины). Многие считали, что он был в Басте больше Дон Жуаном, чем в „Каменном госте“.
…Когда Василий Иванович давил кобру (для треска „черепа кобры“ под ковер клали несколько пустых спичечных коробок), я вскочил и дернулся к рампе, и вместе со мной рванулся и Стахович. Оба мы сконфуженно сели на свои места, но крепко, видимо, забирало публику происшедшее на сцене, если такая реакция никого не удивила».
МХТ выиграл: спектакль делал прекрасные сборы, и радостный Гамсун ждал больших гонораров, которые своевременно ему и были высланы.
А вот «Знание» оказалось в очень затруднительном положении. Чей перевод печатать — хороший Ганзена, но не одобренный Гамсуном, или плохой Тираспольской, но признанный автором?
По договору с Гамсуном издательство могло выпускать лишь одобренные им переводы, зато у Ганзена был договор со «Знанием», по которому он должен был переводить все произведения Гамсуна, и Петр Готфридович настаивал на опубликовании своего перевода. Издательство пойти на это не могло, долго уговаривало переводчика, уговорить не получилось — и нашло формальный повод отказать Ганзену: пьеса была прислана автором в МХТ, а потому ее нельзя считать частью «издательского портфеля». Петр Готфридович тоже предоставил свой перевод сначала в театр, а уж потом в издательство, и тем самым нарушил договор, по которому норвежский текст сначала получает «Знание», а затем отдает его для работы переводчику.
Тем не менее, найдя выход из скандальной ситуации, «Знание» заплатило Ганзену за сделанный им перевод по одной из самых высоких ставок — по 50 рублей за лист. Правда, за ранее сделанные переводы романов Гамсуна Ганзен получал по 75 рублей за лист.
Однако Ганзены предпочли денег не брать, а оставить за собой право распоряжаться переводом по собственному усмотрению.
Тираспольская стала с тех пор авторизованным переводчиком Гамсуна, но ее текст перевода пьесы не мог быть принят «Знанием» к печати из-за непрофессиональности и многих «нестыковок». Гамсун считаться с этим не хотел и донимал издательство письмами о выплатах, хотя выяснилось, что в 1911 году ему сильно переплатили.
Наконец пьесу в переводе Тираспольской напечатали — и пресса тут же отозвалась язвительными рецензиями.
Когда же Гамсун предложил «Знанию» свой новый роман, Горький и Пятницкий ответили, что не могут его взять, потому что нет переводчика.
На этом история трехлетнего сотрудничества Гамсуна и Горького заканчивается. Она — еще один штрих к очень непростому характеру великого норвежского писателя.
* * *
К России Гамсун всегда благоволил и считал, что «неестественный альянс между Англией и Россией скоро прекратит свое существование». Тем не менее он не считал для себя возможным поддерживать Россию в ее союзе с Англией.
Он писал Георгу Брандесу: «У меня могли бы быть достаточно веские основания, чтобы поддержать дружбу с Россией, из этой страны я получил больше „вознаграждений“, чем когда-либо получу из Германии. К примеру, Художественный театр в Москве заплатил мне больше, чем я того заслуживал, я получил оттуда около сорока тысяч крон. Мне следовало бы помнить об этом и выразить свои симпатии союзникам, но я этого не сделал».
Гамсун никогда не был настроен против русского народа. Ни одна культура и литература не производила на него столь сильного впечатления.
В 1899 году писатель совершил путешествие по России и Кавказу и описал свои впечатления в книге «В сказочной стране». В ней он много говорит о русских людях и о русской литературе.
«Славяне, — писал Гамсун, — народ будущего, властители мира, первые после германцев! Лишь у такого народа, как русский, могла появиться такая великолепная, возвышенная и благородная литература!
…Русская литература велика и многообразна. Эта необъятность объясняется размерами страны и размахом русской жизни. Россия безгранична. Я оставляю в стороне Ивана Тургенева. Он был европеец, француз, в той же степени, что и русский. Героям Тургенева не свойственна та безоглядность, та способность совершать непредвиденные поступки, которая отличает только русских людей».
Гамсун считал, что у русского народа такая здоровая и неиспорченная суть, что это позволит ему играть в мире решающую роль, когда время Запада истечет.
* * *
Забежав вперед, скажем, что в 1929 году в связи с семидесятилетием Гамсуну было предложено стать почетным членом многих писательских, театральных и общественных организаций и союзов. Некоторые почести писатель согласился принять, некоторые — отверг. Так, он отказался принять Серебряный крест Союза писателей Норвегии, за что его немедленно обвинили в надменности. А вот почетным членом МХАТа, который он считал «лучшим театром в мире», Гамсун стать согласился. В телеграмме он писал:
«Господин директор Данченко!
Я тронут Вашей сердечной телеграммой и глубоко признателен Вам за честь, которую Вы мне оказываете, предлагая стать почетным членом Вашего театра, самого прекрасного театра в мире. С благодарностью принимаю Ваше предложение.
Уважающий Вас Кнут Гамсун».
Из России пришли поздравления от Максима Горького и Александры Коллонтай. В телеграмме Коллонтай писала, что влияние Гамсуна на таких писателей, как Андреев, Бунин, Зайцев и Соллогуб, неоспоримо. Вряд ли найдется хоть один русский писатель начала века, кто не был поклонником великого норвежца — Б. Пастернак, К. Паустовский, А. Блок, И. Эренбург и многие другие.
Телеграмме Коллонтай Гамсун обрадовался, а вот от чести именоваться почетным членом Академии наук СССР отказался. В благодарственной телеграмме он написал:
«Глубокоуважаемая госпожа Коллонтай!
Вы, несомненно, поверите, что я искренне обрадовался Вашей сердечной телеграмме. От всего сердца хочу поблагодарить за дружеские слова. Однако это слишком большая честь для меня — стать почетным членом Академии наук и художеств Вашей страны. Я искренне прошу Вас передать Академии мою чистосердечную благодарность и объяснить, что я всего лишь земледелец и писатель, который не может иметь какого-либо отношения к академиям, я лишь крестьянин.
Ранее я отклонил подобное предложение из другой страны.
Уважающий Вас Кнут Гамсун».
Глава десятая ПЕРВЫЙ БРАК
Уделив внимание отношению Гамсуна к России и его непростым деловым связям с нашей страной, мы сильно забежали вперед. Теперь самое время вернуться в 1895 год…
После отъезда из Парижа Гамсун обосновывается в санатории в Фоберге неподалеку от Лиллехаммера, где поправляет здоровье, а затем переезжает в пансион фрекен Хаммер в Льян, предместье Кристиании.
В одном из театров Кристиании к постановке принимают пьесу Гамсуна «У врат царства», и он садится за работу над второй частью трилогии.
Гамсун широко издается за рубежом и наконец-то становится «лакомым куском» и для норвежских издательств, которые, как мы помним, не проявляли к нему особого интереса в самом начале карьеры. Очень лестным было предложение от издательства «Гюльдендал», которое попыталось переманить Гамсуна из издательства Филипсена.
Одновременно приходит приглашение от Лангена приехать в Мюнхен и поучаствовать в организации журнала «Симплициссимус». Гамсуну предложено стать членом редколлегии.
Кнут с удовольствием едет в Германию и пишет там два рассказа — «Голос жизни» и «Рабы любви».
Оба рассказа были опубликованы в «Симплициссимусе», но отзывов немецких критиков почти не вызвали, а вот когда «Голос жизни» был опубликован в датском журнале «Баста», его прочел норвежский политик Ион Люнд и пришел в такой ужас, что даже попытался закрыть журнал. Рассказ в скандинавской прессе объявили непристойным.
Ничего особо непристойного в «Голосе жизни» нет, но то, что новелла может шокировать даже современного читателя, привыкшего ко многому, — совершенно точно.
В нем рассказывается о некоем писателе Г***, и, вероятно, современники могли предположить, что рассказ автобиографичный, хотя сам автор утверждал, что все — чистый вымысел. Этот Г*** знакомится на улице Копенгагена с молодой и приличной дамой, которой хорошо известно, кто он. Между ними вспыхивает внезапная страсть, и молодая женщина приводит героя рассказа к себе домой:
«Я смущенно и с любопытством оглядывался. Это была большая, очень красиво обставленная гостиная; в открытые двери виднелись и другие комнаты. Я не мог понять, что за существо та, с которой я так странно познакомился. Я сказал:
— Как здесь красиво! Вы живете здесь?
— Да, это мой дом, — отвечала она.
— Ваш дом? Вы здесь живете с родителями?
Она засмеялась и ответила:
— Нет-нет. Я старая замужняя дама. Сейчас увидите.
Она сняла пальто и вуаль.
— Ну, смотрите! — сказала она и опять с неудержимой страстью обняла меня.
Ей было двадцать два — двадцать три года; на правой руке она носила обручальное кольцо и, пожалуй, в самом деле была замужней дамой. Красивая? Нет, слишком много веснушек, и почти нет бровей. Но все ее существо дышало волнующей жизнью, и рот ее был удивительно прекрасен.
Я хотел спросить, как ее зовут, где ее муж, если он у нее есть; хотел узнать, в чьем я доме; но она крепко прижалась ко мне, едва я открыл рот, и запретила проявлять любопытство.
— Меня зовут Эллен, — сказала она. — Хотите чего-нибудь? Ничего, я могу позвонить. Только вы должны уйти на время туда, в спальню.
Я вошел в спальню. Лампа из гостиной слабо освещала ее, я увидел две кровати. Эллен позвонила и велела принести вина; я слышал, как горничная поставила вино и вышла. Через минуту Эллен вошла в спальню, остановилась у двери. Я шагнул к ней, она слегка вскрикнула и в тот же миг пошла мне навстречу…
Это было вчера вечером…
Что случилось дальше? Потерпи, случилось еще многое!
Когда я проснулся утром, начинало светать. Дневной свет проникал по обе стороны шторы. Эллен тоже проснулась, она утомленно вздохнула и улыбнулась мне. Ее руки были белые и словно бархатные, грудь — такая высокая. Я ей шептал что-то, но она зажала мне рот губами с немой нежностью. Светало все больше и больше.
Через два часа я был уже на ногах. Эллен тоже встала, возилась со своей одеждой, надела ботинки. И тут я переживаю то, что до сих пор пронизывает меня ужасом, как страшный сон. Эллен идет за чем-то в соседнюю комнату, и в тот момент, когда она открывает дверь, я оборачиваюсь и взглядываю туда. Холодом веет от открытых окон, и среди комнаты, на длинном столе, лежит мертвец. Мертвец в гробу, в белом одеянии, с седой бородой. Худые колени торчат под покровом, точно яростно сжатые кулаки, а лицо желтое и ужасное. Я вижу все это в ярком дневном свете. Я отворачиваюсь и не говорю ни слова.
Когда Эллен вернулась, я был уже одет и собирался идти. Я еле мог ответить на ее объятие. Она что-то еще надела, она хотела проводить меня вниз, до самого подъезда, я не возражал и все еще ничего не говорил. В подъезде она прижалась к стене, чтобы не быть замеченной, и прошептала:
— До свидания.
— До завтра? — спросил я осторожно.
— Нет, не завтра.
— Почему не завтра?
— Молчи, милый, я должна завтра идти на похороны, умер один родственник. Вот, теперь ты знаешь.
— Так послезавтра?
— Да, послезавтра, я буду ждать тебя здесь, в подъезде. Прощай.
Я ушел…
Кто она была? И этот покойник? Как он сжимал кулаки, в какой трагикомической гримасе застыли углы рта! Послезавтра она будет снова ждать меня — идти или нет?
Я направляюсь прямо в кафе „Бернина“, спрашиваю адресную книгу, отыскиваю Старую Королевскую улицу, такой-то номер — так, я вижу фамилию. Я жду, пока принесут утренние газеты, набрасываюсь на них, чтобы посмотреть извещения об умерших; так, я нахожу и ее извещение, оно стоит первым в ряду, жирным шрифтом: „Мой муж скончался сегодня после продолжительной болезни, в возрасте 53 лет“. Объявление помечено позавчерашним днем.
Я долго сижу и думаю. Живут муж и жена, она на тридцать лет моложе его, он долго болеет, однажды он умирает.
Молодая вдова вздыхает с облегчением. Жизнь, безумная очаровательница жизнь зовет, и она покорно отвечает на этот голос: иду!
В тот же вечер она идет на Вестерволь…
Эллен, Эллен — послезавтра!»[85]
Гамсун любил и умел шокировать публику (не только сторонних наблюдателей, но и близких друзей) — и делал это совершенно сознательно.
Так, в дневнике Кафки (сентябрьские записи 1911 года) сохранилось описание визита к нему норвежского писателя. В гостях, помимо Гамсуна, был еще и художник А. Кубин. Во время беседы, совершенно неожиданно для присутствующих, автор «Голоса жизни» схватил лежащие на столе ножницы, поставил на край стола ногу и отрезал себе снизу брючину.
Вроде бы ничего страшного нет в таких эпатирующих поступках, но у многих ревнителей морали они вызывали желание навредить тому, кто их совершает. Гамсуну пришлось это испытать на личном опыте.
Когда он, после возвращения в Норвегию, попытался получить стипендию (1150 крон) в Союзе писателей Норвегии, которая позволила бы ему осуществить давно задуманное путешествие на Кавказ, ему в ней отказали. Стипендия была присуждена мало известному писателю Ветле Висли.
«Моргенбладет» немедленно откликнулась: «Нам сообщили, что господину Гамсуну отказали в стипендии, на получение которой он претендовал, на том основании, что он опубликовал непристойный рассказик в не менее непристойном журнале „Баста“. Продажа журналов, подобных „Басте“, в нашей стране запрещена. Коме того, нам стало известно, что журнал принадлежит немецкому издателю Лангену».
Вряд ли одна только новелла послужила основанием для отказа в стипендии, тем более что ее литературная ценность не вызывает сомнений. Скорее всего, так норвежские писатели «поквитались» с бунтарем Гамсуном, который на протяжении многих лет нападал на них.
Кроме того, в 1896 году Гамсун делает доклад «О переоценке своего отношения к писательскому делу и писателям», в котором говорит о своем разочаровании в профессии. Гамсун призывает публику снисходительно относиться к писателям, не сотворять из них кумиров, ибо ни к чему хорошему, по его мнению, это привести не может. Культ писателей становится настоящим бедствием для народа, который готов слепо следовать за своими лидерами.
Подобного выпада писатели простить Гамсуну конечно же не могли, тем более что в их памяти были еще очень свежи впечатления от «Редактора Люнге» и статьи о Ларсе Офтедале. И в результате Гамсун остался без стипендии.
* * *
Мы уже говорили, что Кнут Гамсун противоречив и последователен одновременно: он всю жизнь хотел стать писателем, стремился к славе, а как только понял, что мечта его сбывается (когда писал «Голод», а впоследствии и «Мистерии»), был готов отказаться от славы и издать книгу анонимно.
Жить без писательского дела Гамсун не мог, в своих книгах он изливал душу; образы, мысли и чувства мучили его до тех пор, пока не выливались на бумагу. Однако сам он всегда утверждал: «Я — просто крестьянин, земледелец». Безусловно, в этом была доля кокетства и проявление комплекса «человека из народа», но таков уж он был.
«Человек из народа» уже в это время знал себе цену и, когда что-то в делах шло не так, как ему хотелось, он был готов пойти на ссору даже с приятелями. Так будет всю жизнь, до последних дней уже очень старого гения и упрямца.
А в 1896 году произошла одна из первых из таких ссор. В то время знаменитый Эдвард Мунк работал над портретом Гамсуна. Он делал гравюру, за которую рассчитывал получить приличное вознаграждение, — как и многие художники, он испытывал проблемы с финансами.
Гамсун был рад, что портрет делает Мунк, и пригласил его приехать к нему в пансионат в Льян, потому что считал необходимым позировать. Мунк же придерживался другого взгляда — он и так достаточно хорошо знает свою модель. Поэтому в пансионат не поехал, чем страшно разозлил Гамсуна, но послал ему письмо:
«Дорогой Гамсун!
Я уже сделал твой портрет, который принят к публикации в журнале „Пан“ (это означает, что издательство приобретает медную доску для оттисков). Как-то ты говорил мне, что не будешь возражать, если твой портрет будет опубликован в этом журнале в Германии (в Норвегии его выписывает всего один-единственный человек), а потому я отослал журналу офорт, ведь для меня эта работа важна и в материальном отношении.
Собственно говоря, эта гравюра еще не законченный портрет, а лишь эскиз. Я постараюсь прислать тебе оттиск. Напиши о своем согласии.
Наилучшие пожелания.
Твой Э. Мунк».
Вскоре Гамсун узнает, что Мунк уже продал медную доску за триста марок немецкому журналу «Пан», приходит в ярость и в гневе пишет Мунку:
«Прежде всего этот офорт конечно же никакой не мой портрет, так как ты ко мне не приезжал, а я тебе не позировал. Кроме того, мне больно, по-настоящему больно, что ты спрашиваешь меня об этом, тем более что решение ведь ты давно уже принял сам.
Дорогой друг, позволь уж лучше мне выкупить у тебя эту пластину для оттисков. Она, конечно, стоит дорого, и денег у меня, чтобы купить ее, нет, но все же я готов заплатить триста марок — конечно, не сразу и не сейчас. Надеюсь, мне удастся заработать на следующей книге. И тогда я уничтожу эту пластину.
…В любом случае спасибо за дружеские чувства.
Кнут Гамсун».
Вряд ли Мунк мог обрадоваться, прочитав такое письмо: перспектива получить гонорар когда-нибудь, а тем более обещание уничтожить его работу должны были привести его в не меньшую ярость, чем Гамсуна. Он напечатал офорт в «Пане», а модели даже не прислал оттиска.
С тех пор их отношения заметно ухудшились.
* * *
1895 год. У Гамсуна по-прежнему нет дома… Живет он в пансионатах и отелях, но больше всего любит пансионат в Льяне.
Там он и встречает свою первую жену.
Когда они познакомились, Бергльот Бек исполнилось двадцать два года, она была замужем за предпринимателем и австрийским консулом в Кристиании Эдуардом Гёпфертом, и у них была маленькая дочь. Бергльот была необыкновенно красива, добра и богата. Происходила она из знатной семьи, и у нее был очень влиятельный отец. Отношения Бергльот с мужем разладились еще до встречи с Гамсуном — Эдуард был настоящим донжуаном и не особо скрывал свои «приключения».
Страсть между Гамсуном и фру Гёпферт вспыхнула буквально при первом знакомстве. После первой же встречи были написаны знаменитые «Стихи страсти» (другой вариант названия на русском языке — «Лихорадочные стихи»), которые исследователи творчества Гамсуна считают подтверждением того, что писатель «был эротически одержим Бергльот».
В своей книге «Кнут Гамсун — мой отец» Туре Гамсун пишет:
«Брак отца был обречен на неудачу с самого начала. Женщине, ставшей потом главной в его жизни,[86] Гамсун напишет: „Этот брак был результатом страсти, которая прошла так же быстро, как и началась. Но я уже дал слово. Сразу после этого я говорил, что, быть может, стоит еще подумать, что обязательно надо подумать нам обоим. Но получил ответ: „Сейчас об этом думать уже поздно!“ Словом, мы поженились. И оказалось, что любви между нами нет…“ Фру Бергльот развелась с первым мужем ради Гамсуна, и взять назад слово он не мог».
Сын от второго брака, безусловно, лукавит. Кнут Гамсун очень любил свою первую жену. Он страшно боялся, что муж не даст ей развода, а отец запретит выходить замуж за писателя.
Жизнь влюбленных сильно отравляла неизвестная женщина, начавшая рассылать письма всем друзьям и знакомым Гамсуна, в которых она обвиняла писателя во всех смертных грехах — от прелюбодеяния до жизни за счет женщин. Подобные письма получили и отец Бергльот, и в Союзе писателей, и в журналах и газетах.
Полтора года (полных 18 месяцев) Гамсун пытался не реагировать на подмётные письма, но нервы его не выдержали — и он обратился в полицию, чем только ухудшил ситуацию, поскольку дело приобрело широкую огласку.
В это время шел бракоразводный процесс Бергльот, и в полиции стали подозревать, что письма пишет сам Гамсун — чтобы «улизнуть» от брачных оков. (Как мы помним, он уже ранее разорвал помолвку — с фрекен Лулли Льюис.)
Основанием для таких подозрений стало довольно глупое недоразумение. Кнут получил письмо от анонима, в котором его предупреждали, что следующее письмо будет отправлено будущему тестю Гамсуна. Когда полиция действительно известила писателя, что отец Бергльот письмо получил, то он нисколько этому не удивился, что и послужило причиной уверенности в том, что письма писал он сам.
Дело зашло так далеко, что были даже проведены почерковедческие экспертизы, которые установили, что письма писал… Гамсун. Доказать обратное писатель не мог, и дело было приостановлено.
Однако не таков характер Гамсуна, чтобы он мог отступить и не дознаться, кто же был тот аноним. Ровно через 40 лет, в 1935 году он поручает своему адвокату фру Сигрид Стрей возобновить дело и попытаться установить истину. Он пишет ей, что не пожалеет никаких денег, чтобы узнать, кто отравил ему тогда жизнь. Сам он подозревал фрекен Лулли Льюис, с которой обошелся довольно жестоко и которая могла затаить на него зло, но после выяснилось, что это не она.
В результате расследования и нескольких экспертиз, сделанных иностранными криминалистами, удалось доказать, что злым гением Гамсуна была Анна Мунк, писательница, увидевшая его впервые на лекции в Трондхейме в 1891 году и с первого взгляда влюбившаяся в него. Она стала преследовать его с той самой лекции, снимать номера в тех же пансионатах и отелях, что и он, следом за ним отправилась в Париж, а потом, как верный страж, вернулась в Норвегию. Она была психически ненормальна и одержима идеей, что Гамсун ее любит, отправляла ему эротические письма и предлагала жить вместе. Она даже написала роман «Два человека», в котором явно прочитывается выдуманная история любви ее и Гамсуна.
Писатель знал о ней, был знаком с необычной и одержимой поклонницей, но никогда не обращал особого внимания на ее «приставания», поскольку она была далеко не единственной, выражаясь современным языком, его «фанаткой». Однако, по мнению некоторых биографов Гамсуна, именно Анна Мунк и расшатала фундамент первого брака писателя.
Нервы Гамсуна и Бергльот были в этот период так напряжены и измотаны, что им стало казаться, что за ними постоянно кто-то шпионит.
* * *
Наконец, развод был получен. Гамсун и фру Бергльот поженились 13 мая 1898 года. Поскольку невеста являлась разведеной, церемония заключения брака была гражданской, а не церковной.
Дочка Бергльот осталась с отцом, что очень опечалило Гамсуна, который любил детей.
На свадьбу Гамсун подарил своей возлюбленной рукописный вариант стихотворения в пяти частях «К Бергльот», красиво переплетенный. В этой любовной поэме нашлось место не только красивым признаниям в нежности и страсти, но и оскорбительным выпадам в сторону первого мужа новобрачной, которого автор называет «австрийским псом, который попытался встать на нашем пути».
После свадьбы молодые устроили прием для близких и друзей в отеле Кристиании. Очевидцы рассказывали, что посмотреть на новобрачных сбежалось полстолицы — Гамсуна уже хорошо знали.
Медовый месяц Бергльот и Кнут провели в санатории, в небольшом домике в Оппегорде на берегу красивого озера, в котором летними днями купались почти нагишом.
Время молодые проводили прекрасно. И Гамсун пишет Лангену: «I am healthy, I am young, I am rich! And now it is summer time».[87]
После чудесного отдыха в горах Гамсуны уезжают в Эурдал, к старому другу Эрику Фрюденлюнду.
Там, в красивейшем уголке Норвегии, в обстановке любви и дружбы Гамсун создал свою «Викторию».
* * *
Роман был завершен в 1898 году. Еще в июле Гамсун пишет своему другу и издателю Лангену, что новая книга будет состоять из «двух, может быть, трех частей, и я надеюсь, что роман будет хороший». Он описывает книгу как продолжение «Пана», только «намного больше», и добавляет, что, если «Пан» окрашен в «темно-лиловые тона», то «Виктория» будет «ярко-красной». Книги эти, по словам Гамсуна, — две полные противоположности.
По меткому выражению Куприна, у Гамсуна «существуют разные аккорды» для изображения любви: в «Пане» — это «могучий призыв тела, трепетное опьянение страсти, весеннее бурное брожение в крови», а в «Виктории» любовь овеяна «нежным, целомудренным благоуханием».
Хотя в июле замысел «Виктории» еще не до конца ясен автору, в конце сентября он уже отсылает готовую рукопись в издательство.[88]
«Виктория» — одно из самых значительных произведений мировой литературы новейшего времени, посвященных любовной теме. Основу произведения, как и большинства романов Гамсуна 1890-х годов, составляет история трагической любви двух людей, разделенных сословными преградами, имущественными интересами, ложной моралью.
Сын деревенского мельника Юханнес Мёллер любит Викторию, дочь владельца поместья, и она отвечает ему взаимностью. Казалось бы, карьера, которую сделал Юханнес, ставший известный писателем, неожиданная и нелепая смерть жениха Виктории от случайного выстрела на охоте, измена невесты Юханнеса и гибель в огне подожженного им же самим поместья отца Виктории неизбежно должны были бы привести любящих к соединению, но жизнь, обстоятельства, люди и гордость по-прежнему мешают им.
В разработку уже привычного для себя конфликта трагической любви с неизбежным роковым концом Гамсун впервые вводит мотив сословного неравенства. Именно неравенство происхождения и все связанные с этим трудности и становятся для Виктории и Юханнеса непреодолимыми.
Критики отмечали, что за обманчивой простотой повести скрывается сложная структура, когда в основной повествовательный текст «врываются» вставные новеллы и лирические отступления, по сути, стихотворения в прозе.
«Виктория» завершила круг произведений Гамсуна, в которых господствует лирический элемент. В последующих его романах повествование становится более эпичным и объективным.
* * *
«Виктория» была первым произведением Гамсуна, вышедшим сначала на родине, а не в Дании или Германии. Роман имел невероятный успех: первый тираж в 6 тысяч экземпляров, выпущенный 29 октября, разошелся почти мгновенно, и издательство успело напечатать к Рождеству еще один.
Зато критики роман приняли не однозначно.
Более всего Гамсуна задела рецензия редактора Нильса Фогта из «Моргенбладет», которая явилась продолжением их давнего противостояния. После выхода в свет пьесы «Вечерняя заря» Фогт написал, что пьеса не удалось, поскольку Гамсун, в силу своего происхождения и недостатка знаний о жизни высшего света, не мог создать убедительный образ женщины-аристократки. То же самое он написал и о «Виктории».
Гамсун, воспринявший рецензию как личное оскорбление, обратился за советом к давнему другу и авторитету Георгу Брандесу. Ответ последнего мы не знаем, но можем предполагать, что в нем тоже содержались некие замечания, потому что в сочельник 1898 года Гамсун пишет Брандесу:
«„Виктория“ — это не что иное, как небольшая лирическая повесть. Писатель может иногда позволить себе немного лирики, чтобы излить наболевшее, особенно если он в течение десяти лет писал о вещах жестких и даже жестоких. Рецензия в „Моргенбладет“ на эту книгу поэтому и оказалась для меня такой ядовитой. Когда в ней говорится о том, что я не был знаком с „настоящими дамами“, и о моей полной неспособности хотя бы приблизительно описать их, то это намек на мою жену, которая развелась с первым мужем. Это одно из проявлений беспримерного анонимного преследования, которому я подвергаюсь вот уже три года и которому, кажется, не будет конца. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вы об этом, конечно, ничего не знаете, однако именно поэтому я и решился искать у Вас поддержки.
Верно, не далее как лет десять назад я был не согласен с Вами, утверждал, что Ваша критика никчемна. Вполне возможно, что мои манеры оставляют желать лучшего, но и у меня ведь есть пять чувств, которыми я более или менее руководствуюсь. Если не считать Ваших стихов и книги о Юлиусе Ланге, то я, вероятно, читал все написанное Вами, а многое не раз перечитывал, и я не знаю других книг, которые с таким удовольствием захотел бы прочесть вновь. Как высоко я ценю и ценил Вас все эти годы, могут подтвердить все мои знакомые. При первой же возможности я написал об этом в статье для „Ла ревю дэ ревю“. Если у Вас сложилось другое впечатление, то основой для него мог быть наш устный спор, когда меня сбили с толку и я уже не мог отвечать за себя, за свое некрасивое поведение и грубые выражения. Вы, разумеется, имеете в виду встречу в Студенческом обществе. Я говорил тогда о столь незначительных личностях, как Шекспир и Ибсен, и считал (и продолжаю считать), что драматург не может проявить себя тонким и проницательным психологом, ибо драма — это самый несовершенный род литературы. Законы драмы, говорил я, не позволяют автору дать полный и точный психологический портрет героя, что оставляет возможности разнообразнейшим образом толковать характер одного и того же персонажа. И как пример в ряду других я упоминал Гамлета, которого интерпретировали сотни актеров, и все по-разному. Таково мое непочтительное отношение к Шекспиру! Такова моя непочтительность к Ибсену. Вышел „Сольнес“, и о нем существуют сотни мнений. Я обратился тогда к Вам в зале и сказал: „Если даже Вы и Ваш брат не смогли прийти к единству в трактовке этого образа и этой книги…“ Вы ответили: „Ну и что?“ Публика в зале начала шуметь, ибо ей хотелось скандала. Я был смущен и замолчал. Вот что я хотел сказать Вам тогда: если уж Вы и Ваш брат, люди, которые так естественно сходятся во мнении по основным вопросам литературы, выражают столь различные точки зрения о „Сольнесе“, когда один из них говорит, что он гений, а другой отрицает это и т. д., — не кажется ли Вам, что это сама драма порождает разнобой в оценках своим пошлым и ложным глубокомыслием, недостатками в психологической разработке характеров? Разве не создается впечатление, что один и тот же персонаж: драмы одновременно имеет два разных мнения об одном и том же? Именно это я и хотел сказать Вам тогда, если бы мне предоставилась возможность. Но даже если бы публика не подняла шума, то и тогда я не смог бы воспользоваться случаем. Мне трудно с Вами спорить.
С тем, что касается ограниченности культуры, я могу лишь согласиться. Сейчас о культуре много говорят, это стало уже обычной темой в последние годы, даже норвежские газеты часто затрагивают ее. Культура — это прежде всего множество поездок, множество увиденных картин, множество прочитанных книг, вообще работа памяти. Недостаток же культуры — это неуважительное отношение к Джону Стюарту Миллю, как, например, у Ницше, о чем Вы упоминаете. Недостаток культуры заключается в том, что родители не дали ребенку образования, не выучили его на врача или кого-нибудь еще. Недостаток культуры гонит тебя в Америку, заставляет заниматься физической работой в прериях, а потом оказывается, что ты не в состоянии усвоить мнение образованных людей обо всем, что признано великим, несмотря на то, что самым честным и упорным образом стараешься перевоспитать самого себя. Не знаю, понимаю ли я, что значит культура, но мне кажется, что это нечто из области воспитания души. У нас в Норвегии я встречал немало людей, прежде всего журналистов, слабовольных и непостоянных характером, с меньшим жизненным опытом, чем у меня, не слишком великодушных и не особенно стремящихся к истине, и эти люди с врожденным и взлелеянным чувством собственного превосходства могут сморщить нос при виде тех, кому недостает „культуры“. И тогда я подумал, что если у меня имеется более или менее связное мировоззрение и я пытаюсь в своих книгах выступить против тех благоглупостей, на которых все еще строится и на которые опирается наша система образования, то мне нет смысла жаловаться на нехватку в целом положительных знаний, необходимых для получения аттестата об образовании. Всем ведь известно, что я по происхождению крестьянин, и у меня никогда не было средств для занятий философией в течение пятнадцати-восемнадцати лет, а это очень важно для тех, кто решает вопрос о моей культуре. И я не сомневаюсь в том, что и для Вас это тоже очень важно».
Но Гамсуну и одного письма Брандесу было мало. Через некоторое время он вновь пишет ему:
«Г-н д-р Георг Брандес!
Прошу простить меня за то, что я вновь обращаюсь к Вам, причиняя тем самым беспокойство. Хочу узнать Ваше мнение о моей последней книге — „Виктория“.
Я пишу уже десять лет из моих тридцати восьми, издал одиннадцать книг, но вот сейчас стал сомневаться, стоит ли мне продолжать заниматься этим. Я не думал об этом раньше, но сейчас нервничаю, нахожусь в подавленном состоянии, меня обуревают сомнения. „Викторию“ я писал днем и ночью, я рыдал над ней как сумасшедший. Однако норвежская „Моргенбладет“ отозвалась о книге как о чем-то незначительном.
К весне, по моим предположениям, должен был выйти мой первый сборник стихов, но сейчас я поколеблен в своей вере: я по-прежнему убежден в правоте того, что пишу и думаю, но потерял веру в свой талант.
Я был самоуверен и без разрешения посылал Вам свои книги. Может быть, это было истолковано неправильно, но делал я это лишь из глубокого уважения к Вам. Однако мы не встречались в течение целого ряда лет, и у меня не было возможности узнать Ваше мнение о моих книгах. Именно поэтому я сегодня прошу вынести Ваш приговор, если это не затруднит Вас. Я буду благодарен даже за почтовую открытку.
С уважением
Кнут Гамсун».
Глава одиннадцатая ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ
Гамсун всегда мечтал о путешествии на восток и неоднократно писал об этом друзьям еще во времена своей голодной юности в Копенгагене.
И наконец, в 1898 году мечта его сбылась: он получил заветную стипендию в 1200 крон от Союза писателей Норвегии, которую не смог получить годом ранее.
Зимой 1898 года он вместе с молодой женой уезжает в Финляндию. После целого года мучений (развод Бергльот, преследование Анны Мунк), который писатель называл «самым ужасным годом из моих 37 лет», Гамсун обрел наконец покой и счастье.
Сначала пара жила в Гельсингфорсе в отеле, но потом сняла небольшой домик на острове недалеко от города.
Гамсун вместе с двумя плотниками сам отремонтировал свое новое жилище, чем был несказанно горд, и в декабре молодожены стали жить своим домом — в прямом и переносном смысле.
В Финляндии Гамсун встретил старых парижских друзей — художников Аксели Галлена[89] и Альберта Эдельфельдта,[90] композитора Яна Сибелиуса[91] — и обрел новых, в том числе шведа Альберта Энгстрёма.[92]
Кнут прекрасно себя чувствовал в этой компании. Все очень хорошо относились к фру Бергльот, называя ее Альвильдой — по имени героини «Стихов страсти», к которой, в частности, обращены следующие строки:
Будь проклята, Альвильда! Тобою свет мой взят, Ты не сдержала слова, Из жизни сделав ад. О, долго мне брести Без солнца на пути, Будь проклята, Альвильда! Господь с тобой, Альвильда, За данные тобой Сто ласковых прозваний, За это — «мальчик мой»! За то, что хоть недолгий срок Рук, губ твоих касаться мог — Господь с тобой, Альвильда![93]Богемная компания, помимо серьезных разговоров о политике, искусстве и литературе, умела и любила повеселиться, часто придумывая самые невероятные развлечения.
Так, Гамсун вспоминал, что однажды Сибелиус, который, как правило, и задавал тон в компании, решил разобрать в честь него, великого норвежца, печь.
«Ряд за рядом, — писал Гамсун, — друзья снимали кирпичи, из которых была сложена печь, и бросали их на пол. Это было чистой воды безумие, в котором, наконец, захотелось принять участие и мне. Я поплевал на руки и принялся за работу, но они не дали мне ничего сделать: я почетный гость, и печь они разбирают в мою честь!»
Гамсун очень любил Сибелиуса и даже, скучая в путешествии по друзьям, написал ему из Константинополя следующее стихотворение:
Сибелиус, И в музыке ты, И в царстве мечты — Зеленоокий[94] бог наших небес. В игре и в гульбе Ты верен себе, Ты чудо, наш северный бес.[95]Фру Бергльот отлично вписалась в эпатажную компанию и шокировала добропорядочную публику своими нарядами — например, платьями без рукавов, что было верхом неприличия в то время.
Однако, несмотря на чудесное времяпрепровождение, между супругами Гамсун не все было ладно. Это замечали даже окружающие.
Бергльот очень тяжело давалась жизнь в Финляндии: ей, избалованной жизнью аристократке, было холодно в деревянном доме, стирать белье вообще приходилось в проруби, в ледяной воде, а за продуктами ходить по замерзшему льду озера в ближайший поселок, где цены оказались намного выше, чем можно было ожидать. Молодая жена Гамсуна жаловалась сестре в одном из писем, что от снега и холода, от долгой финской зимы можно было «просто сойти с ума».
В конце мая супружеская чета переехала в город, и вскоре Бергльот отбыла в Вену, вероятно, повидаться с маленькой дочерью.
Гамсун остался в Гельсингфорсе.
В это время в Финляндии происходили события, которые не могли не заинтересовать его. В страну был прислан новый русский генерал-губернатор Бобриков, который осуществил, как считали финны, настоящий государственный переворот. Многие друзья писателя стали участниками национально-освободительного движения против русификации родной страны. В Гельсингфорсе был организован Фонд народного просвещения, и Гамсун передал в него гонорар за прочитанную лекцию «Жизнь писателя» (1899).
Через некоторое время в Гельсингфорс вернулась Бергльот, и семейная пара стала планировать путешествие в Россию, на «родину Достоевского», и далее в Турцию.
Гамсун опасался, что после прочитанного доклада русские власти начнут чинить препятствия путешествию, но все обошлось благополучно.
Кнут с женой проехали через Россию по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Кавказ и далее отправились в Турцию.
Результатом этого сказочного путешествия стали две книги очерков — «В сказочном царстве» и «В стране полумесяца» (1903).
* * *
Описание путешествия Гамсуна в Россию, Азербайджан и Турцию внешне представляет собой идеальный образчик путевых заметок, поскольку построено в виде хронологически точного повествования о поездке конкретных людей с приведением точных географических названий, описаний природы и действующих лиц.
Однако «В сказочном царстве» не простая книга путевых очерков, она, по мнению скандинавских критиков, — одно из самых субъективных описаний путешествий, которые когда-либо выходили из печати. Ее тема не столько Россия или Кавказ, сколько «самовыражение в высшей степени своеобразной личности автора» (Р. Фергюссон). Русские же критики, сразу после появления книги, считали ее неудачной, потому что в ней «немало наивностей, неточностей, а иногда и просто ошибок». Эта же особенность не ускользнула и от внимательного взгляда горячего поклонника Гамсуна А. Куприна, писавшего: «Увы! талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара».
Однако невозможно не заметить, с какой любовью описывает Гамсун увиденное им и услышанное на совершенно непонятном русском языке. В его описаниях нет ни злобы, ни раздражения, зато есть удивительное чувство детской радости от встречи с незнакомой жизнью, с чудом. Он действительно оказывается в сказочной стране, где все по-другому, все иначе, чем дома, — и это его увлекает и развлекает.
Мы уже не раз писали о чувстве самоиронии, присущем писателю. В книге путевых очерков оно проявилось в полной мере. Взять хотя бы рассказ о получении норвежского паспорта в Санкт-Петербурге: «Я не позаботился заранее оформить свой паспорт и тем самым доставил послу немало хлопот. Но барон Фалькенберг оказался моим ангелом-хранителем. Он выписал мне необъятных размеров паспорт, увенчанный короной и горностаевой мантией, а потом объездил посольства некоторых азиатских стран, где мой паспорт разукрасили причудливейшими крючками, завитушками и печатями».[96]
Или выдержка из очень смешного описания похода Гамсуна в ресторан:
«Я научился произносить слово „щи“. Это удается далеко не всем, но у меня получается превосходно. Могу даже написать это слово без „ch“, как пишут немцы. Щи — это мясной суп, но не обычный безвкусный мясной суп, а замечательный русский суп, приготовленный из разных сортов мяса, яиц, сметаны и зелени. Я заказываю щи, их подают. Официант старается угодить мне и предлагает еще несколько блюд. Потом я уже по собственному почину требую икру, но едят ли ее с тем, что мне предложил официант, я не знаю.
…Официант приносит жаркое. После сытных щей мне уже не хочется есть, и тем не менее официант прав, полагая, что человеку следует есть много, но зато потом долго обходиться вовсе без пищи — такова точка зрения здоровых людей. Теперь я хочу кофе и сигарет, и мне с первого же раза удается заказать и то, и другое».[97]
Впрочем, Гамсуну свойственно не только чувство юмора и самоиронии, но и чувство прекрасного. Писателя приводит в восторг величественность Петербурга, неповторимая красота Москвы, неоглядные русские степи и дикая кавказская природа. Вот как он описывает Москву:
«Худо-бедно, но я повидал четыре из пяти частей света.[98] Правда, я не все там видел, а в Австралии так и вовсе не был, но кое-где я все-таки побывал и кое-что все-таки повидал, однако ничего подобного Московскому кремлю мне видеть не приходилось. Я видел прекрасные города, Прага и Будапешт, по-моему, очень красивы, но Москва — это сказочный город. Между прочим, сами русские произносят не Москва, а Масква. Как правильно, я не знаю.
…В Москве четыреста пятьдесят церквей и часовен, и, когда на всех колокольнях звонят колокола, кажется, будто над этим миллионным городом содрогается воздух. С Кремлевского холма открывается великолепнейший вид. Я и представить себе не мог, что на земле есть такой город: куда ни глянь, повсюду зеленые, красные и золотые шпили и купола. Это золото и небесная синь затмевают все, что могло нарисовать мое воображение.
…У меня нет склонности к преувеличениям. Возможно, я не все верно запомнил: в храме я не мог записывать и был слишком потрясен увиденным — у меня глаза разбегались от обилия этих немыслимых сокровищ… весь храм в целом представляется единой неповторимой драгоценностью. Он украшен с такой роскошью, что это не всегда производит приятное впечатление, я помню, в частности, что огромные драгоценные камни царей на стене показались мне ненужными и безвкусными. Позже я видел персов с одним-единственным камнем на тюрбане, и мне это показалось более красивым».[99]
Не обошел Гамсун своим вниманием и русскую литературу, которая дала ему повод, как и в докладах, еще раз высказать свое критическое отношение к произведениям 1870 — 1880-х годов.
Но если в докладах под огнем его критики оказываются преимущественно норвежские литераторы, то теперь главным образом «великий русский писатель Толстой», за которым отвергается право «быть мыслителем и учителем жизни». Как и прежде, Гамсун считает, что задача писателя — в исследовании души современного человека. Из русских прозаиков, по его мнению, с этой задачей блестяще справился Достоевский. «Никто не проник так глубоко в сложность человеческой натуры, как Достоевский, он обладал безупречным психологическим чутьем, был ясновидцем. Нет такой меры, которой можно было бы измерить его талант, он — единственный в своем роде».
Однако в частном письме Дагни Кристенсен Гамсун меняет свое мнение о любимом Достоевском. Он пишет:
«Книга будет готова, скажем, месяца через три, но выйдет она месяцев через шесть-семь, то есть осенью… Она будет большая… в норвежском издании 350–400 страниц… Меня поражает, какой плохой мыслитель Достоевский, такой же плохой, как и Толстой. Нашим европейским мозгам трудно понять болтливое несовершенство этих двух великих гениев».[100]
* * *
Из Москвы Гамсун с супругой едут во Владикавказ и далее — в Тифлис и Баку.
Баку поразил Гамсуна, который увидел в нефтяных вышках не технический прогресс, а грязь и зло, которые несут разрушение естественной среде. «Но вот сюда вторглась Америка с грохотом своих машин», — сетует он. И ему нет дела до того, что Америка тут совершенно ни при чем — ведущей нефтяной компанией в те времена была компания Нобелей, шведских предпринимателей.
Бергльот же напишет подруге из Баку: «Мы сейчас в самом восточном городе Европы на берегу Каспийского моря… Керосин и нефть бьют прямо из-под земли целыми фонтанами… Скоро мы едем в Константинополь».
На пароходе Гамсуны пересекают Черное море и прибывают через Босфор в Константинополь.
В путешествии писатель покупал много открыток и собирал туристические проспекты. Он рассчитывал, что его книга будет «богато иллюстрирована».
В письме Лангену Гамсун сообщает:
«За два последние месяца я совершил долгое путешествие по России, Кавказу и через Кавказские горы до самого Каспийского моря, потом проехал по окрестностям Персии и вернулся обратно по Черному морю через Константинополь, Болгарию и Сербию. Теперь я прибыл в Копенгаген, где останусь до конца года. Как Вы относитесь к изданию в Германии моей книги об этом путешествии? Книга должна быть богато иллюстрирована, у меня есть большой выбор хороших фотографий».[101]
Действительно, после возвращения из путешествия чета Гамсунов остановилась в Копенгагене, сняв «две уютные комнатки на окраине». Именно в Дании Гамсун начнет писать книгу путевых очерков, вот только работать над ней он будет с большим удовольствием долгих три года, и выйдет она без иллюстраций…
Зато сразу после выхода «Путешествие в сказочную страну» собрало восторженные отзывы критики. Так, в газете «Эребладет» было написано: «Совершенно очевидно, что Гамсуну под силу любой жанр литературы, он мастерски справляется с любым из них. Но „В сказочном царстве“ он показал себя с новой стороны, ведь он написал книгу путевых очерков — а путевой очерк, как известно, скучен по определению, — и вот этот самый скучный жанр он превратил в литературный шедевр».
* * *
Для внимательного читателя не составит труда заметить, что книга путевых очерков пишется от лица самого Гамсуна, который о своей жене упоминает вскользь и называет фру Гамсун «попутчицей». Такое высокомерно-снисходительное упоминание Бергльот критики объясняют все усиливающимся разладом в их отношениях. Гамсун предпочитает говорить о себе как о путешественнике, путнике, бродяге…
В Копенгагене странник тоже надолго не остается, и уже в апреле 1900 года супруги возвращаются в Кристианию. Тоска по родному дому, а, быть может, в достаточной степени и невозможность подолгу жить под одной крышей неожиданно толкают Гамсуна впервые за 25 лет поехать к родителям. Бергльот остается в столице.
Глава двенадцатая ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ
В Хамарёе Кнут чувствовал себя прекрасно. Он вновь вернулся домой — и произвел просто ошеломительное впечатление на своих земляков и даже собственных родителей.
В деревушке ходили слухи, что отец и мать Гамсун были так потрясены новым «городским» видом сына, что никак не хотели признать господина в дорогом костюме, с усами и в пенсне за своего Кнута и все порывались обращаться к нему на «Вы».
Гамсун пишет Эрику Фрюденлюнду:
«Если бы ты только знал, какие замечательные люди живут в Нурланне! Они до сих пор верят в Шестую книгу Моисея и особенно следят за новолунием и полнолунием. Я хотел было выкупить отцовскую усадьбу (пару лет назад он вынужден был продать ее за тысячу шестьсот крон), но ее нынешний владелец ни за что не хочет расстаться с ней. Я хотел купить ее для своего несчастного брата, но ничего из моих планов не исполнилось, и поэтому я злюсь, но вообще-то у меня прекрасное настроение. И я собираюсь работать — когда придет время».
И время пришло. Гамсун снимает небольшую землянку рядом с отцовским хутором, чтобы иметь возможность уединиться, и начинает писать историческую драму в стихах «Мункен Вендт» (1902), сюжет которой относится к концу XVIII века. Первоначально он хотел написать трилогию, но в ходе работы отказался от первоначального замысла и создал драму в восьми действиях.
К сожалению, как и большинство пьес Гамсуна, особое значение она имеет только для историков литературы. Однако после выхода пьеса получила прекрасные отзывы критиков, хотя поставить ее не удалось из-за слишком большого объема. Впоследствии Гамсун часть монологов включил в сборник стихов «Дикий хор».
* * *
Пробыв с родными почти полгода, писатель возвращается в Кристианию.
Это было тяжелое время для Гамсуна. Брак его трещит по всем швам. Ситуацию ухудшает еще и нехватка денег. Свои гонорары и стипендию Гамсун потратил, а жить на деньги жены ему не позволяла гордость.
Весной 1901 года он уезжает в Бельгию в надежде выиграть какую-то сумму в казино и тем самым поправить свое финансовое положение, но его поездка закончилась печально. Он проиграл в казино в Остенде очень большие деньги, и только, как пишет Туре Гамсун, финансовая помощь Бергльот помогла ему избежать долговой ямы.
Однако дело обстояло намного хуже: Гамсун взял деньги жены без ее разрешения. Он пишет Бергльот после проигрыша в настоящей истерике:
«Я отправился в эту поездку вовсе не ради развлечений, а исключительно ради хлеба насущного. Я хотел расплатиться с банком и вернуть кредит, который взял. Но все закончилось полным крахом — по воле нашего Отца небесного. Этот заботливый Отец по своему разумению послал мне тяжелейшее испытание, и, должно быть, сейчас Он потирает ручки, видя, как я страдаю. Я не просто просил Его один-единственный раз, я молил Его целый месяц, а может, и пять недель, стоя на коленях на ночных улицах в Остенде. И Он услышал меня и ответил — как Он обычно отвечает…
Я сейчас надеваю по четыре рубашки, потому что у меня нет денег купить осеннее пальто, и я ношу мой летний серый плащ, а ведь здесь по утрам и вечерам холодно, как зимой. У меня нет денег на новые ботинки, а у старых отвалилась подошва, и тут всё время идет дождь, так что у меня постоянно мокрые ноги. Я пишу тебе не для того, чтобы расстроить, вовсе нет, у меня и в мыслях этого не было. Я пишу, чтобы наказать самого себя и… сказать, что я собирался пополнить твой и мой счета в банке, а вовсе не проиграться в пух и прах. Я ехал сюда не за развлечениями».
Насколько Гамсун не собирался развлекаться — неизвестно, однако определенная доля скептицизма в оценке его письма должна присутствовать, потому что в Бельгии он не отказывал себе ни в чем — и даже взял в аренду авто: неслыханная по тем временам роскошь и определенное пижонство.
Поверила ли Бергльот мужу или нет, но деньги на билет домой Гамсуну выслала (да и что ей оставалось делать?) — и ее несчастный муж возвращается домой, а потом вновь уезжает.
Для Гамсуна проигрыш стал ужасным ударом. Он ненавидел долги, ибо прекрасно помнил, как тяжело ему было выплатить занятые в юности деньги, и вот ситуация повторилась, только теперь он был должен своей жене…
В сентябре 1901 года он пишет Венцелю Хагельстаму:[102]
«Дорогой Хагельстам, мне сейчас так скверно. Как ты знаешь, у моей жены были деньги, было состояние. Я истратил из них несколько тысяч. Это так несказанно мучает меня, что я совершенно не могу работать. Когда моя жена уехала в Хельгеланд,[103] я взял деньги без ее разрешения и отправился в казино, рассчитывая выиграть в рулетку несколько тысяч. Но ничего не вышло. Я проиграл 13 000 франков. Боже милостивый, что же мне делать, Хагельстам? Вернуться домой я не могу. Ты не представляешь, что я пережил, и теперь пребываю в полном отчаянии. Милый, милый Хагельстам, я умоляю тебя о помощи. Я понимаю, что у тебя самого нет достаточных средств, но я не знаю ни одного случая, когда бы ты оказался в беде и не обратился к общим друзьям.
…Клянусь Богом, ты не потеряешь ни эре. Я собираюсь в лекционное турне по Скандинавии, и деньги у меня будут. Я верну все сполна, еще с процентами. Я не могу вернуться домой, Хагельстам, спаси мое имя и мою жизнь. Я пережил невероятное душевное страдание и никак не могу прийти в себя, будь уж так добр, пошли ответ телеграфом».[104]
Гамсун предпринимает поистине титанические усилия, чтобы расплатиться с долгом: пишет Лангену, который не раз выручал его, продает ценные вещи, даже закладывает золотые часы.
Ланген смог выплатить лишь небольшую сумму. Кроме того, ему порядком надоело все время приходить непутевому писателю на помощь, поскольку денежные вопросы возникали регулярно, и он не видел ничего особенного в проигрыше. Он пишет Гамсуну:
«Я трижды пробовал достать для Вас денег, и три раза получил отказ. Сумма, о которой вы просите, очень велика. Сам же я могу выслать Вам в следующем месяце тысячу франков.
;Больше у меня просто нет, хотите верьте — хотите нет. Почти вся моя прибыль за прошлый год была потрачена на помощь друзьям… неужели Ваше положение так ужасно? Да и что такое карточный долг для писателя? Вы же не офицер, для которого подобный проигрыш — дело чести. Конечно, Вы поступили легкомысленно, но ведь от этого Вы не стали менее талантливы и известны. Старики, услышав про Ваш проигрыш, лишь покачают головой, а молодые и вовсе лишь скажут: „Не повезло“. Но и для тех, и для других Вы все равно останетесь автором „Голода“ и „Пана“».
Вероятно, долг еще был так ужасен для Гамсуна и потому, что отношения его с женой все ухудшались, о чем он обиняками писал друзьям. Он все больше стал ценить свободу, возможность делать, что хочешь и как хочешь, даже бутерброды намазывать маслом по-своему и не открывать дверь, когда не желаешь принимать посетителей.
В этот период он много пьет и проводит время в веселых застольях с друзьями, часто совершая невероятные глупости. Однажды в газетах даже появляется сообщение о том, что писатель покончил жизнь самоубийством, и Гамсуну приходится давать опровержение.
О проделках Гамсуна существует много рассказов — и что в них правда, а что ложь, сказать трудно. Рассказывают, что однажды во время попойки в отеле «Гранд»[105] он увидел в окно, как мимо проводили корову, выскочил на улицу, купил несчастное животное, написал письмо даме, живущей на верхнем этаже, пришпилил письмо корове на рога и затащил ее в отель. Он смог «провести» корову наверх к номеру дамы, и, когда та открыла дверь комнаты, то увидела перед собой рогатую морду с наколотым на один рог посланием.
Еще один анекдот гласит, что однажды Гамсун купил у крестьянина телегу с сеном и лошадью возле одного ресторана, уселся на край телеги и отправился «путешествовать» по столичным улицам, а когда ему это надоело, вернул и сено, и телегу с лошадью крестьянину назад. Для ошарашенного поселянина это был один из самых удачных дней в жизни: и товар продал, и обратно его получил…
Друзья вспоминали, что перепить Гамсуна было невозможно. Даже после нескольких дней веселья и гульбы он отлично держался на ногах и мог своим ходом добраться до своего жилья.
Гамсун непрерывно уезжал из дома — в том числе, и за границу. В 1904 году он отправился в Копенгаген. Там он встретился с Мунком, с которым, как мы помним, состоял в ссоре из-за собственного портрета.
«Оба оказались втянутыми в историю, которая удостоилась внимания в прессе, в том числе и в „Афтенпостен“. Автор заметки сетовал на нравы представителей богемы, — пишет норвежский литератор Л. Р. Лангслет. — Эдвард Мунк и норвежский писатель Андреас Хаукланд сидели в кафе „Бернина“ и пропустили не по одной рюмочке, когда Хаукланд неожиданно набросился на Мунка. Вскоре, избитый в кровь, тот уже валялся на полу. Несколько дней спустя Мунк отомстил обидчику, избив его палкой у входа в то же самое кафе. По чистой случайности Гамсун и Томас Краг проходили мимо и стали свидетелями происходящего. Впоследствии Гамсун в одной из своих статей защищал Хаукланда в связи с тем, что того намеривались лишить стипендии. Естественно, этот факт никоим образом не способствовал улучшению его отношений с Мунком.
А теперь обратимся к неопубликованным запискам Мунка. В то роковое утро Мунк возвратился в Копенгаген из поездки в Любек и, усталый, в нервом напряжении, направился прямо в кафе „Бернина“. Вот что он пишет:
„Вошел Гамсун, он шатался, явно был в загуле. Мы пропустили с ним по рюмочке. Он идет на полусогнутых… „Почему ты не пришел ко мне на свадьбу, ведь я же звал тебя?“ Потом он ушел. Ко мне подсел незнакомый коренастый человек с черной бородой: „Я — Хаукланд…“ Он был пьян. Мы сидели за небольшим столиком… Он сидел слишком близко от меня. Мне было невыносимо разговаривать с этим человеком… И тут я почувствовал страшный удар кулаком по глазу, а потом еще один… причем на одном из пальцев было железное кольцо… Думаю, что это всем известное избиение произошло не без ведома моих любимых соотечественников Гамсуна, Томаса Крага и Яльмара Кристенсена, каждый из которых имел на меня зуб…“
В других своих записках Мунк называет этих троих „мафией, которая борется против меня“. Когда нервы у Мунка были напряжены, ему повсюду мерещились заговоры.
И Гамсун, и Мунк долго помнили подобные оскорбления. Но все же оба они были слишком масштабными личностями, чтобы исключительно по этой причине никогда не общаться. Когда после окончания Первой мировой войны Мунк переехал в Осло, он предпочел вести замкнутый образ жизни, общаясь лишь с несколькими близкими друзьями. Если же Гамсун появлялся в Осло и его приглашали в гости, а он, как правило, бывал душой компании, то все знали, что в этом случае неуместно было приглашать Мунка. Тем не менее их общий друг Кристиан Гиерлёфф всегда служил связующим звеном между ними».[106]
Понятно, что такие выходки не могли понравиться рафинированной Бергльот, но какими бы ни были отношения между супругами, в 1902 году у них рождается дочь Виктория — первый ребенок Гамсуна.
Кнут, который очень любил детей, был счастлив, но появление на свет малышки ничего не изменило в его отношениях с Бергльот. Она по-прежнему сидела и ждала его дома, только теперь с младенцем на руках, а он по-прежнему шатался по городу в компании друзей. Вероятно, чувства к Бергльот все еще теплились в его душе, потому что иногда он просил друзей зайти к нему домой и подтвердить жене, что эту ночь он провел с ними.
Однако, если на семью времени у Гамсуна не хватало, то работать он мог всегда.
* * *
В 1903 году вышли сразу три книги Гамсуна — «В сказочном царстве», драма «Царица Тамара» и сборник рассказов «Густые заросли» (название сборника также переводят на русский язык как «Лесная поросль»).[107]
«Царица Тамара», как и «В сказочном царстве», написана под впечатлением путешествия по Кавказу. В ней Гамсун вновь, уже на историческом материале, обращается к теме любви. Однако исторический фон в пьесе достаточно условен, а сюжет малоправдоподобен.
Пьеса была поставлена в 1904 году на сцене Кристианийского театра с невиданными дотоле роскошными декорациями, но выдержала всего двенадцать представлений.
Благодаря гонорарам за вышедшие три книги, а также полученным в 1903 и 1904 годам стипендиям, долг Гамсуна Бергльот оказывается погашенным, и это его немного успокаивает. Теперь он может работать уже свободнее.
В 1904 году появляется его первый сборник стихов «Дикий хор», в который входят и старые «Стихи страсти», и новые, в том числе и одно из программных для Гамсуна — «Когда пройдет сто лет»:
Бывает, страдаю, ропщу, отрицаю, Кажусь сам себе потерпевшим крах, Не вижу выхода и не чаю Найти облегченье в своих скорбях. Но, собственно, что меня так гнетет? Забудется все, как сто лет пройдет. Вот я уже повеселел немного, Мне жизнь представляется как роман: То буду, как тролль, обманывать Бога, А то, словно бес, напиваться пьян. И пусть грехов моих невпроворот, Забудется все, как сто лет пройдет. С душой, бореньями утомленной, Направлю я парус в простор морей И вот, успокоюсь во мгле бездонной С душой растравленною моей. Одно мне, что этот конец, что тот — Забудется все, как сто лет пройдет. Нет, лучше пробиться сквозь жизни грозы, Для книг от нее получив урок, Умру я великим моголом прозы И дворянином рифмованных строк. Но вот что меня и теперь гнетет: Забудется все, как сто лет пройдет.[108]Но самым известным из сборника считается лирическое стихотворение «Остров в шхерах»:
Гляжу из лодки На остров в шхерах, На цвет зеленый Лугов прибрежных: Схожу на берег — Цветы не сводят С меня своих глаз, Изумленных, нежных. И вот цветут они В моем сердце, И нет их краше На белом свете; Они беседуют, Шепчут странно, Смеются, кланяются, Как дети. Как знать? Быть может, И я когда-то Цветком был белым Между цветами — Недаром трепет Воспоминаний Я ощущаю, Цветы, пред вами. К плечу склоняюсь Я головою, Далеких грез Надо мной туманы, И ночь, сгущаясь, Меня качает Волною моря, Волной нирваны.[109]К своим стихам Гамсун всегда относился критически, тщательно отбирал их для каждого сборника.
В письме к немецкому переводчику в 1908 году он напишет:
«Опубликованные мною стихи могут составить лишь тоненький том, и лучшее ли они из написанного мной, право, не знаю. Возможно, позднее я все же составлю из них другой томик: у меня лежит множество недоработанных стихов.
Мне представляется крайней наглостью по отношению к читателю публиковать разрозненные поэтические зарисовки как законченные стихотворения.
Всякий поэт знает, стих всегда рождается в большей или меньшей степени под влиянием душевного настроения. Неожиданно зазвучит мелодия, перед внутренним взором возникнут краски, цвета, вдруг зазвенит, запоет внутри тебя…
…Самое лучшее время года для меня — лето. Многие из моих стихов я сочинил лежа на траве в лесу. В такие минуты я уношусь мыслями далеко-далеко, прочь от людей и впечатлений окружающей жизни и погружаюсь в дни моего детства, когда я пас скотину. Вот когда во мне пробудилось ощущение единства с природой, и если оно у меня есть, то оно осталось с тех времен, когда я был дитя на зеленых лужайках среди гор и лесов и встречал разных зверей и птиц, которые стали мне знакомцами на всю оставшуюся жизнь.
…Уже в феврале или марте меня охватывает предчувствие весны. Наступает светлое время года, и стихи слагаются легче.
Рождаются новые стихи в добавление к тем, что уже лежат и ждут окончательной доработки».[110]
В 1903 году Гамсуну заказывают — специально для норвежского читателя — роман. Он должен был быть опубликован в популярной книжной серии издательства «Гюльдендаль» «Северная библиотека».
Так на свет появились «Мечтатели» — небольшое произведение, в котором с мягким юмором описывались нравы и быт маленького рыбачьего поселка в Нурланне, любимом краю детства писателя.
Кнут любил это свое детище и даже называл его «веселой и жизнерадостной, одной из лучших моих книг».
Главный герой — крепыш-телеграфист Уве Роландсен, сумасброд и мечтатель, в конце концов изобретший способ изготовления клея из рыбьих костей и выбирающийся из житейских передряг.
Роландсен — первый из героев Гамсуна, который становится благополучным, ибо он в состоянии изменить свою жизнь.
«Побеждают у Гамсуна всегда те, в ком есть напор, жизненная энергия. Такие, как Роландсен, неунывающий, неутомимый, вездесущий прожектер. Как Элиза Мак, которая незаметно подыгрывает ему, — пишет Э. Л. Панкратова, переводчик романа „Мечтатели“ на русский язык. — Роландсена называют Эспеном Аскеладдом (герой норвежских сказок, Золушка мужского рода, кое в чем похожий на Иванушку-дурачка), который получил „полкоролевства и принцессу в придачу“, но у Роландсена удача — награда за усилия и риск. Таким образом, главная сюжетная линия „Мечтателей“ в чем-то пародирует историю любви мельника Юханнеса и Виктории, „барышни из Замка“, из более раннего романа „Виктория“».
Интересен и тот факт, что Гамсун продолжает писать о персонажах, уже так или иначе знакомых читателю его романов. Главная героиня «Мечтателей» Элиза Мак — дочь брата Фердинанда Мака, главного врага Глана из «Пана».
В целом же роман по стилю можно сравнить с книгами Марка Твена, озорными и насмешливыми, легкими и игривыми.
* * *
В 1905 году выходит третий сборник рассказов Гамсуна — «Бурная жизнь» (другой вариант названия на русском языке — «Борющаяся жизнь»). В него вошли новеллы самого разного характера — от иронических до драматических и даже трагических. В центре внимания автора почти всегда оказываются внутренние переживания героев, непредсказуемость и противоречивость людских поступков, неадекватная реакция загнанного в угол человека.
Гамсун в очередной раз доказал своим оппонентам, что ему подвластен любой жанр литературы, и даже буквально в нескольких строчках он умудряется рассказать о большом, по времени, этапе насыщенной жизни души, как, например, это происходит в новелле «Кольцо»:
«Я видел однажды в обществе влюбленную молодую женщину. Ее глаза были синими и блестящими, как никогда ранее, и она никак не могла скрыть своих чувств. Кого любила она? Того молодого господина, там у окна, хозяйского сына, человека в мундире и с львиным голосом. И, Боже мой, с какой любовью смотрели ее глаза на молодого человека, и как беспокойно двигалась она на стуле!
Когда мы ночью возвращались домой, я сказал ей, потому что я так хорошо знал ее:
— Какая ясная, какая чудесная погода! Тебе было весело сегодня вечером? — И чтобы предупредить ее желание, я снял свое обручальное кольцо с пальца и сказал еще: — Посмотри, твое кольцо сделалось мне тесно, оно жмет мне. Что, если ты дашь его расширить?
Она протянула руку и прошептала:
— Дай мне его, его можно будет расширить.
И я отдал ей кольцо.
Месяц спустя я встретился с нею вновь. Я хотел было спросить ее о кольце, но не спросил. Время терпит, подумал я, не надо ее торопить, пусть пройдет еще месяц.
Тут она говорит, опустив глаза:
— Да, правда, — кольцо. Такая беда, я его запрятала куда-то, я его потеряла. — И она ждет моего ответа. — Ты не сердишься на меня за это? — спрашивает она с беспокойством.
— Нет, — ответил я.
И, Боже мой, с каким легким сердцем ушла она, потому что я не сердился на нее за это!
Так прошел целый год. Я снова вернулся к старым местам и шел однажды вечером по знакомой, такой знакомой мне дороге.
И вот мне навстречу идет она, и глаза у нее еще более синие и еще более блестящие; только рот ее стал такой большой и губы побледнели.
Она воскликнула еще издали:
— Вот твое кольцо, твое обручальное кольцо! Я нашла его снова, мой любимый, и отдала его расширить. Теперь оно больше не будет тебе жать.
Я посмотрел на покинутую женщину, на ее большой рот и бледные губы. И посмотрел на кольцо.
— Ах, — сказал я и поклонился ей низко-низко, — как не везет нам с этим кольцом. Теперь оно стало мне слишком просторно».[111]
* * *
Книги выходили, Гамсун работал и по-прежнему кутил напропалую.
Иногда его шокировали собственные выходки. В 1904 году он пишет другу, что безобразно вел себя и ему страшно стыдно, ведь «устраивать семинедельный загул — это чистой воды свинство».
О неудавшейся семейной жизни писателя знали не только близкие и друзья, но практически все жители Кристиании.
Так, в 1903 году Гюстав Вигеланн работал над бюстом Гамсуна. Писатель был не особо усердной моделью, но все-таки «прогуливать» сеансы не «прогуливал». И вот однажды на назначенную встречу он не явился. У нас остались воспоминания Ингер Сивертсен, секретаря Вигеланна, которая писала:
«Когда 15 апреля Гамсун не явился в студию, Вигеланн пришел в ярость. Он послал меня с запиской на Терезесгате, где в то время жила первая жена писателя. Она ответила мне, что не видела своего мужа уже несколько дней! Когда Гамсун 16 апреля наконец явился в ателье к Вигеланну, тот рассказал ему о словах жены. Гамсун же отвечал, что, когда ему нужно поменять белье, он посылает мальчишку за чистой рубашкой на Терезесгате, а затем переодевается в туалете в кабачке. Он был ужасной моделью! Каждый день навеселе, а иногда и очень пьян! Удивительно, что его бюст удался!»
Казалось, Гамсуну было уже наплевать на Бергльот. Позже он признавался в письме Марии, второй своей жене, что никогда не любил Бергльот и четыре прожитых года были настоящим мучением, ввергшим его в депрессию.
Так ли это и был ли искренен Гамсун, когда писал второй жене о первой, мы не знаем, но совершенно очевидно, что первый брак его не удался. Он ничего не хотел о нем знать или помнить. В ответ на анкету, присланную Лангеном, которую надо было заполнить для издательских нужд, Гамсун пишет, что не «помнит года своей свадьбы» и «лучше спросить об этом мою жену».
Изменял ли Кнут Бергльот, тоже неизвестно. Сам он писал Марии, что изменил в первом браке только один раз — в 1904 году в Дании и это было страшно унизительно и неприятно. Он не называет имени женщины, просто говорит, что «изменил не жене, а самому себе».
Но уходить от жены он долгое время никак не решался — и даже купил и начал строить дом в Дрёбаке. Эскиз дома и все необходимые чертежи и расчеты Гамсун сделал собственноручно, сам же он и наблюдал за строительством, практически никуда не отлучаясь из города.
Этот дом стал ему очень дорог, но как только его строительство в 1906 году было завершено, супруги развелись.
Гамсун напишет Альберту Лангену: «Ну что ж, я построил мой дорогой дом. И как только я закончил строительство, мой собственный брак развалился, моя семья распалась. Как же все печально в нашем мире!»
После развода Гамсун никогда не оставлял жену и дочь и всегда помогал им деньгами. Да и ушел он из семьи, как подобает настоящему мужчине, — ничего не взяв. Через много лет (в 1932 году) он напишет своему адвокату Сигрид Стрей: «В моем первом доме, который я потерял, были собраны все антикварные вещицы, привезенные из путешествий и поездок по странам и городам. Дом достался моей жене, потому что был построен в основном на ее деньги».
Маленькая четырехлетняя Виктория осталась с матерью. Но Кнут и Бергльот договорились, что следующие четыре года своей жизни девочка проведет с матерью, а к отцу будет приезжать на лето. В 1910 году Гамсун собирался забрать дочь к себе. В случае же, если кто-либо из родителей вновь вступит в брак, девочка должна будет жить с не связанным супружескими узами родителем.
Бесполезно задаваться вопросом, почему распадается чужой брак, — правду знают только двое. Туре Гамсун писал, что «…фру Бергльот была доброй, веселой и простой женщиной, но она была не в состоянии понять отца. Гамсун же, со своей стороны, хотел, чтобы его жена была не только личностью, его понимающей, но часто совершенно и во всем ему подчиняющейся». Вероятно, в этом-то все и дело. Гамсун действительно хотел полного подчинения жены, отказа от привычного ей образа жизни и совершенного погружения в жизнь мужа. Такую жену ему в конце концов найти удалось, но вот принесло ли это им обоим счастье, знали опять только они двое…
Глава тринадцатая ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНГАЖЕМЕНТ
Гамсун в конце жизни писал, что всегда был политически ангажирован, но никогда не принимал участия в самой политике. Так ли это?
Надо сказать, что на рубеже веков в Норвегии не было и быть не могло не интересовавшихся политикой граждан. Слово «граждане» — единственно верное для описания внутреннего состояния норвежцев в то время, ибо речь шла о свободе их родины.
* * *
Это было время борьбы за политическую и национальную независимость. Идея культурной общности определенных народов возникла во время Наполеоновских войн и приобрела особенное значение в 1853–1856 годах (Крымская война) и во время Датско-прусской войны (особенно знаменателен 1864 год, когда Дании пришлось уступить Шлезвиг-Голштинию). В Норвегии теория скандинавской общности приобрела многих сторонников во главе с писателем Бьёрнстьерне Бьёрнсоном по той простой причине, что давала возможность соединить идею северного единства с требованием большей внутренней свободы.
Впервые идея скандинавского единства была сформулирована на заседании шведского общества «Готический союз» в Стокгольме в 1811 году. Члены этого общества утверждали, что их предками были готы и своей основной задачей считали изучение старых саг и преданий. Они развивали в своих литературных произведениях древние сюжеты — сказание о Сигурде Победителе Дракона, о Фритьофе Смелом и Ингеборг, о древних богах Идун и Браги.
Широкого распространения это движение не получило. В 1833 году общество было распущено, однако в 1860 — 1870-х годах века подобные «неоготические» студенческие кружки возникли в Лунде, Упсале, Копенгагене и Христианин.
В 1836 году Норвежское студенческое сообщество получило две серебряные копии старинных рогов с руническими надписями в подарок от профессора Юнаса А. Хильма. Эти сосуды употреблялись для питья во время здравиц в особо торжественных случаях. Из Рога Браги пили за прошлые славные дела, а из Рога Клятв — за будущие. Пили за процветание Норвегии и других Скандинавских стран и читали отрывки из «Старшей Эдды».
Сама процедура проведения подобных встреч была, по сути, одинакова для всех студенческих обществ. На одном из таких вечеров в Упсале в 1856 году произносились пламенные речи, которые произвели такое сильное впечатление на Бьёрнстьерне Бьёрнсона, что он решил стать поэтом. Артур Газелиус, будущий основатель Северного музея в Стокгольме в 1874 году, тоже присутствовал на подобных заседаниях. Бывали там и Карл Курман и норвежец Лоренц Дитрихсон, которые через 15 лет постарались воспроизвести средневековую обстановку в своих собственных домах.
В 1906 году, через год после расторжения унии Норвегии со Швецией, Курман писал Дитрихсону, бывшему тогда профессором истории искусств в университете Кристиании: «Вот уже пятнадцать лет прошло с тех пор, как мы молодыми людьми с горящими глазами и быстро бьющимися сердцами произносили пламенные клятвы и пили мед из старинного рога в Упсале, а мне кажется, что было это вчера».
Именно благодаря кружку людей, собравшемуся вокруг Газелиуса, Курмана и Дитрихсона, в 1856–1875 годах профессора Стокгольмского университета, неоготический северный стиль и получил свое распространение. В 1878 году на вилле Курмана, построенной в древнескандинавском стиле, состоялся вечер, на котором, по воспоминаниям художника Георга Паули, «молодая девушка обносила гостей пивом в серебряном роге». Традиции стокгольмского и упсальских обществ по-прежнему оставались живы и продолжили свое существование в неоготических кружках «Идун» и «Руна», которые были созданы в Стокгольме соответственно в 1862 и 1871 годах. В их работе принимали участие Газелиус, Курман, Дитрихсон и даже Август Стриндберг. Особенное распространение «северное» движение получило в Швеции в 1860–1870 годах.
В Швеции и Дании в 1880-х годах это движение стало постепенно угасать, но зато продолжило свое существование в Норвегии и приобрело там особенное значение после разрыва унии со Швецией.
Норвегии было необходимо найти основу для национального самосознания, но сделать это оказалось непросто, ибо долгое время Норвегия была связана с Данией и Швецией крепкими политическими, а следовательно, и идеологическими узами.
Это явилось основной причиной запоздалого присоединения Норвегии к «северному» движению.
В 1830-х годах идея национальной независимости Норвегии стала особенно популярной благодаря влиянию поэта Хенрика Вергеланна и историков Якова Рудольфа Кейсера и Петера Андреаса Мунка. Они утверждали, что норвежцы — это совершенно отдельная ветвь на скандинавском древе, чьи культура и язык запечатлены в сагах. В Скандинавском обществе, созданном в 1843 году, и ему подобных организациях Норвегия рассматривалась как культурный центр всего Севера. Благодаря изысканиям Ивара Осена в области норвежских диалектов и собранию народных сказок и легенд Пера Кристена Асбьёрнсона и Йергена Ингебретсена My эта национальная идея получила дальнейшее развитие. Поэт Юхан Себастьян Вельхавен и художники Юхан К. Даль, Адольф Тидеман и Ханс Гюде в своих работах рисовали идеалистический образ народа. Во время своих путешествий по Норвегии Даль сделал замечательные зарисовки и тщательно изучил норвежские деревянные церкви — ставкирки, что было описано в книге, вышедшей в 1837 году.
Приблизительно в это же время он предложил перенести ставкирку из Ванга в парк королевского дворца в Кристиании, но придворный архитектор Линстоу решительно воспротивился этому. Церковь была приобретена в 1841 году королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV и установлена в парке неподалеку от королевского дворца в Шлезвиге. Тем не менее изучение Далем норвежских деревянных церквей с точки зрения их значимости для национальной культуры возымело свое действие, и в 1841 году при создании интерьера Птичьей комнаты в королевском дворце Юхан Флинту использовал древнескандинавские мотивы «ленточного зверя».
Декоратор Юхан Людвиг из Бергена использовал мотивы и «ленточного зверя», и фигуры богов в своих корабельных украшениях. В 1862 году им было создано знамя для Бергенского певческого общества, на котором изображены и драконы, и боги Браги и Идун.
Стиль «дракона» и средневековые мотивы широко использовались при оформлении книг и журналов в 1850-х и 1860-х годах.
Художники хотели представить Норвегию центром искусств эпохи викингов. Вскоре была создана и научная школа с подобными целями. В 1844 году создается даже Общество по сохранению норвежских памятников истории. Председатель этого общества Николай Николаусен, впоследствии ставший государственным антикваром и членом правления Музея искусств, много времени уделял изучению памятников старины и изъездил вдоль и поперек всю Норвегию с целью научных изысканий. Результатом этих занятий стала вышедшая в 1855 году книга «Памятники средневекового искусства в Норвегии», где особенное внимание уделялось архитектуре деревянных церквей и построек на хуторах.
Несомненное значение для дальнейшего развития идеи национального самосознания в искусстве имело и само возвращение Лоренца Дитрихсона домой в Норвегию в 1875 году, который привез из Швеции идею реформации искусства на истинно национальной основе. Именно ему принадлежала идея создания Музея прикладных искусств, который был открыт в 1876 году. Музей явился претворением в жизнь национальной идеи, и первое время в нем были представлены прежде всего старинные норвежские ковры, резьба по дереву и филигрань, которые, по замыслу создателя экспозиции, должны были вдохновлять современных художников на создание национальных произведений искусства.
В Норвегии основными факторами, способствующими развитию древнескандинавского стиля, были находки викингских кораблей и возникший интерес к ставкиркам. В 1867 году был найден корабль викингов в Туне, в 1880-м — в Гокстаде, в 1903-м — в Осеберге. Находки привлекли к себе всеобщее внимание, и о них писали все газеты и журналы страны. Помимо кораблей там были найдены предметы прикладного искусства, которые сами по себе были прекрасным источником для новых идей художников. Вскоре после начала реставрации (1869) Кафедрального собора в Трондхейме вся Норвегия осознала значение памятников старины и важность их сохранения.
Но это была «культурная» часть жизни.
* * *
В политике же ситуация обострилась из-за того, что норвежцам стало невмоготу находиться в унии со шведами. Хотя короли из дома Бернадотов старались вести общую, шведско-норвежскую, политику, в 1885 году их внешнеполитические возможности были урезаны шведским парламентом — риксдагом. Все решения теперь мог принимать только кабинет министров, а тогдашний премьер-министр Норвегии шел на поводу у Швеции практически во всех вопросах.
Норвежская партия «венстре» боролась за создание самостоятельного внешнеполитического ведомства во главе с собственным министром иностранных дел, и первым шагом должно было стать введение национальной консульской службы. Однако Швеция отвергла предложение о создании консульств.
Ситуация все накалялась.
В конце XIX — начале XX века ускорение промышленного развития Норвегии побуждало ее к еще более упорной борьбе за разрыв унии со Швецией. Разную внешнеполитическую окраску принимал и традиционный нейтралитет Швеции и Норвегии: Швеция тяготела к кайзеровской Германии, а Норвегия — к Британской империи.
Гамсун поддерживал так называемое патриотическое движение, которое ратовало за немедленное расторжение унии. В 1893 году он писал своим друзьям: «Я хочу моего собственного министра иностранных дел и я хочу моего собственного короля. У нас все должно быть свое, иначе получим мы республику и разруху, спартанскую экономию».
В этом письме он, при всей своей нелюбви к Англии, с восхищением отзывается об английских монархах: «Неудивительно, что величайшие мыслители родились в Англии. Поскольку Англия, несмотря на весь свой либерализм, даже радикализм, проникнута духом монархии… И я не видел зрелища красивее, чем проезд принца Уэльского по улицам города, на которых стоит ликующая толпа».
В 1903 году Гамсун был возмущен позицией своего кумира, осторожного Бьёрнсона, который призывал не к расторжению унии, а к дальнейшим переговорам со Швецией.
В письме к Петеру Нансену, работавшему в издательстве «Гюльдендаль», он писал: «Эта свинья в 71 год перешла на сторону шведов за сто сорок тысяч крон. Я мог бы сделать это или его дети могли бы так поступить, поскольку все мы — „последыши“ Бьёрнсона, но он — ОН — не должен был этого делать, он был связан всем! всем! прошлым».
Гамсун публикует в «Форпостене» «Письмо небес к Бирону», в котором подробно объясняет причины своего разочарования: Бьёрнсон изменил делу, за которое всегда боролся. Гамсун пишет: «Учитель! Вы состарились! И в этом все дело! Господи, как жалко, что вы состарились!»
Письмо было настоящей провокацией, потому что Гамсун хотел заставить Бьёрнсона вступить с ним в полемику.
Но разрыва с Бьёрнсоном не последовало. Через несколько лет они вновь стали союзниками, Учителем и Учеником.
В 1905 году закон о консулах был принят норвежским стортингом единогласно. Последовали вето шведского короля Оскара II и отставка норвежского правительства. Король отставку не принял, поскольку не мог назначить другое правительство. Тем самым он формально признал неспособность выполнять обязанности главы норвежского государства. Стортинг ловко использовал сложившуюся ситуацию как конституционное основание для расторжения унии.
Гамсун принимал активное участие в антишведских выступлениях. Он писал статьи в газеты и даже записался в стрелковый отряд Дрёбака.
7 июня 1905 года единогласно была принята резолюция о расторжении унии, и одновременно стортинг просил Оскара II разрешить одному из шведских принцев занять норвежский престол.
8 сентябре 1905 года в шведском городе Карлстаде было достигнуто соглашение об условиях мирного расторжения унии. Престол, в связи с отказом шведских Бернадотов стать норвежскими королями, был предложен Карлу Датскому. После проведенного в начале ноября референдума, на котором подавляющее большинство норвежцев высказались за монархию, датский принц стал норвежским королем Хоконом VII. Случилось это 18 ноября.
Гамсун радовался вместе со всеми норвежцами. Как пишет его сын: «…единственный раз в жизни он разделил точку зрения большинства. Быть может, кому-то покажется, что не стоило ему этого делать, а надо было поддержать меньшинство и остаться верным своим привычкам. Однако Гамсун и остался верным себе и ни в чем не покривил душой: на этот раз его субъективное мнение совпало с мнением большинства».
* * *
Но и после обретения Норвегией самостоятельности жизнь в ней к лучшему, надо сказать, не изменилась. В стране быстро развивалась промышленность — в первую очередь энергетика. Строили гидроэлектростанции иностранные компании, которые скупали один за другим водопады — источники энергии. Страну потихоньку растаскивали на части.
Однако, благодаря принятым законам, концессии иностранцам на строительство крупных плотин стали давать на ограниченный срок (на 60–80 лет), и государство оставило за собой право безвозмездного возврата всех сооружений по истечении этого срока.
Но крестьянские хозяйства Норвегии этот закон не спас да и не мог спасти. Крестьянская культура, столь дорогая сердцу и душе Гамсуна, разрушалась.
Долгие годы он мучительно решал вопрос о сущности духовности и подлинности жизненных ценностей. Городская и деревенская жизнь для него — всегда противоположности, но неразрывно связанные между собой. А идеальная форма человеческого существования у Гамсуна — жизнь на земле, крестьянский быт, неразрывная связь человека с землей. Отсюда берет начало гамсуновское понятие «крестьянская культура» в противовес понятию «цивилизации».
Крестьянской культуре и ее борьбе с цивилизацией посвящены в эти годы многие его статьи, но одной из самых выразительных, пожалуй, является письмо в газету «Классекампен»:
«18 января 1910 г.
Г-н редактор Эжен Олауссен!
Мне приходится получать немало любопытных писем, а сейчас вот пришло и Ваше.
Не буду писать о моей недавней корреспонденции, расскажу лишь о полученных с одной и той же почтой три года назад письмах: первое было от одной дамы из Сибири (оно написано по-русски, так что я не смог прочитать его), второе прислал некий господин из Австрии, сообщивший, что он неврастеник, и просивший разрешения приехать и пожить у меня (моя жена ответила ему, что у нас в доме и так хватает неврастеников), и, наконец, третье — от женщины из Хаугесунда, справлявшейся, не смогу ли я купить акции китобойной компании у ее мужа, чтобы спасти его от банкротства (я не был в состоянии ответить этой даме — у меня просто не нашлось слов).
Ваше письмо также откровенно и весьма примечательно, хотя, несомненно, совсем по-иному. Я благодарен Вам за искренность, и только плохое состояние здоровья не позволяет мне написать обо всем подробнее.
Классовая борьба — что это такое, прежде всего? Борьба за отсутствие классов или за наличие одного? Вы прекрасно знаете, что ни то, ни другое в равной степени невозможно в нашей жизни. Вы сами принадлежите к одному классу, Ваш наборщик — к другому, а Ваши дети, если они у Вас, конечно, есть, будут принадлежать к третьему.
Вы позволяете г-ну Альфреду Крусе жалеть русского крестьянина за то, что тот не умеет читать и писать. Неужели Вы действительно думаете, что способность складывать буквы в слова делает людей счастливее? Наоборот. В мифе о грехопадении Адама и Евы заключена глубокая истина. Вам, вкусившему яблоко с древа познания, это, должно быть, известно. По-вашему, тот, кто наиболее ловко обращается с буквами, находится в лучшем положении, но мы-то наблюдаем прямо противоположное — посмотрите на профессоров или, чтобы уж далеко не ходить, на редакторов. Человеку, помимо умения оперировать буквами, нужно еще и многое другое — характер, сердце, ум, а это не приходит само по себе.
Вот Вы говорите о короле. Король пожертвовал деньги одной из школ, где учат, как противостоять влиянию идей социализма и антимилитаризма на севере Европы, и тем самым бросил перчатку общественному мнению. Я не знаком лично с королем, никогда его не видел, но он, вероятно, будучи добрым человеком, выполняет просьбу, когда его о чем-нибудь просят. В следующий раз он поможет рабочим. Вы требуете, чтобы двести тысяч избирателей, поддерживающих социалистов, осудили короля за его дар школе. Один норвежский адвокат написал на днях, что эти двести тысяч социалистов нельзя называть изменниками родины, ибо их — двести тысяч. Но и Вы, и адвокат были введены в заблуждение громадной величиной цифры, однако количество не является признаком классовости! Просто, когда двести тысяч непоколебимо уверены в чем-нибудь, они начинают бесчинствовать. Разоружить какую-то страну — значит разоружить все ее население, тем самым лишив защиты дома ее граждан. Представьте себе, что Ваш дом подвергся нападению, а Вы даже не можете защитить его! Именно в этом и ни в чем ином и проявляется на деле антимилитаризм в Норвегии!
Вы считаете, что, когда в стортинге будет обсуждаться вопрос об отчислениях в королевскую казну, необходимо протестовать против них, бороться против утопающей в роскоши норвежской монархии. Если бы я был уверен, что на смену придет что-то лучшее, то поддержал бы Вас, однако я полагаю, что будет только хуже. В практическом отношении человечество ничего не получает от служения красоте, высшим идеалам и символам. Вы пишете сами, что здание парламента в Берне „роскошно украшено люстрами, картинами и орнаментом на потолках и стенах“. Цветы можно увидеть в каждом саду, но они совершенно бесполезны, это излишество, которое не по душе нашим двумстам тысячам, ибо их нельзя положить в кастрюлю и приготовить из них еду. Для них они всего лишь жалкое сено. Просто цветы.
Я выделил бы два миллиона крон в королевскую казну. Норвегия в состоянии это сделать, и мы бы выиграли от этого, потому что король как символ мог бы хоть немного скрасить нашу убогую, серую жизнь. Расточительный Людовик был и, несмотря ни на что, остается любимцем всей Баварии. Ничем подобным не сможет стать для Норвегии президент республики. Жили ли Вы когда-нибудь в республиканском государстве? Знаете ли Вы, например, как избирается президент? Его избирают двести тысяч представителей всех слоев общества, и в итоге президентом становится какой-нибудь Вильсон.
Вот Вы говорите о войне, об антимилитаризме. Но Вы прекрасно знаете, что, разоружившись, Вы все равно не сможете помешать войне, но зато оставите беззащитным отечество. Почему не бастуют против войны? — вопрошает рождественский номер Вашего журнала. Неужели Вы считаете, что антивоенные забастовки — это изобретение социализма? У Тацита, во всяком случае, есть указания на нечто подобное в древние времена, однако это не смогло остановить войны.
Война — это вот что: в Англии и Франции либо нет прироста населения, либо он очень невелик, но зато есть огромные колонии, которые этим странам не нужны. Германия же лопается от избытка населения, но ей не хватает колоний. Во всех уголках мира Германия пытается найти место для избытка своего населения, но Англия тут же пресекает ее попытки. Германия ждет пятнадцать лет, население увеличивается, и наконец происходит взрыв. Это война. А затем начинают говорить о жестокой политике Германии.
Война в своей сущности не является чем-то противоестественным, война за свободу и выживание даже естественна, но не для наших двухсот тысяч.
Выше я высказался по некоторым вопросам, затронутым в тех номерах журнала, которые Вы прислали мне. Я никогда не предполагал делать их поверхностный разбор, но не мог и обойти их. На каждое мое слово у Вас найдется тысяча возражений, и я не понимаю, зачем Вы хотите вовлечь меня в этот бесконечный спор. Вы так же, как и раньше, станете бороться за то, чем недовольны „классы“. И у Вас будет так же, как и раньше, тысяча возражений на каждое слово. Недовольство может играть важную и положительную роль как движущая сила „вперед“, оно имело бы еще большее значение, если бы любое движение, любое развитие было бы прогрессивным. Но это, как известно, не так. Кроме того, важно знать, во что вечное недовольство обойдется людям и не придется ли им заплатить за него гораздо больше, чем оно стоит. Если же благодаря ему жизнь наших двухсот тысяч изо дня в день становится все более безрадостной, неприкаянной и постылой, то ему и вовсе грош цена. Вы можете ответить, что Вы работаете ради масс, ради большинства. Но Вам следовало бы наставить их на путь истинный. Вам следовало бы сказать правду: большинство заблуждается. Эти двести тысяч, например, — сторонники движения за превращение лансмола в государственный язык, то есть они хотят лишить свою страну языка.[112] Им ведь не нужен язык, им нужно лишь некое вспомогательное средство для того, чтобы люди смогли понять друг друга. Неужели они имеют право забаллотировать язык целой страны? Адвокат ответил бы: „Да, имеют, ибо их двести тысяч“.
Вы опять будете возражать на каждое слово и по-прежнему станете поддерживать недовольство масс. И массы будут все так же чувствовать, что они обижены „классами“. Эти двести тысяч уже не вернутся в деревню, ибо в деревне нет ни парка „Тиволи“, ни синематографа, ни Народного дома.[113] Они не хотят обрабатывать землю, которая кормит нас всех, и эти двести тысяч в том числе. Вместо того, чтобы возделывать свой участок, иметь собственный дом для себя и своих родных, они хотят стать пролетариями в городе и жить по воле рока, а в худшем случае за счет приютов для бедных или милосердия. Они нужны деревне, нужны земле, но не нужны городу. Но они-то стремятся в город. В город! В своем заблуждении они не хотят ни слышать, ни думать о судьбах своих детей. Что станется с детьми и молодежью в атмосфере вечного недовольства и забастовок, каждодневной нужды? Но только город, один только город у них на уме. Сегодня опять пришел запрос о пожертвованиях на обустройство крестьян, переехавших в город. Затем к милосердию воззовут опять, и таким образом они перебьются до весны. А затем наступит опять зима. Усилим классовую борьбу! — скажете Вы.
А Вам бы следовало сказать о необходимости развивать сельское хозяйство в Норвегии, о том, что надо увеличить количество продукции. Производит ли что-нибудь пролетарий, фабричный рабочий? В общем и целом — нет. Он лишь перерабатывает продукт, преобразует его. Я же не знаю ни одной вещи, необходимой для жизни, которую бы мы не могли произвести и создать в деревне, — еду, одежду, жилье, свет. Скажете, у нас нет театра? Но у нас в деревне вершится такое действо, что и Национальный театр позавидует!
Надо развивать сельское хозяйство в Норвегии. Но не за счет государственных дотаций. Это теории юристов, живущих от политики. Сельское хозяйство, основанное на индивидуальном труде и личной заинтересованности каждого, — вот что необходимо. Предложите в Народном доме такую программу!
Я не считаю, что изрекаю абсолютную истину, но мне кажется, что моя программа продуктивнее, чем теория классовой борьбы.
Уважающий Вас
Кнут Гамсун».
Сам Гамсун тоже стремился создать «сельское хозяйство, основанное на индивидуальном труде и личной заинтересованности», однако это долгое время у него не получалось…
Для писателя время обретения Норвегией независимости стало и временем поиска собственного дальнейшего пути в жизни.
Свободу он обрел — и в полной мере наслаждался ею.
В первый же год после развода Гамсун пишет роман «Под осенней звездой» (1906), начало «трилогии о странниках» — «Странник играет под сурдинку» (1909), «Последняя радость» (1912).
В этих элегичных по тону романах Гамсун вновь возвращается к теме бродяжничества по родной земле. Повествование ведется от лица Кнута Педерсена, то есть самого автора. Его цель — вернуться к истокам, к простому народу и простым радостям жизни.
С мягким юмором рассказывает он о сельской Норвегии. Зорко увиденные и метко схваченные разнообразные типы людей проходят перед ним. Рассказчик движется от имения к имению, перебиваясь случайной работой: то валит лес, то проводит водопровод в пасторский дом, встречает своих старых знакомцев по прежним странствиям. Однако одиночество героя-странника уже не источник свободы, а причина жизненной трагедии.
Сам Гамсун чувствовал, что жизнь его клонится к закату, и роман пронизывает горькая мысль об одиночестве как о неизбежном уделе человека.
Он стоит вне событий и любовных игр. Он выбирает позицию стороннего наблюдателя, который продолжает жить, опираясь на собственный опыт, и благодаря ему влияет на свою судьбу.
* * *
В 1907 году Гамсун читает лекцию в Студенческом обществе, которая в очередной раз шокировала общественность Норвегии. Называлась лекция «Чти молодых», и призывала она стариков к смирению и уважению молодых, причем в довольно резкой форме:
«Что такое четвертая заповедь? Да она просто перевернута с ног на голову. Это вовсе не дети должны почитать своих родителей, а наоборот: родители — детей, и в более широком смысле — молодежь. Именно так, а не иначе!
Молодежь — это команда на корабле, который называется жизнь. В ней наша сила и благословение. Когда надо выполнять обещанное, старики пасуют, и тут вперед выходят молодые».
Сам Гамсун очень боялся уподобиться своему герою Ивару Карено, предавшему идеалы молодости, и всегда старался не менять своего мнения. Быть может, именно эта позиция и привела его к трагедии в конце жизни, хотя, как нам кажется, в последней битве именно Гамсун победил и сами обстоятельства, и своих противников…
Глава четырнадцатая ВТОРОЙ БРАК
Если своего героя Гамсун вывел за пределы «поля любовных игр», то сам он накануне пятидесятилетия был по-прежнему подвержен страстям.
И, как перед любой бурей, в его душе воцарился штиль.
В 1907 году Гамсун переехал в Конгсберг и стал жить в отеле «Британия». Ничего особенного он в то время не писал, зато занялся живописью, плотничал и очень много гулял. Он любил уходить в лес, а еще больше — стоять на городском мосту и слышать звук бегущей воды. Звуки живой природы всегда были для Гамсуна лучшим «фоном» для жизни, потому и спал он всю жизнь с открытым окном.
В соответствии с договоренностью на лето 1908 года к Гамсуну приехала его дочь. После развода он каждый год вплоть до второй женитьбы и отъезда на Север Норвегии брал к себе Викторию на лето. «Знаешь ли ты, — писал Гамсун другу, — что у меня есть дочь с невыразимо прекрасными глазами чудесного голубого цвета, которая прелестна, чего нельзя сказать обо мне? Я люблю ее больше самого себя».
Однако приближающаяся старость, границу которой сам писатель определял в пятьдесят лет, вовсе не мешала ему прожигать жизнь. О его вечеринках и проделках на них ходили легенды. Он мог, например, приехать в Кристианию и произнести речь, стоя на столике в дорогом «Гранде» и поливая шампанским оркестр.
Но, как пишет Туре Гамсун, не все было так просто: «Он первый приходил на помощь другу, был галантным рыцарем, а также одиноким и горячо кающимся грешником.
Однажды вечером знаменитая певица Салли Монрад сидела с мужем в ресторане „Спейлен“. Это было великолепное зрелище. Прекрасное бледное лицо певицы выражало невозмутимый покой и чувство собственного достоинства, время от времени по ее губам скользила улыбка и пряталась в больших зеленоватых глазах. Благородная, изысканная, безупречная.
Недалеко от ее столика сидел Гамсун с друзьями — компания веселилась от души. Неожиданно Гамсун встал, показал на фру Монрад длинным дрожащим пальцем и крикнул:
— В такое лицо хорошо бы плеснуть купоросом!
Наступила тишина.
Что это Гамсун сказал? Улыбка фру Монрад сразу увяла. Ее муж приподнялся на стуле и тут же плюхнулся обратно. Гости замерли. Может, Гамсун сошел с ума? Официанты нервно топтались на месте.
Скоро Салли Монрад и ее муж встали и покинули зал — невозмутимые, безупречные, только очень бледные.
За столиком Гамсуна возникло волнение.
— Ты что, спятил? — прошептал Сигурд Бедткер. — Плескать купоросом в лицо Салли!
Гамсун не ответил. И вышел из зала.
Но когда фру Монрад с мужем покидали гардероб, у входной двери они наткнулись на Гамсуна, стоявшего на коленях, он даже снял башмаки…»
* * *
«В „Гранде“ за большим столом сидят несколько друзей Гамсуна, официант то и дело подносит им пиво. Появляется Гамсун, подойдя поближе, он обнаруживает среди друзей человека, которого недолюбливает. Гамсун обходит их столик и садится отдельно… Весь вечер он проводит в одиночестве, немного пьет, он устал…
Кафе собираются закрывать, друзья Гамсуна давно ушли, наконец официант Килленгрен подходит со счетом. Гамсун так и не отдохнул, он расплачивается, и ему вдруг приходит в голову, что милому, исполнительному Килленгрену следует дать большие чаевые. Он дает Килленгрену сто крон, официант берет деньги и кланяется. Как будто все.
Но, к несчастью, небезызвестный велосипедист Гресвик сидел невдалеке и был свидетелем этой сцены. Гресвик, движимый лучшими побуждениями, решил, что Килленгрену следовало отказаться от таких больших чаевых, которые ему дал не вполне трезвый писатель; свою точку зрения он сообщил Килленгрену, метрдотелю и директору. Килленгрен пытался объяснить, что Гамсун, если ему взбредет в голову, имеет обыкновение давать на чай сто крон и протестовать в таком случае небезопасно, но это не помогло. Директор пригрозил, что уволит его, если Килленгрен не принесет письменное уведомление от Гамсуна, что у того нет к Килленгрену никаких претензий.
На следующий день Килленгрен принес такое письмо:
„Я, Кнут Гамсун, еще не лишен права распоряжаться своим имуществом и потому заявляю, что этот чертов велосипедист не смеет совать нос в мои чаевые.
С уважением
Кнут Гамсун“».[114]
Словом, Кнут Гамсун любил и умел и погулять, и почудить. Безусловно, было в этом что-то театральное, хотя театр он и ненавидел. Быть может, поэтому и свою вторую жену Гамсун встретил в театре.
* * *
В 1908 году Национальный театр в Кристиании решил поставить пьесу Гамсуна «У врат царства». Молодой и талантливой актрисе Марии Андерсен обещали дать роль Элины Карено.
В то время Марии исполнилось 26 лет, она подавала большие надежды — и была несвободна. Когда Гамсун познакомился с фрекен Андерсен, она уже шесть лет состояла в гражданском браке с директором театральной труппы Доре Лавиком и в театральным кругах была известна под именем Марии Лавик. Это создало серьезные проблемы. В первые дни знакомства Марии и Кнута самого Лавика в Кристиании не было — он находился на гастролях с труппой.
Марию же представил Гамсуну директор Национального театра Вильгельм Краг, который предполагал, что актрисе необходимо обсудить роль с автором пьесы.
Гамсун был просто сражен ее красотой и с восхищением воскликнул: «Господи, до чего же вы прекрасны, дитя мое!»
Кнут был старше Марии в то время почти в два раза, так что имел полное право называть ее «дитя мое», однако ни разница в возрасте, ни ее статус замужней женщины не помешали ему начать «осаду».
Для начала известный писатель немедленно пригласил молодую актрису в знаменитое «Театральное кафе» и принялся ее обольщать.
Одним из первых комплиментов стала похвала ее «маленьким ручкам». Это был один из «пунктиков» Гамсуна. В своих романах он неоднократно восхищается маленькими женскими ручками — его собственные были огромны, и писатель их очень стеснялся.
О роли он не обмолвился ни словом, хотя именно о театральной карьере Мария в тот момент и думала больше всего. Надо сказать, что Гамсун не особо ей понравился. Да, он был привлекателен, но она ожидала увидеть утонченного аристократа, а не крестьянина, пусть даже и прекрасно одетого. Сильный, крепкий, широкоплечий, с большими руками, он не особо ей приглянулся как мужчина, к тому же она действительно любила Доре Лавика.
Но Гамсуна было не остановить — он, как всегда, напрямик шел к намеченной цели.
На другой день после знакомства Марии принесли в театр букет из двадцати шести роз — столько же, сколько ей было лет.
Не прошло и недели, как все было решено: Мария дала согласие стать женой Гамсуна.
Доре Лавику быстро стало известно о романе жены с известным писателем и скандалистом, но он ничего не предпринимал, надеясь, что Мария одумается и вернется.
Неожиданно Мария заболевает, а вскоре из Бергена приходит сообщение, что Лавик скончался от заворота кишок в местной больнице. Для Марии это было настоящим ударом, потому что она считала себя причиной смерти оставленного возлюбленного. Однако Гамсун придерживался иного мнения — он полагал, что такова воля Провидения.
В этот период Марии пришлось пережить немало неприятных минут — Гамсун был очень ревнив и буквально мучил ее своими письмами, ведь он продолжал жить в Конгсберге, а Мария лежала в больнице в Ларвике.
Он ей писал не то что каждый день, но через каждые несколько часов:
«Конгсберг. 9 ч. 30 мин. 16 июня 1908.
Моя Мария!
Я сижу и думаю. Нет, ты никогда по-настоящему не любила меня. Никогда я не занимал первого места в твоих мыслях, отсюда все намеки, все фотографии, все то, что у тебя от Тетиса.[115] Ни одного единственного воспоминания, в котором я на первом месте, ни единого грошового цветочка, ни единого отрешения от подробностей твоей прошлой жизни, только откровенные воспоминания о нем и его „дорогой душе“, и что он сказал, и как поступал. И тут он заявляет, что не может жить без твоей любви, поэтому умирает — от заворота кишок. И поэтому на меня — его преемника — обрушились телеграммы и письма, и слезы о твоей великой утрате, — потому что он не мог без тебя жить — и скончался от заворота кишок…»
«Христиания.
17 июня 1908 года.
Дорогая Мария Андерсен!
Я обещал прийти и не пришел. Прости меня, и прости, что я так тебя все время мучил.
Дорогая, надень траурное платье по любовнику, который, к сожалению, умер. Пусть завтра во всех газетах появится объявление, пусть оно будет в газетах и послезавтра и еще несколько недель.[116] Будь фру Марией Лавик, сколько захочешь, — тебе это имя и звание гораздо дороже, чем мне. И лей все те слезы, которые я в своей бесчувственности запретил тебе лить вчера. Запрячь все эти Тетисовы манеры и его „дорогую душу“ подальше в своей больничной палате, тогда, вероятно, его белое лицо оставит тебя в покое…»[117]
Благодаря всей этой мучительной истории Мария с самого начала знала, за кого выходит замуж. Гамсун никогда не был мягким и легким человеком.
Он безусловно любил Марию — и оттого мучил ее еще сильнее. Он хотел получить ее всю и настаивал на том, чтобы его возлюбленная немедленно бросила работу, поскольку мир театра насквозь прогнил. Он был убежден и убеждал в этом невесту, что он ее спасает, предложив ей руку и сердце. Именно Гамсун был инициатором их официального брака, поскольку сама Мария предпочитала неформальные отношения и продолжение своей сценической деятельности.
Но она тоже любила Гамсуна — любила не менее страстно и, как впоследствии выяснится, ревновала его не меньше.
В своих воспоминаниях она писала, что Гамсун ворвался в ее жизнь, когда ей было 26 лет, и заставил поверить, что ему нужна только она: «Когда же теперь я оглядываюсь на прошлое своими старыми глазами, я все так же верю в это. Он упоминал мою „прекрасную молодость“ (для Кнута всякая молодость была прекрасна), мою крестьянскую стать, мою восприимчивость. И до сих пор я сама знаю о своей смиренной любви к нему и преклонении. Ему все это было необходимо».
Гамсуну действительно была необходима и она сама, и ее любовь. В минуты просветления он просил у нее прощения: «Мария, пожалуйста, будь со мной терпелива! Если ты того захочешь, то сможешь помочь мне. Ты сможешь сделать из меня короля, и я напишу еще много хороших вещей!»
Мария подчинялась Кнуту, ибо разве могла любящая женщина быть спокойна к таким строкам, получаемым от жениха, к тому же известного на весь мир писателя:
«Конгсберг. Вечер 9.30. Июль 1908.
Моя Мария!
Послушай, накажи меня Бог, если ты не самое прекрасное и восхитительное существо на свете!
…Вот теперь мы обручены, Мария Андерсен, и мы поженимся в апреле.
Благослови тебя Бог сейчас и навсегда, потому что ты не испугалась меня, но решилась принять меня, у кого не самая лучшая репутация, правда, не совсем заслуженная, мне так и не удалось выбиться вперед. И ты захотела взять меня — несмотря на мою „красоту“ и возраст. А теперь ты рассказала об этом матери, хотя сказать именно ей было для тебя труднее всего.
Мария, весь этот год я буду работать как верный раб, чтобы заслужить тебя, Рахиль.
А сейчас я так „тихо-тихо“ радуюсь твоей доброте и любви ко мне, что, к сожалению, едва владею собой…»[118]
Отношения во все время помолвки были далеки не только от идеальных, но даже от более или менее нормальных. Приступы ревности буквально ослепляли Гамсуна.
Однажды, когда влюбленные сидели в одном из кафе Кристиании, Мария полезла в сумочку за носовым платком и случайно уронила на пол письмо. Гамсун приторно-любезным голосом поинтересовался, от кого оно. Выяснилось, что от одного из поклонников. Гамсун позеленел от злости и ревности. Мария, чтобы хоть как-то успокоить его и доказать свою невиновность, порвала письмо на мелкие кусочки. Гамсун в ярости вскочил со своего места, оплатил счет и выбежал из кафе.
Вечером того же дня в театр принесли большой пакет со всеми письмами Марии к Кнуту. Мария в истерике написала Гамсуну умоляющее письмо, и он согласился встретиться с ней.
Пара прогуливалась по скверу и пыталась выяснить отношения. Мария с ужасом поняла, что Гамсун серьезно покопался в ее прошлом и обвиняет ее во всех смертных грехах. Примирение все-таки состоялось, но встреча влюбленных тем не менее закончилась скандалом.
Кнут и Мария так яростно ссорились и мирились, что привлекли внимание какого-то молодого человека, который последовал за ними. Как только Гамсун это обнаружил, он немедленно развернулся и без лишних слов дал в глаз любопытному…
Жить Кнут и Мария друг без друга не могли. Анализировать их отношения нет надобности, поскольку лишь они сами решали, быть им вместе или нет.
Совершенно очевидно, что с самого начала Гамсун лепил свою жену по собственному разумению и желанию, не особо задумываясь о той боли, которую ей причиняет, — и при этом искренне верил, что все им сделанное — во благо Марии.
Он писал ей:
«Два месяца, что мы знакомы, — слишком короткий срок, чтобы ты успела узнать меня. Вот если бы мы прожили вместе целую жизнь, много-много лет, тогда другое дело.
Ты, конечно, и сейчас еще помнишь, как я напугал тебя своей ревностью. Ты даже сказала, что боишься будущего. Но я буду стараться сделать так, чтобы больше не пугать тебя своей ревностью. И я знаю, как мне следует вести себя.
…Ты мне нужна… Спасибо твоему обиженному сердечку за то, что оно так милосердно и продолжает любить меня.
…Я буду счастлив, если получу тебя в жены. Другой суженой мне не надо.
…Без тебя мне невыносимо. Без тебя мне и жизнь не мила, так становится пусто. Однажды даже я пошел за тобой, чтобы проверить, пошла ли ты туда, куда сказала».
«Ты должна подумать и решить, готова ли ты, так любящая фиглярство, связать свою жизнь с человеком, которому оно глубоко противно. Пожалуйста, задумайся об этом! Я открыто высказываю свое мнение о театре, его творцах и его „искусстве“ (ведь эти мои взгляды сформировались еще до твоего появления на свет, и я никогда их не менял), поэтому и ты должна смело возражать мне и так же открыто отстаивать свои убеждения. Если же ты считаешь, что действительно хочешь быть актрисой, то ничего тут не поделаешь…
Но подумай, ведь ты приехала в город и стала актрисой каких-то три-четыре года назад. Ведь приехала ты из деревни, где и есть твое настоящее место. Ты просто вообразила, что кривляться на подмостках гораздо интереснее и веселее, чем вести приличную… жизнь замужней женщины!»
Гамсуну удалось уговорить Марию, убедить ее и поработить, но он не принял в расчет силу ее характера. Через тридцать лет он горько пожалеет об этом.
Пожалела о принятом решении и сама фру Гамсун. В конце жизни она напишет:
«Моей ошибкой, ужасной ошибкой было то, что я всегда была первым учеником в школе. И Кнут частенько доказывал это, когда я была еще его юной возлюбленной. Он использовал все свое красноречие и, к сожалению, драгоценное время, чтобы истребить во мне уважение ко всему, чему меня учили, вызывая во мне ревностное самоуничтожение, — прежде чем позаботиться обо мне. Театр, который я почитала святыней, был для него Содомом и Гоморрой. Город, прежде всего Осло, где я надеялась на успех в качестве актрисы, — был не для нас обоих, и мы не позволяли себе даже вздохнуть там. В свое время он написал очень торжественное заявление, чтобы поддержать меня во время переучивания: если я когда-нибудь замечу в нем малейшую склонность к возвращению в город и его образу жизни, то мне следует лишь положить перед мужем эту бумагу с его же подписью.
К сожалению, я была способным учеником и в конце концов превзошла своего учителя, и уроки его были усвоены на всю жизнь».[119]
Уроки Гамсуна были порой просто смехотворны: так, он запрещал (или «не рекомендовал») Марии улыбаться на фотографиях, потому что это фальшивые улыбки, на которых «настаивают фотографы».
Основным же требованием было — покинуть город и вернуться к своим корням. Это означало конец карьеры Марии и продолжение работы Гамсуна…
25 июня 1909 года Кнут и Мария поженились и уехали в короткое свадебное путешествие в Лиер. Затем Гамсун отослал жену погостить к ее сестре в Драммен, а сам провел остаток лета с дочерью Викторией.
* * *
Даже роман с Марией не мог оторвать Гамсуна от рабочего стола. В 1907–1908 годах он пишет дилогию «Бенони» и «Роза». «В начале нашей совместной жизни, за несколько лихорадочных месяцев, появилась „Роза“, — писала Мария. — Эта „Роза“, которую он никак не мог „по-настоящему горячо любить“, ибо он горячо любил меня, как он сам говорил».
Это истинная правда. Романы «Бенони» и «Роза» считаются критиками довольно сухими и не самыми удачными из произведений Гамсуна как раз потому, что все свое внимание в это время он уделял личным делам и прежде всего Марии.
Тем не менее в романах нашло свое отражение сформировавшееся как раз к этому моменту твердое убеждение в необходимости для современного человека вернуться к патриархальным формам жизненных отношений.
Гамсун в дилогии вновь встречается с персонажами своих ранних произведений, с торговцем Фердинандом Маком, уже знакомым читателям по роману «Пан». Он — типичный представитель старых добрых времен, когда в поселках и городках Норвегии крупные торговцы, матадоры, царили безгранично и обладали властью даже большей, чем представители государства.
Гамсун с мягкой иронией, но и с уважением изображает этого умного и циничного человека, но чувствует, что время его уже проходит.
Главный герой первой части дилогии — Бенони Хартвигсен, удачливый и добродушный рыбак, простой человек из народа, не обладающий никакими особыми достоинствами. Ему просто посчастливилось загнать в свой невод огромный косяк сельди, с чего и началось его возвышение. Его успех — дело случая, а в сущности он совершенно бессилен перед Маком, распоряжающимся всем в рыбачьем поселке Сирилунн.
Он не опасен для Мака, но без денег Бенони тот уже не может вести дела, и они становятся компаньонами. Бенони не является представителем нового времени, а полностью принимает принципы и устои патриархальной жизни. У него хватает смекалки на то, чтобы Мак его не разорил, но он не настоящий делец. И для него важны внешние признаки богатства — такие, как дом с верандой с цветными стеклами и красивой мебелью.
Жизнь в этом романе Гамсуна словно бы застыла на нарисованной им картине идеальных, как ему кажется, старых времен, но именно в этом и заключен смысл «Бенони»: ведь такая народная жизнь и есть альтернатива бессмысленному существованию его прежних героев.
В «Розе» писатель продолжает развивать историю жизни героев: Бенони женится на Розе, пасторской дочке, однако основное достоинство книги — в веселых картинах местных нравов маленького городка.
Появляется в дилогии и еще один хорошо знакомый нам персонаж — Эдварда, возлюбленная Глана, ныне ставшая баронессой и после смерти мужа вернувшаяся в Сирилунн к отцу вместе с детьми. Автор не испытывает к ней никаких теплых чувств — она сбилась с пути, потеряв самое главное, что было в ее жизни, — любовь Глана, и теперь влачит жалкое существование, поскольку душа ее умерла.
Гамсун писал, что изображение «одних и тех же героев в разное время и при разных обстоятельствах» доставляло ему громадное удовольствие. Так, в «Розе» возникает Мункен Вендт, который впервые упоминается в «Виктории», а затем становится главным героем одноименной стихотворной драмы. Однако писатель допустил вначале досадную ошибку, указав временем действия в романе 1858 год: в этом году любовнику Эдварды Мункену Вендту исполнилось бы сто лет. Поэтому впоследствии в дилогию было внесено исправление — поставлена неопределенная дата «18…».
* * *
После свадьбы Гамсун с женой переезжают из города в деревню на «постоянное место жительства».
«В Сульлиене, в 1909 году — первую зиму после нашей свадьбы, — Кнут написал две книги: роман „Странник играет под сурдинку“ и пьесу „В тисках жизни“. Стихотворение на смерть Бьёрнсона было написано той же зимой, — вспоминала Мария Гамсун. — Ему было пятьдесят лет, и он тяжело переживал это. Я не понимала его. Что за кокетство, думала я, — а мне было 28 лет, — должна ли я вновь и вновь повторять, что он молод и красив? Может, ему надо напоминать о том, что он — мой принц, что он — всё в моей скромной жизни?
Нет, когда я размышляла об этом, он уже раньше называл пятидесятилетие „началом семидесятилетия“. Позже у него появилась возможность не только встретить эти презренные семьдесят лет, но и затем оглядываться на них. Скорее всего, с некоторым удовольствием, ведь именно в семидесятилетнем возрасте он создал многогранный образ Августа, а также образ Абеля из приграничья, увиденный поверх границ дальнозоркими глазами 77-летнего старца.
Он сидел в „Крепости“, маленьком бревенчатом домике, высоко на горе в Сульлиене, за стеной шумела река Атна, а в открытую дверь были видны Рондские горы. И так дни и ночи напролет, всего в ста метрах от меня. И теперь вспоминается лишь одно: мне казалось, что я никогда еще не была так несчастна.
Не всегда же он чувствовал себя королем или императором, там, наверху? Временами он выходил на ступеньки перед дверью, завидев меня внизу, на дворе. Указывал пальцем на себя, потом на меня: не надо ли прийти?
Я радостно махала ему, и он приходил, на короткое время нарушив свой рабочий распорядок.
Это была зима коротких свиданий, когда он писал две книги.
Потом время так и текло, от книги к книге; сначала каждый календарный год, затем каждый второй, наконец — каждый третий: так минуло 13 лет.
Единственно главным в нашем совместном существовании было то, что книги выходили в свет».[120]
В этих строках есть явный привкус горечи и тоски по несбывшимся мечтам уже очень пожилой женщины.
Однако она наверняка была несчастна уже сразу после медового месяца — тогда, когда Кнут отослал ее от себя. Творчество было для него действительно основным делом жизни. Он не мог не писать — и, по словам Марии, «чувствовал себя истязаемым на дыбе и у позорного столба, чувствовал редкие миги экстаза и смирение ожидания.
Иногда он мог находить самые абсурдные извинения тому, что избегал приближаться к этому маленькому, жалкому, дешевому листку бумаги для черновых записей на чердаке: течет кран, ему надо починить кран. Или дверные петли скрипят, и тогда мне нужно было оставить менее важные дела по дому и помогать ему снимать ломом дверь с петель. И разве я успела смазать швейную машинку? Он уже стоит рядом с масленкой в руке…
Еще он мог сказать: „Все утро ты, Мария, отвлекала меня на всякую ерунду! Разве ты не знаешь, что у меня есть дела поважнее!“
И писал он не только чернилами. Обычно он говорил о себе и о своей „писанине“ самыми приземленными словами. Но в письме к старому другу Альберту Энгстрёму он признавался, что часто пишет собственной кровью. Он признавался также, что с годами чернила окончательно превратились в кровь.
Я помню плохие времена в наших особых анналах, когда „ему казалось, что от всех исходит запах“. И вновь, несмотря ни на что, писалась книга, и морские шхуны, одна за другой, держали курс на далекий мир.
Смею ли я добавить: „Во славу Норвегии“?
Ибо именно эта страна крестьян и рыбаков, к югу и к северу от полярного круга, была почвой, на которой произрастало все его творчество. Он сам не выделял ее, редко упоминал слово „Родина“ с большой буквы.
Но Кнут никогда не смог бы прожить без этой самой родины хоть какое-то время, — не больше, чем рыба, выброшенная из воды на берег. Другие писатели прекрасно жили себе за границей до самой смерти. Голод дважды гнал Кнута в Америку, однако тоска по дому дважды возвращала его обратно в Норвегию».[121]
Гамсун с появлением в его жизни Марии обрел не только семью, но и собственный дом. У него был настоящий прилив творческих сил — и книги выходили из-под его пера одна за одной. Его мировая известность тоже продолжала расти, и практически все произведения переводились и издавались за границей — прежде всего в России и Германии.
Сами же супруги жили в Сульлиене довольно уединенно, что не мешало Гамсуну по-прежнему устраивать жене сцены ревности.
Он довольно часто уезжал — иногда на несколько месяцев, потому что для работы над очередной книгой ему требовалось сосредоточиться. Иногда уезжала Мария. Но как бы далеко они ни находились друг от друга, он всегда помнил о жене. «Ты всегда рядом со мной», — писал он ей.
«…Да нет же, клянусь тебе, я ничем не жертвовал ради нашего брака. Это ты принесла в жертву — неважно что, — но именно ты отказалась от чего-то и стала моей, тут и говорить нечего. Я же вовсе ни от чего и ни от кого не отказывался, я как жил, так и живу, как писал, так и пишу, мне не пришлось ничего менять в своей жизни, как это пришлось сделать тебе».
* * *
Мария происходила из крестьянского рода, «здорового и неиспорченного», как писал ее сын Туре. Она любила землю и жизнь на природе и всегда с удовольствием вспоминала свое детство:
«Девчонкой я пять лет пасла скот, и это были самые счастливые дни в моей жизни. Иногда, когда день выдавался знойным и мы останавливались, я лежала в теплом, выжженном солнцем болоте, часто с натертыми пятками, утопая в бездонных мхах, мягче которых нет ничего на земле. Тогда самых мягких! Я всматривалась в летнее небо, в эту эмалевую твердь, столь ослепительно синее, что я была вынуждена сощурить глаза. Там, за эмалевым куполом, был Бог и множество ангелов, они ничего не делали с моей черной коровой, с бубенчиком на шее, у которой не хватало терпения ждать других. Иных забот у меня не было».[122]
И предложение Гамсуна переехать в деревню навсегда и купить там усадьбу пришлось ей по душе.
Дом решено было искать на родине Кнута — в Нурланне. Весной 1911 года супруги едут в Хамарёй — и им везет. В полумиле от Гамсунда, хутора отца Гамсуна, продавалась усадьба Скугхейм — Лесной дом, — которую за 6 тысяч крон Кнут и Мария купили в тот же день, как увидели.
С этой покупки начинается новый период жизни или, вернее, новая жизнь писателя: он становится крестьянином.
Свое отношение к жизни на земле Гамсун выразил и в своих романах, и в программных статьях — в частности в написанном в 1918 году «Письме крестьянину»:
«Забери свою дочь из города! Да, забери, хотя ты и потратил деньги на ее обучение в средней школе и в торговом училище, все равно — забери ее домой. Здесь она лишняя, а в деревне она нужнее: в городе она надрывается ради каких-нибудь пятидесяти или ста крон, блекнет и чахнет; верни ее снова в родную усадьбу и к здоровой жизни.
Лишь у немногих крестьянских девушек есть подлинная коммерческая жилка, которым, может быть, и стоит покидать деревню, но давно стало правилом, что, подрастая, все дочери уезжают. Помощницу по хозяйству в твоих родных местах ни за какие деньги не сыщешь, а дочери твои уехали из дома, это стало „хорошим тоном“, модой, поветрием. Крестьянин, и твою дочь захватило это ужасное заблуждение!
Тебе кажется, что она похожа на благородную даму, когда стоит за прилавком и, постукивая ножницами, отрезает кусок материи. Самой ей тоже так кажется. А может, ей доведется сидеть за кассой, получать деньги, накалывать чеки на металлический стержень и наслаждаться чувством: вот какой настоящей Дамой сподобилась стать наша малышка Ханна.
Только она глубоко заблуждается, ничего она не достигла. У нее были хорошие задатки, но она их растеряла. Она могла бы работать по дому, в саду или в огороде, ухаживать за скотиной, но она уехала в город, „выучилась“ и за ничтожное жалованье обосновалась за прилавком. Вот там и стоит теперь наша Ханна, с каждым месяцем теряя свою природную красоту, напялив жесткий корсет, в туфлях на высоких каблуках — настоящая кукла, набитая опилками.
Забери ее домой. Пусть наденет простую одежду, в которой можно свободно двигаться, без труда наклоняться, напомни ей, что руки человеку даны, чтобы ими что-то делать. Пусть она снова вспомнит о коровьих сосках, вязальных спицах, о том, как держать мотыгу. Пусть не стыдится простой деревенской работы, парень из соседней усадьбы увидит, какой трудолюбивой снова стала Ханна, и надумает взять ее в жены.
Позднее она поймет, насколько лучше быть достойной хозяйкой в своей усадьбе, нежели метаться по мелочной лавке, обслуживая покупателей. Она улыбнется, вспомнив свое „образование“, и развеселится еще больше, вспомнив покупателей, надутых городских дам, со всем их жеманством, притворством, пустословием.
Возвратись к земле, Ханна, милая! Сейчас весна, и отцу так нужна помощь твоих рук. Не бойся заняться немного и мужской работой, когда это необходимо. Женщины такие же прекрасные, как и ты, выполняли такую работу и раньше. В долине Ред-Ривер нам нередко доводилось видеть женщин, работающих на тракторе. Мы обратили особое внимание на одну из них среди моря пшеницы, где день за днем она покоряла эти безбрежные равнины. Однажды, когда наши машины поравнялись, она сошла с трактора и подошла к нам, у нее потерялся раздвижной гаечный ключ. Она была молодая загорелая женщина, на голове у нее была надета мужская шляпа с невероятно широкими полями; раньше она была учительницей в маленьком городке, потом вышла замуж за соседского фермера и теперь помогает мужу в работе. Разговаривали мы недолго, она одолжила гаечный ключ и пошла к своему трактору.
Так вернись же домой, Ханна, милая! Твои родные края зовут тебя. Ты еще не забыла, как красиво у тебя дома? Родные места всегда красивы. Любовь к Родине проявляется в малом, в любви к родному очагу. Коровы и овцы у вас такие ухоженные и упитанные, у дома деревца, скамейка, дорожки и тропки в полях, сарай, кот и петух. Усталая, ты так сладко засыпаешь вечером и встаешь так хорошо отдохнувшая утром. Здесь сколько угодно молока и дров, чтобы топить печь.
В городе у тебя с этим туго.
И еще. В городе ты лишняя. А здесь нужна. Природные горожанки не приспособлены для крестьянской работы. В городе слишком большой спрос на такие мансарды, в одной из которых ты живешь, на пищу, которую ты употребляешь, на то рабочее место, которое ты занимаешь.
А в то же время ты нужна дома, в родной усадьбе. Если ты сейчас вернешься домой, ты осчастливишь своих родителей. Это пойдет на пользу тебе, и душе твоей, и телу».[123]
Так Гамсун и стал жить — в родной усадьбе, в доме, который собирался оставить детям. Он всегда хотел, чтобы у его потомков было родовое гнездо, куда они могли возвращаться. Он хотел возделывать землю, иметь собственный сад и лес, реку, в которой бы водилась хорошая рыба, — и, наконец, получил все это, заплатив за обретенное богатство пятьюдесятью годами тяжелого труда.
За дело он принялся с небывалой энергией, сам принимал участие в работах в лесу, на полях и, конечно, в доме.
Мебель (очень хорошая, в стиле ампир) для будущего дома была куплена еще задолго до свадьбы и до поры до времени хранилась на складе в Кристиании.
Особенно дорога Марии была кровать:
«Я часто вспоминаю свою старую кровать. Теперь я понимаю, что она была очень важна в моей жизни. Кровать из красного дерева, парная кровать из рук своего творца. Мы с Кнутом купили обе кровати в 1909 году, когда собирались пожениться. Точнее, покупал он, а я была счастливым свидетелем этой покупки. Так, покупка по случаю, в магазинчике на Театергатен. Кнут хмурился: какого черта! Театр был для него худшим из всего существующего. И все же нам повезло: кровати оказались совершенно новыми, их заказала молодая пара, которая перед свадьбой передумала и отказалась от покупки. Кровати выставили на продажу за полцены.
…Но кровати так и не стали действительно парными, стоящими рядом день и ночь. Кнуту нужна была своя комната. Ему нужны были бумага и карандаш, чтобы в темноте он мог сразу найти их, вытянув руку. Он не мог зажигать лампу, чтобы не погасить нечто другое. А именно вспышку, которая внезапно озаряла его, пока он спал, таинственное озарение сверху, которое он набрасывал на бумаге и затем расшифровывал, когда наступало утро.
Многое из того, что он сам считал самым ценным в своих книгах, пришло к нему ночью, на старой кровати. Иногда я слышала, как он пел, одеваясь по утрам. И я не могла не поддаться искушению подпеть ему. Он угрожающе хмурил брови и взглядом давал мне понять, что я провинилась.
Разумеется, не только в этом ожидании „излияния Святого Духа“, как он сам называл его, была причина того, что одна парная кровать стояла здесь, а другая — там. Это произошло еще и потому, что он желал выкурить трубку или почитать книгу. При этом ему не хотелось стеснять меня своими привычками.
Постепенно в моей кровати, один за другим, увидели свет четыре новых человека, так что по ночам я не была одинока. Кнут ничего не имел против того, чтобы я как можно дольше оставалась с детьми».[124]
Гамсун подумывал также и о покупке автомобиля, потому что в свое время (в 1901 году в Бельгии) брал в аренду машину и остался ею очень доволен. Но выяснилось, что автомобили очень дороги, и супруги решили приобрести «выезд». Свои лошади в Скугхейме были, а вот коляску заказали через друзей в столице.
Гамсун всегда хотел и, наконец, смог вернуться домой «господином». Он, как и в первый свой визит в Хамарёй десять дет назад, произвел фурор. Он действительно стал, выражаясь на русский манер, помещиком.
Но родных его в Хамарёе осталось мало. Отец умер в 1907 году в возрасте 82 лет, мучитель-дядя еще раньше (в 1890-м), многие друзья детства уехали в город или эмигрировали в Америку. Остались любимая мать, но уже почти глухая, и брат Уле.
Словом, жизнь, как казалось Гамсуну, наладилась…
Глава пятнадцатая «НОВЫЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК НОРВЕГИИ»
Гамсун постоянно бывал в разъездах — и по работе, и по хозяйственным делам. Поэтому свой пятидесятилетний юбилей даже не заметил.
Пятьдесят лет ему исполнилось в 1909 году, однако писатель всегда говорил, что родился в 1860 году — так было проще, это была круглая цифра.
В свой день рождения Гамсун тоже не был дома, с Марией. Это лето, как и все предыдущие, он проводил с дочерью.
6 августа он пишет жене:
«Любимая!
Большое спасибо за посылку и за письмо, а особенно за цветок в нем. Ты так невероятно нежна со мной! Спасибо тебе, моя единственная, самая дорогая и ненаглядная!
…Когда, наконец, мы с тобой встретимся, я покажу тебе четыре довольно глупые газеты, хотя, быть может, ты их уже и видела, ведь в Норвегии не было ни единой газетенки, которая бы не написала о моем юбилее, подумать только! Но есть в этой шумихе и хорошая сторона — у меня наверняка прибавится читателей. Мне вчера пришли 38 писем и 112 телеграмм, и поздравления все еще идут. Не знаю, правда, как смогу ответить на них все. Четвертого августа премьер-министр Конов сделал меня рыцарем святого Олава. Мне даже звонил Вильгельм Краг и от имени Сивертса и Ялмара просил принять это звание — хотя бы ради Союза писателей, но я все равно отказался. Нет, не подумай ничего, Мария, я размышлял об этом, но принять награду не могу, все это очень напоминает балаган».
Юбилей Гамсуна действительно праздновался необычайно широко. В благодарственном письме в «Верденс Ганг» Гамсун сообщал, что получил 47 писем, 114 телеграмм, не считая книг, картин, подарков, цветов и вырезок из журналов.
Ему было посвящено несколько стихотворений. Например, в одной маленькой газете было напечатано следующее:
Однажды скорбящий народ вопросил: Кто дело продолжит святое? Кто будет норвежским певцом? Кто духом Норвегии будет? А в пятой строфе был ответ: Он жив, он живой, — разнесся ответ. — Он свой народ вознесет до небес, Он жив, и страна спасена. Он жив, и страна его судьбы — его судьба.Гамсуну, как мы знаем из вышеприведенного письма, предложили высшую награду Норвегии — орден Святого Олава. Через премьер-министра Воллерта Конова такую честь писателю оказал король Хокон VII, но Гамсун отказался — для него принять этот орден означало потерю независимости. У него всегда, всю жизнь, было почти невероятное, если не сказать фанатичное, стремление к независимости и готовность переносить любые неприятности из-за того, что его мнение чаще всего было противоположно мнению большинства.
А почти истерическая кампания по поиску «нового великого человека Норвегии» объясняется тем, что в течение пяти лет один за другим ушли из жизни все члены «четверки великих»: Хенрик Ибсен и Александр Хьелланн — в 1906 году, Юнас Ли — в 1908 году, а Бьёрнстьерне Бьёрнсон — в 1910 году. Кроме того, в 1907 году умер и гордость норвежцев Эдвард Григ.
Гамсун невероятно переживал смерть Бьёрнсона. В своих воспоминаниях Мария Гамсун писала, что, когда ее муж получил известие о смерти «короля поэтов», он заплакал, как ребенок, и все повторял: «Мы остались одни, мы осиротели». На смерть Бьёрнсона Гамсун написал траурный гимн.
Многие поддерживали Гамсуна в его скорби, многие почувствовали себя сиротами. Именно поэтому их взоры и обратились к Гамсуну, тем более что сам Бьёрнсон неоднократно говорил о Гамсуне как о своем преемнике и ученике.
Гамсуну, как и любому другому человеку, слава и признание были приятны, но становиться «новым великим человеком Норвегии» он вовсе не собирался: у него были иные интересы, собственная точка зрения абсолютно на все происходящие в его жизни и в жизни страны события и своя дорога.
Однако норвежский народ уже сотворил себе кумира…
* * *
Работалось Гамсуну в эти годы прекрасно. В 1912 году вышел его новый роман «Последняя радость», последняя часть трилогии о страннике.
Критики называют «Последнюю радость» первым произведением «совести Норвегии», «нового великого человека». Свой роман Гамсун заканчивает так: «Это мой дар тебе, дух Норвегии! Я написал это во время чумы и ради чумы. Я не могу остановить чуму, да это и невозможно нынче, да мне в этом деле помешает и сам народ. Но когда-то этому придет конец. Пока же я делаю, что могу, для противостояния ей, а вы мне противитесь».
Гамсун никогда не хотел быть духом Норвегии и честно заявлял об этом. В романе он так или иначе иронизирует над всеми новыми сторонами жизни в стране: над женской эмансипацией и наплывом иностранных туристов, над новыми формами образования детей и над самим путем развития страны.
Заключительная часть трилогии ничем не напоминает первые две, довольно минорные по окраске повествования. «Последнюю радость» часто сравнивают с «Мистериями»: их роднит напористость, смелость и противоречивость героев. Писатель, от лица которого и ведется рассказ, готов уступить дорогу молодым — и обрести семейное счастье и покой. Он понимает, что и у стареющего человека есть прекрасный повод для радости — дети.
* * *
В 1912 году у Кнута и Марии рождается первый ребенок — сын Туре.
Лучше всего о родителях может рассказать их дитя, поэтому предоставим слово Туре:
«Отец всегда находил для меня время. Мы с ним совершали долгие прогулки по дорогам Хамарёя. Мать волновалась за нас, но мы чувствовали себя превосходно и не допускали в свои отношения посторонних… Отец не выносил моих слез, ему приходилось прибегать к хитрости, если он хотел безболезненно отделаться от меня.
Какое бы светлое и счастливое ни было у человека детство, ему все равно наверняка случалось переживать трудные минуты. Я, например, страшно боялся темноты. До сих пор мне слышится низкий, спокойный голос отца, уговаривавшего меня не бояться: „Не бойся, Туре… Темнота добрая, она такая добрая, сынок“.
В первые годы жизни я был привязан к отцу больше, чем к кому бы то ни было, в том числе и к матери. Ни у кого не было таких добрых сильных рук, и я так любил сидеть у него на руках! И он никогда не сердился на меня. Терпение его было беспредельно.
Однако я недолго оставался единственным ребенком в семье. Мне было два года, когда родился Арильд и оттеснил меня от матери, но не от отца.
…Здесь не место говорить о том, сколько мы в детстве видели от матери нежности и доброты… А вот отец бывал даже опасным, хотя и не прибегал к рукоприкладству. Он излучал такую силу, что мы, дети, постепенно прониклись к нему, никогда не шлепавшему нас, большим уважением, чем к матери, не брезгавшей шлепками.
Никто не относился к нам нежнее, чем он. Я приведу маленькое письмо, которое он прислал мне на день рождения, когда мне исполнилось три года:
„Письмо Туре от папы.
Дорогой Туре! Тебе сегодня стукнуло три года, и папа поздравляет тебя с днем рождения. И посылает тебе заводную карету, она будет ездить, если мама заведет ее. Это очень хорошая карета, ты можешь посадить внутрь какую-нибудь куколку, а другую куколку посадить сверху, и пусть они катаются. А еще мама даст тебе бананов, и еще, будь послушным мальчиком и пей солодовый экстракт, чтобы стать здоровым и сильным. Папа очень любит тебя и думает о тебе каждый день“».[125]
Арильд родился в 1914 году, Эллинор — в 1915-м, а Сесилия — в 1917-м.
Гамсун очень любил детей, но работа всегда стояла для него на первом месте, и он часто уезжал из дома — по меньшей мере на три месяца в год, иногда на больший срок — для работы, как мы помним, ему требовалось сосредоточиться.
Когда новая книга начинала зарождаться у него в голове, он исписывал бумагу одному ему понятными каракулями и складывал листы на рабочем столе в своем кабинете в Скугхейме. Когда же все сюжетные ходы были придуманы, Гамсуну требовалось остаться одному и написать задуманное. Он пробовал писать в усадьбе — но у него ничего не получалось, потому что его постоянно отвлекали разные хозяйственные дела. Когда же он был в отъезде, все вопросы решали управляющий и жена.
Уезжал Гамсун в разные места — жил в пансионатах и отелях. Когда Мария в первый раз приехала навестить мужа в такой его «командировке», то чуть с ума не сошла от ревности: в пансионате жило очень много женщин, в том числе красивых и одиноких. Но Гамсуну некогда было отвлекаться от работы. Он писал часами — не делая перерывов. О его способности работать по 10 часов подряд ходили легенды. Работая в отеле, он снимал три номера, сам селился в центральном (среднем), а «боковые» держал пустыми, чтобы туда никто не заселялся и не мешал ему работать.
Гамсун был одержим своими книгами — и ему требовалось выплеснуть их на бумагу, чтобы вернуться к семье.
О жене и детях он очень скучал и писал Марии:
«Ты должна сказать Туре, что я очень люблю его и все время о нем думаю. Бедный Туре, я так жалею, что не всегда читал ему, когда он о том просил. Конечно, я читал ему книжки, но не каждый раз, когда ему того хотелось. Только бы он не обижался на меня за это! Надеюсь, что он и думать об этом забыл. Я привезу ему подарочки, когда вернусь, так и передай ему. Но я все еще не могу приехать, папа сейчас должен много работать, писать и писать. А Арильда погладь от меня. Он так и стоит у меня перед глазами на полу в гостиной. Забавный кругленький малыш!»
Не меньше скучала и Мария. Она отвечала мужу:
«Я все думаю, удается ли тебе в покое и тиши работать в Будё? Если бы ты мог писать дома! Бог знает, что я не вру, что если бы только я могла, я согласилась бы, чтобы мне отрубили руку, только бы ты работал дома! Мне так хочется, чтобы всё у нас было хорошо, я бы всё отдала за это! Но с самого начала я что-то делаю не так, я тебя всё время раздражаю…
Не забудь позвонить Туре и прислать ему открытку или письмо 6 марта, в день его рождения. Господи, как же я скучаю по тебе, мой любимый, даже по нашим ссорам. Я всё время себя накручиваю и не могу жить спокойно, пока тебя нет дома, я тут так одинока…»
То, что Гамсуну не нравилось уезжать из дома, становится ясно из письма, которое он в 1911 году отправил Немировичу-Данченко:
«В Россию я теперь приехать не могу, даже если бы решился на такое путешествие, я слаб и нездоров. Кроме того, я не могу сейчас встречаться с посторонними. Я люблю оставаться в своей комнате, или в лесу, или в горах, или на море. В чужих я не нуждаюсь и не буду нуждаться.
Много лет назад меня приглашали в Россию, предлагали даже бесплатный проезд и проживание, сколько захочу. Последнее предложение пришло из Крыма, от одной профессорской семьи в Киеве, было ещё одно от члена думы в Риге и т. д. Однако я был вынужден отказаться от дружеских и любезных приглашений из России, а также из Венгрии, Германии, Америки, Дании, от всех повторных приглашений.
Я благодарю Вас, господин директор Немирович-Данченко, но приехать не могу. Оставим это.
Я боюсь людей, с которыми не знаком, и не желаю принимать чужих. Оставим и это. Может быть, позднее, может быть, через год или около того я буду в состоянии приехать в Россию. Бог знает!»
Уезжать же из дома писателю приходилось по необходимости — в том нет и не может быть никаких сомнений. Не писать он не мог не только потому, что литература была его призванием и жизненной необходимостью, но еще и потому, что переиздающиеся старые и выпускающиеся новые книги были для семей Гамсуна (и новой, и старой, которой он продолжал помогать) основным доходом, на который они жили.
Все тому же Немировичу-Данченко все в том же 1911 году Гамсун пишет:
«Спасибо за хорошую новость. Замечательно, что „В тисках у жизни“ делает полные сборы! Даже по повышенным ценам! Я буду очень рад получить в мае, в конце сезона, деньги, в которых я очень нуждаюсь. Я купил маленькую усадьбу, но дом надо перестроить, да еще там нет ни лошади, ни плуга, ни коровы, ни теленка. Все это надо покупать постепенно. Кроме Вас мою пьесу ставит в Берлине директор Макс Рейнгарт, а также 12 других театров Германии, Австрии и многие театры в Европе и Америке. Так что денег на мою долю, вероятно, придется достаточно».
Домой Гамсун всегда возвращался с ворохом подарков. Он никого не забывал и не обижал, даже слуг. Так, няне детей он мог привезти передник, а горничной — красную бархатную блузу. Конечно, больше всего подарков перепадало малышам. Им заботливый отец чаще всего дарил всевозможные заводные игрушки: паровозики, кареты, машинки.
Но даже приезды домой с подарками вызывали иронию и недовольство Марии, которая страшно ревновала мужа. Она вспоминала:
«Кнут вернулся домой из Будё.
Позади осталось „Местечко Сегельфосс“. Чемоданы, сундуки и коробки валялись на полу дома в Скугхейме. Победитель привез с собой подарки всем домочадцам. Была ли жена когда-нибудь больше поражена таким бесподобным манто? Во всяком случае, не на этой стороне полярного круга. Я достала его из огромной коробки, оно было необычайно длинным и широким, из черного бархата, плотного и матового, с блестящей шелковой подкладкой, отороченное сверху и снизу мехом. „Это скунс“, — сказал поучительным тоном Кнут. Разве я имею представление о мехе? Ателье в Будё долго трудилось над ним, под „личным присмотром“ Кнута, как он сам сказал.
Так что теперь я могла лишь облачиться в этот наряд, проехаться по дороге и убить наповал все живое от Скутвика до Транё».[126]
Частые отлучки из дома постепенно сделали свое дело, и недовольна теперь уже была не только жена, но и дети: в один прекрасный день Мария сообщает мужу: «Малыши перестали о тебе скучать». Гамсун пришел в ужас — и попытался решить проблему, построив в 1916 году небольшую избушку на окраине усадьбы, в которой и стал уединяться.
Туре Гамсун писал:
«Отец уезжал, чтобы иметь возможность работать. Ему приходилось нелегко, дом был слишком мал, мы, дети, мешали ему либо своими слезами, либо своими играми. А он не терпел никаких помех, как приятных, так и неприятных. Мне было четыре года, когда родилась Эллинор. Просторнее и тише у нас от этого не стало.
Но отцу очень хотелось жить дома. Он построил себе в отдалении крохотный домик, будочку, с одной комнатой и островерхой крышей. Там он и работал, и никто не смел к нему туда приходить. Няне велели гулять с нами в другой стороне, чтобы нам не взбрело в голову убежать от нее и ворваться к нему в его будочку. А если мы все-таки прибегали к нему, у него не хватало духу нас прогнать. Однако я помню, что иногда он сам брал меня на руки и нес к себе. Это бывало в трудные для меня минуты, когда другие способы утешения уже не помогали. И тогда страшные царапины и шишки на лбу превращались в истинное удовольствие.
Я помню, что в будочке у отца были красивые книжки с картинками. И коробочки, в которых хранились разные редкости. Например, зеленая деревянная змейка, выглядевшая совсем как живая. Или большая коробка с пуговицами, и пуговицы эти были одна красивее другой. Я находил то пуговицу с рогом, то с собачкой, то с красным камешком, радовался, когда мне попадалась уже знакомая пуговица, и, по-моему, отец радовался не меньше меня. И еще там находилась шкатулка со всякими предметами, которые он подбирал на дорогах и тропинках. Шурупы, гвозди, подковы, пряжки, стеклянные бусинки. Он хранил такие находки до самой смерти».[127]
Гамсун очень любил свою семью, жену и детей, но жить с ним, конечно, было трудно.
Мария Гамсун вспоминала:
«Однажды в юности он дал мне наставление о том, как жить в браке. Он сказал тогда: „Я женат не на всякой и каждой!“ В его словах, возможно, была доля самомнения. Но мне кажется, что оно было правильно. Я следовала его наставлению, и вот теперь я гораздо слабее своей судьбы.
Но светит крошечная звезда, воспоминание, которое немного возвышает меня в моих глазах. Когда Кнут написал „Детей века“, он решил совершить поездку в Кристианию. Длинное путешествие из Хамарёя, сперва местным пароходом, затем пароходом-экспрессом, наконец, поездом. Туре было больше года, мы с ним тоже собирались поехать в Кристианию. Я безмерно радовалась поездке, в особенности тому, что смогу показать свое маленькое чудо родителям, которых не видела много лет. На пароходе-экспрессе между Будё и Трондхеймом мы все заболели морской болезнью. Сойдя на сушу, мы почувствовали, что болезнь постепенно отступает. Мы остановились в отеле „Британия“, и Кнут, к моему изумлению, вызвал доктора, чтобы тот осмотрел меня и мальчика. Нам нужно было соблюдать постельный режим, пить только холодное снятое молоко, нам нельзя было ехать на поезде в Кристианию. Таков был приказ врача.
Я поняла, что Кнут хочет ехать дальше один. Мне хватило ума, чтобы разгадать всю эту комедию. После многих лет он хотел встретиться с друзьями, развлечься.
Я считаю своей небольшой заслугой то, что осталась в гостиничном номере в Трондхейме, пока он не вернулся, и уехала домой в Хамарёй со своим разнаряженным малышом, не сказав ни слова. Не знаю, но, наверное, не „каждая и всякая“ поступит, как я».[128]
* * *
За годы жизни в Хамарёе Гамсун написал еще два романа, дилогию «Дети века» (1913) и «Местечко Сегельфосс» (1915).
Гамсун неслучайно писал дилогии и трилогии, поскольку ему казалось важным изобразить «поток жизни», и хроникальность была ведущим принципом построения романов. Действие развивалось постепенно и строго последовательно, прыжки во времени были невозможны. Сюжет подобен мозаике, которую необходимо сложить из кусочков-эпизодов. И именно благодаря такой мозаичности появлялось ощущение реальности жизни, ибо и каждый человек проживает каждую минуту отведенного ему времени, не имея возможности посмотреть на себя со стороны.
Критики писали, что романы Гамсуна предвосхитили поэтику романа-потока, возникшего после Первой мировой войны.
Произведения Гамсуна отличает большое количество главных героев, истории которых описываются в почти независимых друг от друга сюжетных линиях.
В романах о местечке Сегельфосс писатель рассказал о двух богатых семействах, чьи судьбы помогли ему изобразить «борьбу между аристократами и крестьянами».
Семейство владельца поместья Сегельфосс лейтенанта Виллатса Хольмсена — это олицетворение старых времен, уже уходящих в прошлое.
Противостоит ему торговец Тобиас Хольменгро, прибывший на землю своих предков откуда-то из-за океана, как он утверждал, из Мексики. Он — мифический герой, окруженный ореолом сказочности. Его жизнь — сплошная загадка. Он приезжает в Сегельфосс с двумя детьми, рожденными от индианки, покупает у разорившегося Хольмсена его поместье, строит мельницу и причал для океанских пароходов. Именно благодаря ему небольшой рыбачий поселок превращается в современный город. Хольменгро олицетворяет дух нового времени, он типичный предприниматель, верящий в технический прогресс.
Гамсуну Хольменгро, безусловно, нравится — он человек, всего добившийся в жизни самостоятельно, но он давно утратил связь с родной землей, а потому не может вновь прорасти в нее корнями. Он потерял сам источник жизни, который писатель видел в крестьянском существовании, единственной альтернативе буржуазной цивилизации.
Но и Хольмсен, разоряющийся помещик, которого от окончательного краха спасает лишь найденный клад, некогда зарытый его предком, несмотря на свою неразрывную связь с Сегельфоссом, его землей и лесами, его обычаями и традициями, не может исправить существующее положение вещей.
На смену и Хольмсену, и Хольменгро приходят новые дельцы, выходцы из низших слоев общества, к которым Гамсун относится иронически. Впрочем, уважения его не заслуживают и рабочие, пролетарии, которые, по мнению писателя, тоже утратили свои корни, уехав в город.
В дилогии Гамсун возвращался и к давно интересовавшей его теме человеческих отношений, любви-ненависти, когда любящие не способны преодолеть себя и собственные тайны, мистерию души и силы взаимного отталкивания.
Качественно же новое в дилогии — поворот Гамсуна к традиционным формам романа, которые были им решительно отвергнуты в программных статьях 1891 года. Суъективно-психологическая манера изложения уступает место трезвому и почти всегда ироничному взгляду со стороны.
По словам американского переводчика Гамсуна Джеймса У. Макфарлейна, «Местечко Сегельфосс» и «Дети века» «стали образной демонстрацией устоявшейся в целом пасторальной (даже феодальной) системы ценностей писателя: антиинтеллектуализм и аполитичность в сочетании с сильным предубеждением против торгашеского духа».
Глава шестнадцатая ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
В 1914 году началась Первая мировая война, во время которой Гамсун впервые открыто выступил в защиту Германии, во всеуслышание заявил о своей прогерманской позиции.
Ситуация обретения независимости Норвегией во многом была схожей с историей Германии.
Священная Римская империя германских народов распалась в 1806 году, а после поражения Наполеона возник Германский союз, и государствам, входящим в состав этой конфедерации, была предоставлена возможность выбора пути развития.
В 1871 году король Пруссии был провозглашен кайзером Второго рейха, из которого Австрия была исключена. В конфедеративной Австро-Венгрии венгры получили политический суверенитет еще в 1867 году.
Рост пангерманского движения в Австро-Венгрии отразил проблемы немцев в государстве, где они должны были сосуществовать со славянами. Вплоть до 1937 года (до даты включения Австрии в состав Третьего рейха) немцы боролись за отделение немецких провинций от многоязычного государства Габсбургов и включения их в состав Германской империи.
Из-за трудностей в достижении политического единства и образования цельного немецкого государства немцы стали искать единства культурного, что привело к новому осознанию мифов и легенд германских народов, прежде всего скандинавских, и также к созданию большого числа мистических обществ, стремящихся разработать теорию Великого Немецкого Народа.
Пангерманская идея общности европейских народов была чрезвычайно привлекательна прежде всего для Скандинавских стран, поскольку именно северные мифы легли в основу реконструированной истории германцев.
Норвежские писатели — в том числе Бьёрнсон, Ибсен, Ли — всегда тепло относились к Германии, ибо, помимо всего прочего, их книги приходили к европейскому читателю благодаря переводам на немецкий язык.
Во время Первой мировой войны почти все друзья Гамсуна придерживались немецкой ориентации.
Норвежский политик и писатель Л. Р. Лангслет пишет:
«В целом мы можем с полным основанием заявить, что среди той буйной растительности, которой изобиловали „заросшие тропинки“ Гамсуна, можно найти лишь несколько расистских сорняков.
Важно осознавать: эти незначительные проявления расистской идеологии предстают перед нами в истинном свете, если учесть, сколь глубоко была внедрена расистская идеология в тогдашнюю духовную жизнь, ведь ею были пропитаны умонастроения той эпохи, в том числе ее разделяли и некоторые известные норвежские писатели.
Ханс Е. Кинк[129] прямо-таки излучал расовую мифологию. Эвре Рихтер Фишер,[130] Свен Эльвестад[131] и Ларс Хансен[132] обнаруживают совершенно очевидные расистские черты в своих произведениях. Арне Гарборг с восторгом пишет о существующих в чистом виде арийских чертах в крестьянах из Сетесдала:[133] „В Сетесдале живут еще потомки чисто арийской расы, которые завоевали мир. Да, они напоминают рыцарей“. Антисемитские мотивы встречаются в высказываниях многих тогдашних религиозных деятелей. Идеи расовой гигиены были в моде, и в Осло был создан соответствующий институт. И прочее и прочее.
И если мы ознакомимся с тем трудом, который готовился в этом учреждении в качестве вклада в эту растлевающую общество лженауку, получившую развитие в период между Первой мировой и Второй мировой войнами, то становится очевидным, что подобные идеи носились в воздухе и что при этом Гамсун как раз и является счастливым исключением, так как на редкость в малой степени был заражен подобной мутью, хотя многие впоследствии обвиняли его в прямо противоположном».[134]
Гамсун любил Германию всегда и, как мы уже говорили, у него на то были личные причины: его книги стали известны в Европе тоже благодаря Германии, именно немецкий издатель Ланген стал в критический момент его настоящим ангелом-хранителем. В 1898 году Гамсун пишет Лангену: «Гонорар, что Вы мне прислали, очень большой — намного больше, чем я мог ожидать. Это говорит о величии Германии, в своей собственной стране я не получаю ничего».
В 1914 году Гамсун неоднократно писал и говорил о своей приверженности Германии. Собственно, он давным-давно признался в любви к этой стране и сохранил ей верность до последних дней. В 1894 году он пишет из Франции Лангену: «Мне бы хотелось прямо сегодня покинуть Париж, уехать в Германию и жить там. Я чувствую себя в душе целиком и полностью германцем».
Неужели он любил немецкий народ только за внимание к собственной персоне?
Конечно, нет.
Он симпатизировал Германии прежде всего потому, что очень любил свою страну и искренне верил, что маленькая Норвегия всегда была игрушкой великих держав. Он совершенно не сомневался, что при первом же удобном случае Англия вновь подвергнет Норвегию голодной блокаде, как во время Наполеоновских войн, тем более что сразу после начала Первой мировой войны в Англии, особенно среди командования ВМФ, всерьез обсуждалась возможность создания военно-морской базы на юге Норвегии для военных действий на море против Германии.
Кроме того, Англия решила закупить все запасы норвежской рыбы (так называемые «блокирующие закупки»), чтобы предотвратить ее экспорт в Германию, и огромные запасы соленой рыбы скопились в порту Бергена. Норвежцев это радовать не могло, потому что сами они не могли покупать свою же рыбу из-за завышенных цен, вызванных предприимчивостью одного бергенского оптовика, тайно осуществлявшего закупки от лица Англии.
Было еще и много других мелких «пакостей» со стороны некоторых проанглийски настроенных местных толстосумов, поэтому особых симпатий в Норвегии к Англии в те годы не наблюдалось.
«Норвегия была аграрной страной, никогда не знавшей крепостного права, и свободный крестьянин-хуторянин являлся ведущей силой ее социального развития до той поры, пока капиталистические отношения не стали охватывать все области общественной жизни страны, — пишет историк литературы Б. Сучков. — Для Гамсуна крестьянство с его патриархальными традициями, органической связью с землей, родной почвой было основным фактором социальной стабильности, гарантом национальной самобытности норвежской культуры, источником духовного здоровья народа. Ко всем событиям национальной и мировой истории современности он начал подходить с позиций консервативного крестьянства, делая его интересы единственным мерилом ценности материального и духовного прогресса. Как и патриархально-консервативное крестьянство, Гамсун с подозрением и недоброжелательством относился к городу, к городской цивилизации. Индивидуалистические настроения хуторского крестьянина питали индивидуалистические настроения самого Гамсуна. Они лежали в основе его неприятия коллективистского мировоззрения пролетариата и негативного отношения к социализму и организованной борьбе рабочего класса.
Ход исторических событий, казалось, подтверждал верность мировоззренческих принципов Гамсуна: разразившаяся мировая война была вызвана капитализмом, буржуазной демократией — всем тем, к чему Гамсун всегда относился с враждебностью. Война и порожденные ею бедствия в его глазах были следствием неправильности самого исторического процесса, аномалией, вызванной тем, что городская культура, машинная цивилизация, индустриальный прогресс искажают человеческую натуру, лишают человека естественных связей с землей и трудом на земле. Однобокость прогресса вызывает в людях дух брожения, недовольства, протеста и враждебности. Гамсун считал своим долгом дать позитивный ответ на вопрос о тех силах, которые могли бы придать историческому прогрессу правильное развитие».
Помешать дальнейшему разложению Норвегии могла, по мнению Гамсуна, только сильная Германия, которая должна была помешать британцам и дальше лелеять планы по захвату Норвегии и заражать его родину различными нововведениями типа демократии и индустриализации, эмансипации и консервов (которые он просто ненавидел), а также помешать наплыву туристов, которые шастали по норвежской земле и мешали крестьянам трудиться.
Германия могла победить ненавистную дряхлеющую Англию потому, что была сильной и молодой страной.
В немецком журнале «Симплициссимус» в девятом номере за 1914 год Гамсун объявил:
«Я убежден, что в один прекрасный день Германия одержит победу над Англией. Это естественная необходимость. Англия охвачена перманентным регрессом; у нее еще уцелели кой-какие длинные цепкие корни, но нет цветов, нет живой верхушки, нет кроны. Германия же, напротив, бурлит силой и молодостью. <…> Зная оба народа, я совершенно убежден, что однажды Германия подчинит себе Англию. И надеюсь, что Германия победит сейчас. Эта надежда продиктована моей давней, непоколебимой симпатией к Германии, а также любовью к отечеству, которое только выиграет от победы немцев».[135]
В письме профессору Коллину, с которым он вступил в дебаты по «немецкому вопросу», Гамсун все в том же 1914 году писал: «Почему победа Германии над Англией „простая и естественная необходимость“? Да потому, что немцам, как сильной и процветающей нации, у которой рождается много детей и не очень большая территория, требуются колонии».
Норвежский исследователь Атли Киттанг писал, что «в политической мифологии Гамсуна Германия являла собой молодую нацию с юношеской жаждой развития и самораскрытия. Англия же при этом представляется старухой, которая всеми силами пытается одержать верх над девушкой. Но не один он придерживался этих идиотских воззрений. Подобные идеи разделяли в то время многие, безо всякой приверженности нацизму».
В 1915 году экономическая война между Англией и Германией достигла такого размаха, что стало понятно: это вредит экономике Норвегии. Англия пыталась выплачивать дотации норвежским фирмам, которые были готовы сотрудничать с нею, но взамен требовала полной исчерпывающей информации обо всех сделках, что вредило бизнесу Норвегии. Контролировали англичане и норвежский импорт медной проволоки — до такой степени, что это грозило полностью прекратить осуществление программы электрификации страны. Так что все основания не любить Англию у Гамсуна были.
С друзьями, которые не поддерживали его в любви к Германии, Гамсун мог спорить и даже выступать с обличительными статьями, как это случилось с датским издателем Свеном Ланге. Когда Ланге категорически не согласился, что датско-норвежская духовная жизнь вообще хоть чем-то обязана Германии, Гамсун написал «протестную» и язвительную статью в датскую же газету «Политикен» (9 ноября 1914 года). Однако на дружеские отношения подобные споры никак не влияли (так было на протяжении всей жизни писателя). Гамсун продолжал общаться с Ланге и в 1917 году пишет ему: «Если бы Америка все время (Первой мировой войны. — Н. Б.) не поддерживала Англию и другие страны альянса и не посылала ей амуницию и вооружение, то война закончилась бы полтора года назад. Но сейчас Америку остановили немецкие подводные лодки,[136] будем надеяться, что и война остановится!
Вновь и вновь убеждаюсь я в правильности своего мнения по поводу материализма янки, которое было у меня в молодые годы».
В 1928 году в статье «Festina lente» («Спеши медленнее») он напишет:
«…для нас, европейцев… совершенно непонятна поразительная жестокость, заметная в некоторых государственных акциях со стороны Америки: я имею в виду жесткие таможенные барьеры, беспощадность во взыскивании военных долгов с европейских стран. Как дилетант, обыватель, я рассуждаю следующим образом: да, в настоящее время благодаря своей финансовой политике Америка богатеет, как никакая другая страна; но возникает вопрос: а что же она создает все-таки для будущего, для грядущих поколений? Америка, как и любая другая страна на земном шаре, не может жить в одиночку. Америка — это еще не весь мир. Америка — это только часть мира и должна сосуществовать со всеми другими странами.
…Современное состояние духовной жизни Америки и то, которое я застал в восьмидесятые годы, разнятся как небо и земля. Духовная жизнь здесь всегда бурно кипела, ее всегда характеризовал размах, обусловленный большими экономическими и интеллектуальными возможностями, но в наши дни во всех областях знаний Америка достигла таких вершин, что стала признанным лидером… Искусство в теперешней Америке — предмет особого внимания, живопись многообразна и талантлива, литература процветает, особенно роман, созданные здесь молодым поколением писателей образцы именно этого жанра поражают свежестью и новизной по сравнению с тем, что имеется в других странах, это пример для подражания в Европе. Ощутимо влияние Шопенгауэра, так же как и Ницше, но есть и вполне оригинальные духовные лидеры в американской культуре, такие как глава прагматизма в философии Уильям Джеймс.
Если бы в моем распоряжении было бы больше газетной площади! Я бы поведал о чудесных ребятишках и об американских женщинах, являющих собой самый очаровательный женский тип на нашей земле. В молодости я исколесил полмира, встречал представительниц всех рас, но нигде я не сталкивался с образцами такой совершенной красоты, как в городах на востоке Америки. Черты лица, каждый изгиб их тела, манеры, изысканность, кокетство — все дышало красотой. А ведь мне, простому рабочему, не доводилось даже мельком взглянуть на представительниц привилегированных классов.
То немногое газетное пространство, которое у меня осталось, я употреблю для выражения искреннего восхищения Соединенными Штатами за то, что они доказали всему человечеству, что такое честный пламенный труд. Америка трудится. Америка учит весь мир трудолюбию. Я не имею в виду участие в бешеной гонке с целью пробиться, да еще, если надо, с пистолетом в руке, золотую лихорадку, суматоху на бирже. Я имею в виду среднего американца, у которого есть рабочие руки да голова на плечах и который вполне умеет распорядиться ими. Но использует чересчур.
Для американцев главное — труд, но в целом нация, народ работает прямо-таки с какой-то алчностью, в лихорадочном темпе. Я читал в автобиографической книге Генри Форда, что на своих заводах он устанавливал станки так близко друг к другу, чтобы рабочие делали ровно столько шагов, переходя от одного станка к другому, сколько необходимо. Время — деньги, а деньги — это всё. Так считают исключительно все в соответствии с логикой экономических интересов. В свое время мне доводилось вместе с другими сельскохозяйственными рабочими трудиться на уборке урожая по шестнадцать часов в день, чтобы как можно скорее закончить страду. Помимо всего прочего, в таких условиях мы могли трудиться только как негры, как рабы, мы работали в ужасающем напряжении, от нас не требовалось красиво выполнять свою работу, а для настоящего рабочего в этом ее нравственный смысл. По утрам бывало так холодно, что приходилось согревать масленку с машинным маслом над зажженной скирдой из шести снопов пшеницы. Мы всегда были в такой лихорадочной спешке, что у нас не было времени сложить костер из соломы.
Но ведь все дело в том, что человеческая жизнь коротка, так давайте же стремиться к тому, чтобы у нас было время ее прожить! Работая на износ, мы изнашиваемся и дряхлеем до времени. „Festina lente“.
Американцы не привыкли довольствоваться малым. Им всегда хочется превосходства. Изобилия. Жители Востока своей умеренностью, своим природным даром довольствоваться малым являют им полную противоположность. В Персии мне доводилось видеть сидящих на козлах возчиков, отщипывающих от хлебного ломтя и виноградной грозди, это был их обед, они обходились без мяса. Они способны обходиться также, например, без золотого брегета. Однажды я спросил своего кучера, когда мы приедем в следующий город. Он взглянул на солнце и ответил: „Сдается, будем там до большой жары“ (до полудня). Какое точное и одновременно поэтическое выражение, звучит, как стихотворная строка.
Американцы скажут, что их неуместно сравнивать с персами и что какой-нибудь „форд“ проделал бы этот короткий путь меньше чем за час. Персия, скажут они, — одно, а прогресс другое. Да, мой возница правил лошадью, у него было на это время, это ему нравилось, по дороге он развлекался тем, что разговаривал с конем, как со старым товарищем. Он увещевал коня, уговаривая его поторопиться: „Посмотри, как пылает солнце, ты что, хочешь сгореть?“
Что такое прогресс? Разве он заключается в том, чтобы быстрее передвигаться по дорогам? Отнюдь нет, если так подходить к положительным и отрицательным сторонам прогресса, то окажется, что издержки слишком велики. Прогресс состоит в том, чтобы обеспечить телу отдых, а душе — покой. Прогресс — в благополучии человека».[137]
Америка всегда «беспокоила» Гамсуна, однако никогда он не испытывал к ней такой же ненависти, как к Англии.
В Америке издавались его книги, и в 1914 году писатель даже собирался отправиться, как в годы молодости, в лекционное турне по Штатам. Это, помимо всего прочего, очень помогло бы поправить финансовое положение семьи, поскольку денег на Скугхейм тратилось много и долги Гамсуна были велики. Предложенный гонорар за лекции впечатлял и не мог не порадовать писателя, однако он был слишком занят своим основным делом — написанием книг — и так и не собрался в путешествие через океан.
* * *
Зато много внимания он уделял в это время — в тяжелые годы войны — детям. Он имел своих малышей, которых очень любил, поэтому не мог спокойно смотреть на ужасы войны.
Для начала Гамсун организовал сбор средств для французского детского дома и первым внес в его фонд деньги.
Сиротам он помогал всегда. В 1922 году он отправил телеграмму Фритьофу Нансену, в которой писал, что посылает «господину профессору тысячу крон на помощь страдающим от голода детям» и выражает сожаление, что не может «послать миллион».
Особое внимание Гамсуна вызвал новый закон, принятый в Норвегии в годы Первой мировой войны, по которому матери, убивавшие своих детей, получали минимальное наказание за свое преступление.
Гамсун выступил против матерей-детоубийц. Понимая, что виноваты не они, не имеющие возможности прокормить новорожденных младенцев, а виноваты социальные условия, тем не менее в январе 1916 года Гамсун пишет статью «Ребенок» в «Моргенбладет», в которой призывал «повесить первую сотню» родителей-детоубийц — это, по его мнению, должно будет напугать остальных.
Статья, как и следовало ожидать, вызвала бурную реакцию общественности. Многие считали — вполне справедливо, — что силой и уж тем более насилием ситуацию не исправить, однако Гамсун продолжал упорствовать, поскольку считал, что убийцы собственных детей «просто совокупляются в первый и последний раз в своей жизни» на вечеринке или после случайного знакомства, «выпивают и расходятся по домам».
Но, несмотря на многочисленные статьи в газете и развернувшуюся дискуссию, найти решение болезненного вопроса не удалось.
Гамсун не отступил, но понял, что ничего изменить не в силах, и заперся в Скугхейме. Он работал и жил своей жизнью, отказываясь от всех приглашений внешнего мира.
Глава семнадцатая СОКИ ЗЕМЛИ
Жизнь на севере была одновременно приятна и тяжела для Гамсуна.
Прежде всего, было очень затруднено общение с остальной частью Норвегии, да и при пересылке корректур и рукописей в Копенгаген и Кристианию возникало много препятствий.
Кроме того, и Скугхейм, и семья Гамсуна воспринимались как туристический аттракцион, и все приезжавшие в Нурланн непременно старались посетить усадьбу известного писателя и пообщаться с ним. Это не могло не раздражать Гамсуна и его домочадцев.
Возникали проблемы и с приездами старшей дочери Гамсуна Виктории. Она была в гостях у отца в Скугхейме только один раз — в 1912 году, сразу после рождения Туре. Поездка оказалась для девочки очень утомительной, больше Виктория к отцу не приезжала, да и у него были на счет дочери другие планы: в 1920 году Гамсун отправил ее с матерью во Францию. Он пишет Виктории: «Я подумал о том, что ты с мамой могла бы поехать во Францию и пожить там некоторое время, тогда бы ты смогла выучить французский в совершенстве… Бедная дорогая Виктория, мне так хочется сделать хоть что-нибудь для тебя, что в моих силах».
Поездки самого Гамсуна по делам тоже были сопряжены с массой проблем, особенно во время войны, когда стало затруднено передвижение по стране, да и дозвониться домой порой было очень непросто, тем более что именно в это время писатель стал глохнуть и пользоваться телефоном ему становилось все труднее и труднее, а терпимостью и смирением он никогда не отличался.
Звонить же домой он хотел как можно чаще: заботы о хозяйстве все время беспокоили его — и уборка урожая, и ремонт дома и хозяйственных построек, и многие другие каждодневные дела в усадьбе, требовавшие его хозяйского пригляда. Гамсун надоедал Марии своими бесконечными ценными указаниями, хотя жена прекрасно управлялась со всеми делами, но Мария неизменно писала ему успокаивающие письма. Надо думать, что это ее тоже мало радовало, и напряжение в семье нарастало.
Поэтому в начале 1916 года Скугхейм выставили на продажу за 12 тысяч крон. Мария, которая успела полюбить усадьбу, была против: она считала, что с такими маленькими детьми переезжать, да еще со всем скарбом, будет тяжело. Кроме того, она действительно полюбила жизнь на севере и в последние годы жизни писала:
«Когда мы приехали в Хамарёй, чтобы „прожить здесь остаток жизни“, его пастбища не показались мне какими-то особенными. Ни болот, ни пустошей, ни густых лесов!
…Северонорвежский диалект Вальборг, услышанный теми, кто говорит на южном наречии, часто вызывает воспоминания о Хамарёе, вдыхает в них жизнь. Этот медлительный, негромкий говор долго доходит до ушей собеседника, это язык Кнутова детства. На нем он любил говорить со мной, когда бывал веселым и шутливым, каким он мог иногда быть. Память о Хамарёе в основном светлая. Тяжелые периоды длились во время написания всех этих значительных книг, прежде чем они увидели свет, или, может, великолепие звездной ночи здесь, на севере.
И какое счастье, что все это позади!
Я могу теперь с легкой улыбкой взирать на прошлое. Вспоминать о его ребяческих, иногда гротескных причудах. Однажды он вернулся домой с большим пакетом каштанов. „Тебе надо посмотреть в поваренной книге, как можно приготовить блюдо из каштанов. А потом мы пригласим доктора, и ленсмана, и Георга Ульсена — как ты думаешь, не пригласить ли нам и пастора? Нет, они, скорее всего, уже видели прежде каштаны, они ведь с юга…“»[138]
Гамсун уступил, согласившись с доводами жены, и решил не продавать Скугхейм. Но в апреле того же года он пишет другу детства Эрику Фрюденлюнду в Вальдрес, прося его подыскать для него и семьи дом где-нибудь поблизости, а затем обращается к друзьям в Кристиансунне все с той же просьбой. В новогоднем поздравлении Эрику Фрюденлюнду в конце 1916 года Гамсун вновь пишет о переезде и о своем уже окончательном решении приобрести усадьбу — обязательно с большим домом — как можно быстрее — в Вальдресе. Судя по всему, мнение Марии по этому вопросу его уже не волновало.
За Скугхейм Гамсун решает получить 20 тысяч крон, но на севере не было таких богатых покупателей, и он обращается с просьбой найти заинтересованное лицо к редактору «Афтенпостена» Кристоферсену. Тот немедленно отвечает Гамсуну, что он и его 13 друзей готовы купить Скугхейм. Писатель принимает предложение, и сделка совершается. Через год друзья продают усадьбу властям округа и получают ничтожную прибыль по 18 крон на человека. Совершенно очевидно, что покупка Скугхейма была совершена только из любви к известному писателю и показывает, каким безграничным уважением пользовался Гамсун у своих сограждан.
Семья подыскивает себе временный дом в Ларвике, неподалеку от Осло и в 1917 году уезжает из Нурланна. Переезд, как и предполагала Мария, был очень тяжелым, тем более что сама она находилась уже на последнем месяце беременности.
Вместе с багажом ехал и чемодан с рукописью очередного романа — «Соки земли» (другой вариант русского названия «Плоды земли»).
В Ларвике Гамсуны вынуждены некоторое время жить в пансионате, потому что дом, купленный ими у зубного врача, оказывается все еще занят. Стоматолог, женатый на очень красивой шведке, представляет чету Гамсунов лучшим семействам Ларвика, и очень быстро почти все местные дамы влюбляются во все еще красивого и очень привлекательного 57-летнего известного писателя, что очень не нравится 34-летней Марии, которая страшно ревнует мужа — особенно к красивой супруге местного врача. Фру Гамсун неуютно чувствует себя в обществе — она беременна и неуклюжа, да и от светских развлечений, живя долгое время на севере Норвегии, она успела отвыкнуть — в отличие от мужа, который регулярно выезжал на «большую землю».
Но наконец купленный дом освобождается и семья переезжает в собственную виллу «Морской пейзаж» с большим садом на берегу фьорда.
Туре Гамсун вспоминал о том времени:
«Отец сказал, что в Ларвике мы будем жить недолго, однако я быстро освоился и уже чувствовал себя там как дома. У нас с братом появилось много друзей и товарищей. На улице перед нашим домом дети играли в пуговицы. Мы приехали в самый сезон этой игры, и я не видел ни одного мальчика, карманы которого не были бы набиты пуговицами.
Дети быстро приняли нас с Арильдом в свою компанию, они же посоветовали нам опустошить мамину шкатулку со швейными принадлежностями, что мы и проделали весьма основательно. Арильд в своем усердии дошел даже до того, что спорол все пуговицы со своих штанов…
Наша жизнь в Ларвике… протекала мирно и беспечно… В первое время нас с Арильдом дразнили за наш нурланнский диалект. Но мы скоро в совершенстве овладели местным языком, а первое время случалось, что прибегали домой в слезах — мы подрались из-за своего диалекта, и нас вздули. Некоторые отцы говорят в таких случаях: „Подставь другую щеку, сынок!“ Отец же говорил иначе: „Ответь тем же, да посильней!“
Недели через две после того, как мы приехали в Ларвик, родилась моя вторая сестра. Ее назвали Сесилия. Теперь нас, детей, было четверо… Отцу пришлось искать комнату в городе».[139]
* * *
Гамсун продолжал работать над «Соками земли», но неожиданно о романе ему пришлось забыть: серьезно заболела новорожденная дочка. Врач опасался за ее жизнь, и несчастные родители не знали, что делать. Отец от горя поседел. Но, к частью, все обошлось, и вскоре Сесилия пошла на поправку.
Гамсун, получивший возможность уединяться и писать поблизости от дома, теперь больше времени проводил с детьми. Он часто брал старших мальчиков с собой на прогулку в буковый парк, однако, по воспоминаниям Туре, почти не вслушивался в мальчишечье стрекотание — так был погружен в свой роман.
Но удивительна не отрешенность Гамсуна от всего происходящего вокруг, а его почти невероятная экономия на бумаге. Вот что пишет Туре Гамсун: «В кармане жилетки у него всегда была бумага для записей — он использовал листки старого календаря. Отец был чрезвычайно бережлив в мелочах. Он никогда не покупал отрывные календари. Их можно было получать бесплатно. Каждый год оптовики рассылали лавочникам и предпринимателям рекламные календари, и отец никогда не упускал случая пополнить свой запас таких календарей. Обратную сторону листов он использовал для своих записей. Так он относился ко всему, что касалось его лично: если одна страничка присланного ему письма оставалась чистой, он отрывал ее, аккуратно клал в стопку на своем письменном столе и потом использовал для черновиков.
В письмах он больше всего любил эти чистые странички. И, должно быть, у него были на то основания».[140]
Летом Мария сняла в окрестностях города небольшой домик и переехала «на дачу» с детьми. Предполагалось, что Гамсун останется в городе, чтобы закончить работу, но не успела шумная семейка разместиться на новом месте, как приехал ее глава — и остался с близкими на все лето.
«Соки земли» закончены, рукопись отослана в «Гюльдендаль», теперь Гамсун мог позволить себе отдохнуть и весело провести время с детьми. Кроме того, он ездит в Кристианию, где, наконец, встречается с дочерью Викторией, которую не видел с 1912 года.
После возвращения с дачи в Ларвик Кнут и Мария понимают, что вилла «Морской пейзаж» была лишь их временным пристанищем. Они начинают ездить по округе и искать большую усадьбу.
Гамсун пишет своему другу, директору банка в Лиллесанде, Биркенесу:
«Я хочу купить усадьбу, расположенную на берегу моря, чтобы там было много света и воды. Непременно должен быть большой дом и небольшой участок земли, но там должны быть и пристань, и лес, а еще поблизости должна располагаться школа, но нам не нужно, чтобы усадьба была близко к городу. Старая и заброшенная „барская усадьба“ подошла бы идеально.
…Я хотел бы купить дом для себя и своих малышей — и это должна быть очень красивая усадьба».
Биркенес предпринял несколько попыток найти усадьбу для Гамсуна, но все предложенные варианты его не устраивали.
Зато в декабре 1918 года напечатаны «Соки земли».
Сразу после выхода роман стал настоящим бестселлером. Первое издание появилось в продаже 1 декабря, а уже к Рождеству весь тираж в 18 тысяч экземпляров был распродан. В течение двух лет было продано 36 тысяч экземпляров, а к 1927 году — 55 тысяч.
* * *
Роман «Соки земли», по мнению критиков, — одно из самых монументальных эпических произведений мировой литературы XX века.
«Я вышел из крестьян, и корни мои в земле, в крестьянском труде», — написал Гамсун, и это утверждение можно считать квинтэссенцией романа. Речь в нем идет прежде всего о неприятии индустриального века и воспевании идеалов патриархальной жизни.
Гамсун рассказывает о жизни норвежских крестьян Исаака и Ингер, сохранивших свою вековую привязанность к земле и верность патриархальным традициям.
Замысел романа в значительной степени основывался на реальных событиях, а повествование развертывается столь же неторопливо и спокойно, как сама жизнь его героев. Кроме того, роман, как и другие произведения Гамсуна, отличает большое количество главных героев, истории которых описываются в почти независимых друг от друга сюжетных линиях.
В годы Первой мировой войны и после нее в стране осваивалось много новых земель. Вот и на пустошь, принадлежавшую государству, приходит крестьянин Исаак и начинает работать — корчует деревья, расчищает землю, строит дом и сеет хлеб. К нему по тропинке через болото приходит Ингер, которая нанимается к Исааку в работницы, а затем становится его женой. Они вместе трудятся на земле, рожают детей. Накопив денег, Исаак выкупает у государства пустошь.
Одна была беда — заячья губа Ингер, которая очень мешала ей жить в долине, откуда она и пришла к будущему мужу. И вот, когда у Ингер рождается девочка с заячьей губой, она душит ее, чтобы та, так же как и мать, не страдала в жизни. Ингер сажают на семь лет в тюрьму, Исаак терпеливо ждет ее. Он дожидается жену, но та стала совсем другой: в тюрьме ей сделали операцию и избавили от заячьей губы и приобщили к «благам» цивилизации. Теперь ей уже не нравится жить в деревне. Но земля лечит — и скоро все вновь становится на свои места.
Однако соки земли питают лишь тех, кто хранит верность земле. Они питают старшего сына Исаака и Ингер Сиверта, оставшегося в родном доме, но не могут спасти младшего сына Елисея, который уехал в город, оторвался от своих корней, а вернувшись домой, завел торговлю и, если бы не отцовская помощь, давно бы прогорел. Затем он и вовсе уехал в Америку.
Критики указывали, что в годы величайших социальных потрясений, в дни послевоенной разрухи роман Гамсуна прозвучал как песнь мира, как послание к исстрадавшимся людям, призывая их вернуться к мирному созидательному труду от полей сражений.
«Соки земли» — программное произведение Гамсуна с явно ощутимой морализирующей тенденцией, что вовсе не умаляет художественного значения этого эпического полотна.
Максим Горький, который всегда с большим уважением и восхищением относился к своему норвежскому коллеге, назвал «Соки земли» «удивительно своеобразной» и «эпической идиллией». Он писал Гамсуну в 1923 году:
«Я человек страны, где литература о мужике, мужицкой жизни разработана больше, чем в какой-либо другой стране Европы. Труд хвалебно воспевал Лев Толстой и десятки русских литераторов, поляк Реймон написал огромный роман-эпопею „Год“, посвященный деревне и мужику, но все это и многое другое уступает прекрасной и мощной Вашей поэме».
* * *
В 1920 году за «Соки земли» Гамсун был удостоен Нобелевской премии в области литературы.
Нобелевскую премию Гамсуну не давали несколько лет подряд: Нобелевский комитет не видел в его творчестве четко выраженного направления, чего требовал учредитель премии.
Альфред Энгстрём и Эрик Аксель Карлсфельдт[141] долго и упорно боролись за присуждение Гамсуну Нобелевской премии. В 1919 году она была отдана Карлу Сплиттеру (1845–1924), швейцарскому писателю, пишущему на немецком языке.
Наконец в ноябре 1920 года в дом Гамсуна пришла телеграмма шведского консула в Кристиании:
«По поручению секретаря Шведской академии, имею честь сообщить, что Вы стали лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 1920 год. Примите мои искренние поздравления в связи с заслуженной наградой».
Мария, прочитавшая эту телеграмму завтракающему мужу, была счастлива и ждала, что и Гамсун обрадуется не меньше нее.
Вот как она описывает этот момент в своих воспоминаниях:
«Он даже не поднял головы и спокойно сказал:
— Для нас это ничего не меняет.
Быть может, внезапно он вспомнил, как тяжело ему все досталось, детство, призрак на кладбище в Хамарёе, а может быть, он вспомнил Тумтегатен, редко когда имевшиеся у него пять крон и „Голод“?
Я сказала:
— Но ведь это большая честь, Кнут!
Вот тогда он посмотрел на меня, взгляд его был тяжел, и спросил коротко и язвительно:
— Тебе что, сейчас моей славы не хватает?
Ему оказана честь? Да, но она оказана старику. На что она ему сейчас? Скорее, она похожа на издевку!»
Конечно, Гамсун обрадовался, но уж очень горька была для него награда: он считал, что получил ее слишком поздно. Он даже решил отказаться от участия в официальной церемонии вручения премии. Журналисты, шумиха вокруг церемонии, сама церемония, поездка, банкет — он уже не хотел никакой светской жизни, он уже пришел к выводу, что хочет жить в своем доме в кругу семьи и возделывать землю.
Но после переговоров с Энгстрёмом и Карлсфельдтом Гамсун все-таки дает согласие на участие в церемонии и садится писать благодарственную речь. От нобелевской лекции он решил отказаться, несмотря на уговоры.
Попутно приходится улаживать множество дел — отвечать на поздравительные письма и телеграммы, покупать подобающие случаю наряды, разрешать хозяйственные проблемы. На письма и телеграммы отвечала Мария, фрак Гамсуну решили заказать в Стокгольме, а вот платье Марии сшили в Кристиании.
Когда жена вернулась домой с красивым декольтированным платьем, заботливый муж немедленно выразил беспокойство о ее здоровье — ведь Мария в платье с глубоким вырезом может простудиться. Гамсун вспомнил портновский опыт молодости, взял в руки ножницы, нитку и иголку и заделал вырез.
* * *
В столицу Швеции чета Гамсунов прибыла ранее назначенного дня церемонии. В дороге они изрядно намучились — как раз в эти дни началась стачка железнодорожных рабочих Норвегии.
В Стокгольме их встретил Альберт Энгстрём и поселил в роскошном номере в «Гранд Отель Ройял». Чтобы уберечь друга от назойливого внимания журналистов, он с женой поселился в соседнем номере.
Надо сказать, что Энгстрём и Гамсун были очень хорошими и близкими друзьями с одинаковым чувством юмора, не всегда понятным окружающим. Так, Энгстрём в молодости спал в кровати, рядом с которой всегда стоял скелет — для напоминания о бренности жизни. Такой эпатаж был очень по душе Гамсуну, однако ему совсем не понравились приветственные слова друга, с которым они не виделись с 1899 года: «Боже, до чего же ты постарел!»
Вручение премий происходило 10 декабря. Представитель Шведской академии Харальд Йерне в свое речи сказал: «Те, кто ищет в литературе… правдивое изображение реальности, найдет в „Соках земли“ рассказ о той жизни, какой живет любой нормальный человек, где бы он ни находился, где бы он ни трудился». Йерне также сравнил роман Гамсуна с дидактическими поэмами Гесиода.
На банкете дамой Гамсуна за столом была Сельма Лагерлёф,[142] почитателем творчества которой он никогда не был. Тем не менее Гамсун не мог не оценить остроумную и живую манеру разговора Лагерлёф, и расстались они после банкета вполне довольные друг другом. До конца жизни эти два лауреата Нобелевской премии обменивались поздравительными открытками по случаю праздников и прочих важных событий с заверениями в искреннем уважении.
Марии повезло меньше: ее кавалером по столу был датский физиолог Август Крог, который, вместо того чтобы, в соответствии с правилами этикета, занимать разговорами свою соседку, нервно просматривал нобелевскую речь, которую ему предстояло произнести, ибо в тот же год, что и Гамсун, он получил премию в области физиологии и медицины «за открытие механизма регуляции просвета капилляров».
Гамсун же почти не волновался и произнес короткую речь со свойственной ему самоиронией:
«Дамы и господа!
Даже не представляю, как отблагодарить за оказанную мне честь! Вы вознесли меня до небес, я парю над землей, а вместе со мной парите и все вы. Не очень-то приятно быть сейчас на моем месте: сегодня вечером я купаюсь в лучах славы, но именно оказанные мне почести сильно подкосили меня.
Когда-то давным-давно — еще в дни моей молодости, я испытывал подобное головокружение, и оно пошло мне на пользу, а потому я твердо знаю, что все, что ни случается в жизни, — к лучшему.
Но мне не стоит забываться и пытаться учить столь уважаемое мной собрание, особенно сейчас, когда Наука уже сказала свое слово. От имени своей страны хочу поблагодарить Академию и Швецию за оказанную мне честь, что же касается меня лично, то я склоняю голову под тяжестью этой награды. И горжусь, что Академия сочла, что моя шея выдержит такой вес.
Я пишу свои книги по собственному разумению, но я учусь у всех, в том числе и у современной шведской поэзии. И если я хоть чего-нибудь достиг в литературе, то мне хотелось бы упрочить свое положение в этой моей речи. Но я ничего не смогу сказать, кроме пустых слов и цветистых фраз, ведь я уже немолод и у меня нет на это сил.
Чего бы мне действительно хотелось в это мгновение, в этом озаренном свечами зале, это одарить каждого члена нашего высокочтимого собрания цветами, подарками и стихами, я бы хотел вновь стать молодым и оказаться на гребне волны. Это мое действительное желание — именно благодаря этому событию наверняка последнее такое желание в моей жизни.
Но я не могу сделать этого, чтобы не превратиться во всеобщее посмешище. Действительно, сегодня в Стокгольме я купаюсь в лучах славы и почета, но у меня нет главного, самого основного — молодости. Среди нас нет никого настолько старого, чтобы не помнить своей молодости. И нам, старикам, надо отступить в сторону, освободить дорогу — и сделать это с честью.
И вне зависимости от того, что я должен был бы сделать — я не знаю, что именно, — вне зависимости от того, что подобает, — я не знаю, что именно, — я выпиваю свой бокал за молодость Швеции, за молодежь, за все молодое в жизни!»
Мария Гамсун вспоминала, что после такой речи ее мужа у многих присутствующих выступили на глазах слезы.
Гамсун же расслабился: с формальностями было покончено, а значит, праздновать можно было, как в прежние годы. Он вручил официанту свой бумажник, в котором были все деньги и чек на Нобелевскую премию, и сказал, чтобы тот сам потом взял необходимую сумму за выпитые на банкете напитки.
Мария ушла с праздника в отель пораньше, а Гамсуна привел домой Энгстрём, который объяснил ей, что «Кнут слегка устал». На самом деле Гамсун был мертвецки пьян. Мария попробовала раздеть мужа, но ей удалось снять с него только галстук. Гамсун заснул в своем специально сшитом для такого случая фраке. На следующее утро, обнаружив, что он проспал всю ночь в парадной одежде, он в шутку крикнул Марии: «Дорогая, какой кошмар! Я целую ночь провел во фраке, но без галстука!»
Глава восемнадцатая НЁРХОЛЬМ
Получать Нобелевскую премию Кнут и Мария поехали уже из своего нового дома — осуществленной мечты всей жизни Гамсуна.
Усадьба или, вернее, имение называлось Нёрхольм. Гамсун нашел его случайно — и влюбился с первого взгляда, как это вообще часто случалось в его жизни.
Нёрхольм — старая усадьба, построенная еще во время датского господства. Первым владельцем имения был датский аристократ, а в 1680 году дом и участок купил сын пастора Самюэль Нильсен. Предприимчивый и склонный к риску, он значительно расширил свои владения, построил собственную верфь, мельницу и лесопилку. В 1807 году имение продали родственнику семьи Якобу Эллефсену. Последней владелицей усадьбы была Анна Петерсен, которая уступила дом Людвигу Лонгуму.
О Лонгуме существует несколько мнений. Одни из исследователей творчества Гамсуна считают его спекулянтом, который в течение полутора года после покупки Нёрхольма вырубал лес, а потом продал имение втридорога известному писателю. Другие утверждают, что Лонгум вовсе и не собирался расставаться с усадьбой, а совершить сделку его уговорил Гамсун, предложивший назвать любую цену — так ему понравилось место.
Лонгум сказал, что готов продать Нёрхольм за 200 тысяч крон — безумную сумму по тем временам. Гамсун тут же согласился — к искреннему изумлению продавца.
Для покупки усадьбы ему пришлось не только отдать все имеющиеся у него в наличии деньги, но и влезть в громадные долги. Но Нёрхольм, по его мнению, того стоил.
Мария Гамсун вспоминала:
«Он часто повторял: у детей должно быть свое место. Не номер дома на улице, а такое место, где сохранились воспоминания о годах детства, — тех годах в человеческой жизни, когда время длилось так долго, когда от весны до весны оно казалось целой вечностью и когда на мир смотрят глазами первооткрывателя.
Место, где можно жить. Поколение за поколением, люди столетиями жили в Нёрхольме. Как и в древности, здесь были все те же участки земли среди холмов и озер, только тогда Нёрхольму принадлежало больше земли. Разбогатеть здесь было нельзя, но можно было трудиться и радоваться, глядя, как весной вновь появляется зелень. Таковы были и хозяева языческих времен (как один юный „первооткрыватель“ называл это). Здесь — пирс из огромных булыжников, он выдается далеко вперед, туда, где глубина подойдет для пароходов, а не только для моторных лодок, находящихся там сегодня. Каждый ребенок знает, что драккары, кнарры и шнеки искали убежища в заливе Нёрхольма, когда шторм со Скагеррака швырял их на подводные скалы и шхеры Агдера. Каждую весну пирс красили в зеленый цвет, но он вскоре выгорал, и только розовые ковры заячьих лапок, такие мягкие под ногами, всегда оставались неизменными.
Когда Кнут в 1920 году получил Нобелевскую премию, круг его читателей расширился. „Плоды земли“ стали известны во всех странах. Некоторые другие книги тоже были переведены на иностранные языки. Он стал больше зарабатывать, и поэтому перестроил главную усадьбу в Нёрхольме, сделав дом длиннее и больше; перед входом он поставил шесть колонн, ему нравились колонны. Помню, что я без особого восхищения смотрела на эти колонны, появившиеся в старинной норвежской крестьянской усадьбе. И тогда Кнут, сделав красивый жест рукой, сказал: „Женщина и колонна, о!“
С 1957 года, каждое лето я вожу экскурсии по Нёрхольму, дому Кнута Гамсуна, для всех, кто приезжает сюда. Однажды какая-то дама спросила меня: „Что это за колонны, ионические или дорические?“
Я честно ответила: „Они гамсуновские!“»[143]
В ноябре 1918 года семейство Гамсуна вселилось в новый дом.
Первое время — ни много ни мало, три года — жить в Нёрхольме было очень тяжело. Усадьба почти не приносила дохода, но требовала постоянных вложений. Кроме того, Лонгум успел вырубить почти весь лес и продать его за 120 тысяч крон, но при этом ничего не вложил в Нёрхольм, так что его действительно есть все основания называть спекулянтом.
«Когда мы приехали, дом был большой, белый, — вспоминал Туре Гамсун, — и казался голым из-за высоких пустых окон. Он стоял посреди большого запущенного сада, обнесенного ветхим штакетником.
…Первую ночь в Нёрхольме я спал плохо. Непривычно шумели в саду старые деревья, из-за сильного ветра весь дом был полон каких-то жутких звуков. Ветер свистел в щелястых стенах чердака. На одном из окон взвизгивали ржавые петли.
…„Вот подождите!“ — сказал нам отец. И нам в самом деле пришлось ждать. Не знаю, как мать выдержала первые три года в Нёрхольме, ведь у нас не было ни воды, ни света.
…Воду приходилось носить из ручья и зимние вечера проводить при свете маленьких керосиновых ламп. Большие лампы, которыми мы пользовались в Нурланне, остались там. Я помню, как мать говорила, что ей хочется обратно в Нурланн».[144]
По вечерам семья собиралась в детской — большой светлой комнате с шестью окнами на втором этаже. Гамсун каждый вечер, если был дома, рассказывал детям на ночь сказки и старинные предания, с удовольствием играл и дурачился с ними. Дети составляли смысл его жизни. Ради них он был готов на многое.
«На каждое Рождество, после того как у нас родился первенец, мы с Кнутом всегда наряжали елку вместе, — писала Мария Гамсун. — Притихшие, мы были поглощены этим занятием: куда повесить этого марципанового поросенка? Как ты считаешь, не повесить ли сюда этого ниссе?[145]
Мы вместе покупали все подарки. Конечно же их всегда было много. И это было почти изменой тому Рождеству, которое оставалось в памяти бедного мальчика. Но щедрость Кнута всякий раз перевешивала. Он никого не забывал, а кроме того, заставлял меня составлять список всех, кого надо поздравить. Теперь я могу всех забыть.
…Однажды он сказал: „Я положу для него чек в конверт и ничего ему не скажу. Чек будет на пять тысяч. И я охотно дал бы тысячу, чтобы посмотреть на выражение его лица!“ Он добродушно улыбался. Речь шла о приятеле, который нуждался. Он получил чек, а Кнут порадовался его благодарности.
Вообще ему претило проявление благодарности со стороны других. Единственное, что он мог принять, так это пожатие детской руки.
Иногда он оставлял работу, чтобы сочинить стихи ко дню рождения сына или дочки».[146]
Гамсун стал землевладельцем, хозяином настоящей старинной усадьбы с традициями, истинным Исааком из «Соков земли». Первым делом он занялся хозяйством, а перестройку дома оставил на потом.
У него имелась своя ферма с коровами, которыми он очень гордился, — они были особой породы (через несколько лет поголовье возросло с 9 до 40 коров), — он расчищал заросшую пашню, ремонтировал хозяйственные постройки, прокладывал новые дороги, вспоминая, как в молодости работал в Дорожной службе. Иногда его хозяйственные заботы приобретали весьма экзотический «оттенок»: так, например, коровы в хлеву стояли по росту, как солдаты на плацу.
Случалось, что его обманывали, поскольку пустить пыль в глаза великому писателю ничего не стоило. Однажды к нему пришли рабочие, которые обещали вымостить гать через болото и сделать это наилучшим образом. Гамсун поверил, и рабочие действительно быстро провели красивую дорогу. Они получили деньги и отбыли восвояси, причем было хорошо известно место их проживания, а через короткое время после их отъезда гать ушла в болото. Мария страшно разозлилась и стала ругать мужа за потраченные деньги, на что тот спокойно возразил, что у всех есть семья, которую надо кормить. И, когда спустя несколько месяцев умер ребенок одного из рабочих, Гамсун оплатил его похороны.
В другой раз писатель выписал из Швеции инженера, который умел строить земляные дома. Швед приехал, его прекрасно приняли, выделили отдельную комнату в доме и дали в помощь рабочих. Он долгое время готовился к осуществлению постройки большого сарая, наконец построил его, насыпав стены из земли, — и на следующий день строение рухнуло. В день катастрофы инженер сбежал из Нёрхольма.
А вот запущенный дом для себя и своей семьи Гамсун, старательно модернизировавший усадьбу, считал подходящим, потому что с детства привык обходиться малым.
«Нормой для Кнута, — вспоминала Мария, — являлся уровень жизни в доме детства. Даже клопы, наверное, не были чем-то незнакомым в далекой нурланнской деревушке былых времен.
Очень скромная маленькая спальня в Нёрхольме и рабочий кабинет на лужайке — его еще называли писательской избушкой — молчаливо свидетельствуют о крайней неприхотливости. Свидетельствуют также, вероятно, о глубоком уважении, о преданности родителям, которые столь достойно, не ропща, прожили свою жизнь в бедности. Его мать ослепла на один глаз. Обычно она говорила: „Другие не получают и того, что можно увидеть одним глазом…“
Бывало так, что я с течением времени хотела приобрести себе что-нибудь из современной бытовой техники, которая теперь есть во многих домах: холодильник, электрическая плита, стиральная машина, уже не говоря о ванной и прочих удобствах.
И всякий раз он останавливал меня вопросом: „Ты родилась с этим, Мария?“ Единственное, на что он согласился, так это на большую ужасную деревянную ванну, и то ради детей».[147]
Когда же была получена Нобелевская премия, все, повторим, изменилось. В усадьбу провели электричество, дом отремонтировали и поставили уже упоминаемые на страницах книги шесть «гамсуновских» колонн, а управлять хозяйством, которое стало отнимать слишком много времени, пригласили племянника Гамсуна Оттара из Хамарёя и его жену Хильду. К сожалению, честному Оттару весной 1921 года пришлось уехать домой, поскольку, как и многие его родственники, он заболел чахоткой и в 1922 году умер от нее. С тех пор Гамсуну не очень везло на управляющих и с некоторыми из них даже приходилось судиться.
После получения премии у писателя появились деньги и на восстановление когда-то большого леса Нёрхольма, гордости усадьбы. Он заказал саженцы ели и сосны. И вскоре на вырубках зазеленел молодой подлесок.
Гамсун с удовольствием чувствовал себя хозяином имения, тем более что сил у него, несмотря на весьма солидный возраст, было много.
«Я помню один случай, — писал Туре Гамсун, — когда уже в старости сила и темперамент отца выдержали серьезное испытание. К нам в усадьбу пришел цыган и попросил поесть. На кухне ему приготовили целую гору бутербродов. У него создалось впечатление, что дома нет никого, кроме детей и служанок, и он, отшвырнув пакет с бутербродами, потребовал вместо еды денег. Позвали отца, и требованиям цыгана был положен конец. Отец побелел от гнева, скулы у него заострились, а глаза превратились в светящиеся точки. Цыган, оборонясь, поднял палку, но был тут же обезоружен. Железной хваткой отец вцепился ему в плечо и вытащил за ворота, на шоссе. Там со словами: „Чтобы духа твоего тут не было!“ — он швырнул цыгана так, что тот пролетел несколько метров. А отцу было уже за семьдесят».[148]
Несмотря на то, что Гамсун во всеуслышание объявил себя крестьянином в первую очередь, а уж потом писателем, литературный труд всегда был у него на первом месте. Работал он в избушке на краю усадьбы.
Первым после переезда в Нёрхольм был написан роман «Женщины у колодца», вышедший через несколько недель после получения Гамсуном Нобелевской премии.
* * *
«Женщин у колодца» (1920) многие критики считают романом циничным и безысходным, одной из самых сумрачных книг Гамсуна.
В нем рассказывается о вымирании маленькой приморской деревушки, зараженной ложными, с точки зрения автора, ценностями современного мира. Сам сюжет как бы почерпнут писателем из сплетен местных женщин у городского колодца. Однако мелкие происшествия в городе постепенно вырастают в пародию на современную жизнь, в которой «люди наталкиваются друг на друга, переступают друг через друга, одни падают наземь и служат другим мостом, иные умирают — это те, которые трудней всего переносят толчки, наименее способны к сопротивлению, — и они гибнут. Без этого не обходится! Но другие цветут и преуспевают. В этом и заключается бессмертие жизни! И все это было известно тем, у колодца».
Один из самых многозначных и «амбивалентных» героев романа — хромой кастрат Оливер Андерсен, собирающий вокруг себя события городской жизни и являющийся ее отражением. Он, по словам норвежского литературоведа Атли Киттанга, «является гротескным символом современной ущербности, но в то же время его изображению присуща та отчетливая симпатия, которую Гамсун всегда питал к аутсайдерам».
Именно Атли Киттанг убедительно доказал, что роман «Женщины у колодца» вовсе не реакционен, а глубоко ироничен, и что реакционные высказывания чаще всего бывали вложены в уста второстепенного персонажа, как правило, принадлежащего к числу тех, к кому автор относится с иронией.
«Такие примеры свидетельствуют о важнейшем аспекте взаимодействия между самим гамсуновским художественным текстом и идеологией, — пишет А. Киттанг. — В книгах Гамсуна идеологические нормы и критерии можно рассматривать как необходимую плоскость, для того чтобы уловить иронию, заключенную в тексте. Провозглашаемые идеологические и моральные стереотипы всегда являются одновременно и как бы „заминированными“. Искрящийся иронией текст, таким образом, одновременно содержит в себе критику провозглашаемых автором идеологических принципов и оценок».[149]
В 1923 году выходит роман «Последняя глава», довольно пессимистичный, в котором Гамсун выразил свою точку зрения на место человека в мире: «Все мы бродяги на земле».
Действие романа происходит в санатории, замкнутом пространстве, что дало критикам повод сравнить «Последнюю главу» с «Волшебной горой» Томаса Манна.
Пациенты санатория живут в придуманном ими самими мире, далеком от реальности, и влачат жалкое существование, наполненное сплетнями и интригами.
Противостоит санаторию (символу современной цивилизации) идеал здоровой жизни крестьянина на земле.
* * *
И «Женщины у колодца», и «Последняя глава», действительно, пессимистичные произведения и были холодно приняты критикой.
Во многом «минорная окраска» романов объясняется депрессией, на которую у Гамсуна были серьезные причины. В 1919 году у него умерла мать, а во время работы над «Последней главой» начался судебный процесс (он длился с 1922 по 1925 год), который возбудил сам писатель по поводу использования его псевдонима младшим братом Турвальдом и племянником Альмаром, сыном этого брата.
Как только Кнут достиг известности, Турвальд начал именовать себя Педерсеном Гамсуном, а потом и вовсе отказался от собственной фамилии и представлялся просто Турвальдом Гамсуном. Кроме того, кредиторы Альмара, который был гулякой и игроком, постоянно надоедали писателю, требуя уплатить долги родственника. Кнут считал, что поведение Альмара позорит его имя и честь семьи Гамсунов.
Суд произошел 5 января 1925 года в Осло (Кристианию переименовали в «город богов», именно таков буквальный перевод «Осло», в 1925 же году), где большинством голосов родственникам Гамсуна было присуждено право на использование псевдонима Гамсун (а не Педерсен или Гамсунд) в качестве фамилии для всей семьи.
Писатель остался очень недоволен результатом и передал дело на рассмотрение в Верховный суд Норвегии. Однако одновременно с этим он предложил родственникам большие денежные суммы (5 тысяч крон брату и 3 тысячи крон племяннику) в качестве компенсации за отказ от использования его имени. Так дело удалось урегулировать мирным путем, однако Турвальд не успокоился. Мало того, что он изредка продолжал называть себя Гамсуном и Гамсундом, так он еще и обратился в Министерство юстиции с запросом, можно ли через суд отказаться от родства с братом (так же, как лишают, например, родительских прав).
Что касается отношений Кнута с братьями, то Мария вспоминала:
«Кроме Уле, у Кнута было еще три брата. Старшего звали Педер, он был портным, жил в Америке и умер там. Его сын приезжал один раз в Нёрхольм между войнами. Он останавливался у нас летом на пару недель. Кнут расспрашивал его о Педере, жившем по ту сторону океана: „Он мог бы написать хоть несколько слов своим матери и отцу…“ — „О, — сказал его сын, седой и худой, как янки, — ему, наверное, писать особенно не о чем…“
Брат Ханс жил в Бё, в Вестеролене, и слыл уважаемым человеком в округе. Он не был обычным нурланнским работягой на Лофотенах и в Финмарке, в зимний период. Нет, он сидел себе мирно и всю жизнь писал протоколы и заполнял бланки; конечно же он относился к начальству Бё.
Помню, как однажды к нам пришел высокий человек: это было в Скугхейме, в нашей маленькой усадьбе в Хамарёе. Когда Кнут был дома, я выполняла роль привратника. Но я сразу увидела, что это Ханс, он был похож на Кнута, хотя и не отличался могучим телосложением. Он гостил у нас пару дней, этот рассудительный человек, а его аристократические черты лица напоминали о гюдбрандсдальской родне.
Встречала я и самого младшего брата, Турвальда, он был намного моложе Кнута и пребывал в младенческом возрасте еще тогда, когда Кнут уехал из дома. Этот брат стал горожанином. Когда я впервые встретила его, он работал на таможне в Кристиании. И он тоже был внешне похож на Кнута.
Из всех братьев ему был ближе Уле, сапожник. Я спросила как-то, почему, и Кнут ответил: „Потому что он был самым добрым в детстве“.
Но всякий раз, уже при мне, когда Кнут заканчивал новую книгу, он посылал кругленькую сумму не только брату Уле, который был таким добрым в детстве».[150]
Что же касается смерти любимой матери Гамсуна и всевозможных кривотолков по поводу их привязанности, то лучше всего об этом написал Туре Гамсун:
«Когда вышли „Женщины у колодца“, Гамсуну было уже за шестьдесят. По его собственным меркам, он давно вступил в седую старость. Но он не утратил своих духовных сил, и, хотя нередко чувствовал себя усталым и, как он сам говорил, дряхлым стариком, он стискивал зубы и терпел. В одной анкете ему был задан вопрос: „Что для Вас самое плохое?“ Он ответил: „Смерть. Я бы спокойно умер, если бы это было добровольно, а не вынужденно!“
…В 1919 году умерла его мать. Он глубоко скорбел о ней. Психоаналитики выступали с весьма натянутыми рассуждениями об эдиповом комплексе Гамсуна, опираясь на образ царицы Тамары и на материнские образы в его последних книгах. Пусть это останется на их совести. Куда проще и естественнее констатировать, что Гамсун любил свою мать, как любит каждый хороший сын, и, вспоминая о ней восторженно, видел в ней идеал скромной и непритязательной хозяйки дома, соответствовавший его понятиям о людях и счастье».[151]
* * *
Но, несмотря на все беды и огорчения, для Гамсуна эти годы были счастливыми. Хорошая жена и прекрасные дети, большая усадьба, которую, наконец, удалось привести в порядок, и прекрасный дом, предмет особой гордости, радовали писателя.
Когда к нему приезжали в гости друзья, он с удовольствием показывал им свое имение.
Сигрид Стрей вспоминала, что, когда она посетила Нёрхольм первый раз, Гамсун много говорил ей о доме и о том, как перестраивал его. Так, он сказал, что очень хотел расширить старый дом и планировал пристроить к главному корпусу крылья с большими окнами. Но оказалось, что для этого придется срубить большую старую липу, — и тогда план перестройки изменили, а липа осталась расти на прежнем месте.
В доме же предметом его собой гордости был зал с красивым паркетом и белой мебелью в стиле Людовика XVI, обитой обюссонскими гобеленами. Это великолепие он выписал из Парижа.
Некоторые стены и мелкие детали интерьера являлись произведением рук самого Гамсуна.
Он много времени проводил с детьми и был им хорошим отцом. Он старался понять их нужды и желания. Он учил их бороться за себя и выживать — и приучал и сыновей, и дочерей уметь держать удар: когда малыши подросли, им купили боксерские перчатки и грушу, причем боксировать умели и девочки.
Однако Гамсун не признавал боя на ринге ради развлечения других. Он говорил: «Будь добр с теми, кто слабее тебя и кто добр с тобой, но никогда не пасуй перед сильным. Дай ему сдачи. Око за око, зуб за зуб». Когда же Туре как-то выступил на боксерском ринге, отец написал ему: «Я слышал, ты боксировал с Сигурдом Хёлем[152] на выставке художников, но не следует этого больше повторять. Отлично уметь защитить себя в критической ситуации, но сама драка омерзительна, а уж если она вынесена на всеобщее обозрение, то не может не вызывать отвращения.
Не думай, что спорт сделает тебя здоровым. Это все предрассудки. Посмотри на англичан: они не живут дольше других, совсем наоборот».
Когда старший сын Туре пошел в школу, Гамсун с горечью заметил: «Теперь начинается рабство». Он дома занимался с мальчиком, боясь, что тот окажется одним из худших учеников в классе. Но образования отцу часто не хватало — например, в области математики, и ему с неудовольствием приходилось признавать свое поражение.
«Думаю, — вспоминал Туре Гамсун, — мои школьные друзья считали отца чудаком. Они всегда смотрели на него с удивлением, потому что не привыкли, чтобы взрослые так разговаривали с детьми. Случалось, встретив меня после школы с товарищами, отец останавливался поговорить с нами. Он шутил и гладил по голове самых маленьких. И дети удивлялись. Им было непривычно, что чужой взрослый человек останавливается и шутит с ними, гладит их по голове или дружески шлепает на прощанье. Однажды отец спросил: „Куда путь держите, троллята?“ Но оказалось, дети не знают, что такое тролль.
…Я объяснил им, что тролль — это существо, о котором говорится в сказках, которые отец с матерью читают нам вслух, но они с недоверием уставились на меня. Им никто никогда не говорил, что существуют сборники сказок, а читают вслух, по их мнению, только в воскресной школе.
…Что касалось одежды, тут у отца были твердые принципы, и они порой доводили меня до отчаяния. Например, он отправил меня в школу в „люггерах“ — мягких сапожках типа эскимосских камиков, — и я с трудом выносил сострадательные взгляды детей… как и все дети, мы очень боялись оказаться не похожими на других. Но отец помнил по собственному детству, что одежду носили, какой бы странной и заплатанной она ни была, и не желал считаться с моей уязвимостью… Никогда не забуду, как я завидовал мальчику из самой бедной усадьбы, потому что он ходил в деревянных сабо и обмотках! В Эйде это считалось последним писком моды. Отец сопротивлялся, он объяснял мне, что именно по этой причине мне не следует их носить. Но я не мог взять в толк его объяснений, и в конце концов он уступил — капитулировал перед прогрессом, и я получил обмотки.
Отец не был слабым, но, когда дело касалось детей, он капитулировал часто и охотно».[153]
Гамсун действительно баловал своих детей — если не в одежде, то в игрушках. Так, дочерям он купил кукольный дом с детской мебелью, а сыновьям — почти настоящую железную дорогу, которую трудно назвать игрушечной: она была очень большой и подключалась к электричеству. А когда дети немного подросли, он сделал им воистину королевский по тем временам подарок — проигрыватель для пластинок.
Но Гамсун никогда не забывал и об экономии. Так, он терпеть не мог, когда на иностранный манер дети отрезали толстые куски сыра. Все дело в том, что норвежцы очень гордятся специальным норвежским ножом для сыра,[154] который отрезает тоненькие кусочки. И Гамсун не уставал повторять за столом: «Отрезайте от сыра красивые кусочки, дети, только англичане и коммивояжеры отрезают от сыра ломти».
Сам он довольствовался малым, помня о своем суровом детстве и очень бедной молодости, и даже старался не покупать себе новой одежды. А если появлялась возможность потратить деньги, то всегда старался порадовать жену и детей.
* * *
Постепенно Гамсун отходил от общественной жизни, что очень задевало норвежцев, которые видели в нем своего национального героя.
С 1920-х годов писателя обвиняли в человеконенавистничестве.
Началом кампании стала история с судом против брата и племянника за свое имя, о которой мы рассказали выше.
Не меньшее раздражение вызывало и затворничество в Нёрхольме.
Поскольку туристов и просто желающих прийти в гости к нобелевскому лауреату и кумиру Норвегии было очень много, то усадьбу огородили забором, а затем и высокой чугунной оградой, эскиз которой Гамсун сделал сам. В заборе были четыре калитки и ворота. Их постоянно держали на запоре, однако покой семьи очень часто нарушался назойливыми посетителями.
«Большие ворота, ведущие от дороги прямо в сад, всегда были заперты, — писала Мария Гамсун. — Их смастерил старый кузнец из Арендала: он выковал на наковальне и заострил каждый прут решетки и украсил ворота по рисунку Кнута, снабдив его большими ключами. Один ключ хозяин носил с собой в кармане, другой висел на гвозде в прихожей, общий для всех женщин в доме. Прислуга и знакомые, кроме того, могли попасть в усадьбу через дальние ворота позади дома, которые стояли открытыми.
Чужие люди — часто из-за границы, из дальних стран, — считавшие, что у них есть дело в Нёрхольме, попадали в усадьбу не дальше ворот.
Эти запертые ворота, что могли они означать, как не желание избегать людей, как презрение к людям?
Тот, кто был знаком с ним, лучше понимал его. Нельзя же в самом деле повесить на воротах плакат с надписью: „Извините, но здесь живет человек, который всех прощает, потому что он всех понимает, но у него больше не осталось сил взять вас за руку!“».[155]
Но простых граждан не занимали интересы писателя, предметом любопытства являлась его личная жизнь, а потому недовольных установленным забором было много.
Не меньше пересудов и домыслов вызвал и суд с бывшими хозяевами усадьбы.
Гамсун, хотя и купил Нёрхольм у Лонгума, помогал бывшей хозяйке усадьбы Анне Петерсен. У нее в Гримстаде жили дети писателя, когда они пошли в школу, и было далеко каждый день возвращаться домой. Гамсун дал денег сыну Анны, Юхану Петерсену, на переезд в Америку и выступил гарантом его займа в 6 тысяч крон в банке. Все было прекрасно — до тех пор, пока Петерсены не начали называть себя Петерсен-Нёрхольм.
Усадьба была дорога Гамсуну как его родовое гнездо, он заплатил за нее большие деньги и искренне не понимал, почему бывшие владельцы, никогда не именовавшие себя Петерсены из Нёрхольма, вдруг решили поменять свое имя. Было совершенно очевидно, что налицо «примазывание» к славе нобелевского лауреата.
Судебный процесс тянулся долго и утомительно, занял несколько лет (1931–1934), потребовал вложения многих средств, но для Гамсуна победа в нем была не только делом принципа, но и вопросом чести, вопросом сохранения памятника культуры.
Он писал Сигрид Стрей, своему адвокату:
«Для меня важно возродить усадьбу, имеющую историческое значение.
…Когда я жил в Хамарёе, я купил там старую пасторскую усадьбу, но земли при ней не было.
Мне предлагали купить в Нурланне красивейший деревянный дом, но на аукционе я проиграл, и дом достался другому человеку. Подумать только, деревянный дом, выстроенный в стиле ампир, раскатали на бревна и перевезли в Намдален, а там поставили на уже готовый первый этаж из цемента! Настоящий вандализм, но и этого мало! Как только дом собрали, налетел ураган, и дом просто развалился!
…Я уже много лет спасаю старые дома и вещи, я пытаюсь, по мере сил и возможностей, помогать государственному антиквару Николайсену, и я пожизненный член Общества охраны памятников культуры».
На суде подчеркивалось, что Нёрхольм стал неразрывно связан с именем Гамсуна, как Аулестад — с именем Бьёрнсона, а Морбакка — с именем Сельмы Лагерлёф.
Однажды фру Стрей предложила писателю заключить мировое соглашение, чтобы избежать лишней шумихи и затрат. Гамсун пришел в неистовство, но он слишком уважал своего адвоката, чтобы сделать ей выговор.
Поэтому Мария Гамсун позвонила Сигрид Стрей и спросила, не сможет ли она срочно встретиться с Гамсуном. Госпожа адвокат была приглашена в ратушу на бал к мэру Осло и попросила перенести встречу. Нет, ее клиент настаивал на встрече именно в этот вечер. Ну, хорошо, тогда Сигрид Стрей возьмет с собой бальное платье в контору и там переоденется перед балом, а в сэкономленное время сможет принять писателя.
В оговоренное время Гамсун прибыл на встречу. Он говорил обо всем на свете, в том числе и о предстоящем бале, просидел полчаса, встал и перед прощанием, наконец, сказал, зачем собственно приехал в столицу: «Никогда больше, госпожа Стрей, не предлагайте мне заключать мировых соглашений!»
Гамсун, а вернее, Сигрид Стрей, процесс выиграл, но многие обыватели, не понимавшие, что собственное имя и имение значили для писателя, его за судебные иски к братьям и семье Петерсенов осудили.[156]
Эти простые, казалось бы, вещи, на которые и обращать внимание не стоило бы, сыграли в свое время роковую роль в жизни Гамсуна.
Мизантропом его объявили и журналисты. Дело в том, что у писателя был крайне неприятный опыт общения с одним из худших представителей этой профессии. Анкер Киркебю буквально подкараулил Гамсуна в Ларвике и стал приставать к нему с провокационными вопросами типа: «Вы незаконный сын Бьёрнсона?» Он некоторое время преследовал Гамсуна, а потом, не завизировав у него интервью, опубликовал статью в «Политиккен». Сам Гамсун писал главному редактору газеты, что журналист «проник к нему под вымышленным именем и предлогом, состряпал гнусное интервью и опубликовал его, не спросив разрешения».
После этого «желтого» журналиста писатель категорически отказывался общаться с пишущей братией, чем только подогревал интерес к собственной персоне — и поток состряпанных материалов в прессе не прекращался.
Конечно, Гамсун не жил в полной изоляции. Он выезжал по делам и принимал дома друзей, любил сыграть с ними партию в покер, но он не хотел быть публичным человеком — и имел на это полное право, вот только норвежский народ думал иначе…
Кроме того, всем, по меткому выражению самого писателя, «все еще мерещилась Нобелевская премия», и в Нёрхольм шли сотни писем с просьбами о помощи.
Гамсун очень многим помогал. Его адвокат Сигрид Стрей писала, что к 1932 году он раздал на благотворительные нужды больше 200 тысяч крон, причем по большей части делал свои пожертвования анонимно и очень часто ничего не говорил о переданных на благое дело деньгах своей семье.
Однако люди были мало благодарны писателю и всегда старались сунуть нос в его дела и, не в последнюю очередь, посчитать деньги в его кармане.
Так, в местной газете «Агдерпостен» регулярно печатались отчеты о колоссальных суммах налогов, которые честно выплачивал Гамсун. Заглядывание в собственный кошелек чужих людей не могло понравиться никому, поэтому писатель вновь обратился за помощью к Сигрид Стрей и попросил выяснить источник утечки информации.
Оказалось, что сведения в газету передавали местные власти, что то время было не запрещено законом, а тираж «Агдерпостен» с опубликованной «налоговой декларацией» Гамсуна всегда был заоблачным. Фру Стрей после долгих переговоров и консультаций с государственными чиновниками удалось договориться о сохранении финансовой тайны писателя, однако читатели лишились увлекательнейшего повода для сплетен и перемывания косточек Гамсуна и его домочадцев.
Словом, жизнь семьи постоянно отравляли мелкие неприятности. А впереди Гамсунов ждало серьезное испытание…
Глава девятнадцатая А ЖИЗНЬ ИДЕТ…
После выпущенной в 1923 году «Последней главы» Гамсуну все труднее и труднее становилось писать. Он пробовал уезжать из дома, надеясь в полной изоляции от семьи и хозяйства, как и раньше, найти вдохновение. Но ничего не получалось. И, кроме того, у него возникли серьезные проблемы общения с людьми: он никого не хотел видеть, кроме своего ближайшего окружения.
Тогда Гамсун решает пройти курс психоанализа и зимой 1926 года отправляется в Осло, где живет почти полгода.
Вера Гамсуна в иррациональные силы и мистику была воистину поразительна. Она нашла отражение во многих его произведениях и прежде всего в «Мистериях». Когда его маленькая дочь Виктория заболела, то Гамсун почти все время держал ее на руках, прижимая к груди, а потом утверждал, что дочь спасло тепло его тела.
4 января 1926 года писатель становится одним из первых норвежцев, подвергших себя полному курсу психоанализа, в который он очень верил.
Врачом Гамсуна стал Йоханнес Йоргенс Стрёмм. Он был сыном священника и медицину начал изучать в 1880-е годы. Когда ему попалась статья Фрейда, он тут же решил посвятить свою жизнь новому учению о сознании и подсознательном. В 1913 году он работал в Германии, проходил там своеобразную «практику», а в 1914 году вернулся домой в Норвегию и написал книгу «Неврастения». Один экземпляр своего труда он послал в подарок Гамсуну. Писателю книга настолько понравилась, что он решил пройти курс лечения у Стрёмма, тем более что всю свою жизнь он серьезно страдал, по его же собственному выражению, от «расстройства нервов».
Не менее сильным стимулом к лечению была и надежда, что «забьет родник вдохновения, как в молодости», и Гамсун вновь станет писать с той же одержимостью (но никак не легкостью, которая никогда не была признаком его письма), что и в былые годы.
Гамсун жил в Осло, а Мария с детьми осталась в Нёрхольме присматривать за хозяйством. К психоанализу она относилась с большим недоверием.
6 января Гамсун писал Марии:
«Я был на приеме у доктора уже три раза. Надо сказать, довольно странное это лечение. Оно состоит в том, что я должен вспомнить свои последние сны и рассказать о них доктору, а он уже „анализирует“ их. Он доволен мной, даже говорит, что у нас будет хороший результат. Он предостерегает меня от скептицизма и говорит, что вынужден просить, чтобы я задержался не менее чем на три недели».
Задержаться пришлось на полгода. Постепенно писатель стал замечать улучшения в своем состоянии. Он больше не боялся людей, не «шарахался» в сторону от незнакомцев и стал намного спокойнее.
Он даже поверил, что «источник» наконец забьет, и с радостью писал об этом домой.
Конечно, Гамсун не только лечился в Осло, но и развлекался. Он, например, ходил на антикварные аукционы и с ужасом писал Марии, как дорога нынче старинная мебель — «а ведь она даже не в стиле ампир».
В это время он пристрастился к кино и с особенным удовольствием смотрел комедии и приключенческие фильмы.
Но постепенно развлечения, как и само лечение, стали надоедать Гамсуну и он в конце апреля 1927 года пишет Марии:
«Дорогая моя Мария!
Я получаю от тебя такие теплые, нежные и сердечные письма, что не знаю, как и благодарить тебя. И в свое время я постараюсь отплатить тебе добром за добро. Чувствую я себя довольно странно: хожу к доктору и пытаюсь восстановить свои способности к работе. А ведь больше всего на свете мне хотелось бы вернуться домой и работать в моем „домике“ на окраине усадьбы и писать хорошие книги, за которые бы мне платили громадные гонорары — они бы пошли на нас всех. Я сижу тут уже несколько месяцев, трачу свое время и деньги впустую. „Все будет хорошо!“ — говорит доктор. Он совершенно в этом не сомневается. Если бы он хоть раз усомнился, то и я бы потерял надежду, но он абсолютно уверен в результате. А пока жизнь печальна и мало меня радует».
Однако определенные успехи Гамсун замечал и сам. Так, впервые за пятнадцать лет он смог отправиться в театр и посмотреть пьесу Дж. Голсуорси «Джентльмены», а потом написал об этом Марии. Нет ничего удивительного в том, что фру Гамсун возмутилась. Мало того, что она была не менее ревнива, чем ее муж, так она еще и очень скучала по светской жизни и театральным подмосткам, с которых писатель буквально «уволок» ее силой.
Чувствующий свою вину Гамсун пишет 13 июня:
«Я решил, что я больше не буду продолжать лечение и скоро приеду домой, хочу только постепенно подготовить к этому доктора… Я приеду домой не позже чем через четырнадцать дней, если не раньше.
Наверное, с моей стороны было глупо предложить Туре приехать ко мне, если ты уже успела сказать ему об этом. Но объясни ему, что я закончил лечение раньше, чем предполагал. А теперь то, что касается тебя самой. Может, ты, наконец, возьмешь себя в руки и повеселеешь — и с радостью встретишь меня не только по приезде, но и останешься в хорошем настроении и после, тогда я действительно смогу работать. Боже мой, я жил тут все это время ради нашего благополучия, и ты должна это признать. В мире так много жен, которые должны не покладая рук трудиться на благо семьи, лишь бы избежать нищеты и голода, а ведь ты избавлена от этого ужаса, поэтому, мне кажется, ты могла бы смеяться и танцевать дни напролет, а не ходить в расстроенных чувствах и не расстраивать меня. И что, во имя всего святого, так расстраивает тебя? Что я подчинил тебя, что ты больше не скитаешься по меблированным комнатам? Я-то ведь вижу, как живут хорошенькие актрисульки, так что тебе не о чем жалеть! Они с каждым годом вынуждены накладывать все больше и больше грима на лицо, чтобы замазать морщинки, они пьют, чтобы поднять настроение, половина актерской братии — лесбиянки, вторая половина — гомосексуалисты, и при этом все ходят в одежде, за которую еще не расплатились. Конечно, мы в Нёрхольме живем изолированно, и это плохо для нас обоих. Я думаю, нам надо нанять прислугу, горничную, так что тебе не придется больше надрываться, если кто-то приедет к нам в гости, на это у нас найдутся деньги, но только в том случае, если и у тебя, и у меня будет хорошее настроение и я смогу работать».
18 июня Гамсун уехал домой.
У Стрёмма остались записи сеансов психоанализа писателя, которые в 1978 году были переданы в издательство «Гюльдендаль» для расшифровки и возможной публикации. Но стенографические записи врача разгадать не удалось. Сам же Стрёмм говорил в 1958 году, что в основном лечение касалось чувства безумной ревности Гамсуна к Марии, поэтому записи было решено не публиковать еще и по этическим соображениям.
* * *
Лечение, надо сказать, принесло свои плоды. Сразу после возвращения в Нёрхольм Гамсун начинает работать над «Бродягами» (другой вариант русского названия — «Скитальцы»), первой частью трилогии об Августе.
Еще раз попытался Гамсун уловить облик того, что меняет историю и зовется прогрессом. Воплощением нового становится главный герой трилогии «Бродяги» (1927), «Август» (1930) и «А жизнь идет…» (1933)[157] предприимчивый Август — мастер на все руки и бродяга.
Хотя Гамсун вновь возвращается к теме социальной отверженности, бессилие Августа на этот раз носит уже необратимый характер.
Критики писали, что довольно сложно определить жанр этих произведений, настолько переплелись в них черты романов реалистического, символистического и философскоплутовского.
«Для повидавшего свет Августа обыденное существование кажется невыносимым: в бедных деревнях люди жили как в дремоте, — все, что зарабатывали, проедали; дети учились только тому, что знали их родители, — и так проходили дни и вся жизнь, — пишет Б. Сучков. — Это инертное существование Август расшатывает, увлекая людей своей безудержной фантазией, гомерическим враньем, посулами, иногда дельными советами, но часто и совершенно непрактичными… В конечном итоге беды навлек Август, его безудержное стремление идти в ногу с цивилизацией.
Вообще все, кого увлекают россказни Августа, так или иначе за это платятся. Его друг Эдвард Андреассен, вовлеченный Августом в бродяжничество, нигде не может пустить корни. Проведя долгие годы в Америке, он, сильный человек, возвращается домой надломленным, потеряв энергию и интерес к жизни. Его жена Ловиса-Магрете, жизнерадостное создание, с успехом боровшееся за существование на собственном маленьком хуторе, после пребывания за океаном превращается в рассеянную, не находящую себе покоя и места женщину, стремящуюся обратно, к призрачной жизни больших городов.
Лишь те люди, кто не гнался за миражами, а прочно держался за родную почву, — крестьянин Эзра, не расстающийся со своим наделом, Паулина — владелица поленской лавки, честное, прямолинейное существо, ее брат, староста Иоаким, — выдерживают превратности времени и, не гонясь за многим, постепенно улучшают жизнь. Иной раз они выступают против Августа, иной раз в союзе с ним, ибо образ Августа многомерен. Раздумывая над его сутью, староста Иоаким изрекает несколько загадочно, что Август есть „…символ, что значит образ или пароль“».
Хотя наиболее сильной является первая часть трилогии, а последняя — самая слабая, все три романа имели оглушительный успех. С 1927 по 1933 год трилогия издавалась множество раз, а романы были проданы тиражами соответственно в 30 тысяч, 25 тысяч и 27 500 экземпляров.
* * *
Поскольку завершить работу над первой половиной «Бродяг» Гамсуну удалось уже к концу лета, он смог уговорить и Марию пройти курс психоанализа у Стрёмма. Напомним, что от безумной ревности жена Гамсуна страдала не меньше самого писателя.
Осенью 1926 года семья переезжает в Осло и снимает там виллу. Мария ходит на сеансы к врачу, которому нисколько не верит, и считает его методы смехотворными, но противиться мужу она не смеет, потому что Гамсуну хорошо работается в это время, а для нее хорошее настроение мужа было очень важно.
3 января 1927 года Гамсун начинает повторный курс лечения у Стрёмма и, по приказу врача, снимает отдельную квартиру для себя неподалеку от «семейной» виллы. С Марией он изредка встречается на ступеньках крыльца кабинета Стрёмма, но разговаривать им запрещено, поэтому они лишь улыбаются друг другу.
Возможность работать была так важна не только для Гамсуна, но и для Марии потому, что материальное положение писателя было не таким уж прочным.
Часть денег он потерял сразу после Первой мировой войны, когда многие банки разорились. Кроме того, в 1924 году Гамсун купил 200 акций норвежского отделения датского издательства «Гюльдендаль», которое с 1902 года было его постоянным издательством. Всего было 1200 акций, и их купили люди, имеющие отношение к литературе.
Сначала положение норвежского издательства выглядело весьма плачевным: акционеры задолжали много денег датчанам, у которых и купили филиал, и только благодаря невероятному коммерческому успеху трилогии Гамсуна норвежский «Гюльдендаль» и его директор и друг писателя Харальд Григ смогли выплатить датскому «Гюльдендалю» долг.
Издательство было обязано Гамсуну самим своим существованием. Когда же в 1931 году писатель решил продать «Гюльдендалю» все права на свои написанные книги, он получил за них 200 тысяч крон, которые были выплачены немедленно. Гамсун решил все свои денежные проблемы, но в свойственной ему манере тут же потратил большую их часть на благотворительность: 25 тысяч крон перечислил на счет Союза художников Норвегии, 25 тысяч крон — на счет Союза писателей Норвегии и еще 50 тысяч крон пожертвовал двум детским домам.
В 1933 году он решил выкупить свои права обратно, поскольку, как он заявил Григу при встрече, ему не нравилось «чувство, что он сам себе не хозяин». Григ согласился на сделку. Но в 1938 году Гамсун вновь решает продать права издательству, и тут уж Григ был вынужден ответить отказом: слишком нестабильна стала экономическая ситуация в мире.
* * *
Денежный вопрос всегда волновал Гамсуна — но не «корысти ради», а в интересах семьи и детей.
Дети от второго брака всегда жили с ним и в полной мере пользовались деньгами отца. А вот с Викторией, дочерью от Бергльот Бек, дело обстояло иначе.
В 1920 году Гамсун, как мы помним, послал ее учиться во Францию и при этом не скрывал, что у него есть свои планы на ее будущее.
Виктория поехала во Францию и вышла там замуж за англичанина, уехала в Англию, но вскоре вернулась обратно. Молодые супруги Чарльстон купили себе небольшую усадьбу во Франции и занялись земледелием, точно так же, как и сам Гамсун, и это было то, что он советовал делать другим, — но только не дочери Виктории, которая должна была стать светской дамой и выйти замуж за американского миллионера.
«Мне хотелось для тебя чего-нибудь другого, а не того, что случилось, — в столь юном возрасте оказаться на задрипанном хуторе во Франции. Ты должна была увидеть мир, ты создана для большого чувства, я известен, и у меня есть знакомые в четырех странах мира».
К тому времени Гамсун уже был вторично женат, и у него не оставалось времени заниматься дочерью от первого брака. Тогда Виктория нашла замену отцу — его старого приятеля консула Огорда, который с течением временем стал ее мудрым советчиком и воспитателем.
Тем не менее отец никогда не забывал о дочери. Получив Нобелевскую премию, он предложил Виктории поехать вместе с ним в Стокгольм и обещал выплатить ей часть премии. Но Виктория отказалась.
Осенью 1927 года Гамсун стал чувствовать себя старым и ненужным, а потому решил выплатить Виктории единовременную компенсацию отцовского наследства.
Поскольку Гамсун сохранил прекрасные отношения с первой женой и, кроме того, регулярно выплачивал ей хорошее денежное содержание, он обратился с предложением о выплате наследства к Бергльот. Однако Гамсун оставался самим собой и в письме к бывшей жене не мог не «проехаться» по поводу зятя-англичанина, которого терпеть не мог: «Конечно, Виктория может посоветоваться по поводу наследства со своим мужем, хотя оно совершенно не имеет к нему никакого отношения, это ее личные деньги, и будет лучше всего, если они так и останутся ее деньгами и будут находиться на ее счету в норвежском банке».
Старшая дочь Гамсуна обратилась за консультацией к консулу, который посоветовал ей подождать, ибо, по его мнению, со временем авторские права ее отца будут только увеличиваться в цене, как и его капитал. Именно так и ответила Виктория — в очень вежливой форме — отцу в письме.
Гамсун пришел в ярость, поскольку действительно предлагал дочери очень хорошие условия, написал довольно резкое письмо Бергльот, а в заключение прибавил:
«Кроме того, Виктория не получала гарантий от Бога, что будет жить дольше меня, и в случае ее ранней смерти она вообще ничего не получит, если только я умру позже нее».
Тем не менее в 1930 году он вновь вернулся к вопросу о выплате наследства, поскольку ложился на операцию в больницу и хотел обеспечить деньгами свою старшую дочь. Вероятно, отношения с Марией начали портиться уже в то время, поскольку Гамсун стремился во что бы то ни стало решить вопрос при жизни.
Виктория пошла навстречу желанию отца и попросила, чтобы его и ее адвокаты обсудили условия выплаты единовременной компенсации. Адвокаты произвели подсчет, и получилось, что доля наследства Виктории 28 тысяч крон. Гамсун посчитал такую сумму очень маленькой и сказал, что сам он рассчитывал выплатить дочери около 50 тысяч. В результате сумма выплаты была установлена в 45 тысяч.
Но тут Виктория подняла вопрос о наследстве авторских прав отца. Гамсун вновь страшно разозлился на этот раз, надо сказать, не без оснований: мало того, что он увеличил по собственному почину сумму наследства почти вдвое, так дочь смеет еще и выставлять новые условия.
В результате нового раунда переговоров адвокат старшей дочери писателя запросил 100 тысяч крон. Но это было совершенно очевидным ущемлением прав младших детей, и Мария Гамсун выступила резко против. С тех пор Виктория рассматривала вторую жену отца как своего врага.
После консультаций с мужем Виктория решила отказаться от единовременной выплаты наследства и получить его «в свое время и в установленном законом порядке». Но уже в 1931 году она пишет отцу:
«Дорогой папа.
Я очень жалею, что не послушалась своего внутреннего голоса, который советовал мне сразу после возвращения во Францию написать тебе и попросить прощения за все, что произошло, что я не приняла твоего предложения. Сейчас я оказалась в очень тяжелой ситуации.
…Не знаю, как ты отнесешься к моему письму, но если ты готов все еще выплатить мне 50 000 крон, то я с радостью приму эти деньги…
Твоя Виктория».
Но 50 тысяч у Гамсуна в распоряжении больше не было: часть он потратил, а часть съела инфляция. Поэтому Виктории теперь полагалось 40 253 кроны, которые вскоре и были ей выплачены.
Однако отношения между отцом и дочерью были безнадежно испорчены и возобновились лишь через двенадцать лет.
Тем не менее эта история показывает, насколько хорошим и чувствующим ответственность за своих детей отцом был Гамсун, если даже после нанесенного Викторией оскорбления он по собственной воле счел необходимым обеспечить безбедное существование ее самой и ее семьи.
* * *
В 1929 году вся Норвегия праздновала семидесятипятилетие своего кумира.
Гамсун с ужасом ждал приближения своего дня рождения. Выглядел он по-прежнему прекрасно и внимательно следил за здоровьем. Мария Гамсун вспоминала:
«Кнут вел со старостью целенаправленную борьбу. Ему было 75 лет, так что предстоял, так сказать, ближний бой.
Он хотел написать еще одну книгу, одну-единственную, чего бы ему это ни стоило.
У него было отличное здоровье, если не считать глухоты. Но внешне ничего не было заметно, так как он категорически отказался носить предложенный ему слуховой аппарат. Он был статный и красивый, мужчина без малейшего изъяна. Любая атака на все эти достоинства мгновенно останавливалась. Даже крохотные поползновения мы успешно прекращали, всякий раз устраивая трехдневный постельный режим. Он всегда был необычайно неприхотлив в еде. Только все самое простое, естественное, то, с чем „мы с тобой родились“, появлялось на нашем столе в обычные дни; никаких изысков и излишеств, только сельдь, рыба, мясо, каша, молочный суп. Не говоря уже о настоящем отварном картофеле.
Теперь перед моим изумленным взором представали принесенные им поваренные книги апостолов здорового образа жизни обоих полов, и мы должны были тереть на терке, резать, давить сок из трав, фруктов и овощей. А однажды он вдруг решил принять солнечные ванны на опушке леса; пролежав после этого положенные три дня, он больше никогда в жизни не загорал.
В день семидесятипятилетия к нему приехал фотограф, чтобы сделать снимки. А когда я сидела с готовой фотографией в руке и собиралась уже положить ее в конверт, чтобы послать в одну из стран, одной из его поклонниц, — он выхватил снимок и сказал: „Думаешь, кто-то купит мои книги, когда увидит, как я выгляжу! Я пошлю даме фотографию, где я в более молодом возрасте“.
— Ты ухмыляешься! — воскликнул он.
— Я?
— Да, во всяком случае, ты дернула губами!
Но он вышел из этой борьбы победителем, без особого ущерба для себя».[158]
Накануне дня рождения Гамсун с Марией и Туре на своем семиместном «кадиллаке» отправились из Нёрхольма на юг Норвегии. Туре Гамсун с улыбкой вспоминал, что его отец не хотел ехать на собственной машине, потому что боялся журналистов, которые могли опознать авто по номерам, и даже собирался, как истинный любитель детективов, сбрить усы.
На несколько дней семья остановилась в гостинице в маленьком городке Флеккефьорде, где и переждала «опасный» день. Правда, журналистам все же удалось установить местонахождение юбиляра, но вот интервью от него никто из них так и не получил.
С юбилеем писателя поздравили практически все государственные и общественные организации Норвегии, в Нёрхольм пришли горы поздравительных телеграмм и писем от частных лиц, в том числе от Генриха Манна, Герхарда Гауптмана, Томаса Манна, Стефана Цвейга, Андре Жида и многих других знаменитостей со всего мира. Гамсуну было приятно внимание, но он с удовольствием отказался бы от него.
В связи с семидесятипятилетием писателю было предложено стать почетным членом многих организаций и обществ. Некоторые почести он согласился принять, некоторые — отверг. Так, он отказался от Серебряного креста Союза писателей Норвегии, за что его тут же обвинили в надменности.
* * *
Жизнь в Нёрхольме шла своим чередом. Хозяйственными работами в усадьбе руководили двое датчан, да и сам Гамсун всегда следил за любимым детищем.
В 1927 году Гамсун написал в Вальдрес своему старому другу Эрику Фрюденлюнду и спросил, не может ли он взять к себе на воспитание старшего сына Туре. Писатель считал, что Туре нуждается в «целительном воздухе Эурдала».
Туре Гамсун вспоминал: «Отец твердо верил в целебные свойства воздуха, солнца и пищи в Эурдале и в своего верного эурдальского друга. Там к нему самому когда-то вернулись силы, там он прожил свои самые светлые годы. То же самое можно сказать и про меня.
…В течение трех лет Эурдал был своего рода центром, где собиралась вся наша семья. После Рождества, уже в новом году, туда приехал мой брат и тоже начал учиться в местной школе, время от времени проведать нас приезжала и мать с сестрами».[159]
Нельзя сказать, чтобы Марии нравилось, что постепенно, быть может, и с лучшими намерениями, одного за другим Кнут отсылает из дома детей.
На склоне лет она с явным неодобрением писала:
«Так как мы редко видели обеих наших дочерей и были ограничены в передвижении, я изобретала немыслимые вещи. Я была столь находчивой ради них, а может, ради себя самой.
Обе они начали путешествовать в четырнадцатилетнем возрасте. Им надо было получить образование. Поэтому он забрал их из средней школы в Гримстаде и отправил сперва в Германию, затем во Францию.[160]
Тогда у меня было чувство, — сегодня не знаю, как оно конкретно проявлялось, — что они занимают слишком много его драгоценного времени, отрывают его от последних крупных романов, которые он писал в Нёрхольме. Он часто повторял, торопливо и лихорадочно: „Мое время не бесконечно, Мария!“ А они были маленькими, очаровательными девочками, в которых уже проглядывала женщина, с чудесным характером и смышленым взглядом. Ему не нравилось, что я была целиком поглощена ими. Может, в нем снова вспыхнула ревность, как в первые годы нашей любви?
Я все время хотела оставаться для них мамой, после того как меня так рано лишили этой роли. Кнут часто выговаривал мне за это. Нельзя носиться со взрослыми детьми, эта привычка перейдет потом на внуков!
Но я внушала себе, что обе дочери иногда нуждаются в моем присутствии. На самом деле это было моей потребностью — быть вместе с ними».[161]
Отношения в семье потихоньку накалялись,[162] но пока все еще более или менее нормально.
1930 год был неудачным для семьи Гамсунов. Сначала прооперировали отца семейства, а весной два месяца провела в постели Мария.
Летом же заболела любимая дочь Гамсуна Эллинор, которая своим упрямым и вспыльчивым характером, непредсказуемостью и чувствительностью очень походила на отца.
;Находясь в Германии, Эллинор заболела анорексией, и Гамсун решил послать ее на лечение все в тот же Вальдрес к Эрику Фрюденлюнду.
Вскоре заболел менингитом Туре… После его выздоровления Кнут, Мария и их старший сын вместе со своим учителем Трюгве Тветросом в 1931 году отправились на Французскую Ривьеру.
* * *
Сначала они поехали на поезде через Швецию, Данию в Германию.
По воспоминаниям Туре, когда они приехали в Берлин, то оказались в центре внимания.
«Преданность немцев Гамсуну, — писал он, — выражалась весьма необузданно: цветы, письма, журналисты шли нескончаемым потоком. Три дня отец просидел в своем номере в „Централ-отеле“, осаждаемый легкими пехотинцами прессы с камерами наготове. Мы с матерью по очереди спускались в вестибюль и объясняли им, что отец никогда не дает интервью… В конце концов осада была снята.
…Потом мы поехали на поезде на юг Германии.
…На Миланском вокзале мы пошли в ресторан. Отец сразу же, невозмутимо, как всегда, начал изучать всевозможные мелочи, на которые ни я, ни мать, и вообще ни один человек никогда не обращает внимания. Водрузив на нос очки, он принялся исправлять погнувшуюся вилку, проверил на глаз, не изогнут ли нож и края ложки. Но больше всего его интересовало, что же написано на столовых приборах…»[163]
То путешествие запомнилось Туре разными мелочами: например, на франко-итальянской границе Гамсун умудрился поссориться с французскими таможенниками. Все дело в том, что он вез с собой из Норвегии табак для трубки, а таможенник потребовал заплатить за две жестянки пошлину в двадцать франков. Гамсун так возмутился несправедливостью требования (ведь он провез банки с табаком через несколько границ), что на глазах чиновника попытался в бешенстве выкинуть их за окно. Таможенник оказался проворнее, выхватил злополучные жестянки из рук писателя и бросился за подмогой. Когда в купе вернулись трое таможенников, которые явно собирались арестовать строптивого пассажира, только дипломатические способности Туре помогли спасти ситуацию. Однако его отец остался недоволен и всё продолжал бурчать по дороге в Ниццу: «Посмел бы он меня арестовать!»
А в отеле в Ницце он решил сам нести свой чемодан в номер и страшно разозлился, увидев, что рассыльный уже сделал это. Во все время пребывания в отеле он не давал служащим чаевых, поскольку привык делать это, когда покидал гостиницу. За такую скаредность семью Гамсуна в отеле невзлюбили. Но, как известно, чем-чем, но жадностью писатель никогда не страдал, а потому громадные чаевые, оставленные в последний день, сделал отъезд Гамсунов из гостиницы похожим на выезд королевской семьи: служащие провожали их до машины с глубокими поклонами.
Словом, может, Гамсун и обладал не самым легким характером на свете, но скучно с ним никогда и никому не было.
Кнут и Мария еще какое-то время пробыли во Франции, а потом вернулись домой, а вот Туре с учителем остались там еще на два месяца.
* * *
По возвращении домой Гамсун занялся своими рутинными делами: как один из главных акционеров «Гюльдендаля» принимал участие в обсуждении планов издательства, продолжал следить за хозяйством в Нёрхольме и писал.
В 1933 году вышла последняя часть трилогии об Августе — «А жизнь идет».
«В 1933 году, согласно христианскому летоисчислению, Кнут выпустил Августа Бродягу идти над пропастью со стадом овец, — писала Мария Гамсун. — После Августа у нас воцарилась страшная пустота. Десять лет он и ему подобные населяли мир, в котором Кнут был творцом и хранителем, отцом и другом. Мне тоже не хватало этого героя, особенно потому, что последняя книга об Августе писалась по другую сторону тощей перегородки между моей комнатой и комнатой Кнута. Невозможно было не познакомиться с героями книги, коль скоро все совершалось так громко.
Всегда бывало так, что законченная книга становилась абсолютно законченной. Он никогда больше не отыскивал ее, не искал ту страницу, где, может быть, высказывались вещи, заслуживающие внимания. Он никогда больше не открывал ее.
Но случалось, что он просил об этом меня. Чтобы проверить, не использовал ли он раньше то или иное выражение. Мы, старики, говаривал он, склонны заново пересказывать одни и те же байки. Я ни разу не уличила его в этом.
…После каждой книги, как и теперь, после трилогии об Августе, самым важным было освободиться от нее. И тогда его другой мир — дом и семья — на протяжении многих лет делались для него спасением. В эти периоды он по-прежнему много читал — и книги, и газеты. Сам писал в газеты. Многие пытались поймать его на удочку, и иногда бывало, что он жадно заглатывал крючок. Его мнение никогда не было мнением большинства, нет, он чаще всего оставался одиноким. Особенное заключалось в том, что он, казалось, был доволен этим. Думаю, что его встревожила бы роль представителя большинства».
* * *
Весной 1934 года писатель отправляется во Францию навестить Эллинор и Арильда, а летние месяцы проводит в Лиллесанде и Кристиансанде.
В этом же году институт Гёте присудил ему свою премию, которую Гамсун принял, но полагающиеся 10 тысяч немецких марок передал в фонд помощи немецким рабочим.
В 1935 году он вновь приезжает во Францию и Германию, навещает детей и работает там над своим новым романом «Круг замкнулся».
Супруги в это время видятся всё реже и реже, хотя оба и живут в Нёрхольме, просто, когда один находился дома, другой старался из усадьбы уехать.
В своем комментарии к собранию писем Гамсуна, которые так и называются «Письма к Марии» и где последнее письмо датируется 1938 годом, Туре Гамсун пишет:
«Постепенно между письмами от него к ней наступали всё большие и большие паузы. Причиной было то, что он, уже очень пожилой человек, чрезвычайно редко выезжал из своего дома, и в таких поездках она почти всегда сопровождала его. Он уже больше не вынашивал планов новых книг. И ему больше не было нужды уединяться в убогой комнате вдали от дома, чтобы обрести покой».
Однако, если учесть, что в пятом томе переписки Гамсуна содержатся 60 писем, адресованных ей, а в томе шестом — их всего лишь 16, супруги же часто разлучались, то правда, скорее всего, заключается в том, что отношения между ними постепенно разлаживались.
«В доме не чувствовалось семейной атмосферы, — писала Сигрид Стрей, — и создавалось впечатление, что существовало некоторое противостояние, в котором Гамсун выступал против детей и их матери».
Она вспоминала: «Гамсун много говорил о детях и их воспитании, когда мы оставались вдвоем. Он и Мария никак не могли прийти к согласию. Детям была дана слишком большая воля… Я посоветовала ему отправить Арильда, который к тому времени уже закончил гимназию, учиться на ветеринара, поскольку Гамсун рассчитывал, что именно он унаследует Нёрхольм. Такую усадьбу надо содержать, а поэтому хорошо бы иметь дополнительный доход. Но Гамсуну моя идея не понравилась. У него самого не было образования, и я поняла, что, по его мнению, не обязательно оно и для детей.
…Фру Гамсун тоже говорила со мной о детях. Она считала, что Гамсун слишком уж перегибает палку в отношении контроля за ними».
В начале 1936 года Эллинор попадает в серьезную автомобильную катастрофу в Германии, и Мария бросается на помощь дочери, а Гамсун остается присматривать за усадьбой и продолжает работать над романом. Он очень переживает из-за любимой дочери, но, когда Мария просит его приехать в Берлин, в письме сварливо интересуется у нее, как, по ее мнению, он сможет работать в Берлине. Если Эллинор захочет, он, конечно, приедет, но только пусть она попросит его об этом сама…
* * *
В 1936 году выходит последний роман Гамсуна «Круг замкнулся». Это своеобразное подведение творческих итогов писателя. Действие в романе, как и во многих других его произведениях, разворачивается в маленьком городке в Южной Норвегии, а главным героем вновь становится бродяга и философ по имени Абель.
В письме к Харальду Григу Гамсун сообщал, что этот роман действительно замыкает круг его произведений, что «последнее звено соединилось с первым», то есть «Круг замкнулся» с «Голодом». Критики указывали, что кроме слов самого автора у нас есть еще и зашифрованное в названии подтверждение этого феномена: по-норвежски последний роман называется «Ringen sluttet», где слово «конец» — slut — читается как анаграмма названия первого романа Гамсуна «Голод» — «Sult».
«Он сказал, что эта книга станет последней, — вспоминала Мария Гамсун. — Я поверила ему, и теперь он хотел, как говорим мы, крестьяне, сесть за ужин. В деревне хорошо ужинать, когда вечереет, после такого долгого дня, после изнурительного труда.
Но он так и не сел за ужин. Напротив, он решил, что дело осталось незавершенным. Судьба Абеля не была дописана, действие должно происходить в Америке, и Абель со всем покончил, имея в шелковом чулке холодный револьвер.
Знакомые бумажки с записями начали вновь накапливаться на его столе в многочисленных кучках, на которых сверху лежали камни или какая-нибудь другая тяжесть.
Дети стали взрослыми и покинули отчий дом, все и вся стремились только к тому, чтобы его не беспокоить. У него было всё. Кроме одного, самого главного, — творческой силы. Конечно же он пробовал менять положение на этой самой дыбе, ездил куда-нибудь, как прежде. Все чаще он отправлялся в Осло, оставаясь там то на короткое время, а то и надолго. Там ведь жили сыновья: Туре рисовал, а Арильд пробовал себя как журналист, и он следил за ними восторженным, но критическим взором.
Дочери, одной из которых не было еще и двадцати, тоже подолгу жили в этом городе, который Кнут научил меня опасаться — и ненавидеть. Сесилия училась в школе живописи. „Все не так! Не Вы должны писать красками, а Вас нужно писать!“ — воскликнул восхищенный ею молодой коллега. Эллинор, к большому нашему беспокойству, была больна. Никто не мог понять причину ее болезни. Никто не понял этого и до сих пор.
Все они жили очень скромно, я же, напротив, тратила деньги в Нёрхольме на содержание усадьбы.
Несколько лет я жила очень одиноко. Но в этом не было ничего непривычного. Непривычно было то, что Кнут находился в Осло».[164]
* * *
В Осло Гамсун уехал не просто так: сначала в июне 1936 года, а затем год спустя супруги серьезно поссорились. Причиной первого скандала послужило обвинение женой мужа в неверности, а причиной второго — дневник Марии, единственный ее друг, которому она на протяжении всех лет брака поверяла свои тайны и печали.
Гамсун нашел его и прочитал. Как это случилось, не так уж важно, главное, что писатель в конце жизни вдруг узнал, что его жена не просто была недовольна жизнью, а с трудом выносила ее и все время жалела об упущенных в молодости возможностях.
Марии действительно жилось нелегко: она часто оставалась одна, делала только то, что хотел муж (во всяком случае, ему казалось, что она ему подчиняется целиком и полностью). Даже обещание сходить с ней и детьми в кино чаще всего так и оставалось обещанием.
Еще в 1928 году она писала другу: «Я могу сказать Вам, что у Гамсуна нет ни одного друга, он терпеть не может писать письма друзьям, все люди ему совершенно безразличны. Может, это и покажется Вам ложью, но Гамсун именно таков… Его работа — его единственный друг, его единственная любовь. Ни на кого больше он не обращает внимания».
Письмо это, совершенно очевидно, написано обиженной женщиной (мы знаем, как ценил Гамсун старых друзей и как много жертвовал денег на благие нужды), но в любой претензии, предъявляемой супругами друг другу, есть доля правды.
Гамсун действительно передал в руки Марии большую часть своей переписки и даже попросил ее научиться копировать его подпись. Во время войны эта доверчивость сыграла с ним плохую шутку…
Марию обижало невнимание к ней мужа и нежелание читать ее книги. С 1921 года Мария писала произведения для детей, которые пользовались просто бешеным успехом в Норвегии. Однако многие, в том числе, по мнению фру Гамсун, и Харальд Григ, полагали, что книги писал за нее муж. Большего оскорбления для творческого человека и представить нельзя.
Перед войной озлобленность Марии приняла болезненные формы. Психиатры считают ревность формой психического заболевания, и у нас есть основания подозревать, что фру Гамсун в этом отношении была не совсем здорова. Во всяком случае, даже в конце жизни она продолжала утверждать, что у ее 78-летнего мужа были молодые любовницы.
Несмотря на хорошую физическую форму Гамсуна, нет никаких оснований подозревать его в неверности жене — прежде всего потому, что этот человек никогда не шел на компромисс с собой и единственную измену первой жене вспоминал с омерзением.
После скандала с дневником на какое-то время супруги расстались, и фру Гамсун начала писать мужу анонимные письма, в которых упрекала его в изменах с актрисами и трате безумных денег на любовниц. Она даже припомнила некую датчанку. Остановить поток льющейся на старого человека грязи смогла адвокат Сигрид Стрей, причем в своей книге воспоминаний она пишет об этом очень тактично и не называет никаких имен.
Гамсун же, как только предоставлялась возможность, уезжал из дома путешествовать и часто даже не говорил заранее Марии о поездке. Сопровождал его Туре, ставший к тому времени художником. Так, они несколько раз ездили в Германию и Францию, а в 1938 году несколько месяцев провели в Италии и Югославии.
В это время зашла речь даже о разводе, причем разрыва отношений желали обе стороны. Но хотели ли они его по-настоящему?
Перед войной супруги помирились. Но легче им от этого не стало. Постоянные ссоры и скандалы происходили на глазах детей. Мария грозилась покончить жизнь самоубийством, а затем предприняла попытку «утихомирить» мужа: она подговорила Сесилию растолочь ее таблетки для похудения, добавить их в тесто для хлеба и предложить отцу. Серьезного вреда здоровью Гамсуна этот хлеб не нанес, но на несколько дней уложил его в постель.
Нет никакого смысла оправдывать или обвинять Марию Гамсун. Ей было тяжело с мужем и обидно, что ради него она пожертвовала всем, а он ради нее — практически ничем. Но не вызывает сомнений, что они оба, несмотря на взаимные обиды и наносимые оскорбления, по-настоящему любили друг друга.
Такая любовь-ненависть описана Гамсуном во многих его романах. Очевидно, именно так и только так он и мог любить, вот только в жизни любовь-ненависть привела его и Марию к суду и тюрьме, поскольку, если Гамсун просто сочувствовал германским националистическим идеям, то фру Гамсун стала ярым приверженцем нацизма и талантливым его пропагандистом…
Глава двадцатая ГАМСУН И НАЦИЗМ
Гамсун, как мы помним, никогда не скрывал своего доброжелательного, если не сказать восхищенного, отношения к Германии. В его взглядах ничего не изменилось и после Первой мировой войны.
В конце 1920-х годов он сказал: «…я один стоял на стороне Германии тогда и стою по сей день — ведь вся Норвегия была на другой стороне».
Гамсун всегда был приверженцем идеи сильной личности, и ему казалось, что этого сверхчеловека он нашел в лице фашистских диктаторов.
Когда Харальд Григ в 1932 году обещал познакомить его с Муссолини, Гамсун в ответ написал ему 5 ноября: «Мне бы очень хотелось выразить Муссолини свое восхищение им и искреннее уважение к нему, ведь Господь даровал нам в это смутное время настоящего мужчину».
В межвоенные годы экономика страны не особенно процветала, а в 1930 году в Норвегию пришел мировой экономический кризис. Объем промышленного производства упал на 25 процентов. Зимой 1933 года безработица охватила 35 процентов промышленных рабочих. В бедственном положении оказались и мелкие хозяева, в особенности сельские.
В это время власти практически бездействовали. Средства в помощь безработным выделялись крайне скупо, они выдавались органами местного самоуправления в виде пайков, в которые входили крупы, маргарин, патока и соленая рыба.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Гамсун, всегда не любивший парламентскую демагогию, мечтал о сильных и властных руководителях, которых он видел в Италии, Турции, Польше, Австрии и Испании. Он ждал диктатуру вождя — и это совершенно понятно: достаточно вспомнить, какое количество народа в наши дни в России с ностальгией вспоминают о Сталине, даже зная о всех творимых им ужасах. А ведь Гамсун даже и предположить не мог, как, впрочем, и многие его современники, чем обернется фашизм.
В 1932 году Гамсун выступает в поддержку Видкуна Квислинга,[165] занимавшего тогда пост министра обороны, который для усмирения бастующих рабочих отдал приказ применить силу. Гамсун написал: «Что стало с нашей страной? Насилие, беззаконие, переворот — такого не было никогда».
Он даже предположил, что все это — затеи коммунистов, которые хотят уничтожить Норвегию. Поэтому Гамсун был готов некоторые вещи замалчивать, поскольку считал их не особенно важными.
Некоторые исследователи рассматривают письмо Гамсуна Сесилии в Германию 8 февраля 1934 года как «выражение поддержки террористической деятельности режима». Вот это письмо:
«Ты сейчас живешь в великой стране и поверь, это по-настоящему великая страна. Прошу тебя, не пиши своим подругам, что кто-то кончает жизнь самоубийством в Германии, ведь они могут подумать что-нибудь плохое об этой прекрасной стране. Лучше расскажи, как Гитлер и его правительство умудряется вершить великие дела в атмосфере ненависти и вражды со стороны всего мира. Ты и я, мы все будем благодарить Германию и благословлять ее, ибо за ней будущее».
Ошибка критиков Гамсуна заключается в том, что они не верят в искренность его заблуждений. Они отметают в сторону имеющиеся многочисленные свидетельства об оказанной писателем помощи жертвам нацизма.
Сигрид Стрей, ярая антифашистка и участница норвежского Сопротивления, писала об этом в книге своих воспоминаний и утверждала, что Гамсун многим помог и что он просто не мог выносить насилие.
Туре Гамсун вспоминал, что отец был страшно расстроен, когда узнал, что Эгон Фриддель[166] покончил жизнь самоубийством, и целый день не выходил из комнаты, а потом сказал: «Зачем он это сделал: он мог бы приехать ко мне!»[167] Гамсун обращался к нацистским властям по поводу многих «неблагонадежных» и узников режима. Так, он написал письмо в канцелярию рейха в защиту друга Туре, гуманиста Макса Тау.[168]
Ситуацию со знанием или незнанием Гамсуна об ужасах нацизма усложняет и тот факт, что к концу 1930-х годов с ним стало очень тяжело общаться: писатель практически совсем оглох. При этом, будучи невероятно упрямым, он не хотел использовать слуховой аппарат, не хотел общаться с посторонними людьми и всю информацию получал от своей семьи — прежде всего Марии — и из газет.
Кроме того, важнейшим отличительным признаком нацистской идеологии являлась расовая мифология, в основе которой лежала демонизация евреев как источника мирового зла, возвышение нордической расы арийцев, потомков древних богов. О том, что идеи пангерманизма были в то время очень распространены в Скандинавии, мы уже говорили.
А вот что касается расизма Гамсуна, то его книги несколько раз подвергались тщательному анализу норвежских и американских исследователей на этот предмет. В результате этих штудий стало ясно, что ни в одном произведении Гамсуна нет и отголоска расистских мифов. Сам же писатель ответил на вопрос профессора Лангфельдта о своих нападках на евреев так: «Я нападал на евреев? Да у меня ведь полно друзей среди евреев, и я предлагаю Вам, господин директор клиники, ознакомиться с моими книгами и попытаться найти в них хоть одно слово, направленное против евреев».[169]
Мы уже говорили, что Гамсун не нуждается в извинениях или объяснениях, поэтому далее на тему отношения писателя к нацизму мы будем говорить, опираясь исключительно на факты и документальные материалы.
«Факты бесспорны, — пишет Л. Р. Лангслеттен. — Гамсун поддерживал Квислинга, был на стороне немецких оккупантов и заявлял это во всеуслышание, начиная со статьи „Бросай оружие!“ и вплоть до некролога Гитлеру в мае 1945 года. В целом за время войны он написал около пятнадцати подобных статей и призывов, часть из которых была помещена в немецких газетах. (Существует предположение, что в пропагандистских целях были сделаны без разрешения престарелого писателя разные добавления и вставки. Многие из них весьма далеки от гамсуновского стиля. Лишь это предположение может служить единственным правдоподобным объяснением их существования.)».[170]
* * *
Впервые о Гамсуне как о приверженце нацистов заговорили в 1935 году, после статьи «Осецкий»:
«Год за годом немецким властям шлют петиции, ходатайствуя об освобождении Карла Осецкого из концлагеря Ольденбург. И покуда немецкие власти оставляют их без внимания.
Год за годом в Норвежский нобелевский комитет шлют предложения присудить Осецкому премию мира. Если он получит эту премию, можно будет вырвать его из концлагеря, невзирая на сопротивление властей.
Вероятно, стоит напомнить, что г-н Осецкий вполне мог выехать из Германии как до, так и после прихода нацистов к власти. Но он не пожелал уехать. Рассчитывая, что народ встретит его арест бурным негодованием. И его расчет оправдался.
10 мая 1932 года он писал в своем журнале: „Если я сяду в тюрьму, то не из лояльности, а потому, что фактически нынешним немецким властям крайне неудобно держать меня под стражей… Как узник я стану живой уликой… Не дать этому протесту заглохнуть — мой долг перед теми, кто воспринял мое дело как свое собственное“.
Его расчет оправдался, в разных странах нашлись люди, которые восприняли его дело как свое собственное и выступили с протестом. Причем весьма рьяно.
Странный пацифист — он служит своей мирной идее, постоянно доставляя „неудобства“ властям родной страны!
И год за годом пишутся петиции по поводу того, что он „брошен в концлагерь и подвергается страшным пыткам“. И год за годом его выдвигают на премию мира.
А не лучше ли г-ну Осецкому в это тяжкое время перемен, когда весь мир мечет громы и молнии по адресу германских властей, оказать хоть малую позитивную помощь великому народу, к которому он принадлежит? Чего хочет сей пацифист? Выступить против вооружения Германии? Выходит, этот немец предпочел бы увидеть родную страну растоптанной и униженной, отданной на милость французов и англичан?»[171]
Карл фон Осецкий (1889–1938) — немецкий писатель и пацифист, поборник мира и ярый критик нацизма. Убежденный, что рост милитаризма в Германии приведет к войне, Осецкий в 1912 году был среди основоположников гамбургского отделения Германского общества мира. В 1916 году его призвали в армию. «Я узнал войну, как она есть, не по книгам, а наяву, — писал он позже. — То, что видел, подтвердило правильность моего мнения о войне и оружии. Следует повторять вновь и вновь, что в войне нет ничего героического, она несет человечеству лишь ужас и несчастье».
Осецкий всю жизнь обличал дух милитаризма и никогда не боялся выступать в открытую, что не могло понравиться завоевавшей большинство мест в рейхстаге партии Адольфа Гитлера. В 1931 году за журналистскую деятельность его судили и после закрытого заседания приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Либеральные круги организовали митинги протеста, и у Осецкого появилась возможность выехать за границу, но он отказался, заявив: «Эффективно бороться с гнилью можно только изнутри, и я не уеду».
В мае следующего года Осецкий сам пришел в тюрьму, причем к воротам ему пришлось пройти по коридору из почитателей, которые пытались его отговорить от этого решения. Осецкий провел в заключении семь месяцев и был освобожден по рождественской амнистии.
В январе 1933 года Гитлер стал канцлером Германии, вскоре был организован поджог рейхстага, в котором правящая партия обвинила своих противников, и начались бесчинства фашистов. Одним из первых арестованных «врагов народа» стал Осецкий. Он находился в заключении в концентрационном лагере, где и без того слабое состояние его здоровья значительно ухудшилось. По утверждению одного из товарищей по лагерю, Осецкий заболел туберкулезом.
Впервые Осецкого выдвинули на Нобелевскую премию в 1934 году, причем в числе выдвинувших были Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Бертран Рассел. Манн писал, что присуждение премии Осецкому было бы символическим актом восстановления справедливости. В 1935 году премия не вручалась.
Гамсун был против присуждения премии Осецкому как раз по той же причине, по которой Томас Манн считал необходимым отдать ее немецкому пацифисту: престижная премия должна была быть использована в политических целях.
В одном из писем Гамсун писал: «В Германии сейчас идет процесс преобразования. Если правительство сочло необходимым создать концентрационные лагеря, значит, у него были на то основания».
Гамсун считал, что Осецкий по собственной воле остался в Германии, что если он был недоволен новым режимом, то мог уехать из страны, не дожидаясь очередного ареста.
Статья «Осецкий» вызвала бурю гнева в Норвегии, одним из первых откликнулся известный журналист и писатель Нурдаль Григ. Статья Гамсуна дискутировалась в прессе всех европейских стран вплоть до смерти Осецкого в 1938 году от туберкулеза. Наиболее драматичным для Гамсуна было письмо протеста в одной из центральных газет Норвегии, подписанное 33 писателями, в том числе его друзьями Петером Эгге и Эйнаром Скавланом.
Премия мира Осецкому была все-таки присуждена в 1936 году и «почти парализовала германское правительство». Немецкий посол в Норвегии, где и вручается Нобелевская премия мира, заявил ноту протеста, однако министр иностранных дел северной страны ответил, что Нобелевский комитет независим и правительству не подчиняется.
Надо сказать, что позиция Гамсуна в данном вопросе не была необычной — большая часть среднего класса норвежцев придерживалась такого же мнения. Кроме того, некоторые общественные организации приняли резолюции солидарности с точкой зрения Гамсуна — например Консервативный студенческий союз.
«Кнут не являлся пацифистом в том смысле, что не надо защищать родину, — писала Мария Гамсун. — В 1905 году, когда он жил в Дрёбаке, он доложил о прибытии коменданту, полковнику Стангу, фанатично заявив о себе как о добровольце, хотя ему было 46 лет и он никогда не служил в армии. Северяне были освобождены от этого.
Но затем ружье в Норвегии стало реальностью. Случалось то одно событие, то другое, и оттого он не мог молчать, тем более что его как раз просили высказываться. Грузовик, набитый молодыми парнями, был для него чем-то вроде символа, он хотел его остановить.
До сих пор он оставался все тем же человеком, который и через поколение вызывал к себе презрение буржуазного большинства за свою абсурдную лекцию „Чти молодых!“.
В немецком языке есть слово „eingefleischt“.
У Кнута неприязнь к Англии и любовь к Германии была тоже „eingefleischt“. Первое, что он внушал мне по поводу политики, — это грубое насилие Англии и обделенность Германии. Он говорил об Англии, гневно хмуря брови: „Почему этот жалкий остров должен сидеть словно крыса на сале!“ Германию же он сравнивал с большим пышным деревом, ветви которого клонятся к земле от изобилия плодов. Жадные руки тянутся к нему со всех сторон.
Версальский договор виделся ему страшным позором. Но когда он говорил об Англии в Первой мировой войне, он всегда заводил речь о блокаде, и здесь он думал прежде всего о детях. Кажется, что у него все это вызывало такое отвращение, какого он никогда больше ни к чему не питал. Он с горечью и глубоким сочувствием упоминал о голодающих детях времен Первой мировой войны и послевоенного периода и во имя своих собственных детей посылал им материальную помощь.
В Норвегии далеко не всегда считалось ошибочным любить немцев. Юношеские годы Кнута совпали с великой эпохой пангерманизма. Большинство его знакомых на рубеже веков и позже также разделяли его взгляды. Норвежские художники — и старшее поколение, и его современники, да и более молодые — получали импульсы из Германии, в этой стране они находили поддержку и понимание, а также обретали, благодаря ей, мировую славу. Для Кнута эта любовь была, может, еще более сильной. Он всегда считал, что дело Германии — это дело всей Европы и в первую очередь дело Норвегии. Справедливо это или ошибочно, но таковым было его мнение.
В 1941 году он пишет Сесилии очень типичные строки: „…В будущем году война закончится, и настанет мир. Какое счастье видеть это! Англия будет проучена, и душа моя возликует. В Европе воцарится порядок в отношениях между странами, — Боже, какое блаженство!“
От всего сердца он желал своей стране лучшего: участвовать в установлении этого порядка».[172]
* * *
1 сентября 1939 года началась большая война.
«Гамсун неуклонно вел свою политическую шхуну прежним курсом, рулевой не менял направления, не замечая терпящих бедствие, не замечая обломков, — пишет норвежский исследователь, автор последней (новейшей) биографии Гамсуна Ингар Слеттен Коллоэн. — А ведь все больше поклонников Германии меняли свои позиции. Одним из таких был богатый землевладелец, в прошлом министр и депутат стортинга от Крестьянской партии, Юхан Э. Мельбюэ. В декабре он связался с Гамсуном и предложил ему подписать критическое обращение к Нордическому обществу по поводу развития событий в Германии. Гамсун незамедлительно ответил: „Недовольство следует адресовать вовсе не Германии. Как только Германия получит передышку на Западном фронте, она обернется в другую сторону и вышвырнет русских с Балтики и с Севера. Германия ждет. Подождем и мы. Не будем сейчас бить Германию по больному месту“.
Глядя на большую карту мира, прикрепленную к стене в Нёрхолме, Гамсун с удовлетворением следил за победоносным продвижением Германии на всех фронтах. 30 марта 1940 года он выразил от имени норвежского народа такую надежду: „Восточный медведь и западный бульдог подстерегают нас — мы меж двух огней. Поэтому многие из нас, рядовых норвежцев, надеются, что Германия защитит нас — увы, не сейчас, как мы понимаем, но когда придет время“.
Всего через неделю его молитва была услышана: гитлеровские войска напали на Норвегию».[173]
Германии требовалась Норвегия в качестве плацдарма для удара по Великобритании: германский флот, только «владея» норвежскими территориальными водами, мог эффективно действовать против английских ВМС. Кроме того, гитлеровцы боялись возможного альянса Норвегии с Англией и Францией.
Вторгшись в Норвегию, немецкие войска сразу же достигли крупных успехов. Малыми силами (около 10 тысяч человек в первом эшелоне) они захватили все крупнейшие центры страны.
9 апреля 1940 года, в день оккупации Норвегии, Квислинг учредил свое правительство, на смену которому 15 апреля пришел Административный совет, составленный из крупных бизнесменов и буржуазных чиновников.
«Официальное» же правительство Норвегии во главе с королем Хоконом VII эмигрировало в Лондон и летом 1940-го окончательно порвало с норвежскими коллаборационистами, пытавшимися «законным» путем низложить короля и заключить мирный договор с Германией.
Переговоры германских властей с буржуазными лидерами оккупированной Норвегии о создании нового правительства велись на протяжении всего лета 1940 года. Переговоры ни к чему не привели, и власть осталась в руках рейхскомиссара Тербовена,[174] назначенного еще 24 апреля, то есть в руках самих оккупантов. Квислингу же разрешили создать «норвежское» правительство и стать премьер-министром только в 1942 году, и то исключительно с целью истребления евреев.[175]
14 апреля Гамсун заявил, что Норвегия должна прекратить сопротивление германским войскам, поскольку они пришли спасти его страну от Англии. «Германия взяла на себя нашу защиту. Мы нейтральны».
По сути дела, за время войны Гамсун не сказал ничего нового, чего бы не было им сказано ранее. Он вновь вспоминает, что в самые трудные времена Англия всегда прибегала к голодной блокаде Норвегии, не думая о людях. Вновь поносит англичан и их неумное стремление к мировому господству.
Он призывал короля Хокона отречься от престола или принять сторону немцев, а норвежский народ — не признавать находящееся в эмиграции правительство и немедленно сложить оружие.
Он вновь пел осанну великой Германии, «объединившей европейские государства под водительством германского национал-социализма. Той части нашего народа, что до сих пор настроена проанглийски, придется изменить свои старые, унаследованные взгляды. Этого не избежать, ибо речь идет о будущем Норвегии… мы понимаем, в чем наше спасение, и впредь не желаем, чтобы хищные британцы эксплуатировали нас и использовали. Мы сменили курс, мы на пути в новое время, в новый мир».[176]
* * *
Возникает вопрос: почему Гамсун, который никогда в жизни не был дураком или идиотом, не замечал очевидных вещей?
И тут надо вспомнить о весьма преклонном возрасте писателя (в 1941 году ему исполнилось 82 года) и абсолютной глухоте. Он мог общаться только с родными и близкими и читать газеты — те, которые издавали официальные власти, то есть Гамсун получал очень ограниченную информацию о происходящем в стране.
Кроме того, нельзя забывать, что никогда в жизни, взрывной и прямолинейный, писатель не унижался до лжи. И если он заявлял на суде, которого мог избежать, но на котором настоял сам, что ничего не знал об ужасах, творившихся в стране, то у нас нет оснований ему не верить.
Разговаривать он мог только с Марией, поскольку именно она оставалась рядом с ним в годы войны.
Так случилось, что трое детей Кнута и Марии сочетались браком зимой 1939 года. Туре нашел жену в Осло, Сесилия — мужа в Копенгагене, Эллинор — в Берлине. Счастливые родители присутствовали на свадьбах своих детей, а после свадьбы Эллинор Мария Гамсун вступила на сцену активных политических действий.
Биографами Гамсуна высказывались предположения, что подавленное мужем чувство собственной значимости, а также приверженность идеям нацизма, в котором жене и матери чистокровного арийца отводилось, как известно, далеко не последнее место, сыграли с Марией плохую шутку. Она стала разъезжать по городам Германии и выступать перед немецкими войсками с чтением собственных книг и произведений Гамсуна, а также с заявлениями в поддержку нацистских идей от имени мужа.
Выше уже говорилось, что есть серьезные основания предполагать наличие редактуры и вставок в статьях и воззваниях Гамсуна. Кроме того, мы помним, что подписывать документы и письма Кнут поручил Марии еще задолго до войны…
Шведский писатель и критик Пер Улов Энквист написал о Гамсуне книгу, в которой, в частности, есть такие предположения о произошедшей с ним и Марией трагедии.
Причина конфликта между Марией и Гамсуном «была в том, что Гамсун лишил жизнь Марии смысла.
Такого рода конфликты, как правило, приводят к окончательному разрыву, к ненависти и молчанию. Однако Кнут и Мария продолжают жить вместе… Это сожительство в ненависти приведет обоих к политической и человеческой катастрофе.
Внешние обстоятельства этой пляски смерти[177] необычны. В то время как Кнут Гамсун изолирован своей глухотой, Мария, запертая мужем в клетку семейной ячейки, но продолжающая жить театральными мечтами своей юности, вдруг получает возможность сыграть большую роль на сцене мировой политики. Она становится ушами мужа и таким образом влияет на его голос. Никто из посторонних понятия не имеет о том, что в доме исполняют пляску смерти.
…В памяти большинства сегодняшних норвежцев Гамсун выступает в роли предателя. Но в сыгранной им роли было множество граней — он был патриот, национальный певец, предатель родины, агитатор, посредник, общавшийся со многими ведущими политиками мира; сам же он приписывал себе иную роль — он считал, что спасает свою страну.
Страну, землю, которую он любил. Но был ли он при этом националистом? Что он, собственно говоря, думал о Норвегии?
Все эти вопросы усложняют пляску смерти. И все же это любовная драма.
Впоследствии Гамсун, без сомнения, полагал, что если он и избрал ложный путь, то из добрых побуждений. И толкнули его на этот путь некоторые из тех его свойств и убеждений, которые когда-то одобрялись, высоко ценились и способствовали созданию произведений, одно из которых принесло ему Нобелевскую премию. Все, что он всегда считал правильным и справедливым, в новой политической ситуации привело его к катастрофическим ошибкам.
…Идеологические катастрофы, переплетенные с супружеской пляской смерти, очень мучительны. А тут еще пляска смерти в предсмертном зале ожидания приобретает далеко идущие политические последствия».[178]
* * *
Но, безусловно, не одна только Мария виновата в происшедшем. На Гамсуна можно было только частично повлиять, можно было дезинформировать его, но никто не был в состоянии заставить его писать или говорить, например, по радио, то, что он не хотел сам.
В августе 1940 года он посылает статью Харальду Григу с просьбой ее опубликовать. Григ, будучи противником нацизма, отказывает старому другу. По всей вероятности, речь шла о статье, в которой Гамсун вновь выступал с критикой Англии и призывал поддержать Квислинга.
Еще раньше, в июне 1940 года Гамсун встретился с Харальдом Григом в последний раз. Сигурд Эвенсму так рассказывает об этой встрече: «Григ принял Гамсуна в своем кабинете и чувствовал себя довольно скованно, но говорил с ним как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло».
Через полгода Грига арестовали, и он провел 14 месяцев в заключении в Грини. Его освободили только после вмешательства семьи Гамсунов и, по некоторым данным, только благодаря просьбе Марии Гамсун, которая побывала в сентябре 1942 года вместе с сыном Туре на приеме у Тербовена.
В январе 1941 года Туре Гамсун, который занял пост директора издательства «Гюльдендаль» после Грига, вместе с отцом были на приеме у Тербовена в Скаугуме и просили за другого узника — писателя Роберта Фангена. Тербовен с Гамсуном друг другу не понравились, и, хотя рейхскомиссар пообещал заключенного выпустить, произошло это только через полгода.
Зато от встречи Гамсуна с Тербовеном остались фотографии, сделанные против воли писателя (на снимках видно, как он прячет лицо от камер), который терпеть не мог фотографов и журналистов. Эти снимки появились в «Афтенпостен», контролируемой немцами, на следующий день и были использованы в целях пропаганды нацизма. В статье говорилось, что Тербовен пригласил великого писателя слетать с ним в Германию на его (рейхскомиссара) личном самолете. На самом деле пригласил Гамсуна в Германию Геббельс, давний поклонник его творчества, но, когда выяснилось, что писатель сам должен заплатить за перелет, Гамсун от поездки отказался.
Его действительно очень любили в Германии. Немецкие офицеры и солдаты просто толпами приходили в Нёрхольм, чтобы получить автограф любимого писателя.
«…Когда ворота усадьбы были открыты сутки напролет, ничем другим больше уже невозможно было заниматься, — вспоминала Мария Гамсун. — Ибо на немецких солдат, оказывавшихся поблизости, Нёрхольм действовал прямо как магнит. Они приходили сюда со своими потрепанными книгами Гамсуна и непременно просили автограф. Молодые парни вынимали „Викторию“ из нагрудного кармана, возле сердца, у них была просьба, жизненно важная…
Он редко спускался вниз из детской, и мне надо было, как правило, подниматься к нему и брать автограф.
Не только немцы шли к воротам с просьбами и пожеланиями…
Кнут стал теперь своего рода кудесником. Когда люди оказывались один на один с немцами, стоило лишь обратиться к нему.
Кнуту можно было только дунуть на бумагу, где я написала по-немецки, чтобы дело тут же уладилось.
Но долго он так держаться не мог.
В 1941 году у Кнута начался период тяжелой депрессии. Он больше не желал видеть ворота открытыми, людей, приходящих в усадьбу, доступную для всех, а самого себя — в качестве какого-то мальчика на побегушках. Он хотел сбежать в лес, быть вне дома, освободиться от всего».[179]
Гамсуну визиты немцев не доставляли удовольствия, и он жаловался Сигрид Стрей, что «это Мария волочит их к нам в усадьбу». Кроме того, никто никогда не видел, чтобы книги для солдат и офицеров действительно подписывал сам писатель, — он никогда не спускался к ним на первый этаж.
Дома, в Нёрхольме, Гамсун чувствовал себя старым и ненужным. Он с трудом выносил присутствие жены и думал, что ей нужны только его деньги, а потому отдал ей в 1941 году право владеть всем в усадьбе. Он распорядился своим наследством, отдав Марии 1/3 от своих гонораров, что было громадными деньгами в то время: книги Гамсуна выходили очень большими тиражами в Германии (например, в 1936 году «Виктория» была продана тиражом в 95 тысяч экземпляров!).
Но вскоре, как вспоминает Сигрид Стрей, он почувствовал себя совсем заброшенным и ненужным, к нему совершенно перестали обращаться за советами или просто с вопросами на какие бы то ни было темы, в том числе и личные, и потому в 1943 году Гамсун вернул себе право быть хозяином Нёрхольма.
«Теперь он захотел не только вернуть себе власть, которую передал мне, но и вторгаться в те области, от которых раньше сам просил его избавить, — с явной обидой писала Мария. — Он считал, что его должны позвать, даже если в дверь стучал просто продавец, агент по продаже швейных машинок, человек с вениками, если раздавался междугородный звонок или приносили телеграмму. Было уже недостаточно, чтобы я приносила ему письменное сообщение, как все эти годы: он самолично должен был принять его.
— Но ты ведь не слышишь!
— Нет, я должен быть там!
Домой приехал Арильд, чтобы помочь с хозяйством, когда стало так трудно нанять людей. Первое, что он сделал, так это купил новое топорище, не спросясь у отца. Тут же ударила молния и загремел гром».
Кнут и Мария были во многом похожи — в том числе в силе характеров, в одержимости идеями и в желании причинить друг другу боль.
Они оба поддерживали Германию и режим, существовавший в ней, но Гамсун никогда не принимал участия в политике, он, даже считая себя членом нацистской партии, не счел нужным вступать в нее, он всегда держался в стороне от большинства. А вот Мария была человеком дела. Она стала членом партии, куда затем вступили и Туре с Арильдом, она не только ездила с чтением лекций, но и принимала активное участие в работе местной партийной ячейки в Эйде.
В период с 1939 по 1943 год фру Гамсун регулярно разъезжала с патриотическими выступлениями от своего имени и от имени своего мужа по Германии, Дании и Австрии, а по возвращении в Норвегию давала не менее пропагандистские интервью. Даже в книге своих воспоминаний Мария пишет с явным удовольствием о том времени и о своей новой роли «примы», заменившей на политической сцене старого мужа.
Гамсуну Мария старалась сообщать лишь то, что считала нужным, о многом, в частности, о некоторых своих поездках, предпочитала умалчивать, поэтому он многого просто не знал, хотя, когда после войны его судили, большинство норвежцев не могли в это поверить.
Сигрид Стрей писала в своих воспоминаниях: «Он чувствовал себя изолированным, он не мог следить за происходящими событиями, он не мог слушать радио, и он не получал ответа от своих, когда о чем-то их спрашивал. Однажды я случайно услышала их разговор с Марией на пароходе, на котором мы плыли в Осло. Он что-то спросил, а она ответила, что дела немцев в Африке плохи. „Но ведь там Роммель“, — возразил Гамсун. К тому времени Роммеля в Северной Африке уже давно не было. И никто об этом ему не сказал».
6 апреля 1942 года у писателя случился первый инсульт. Он упал дома, на кухне. Утром, когда он как раз взял кофейник с конфорки и собирался налить себе кофе, — так, как он любил, служанка услышала из кухни грохот падения на пол. Его положили в больницу в Гримстаде, и вскоре он поправился. С ним случился тогда легкий инсульт. Но все-таки последствия от него остались: стали очень дрожать руки и некоторое время была затруднена речь. А вскоре последовало воспаление легких. Но сильный организм справился с болезнями, и Гамсун вскоре вновь был в рабочей форме.
В это время в Норвегии как раз начались смертные казни, и к Гамсуну, как к кумиру нации, настоящему патриарху и последней надежде, стали обращаться обезумевшие от горя родители.
«В основном расстреливали молодых, по одиночке или группами, и всякий раз он был не в состоянии вынести этого, — вспоминала Мария Гамсун. — Кнут ничего не знал об организованности всего этого, о процессе во всей его глубине и широте, он видел лишь его страшные последствия. Поэтому он строго и предостерегающе писал свои обращения к молодежи, считая это полезным.
Он не понимал, что существовало организованное движение Сопротивления, и воспринимал это как проявление враждебности к немцам, к которому он привык уже за много лет.
…Он уже не был кудесником, когда речь шла о жизни и смерти. Он был встречен крайне неприязненно рейхскомиссаром, как он сам говорил. Он лично ездил к нему два раза, потом дважды посылал меня вместо себя. Он так и не нашел понимания, его прошения не были удовлетворены, лишь иногда ему удавалось выторговать уменьшение числа осужденных.
Постепенно Кнут со своими телеграммами становился нежелательным лицом, которое к тому же просит послать прошения прямо в Берлин, минуя рейхскомиссара. В конце концов он получил отказ, и Гитлер прислал извещение о том, что все, касающееся Норвегии, находится в ведении Тербовена».
Гамсун действительно часто ходатайствовал перед немецкими властями в годы войны о помиловании людей. Он просил за своих друзей, Харальда Грига и Сигрид Стрей, за Макса Тау и профессора Фрэнсиса Булля, за совершенно не знакомых ему норвежцев. Но очень редко когда ему удавалось добиться цели.
По сути дела, только один раз он смог спасти жизнь всем тем, о ком просил. Случилось это в 1943 году и стало результатом статьи «И вот опять!..», опубликованной во «Фритт фолк» 13 февраля:
«Снова и снова меня просят о помощи, просят добиться пощады для осужденных на смерть.
Пишут родители и близкие родственники, а осужденные, которым грозит смерть, все без исключения люди молодые.
Что они сделали? Мы все это знаем: они вели борьбу, работали на Англию. И вот сегодня опять: 13 молодых людей сидят в лагере неподалеку от Осло и ждут смерти. Они работали на Англию.
Молодые люди настроены проанглийски — это их дело! Они верят в победу Англии, желают этой победы и стараются ей способствовать — это тоже их дело! Но вдумайтесь: 13 человек, 13 пособников Англии! Да будь их даже 13 сотен — зачем помогать Англии, которая все равно победит? Есть ли разум и логика в подобном ходе мысли? За плечами у них три года кровавого опыта, что ведет их прямо к суду и смерти. Лучше бы сидели себе тихонько и ждали, пока Англия победит.
… Сорвиголовы старшего возраста не иначе как по-юношески слегка этим бравируют? Печально, однако, увы, вполне возможно. Им хочется произвести на товарищей впечатление, показать себя. Но все это слишком плохо кончается.
Чего они, собственно, рассчитывали добиться своей удалью? Возможно, ими двигала туманная идея большей свободы — откуда нам знать? Ну, скажем, некое представление о том, что работа для Англии в целом идет во благо. И вот темной ночью их вызывают получить партию оружия. Великая минута — теперь они кой-чего добьются. Начнут стрелять по оккупантам!
Но 13 человек — или пусть даже 13 сотен! — есть ли у них хоть крошечный шанс чего-то добиться своим оружием? Во всех без исключения случаях конец один, что прежде, что теперь, — немцы их прихлопнут. Они понятия не имеют, сколько солдат, охранников и полицейских охотятся за ними, не знают, сколько глаз держат их под наблюдением, не знают, что за ними, быть может, следят уже не одну неделю, не один месяц, что каждый их шаг под надзором, что для них расставлены ловушки, — они работают вслепую, не ведают ни о чем, пока однажды не грянет беда. Вот тогда они обо всем и узнают!
Я обращаюсь к людям, настроенным проанглийски. Может статься, они сохранили еще достаточно здравого смысла, чтобы одуматься. Хотят помогать Англии — ладно, их дело! Но разве же самоистребление помогает Англии? Они верят, что Англия победит, — да пожалуйста! Но зачем же прежде времени подвергать себя отчаянному риску? Ведь на поверку он бесполезен, на поверку оборачивается смертью. Но если Англия победит, они получат в дар все блага, о которых мечтали. Надо лишь подождать… А не рисковать жизнью…
Тяжко получать письма от родителей и близких родственников несчастных осужденных, которые должны умереть. Здесь понапрасну гибнут молодежь и надежды молодости, это очень печально, ведь каждый может поставить на их место себя и своих близких. И эти письма — опять-таки простертые в мольбе руки и призывы о помощи».[180]
Статья написана очень жестко и с большим сарказмом, до сих пор норвежцы считают ее позорной для Гамсуна. Но тем не менее, по свидетельству адвоката осужденных тринадцати юношей И. С. Мельбюе, именно благодаря ей осужденные были помилованы.
* * *
Годы войны были тяжелыми для Гамсуна. Он видел, что его страна страдает, — страдал и он сам, в том числе и по личным причинам.
Брак его дочери Эллинор распался практически сразу после свадьбы. Немалую роль тут сыграло ее пристрастие к алкоголю. Муж Эллинор отправил ее в лечебницу и оформил развод. Мария Гамсун, бывая в Германии, постоянно пыталась помочь дочери, помещая ее в клиники то в Мюнхене, то в Баден-Бадене. Наконец на семейном совете решено было забрать Эллинор домой в Нёрхольм. Для этого в мае 1943 года Кнут и Мария летят в Берлин. Одновременно они планируют встретиться с Геббельсом, который приглашал к себе Гамсуна, как мы помним, еще в 1941 году.
У нас остались воспоминания Геббельса (его дневниковая запись) о том визите:
«Я был потрясен встречей. Когда Гамсун увидел меня, у него на глазах выступили слезы, и он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Передо мной сидел 84-летний аристократ с удивительным лицом. Мудрость была начертана на его высоком челе. Но говорить с ним было чрезвычайно трудно, потому что он так глух, что не слышит ни единого слова, и его супруга должна была переводить всё, что я говорил по-немецки, на норвежский… В моих глазах Гамсун — олицетворение настоящего писателя, и мы должны быть счастливы, что живем в одно с ним время. Все, что он говорит, исполнено значения. Он произносит всего лишь несколько слов, но в них заключена мудрость возраста и жизнь в борьбе. С самого детства он не любил Англию… Он жил долгое время в Штатах и описывает американцев как абсолютно бескультурную нацию».
После этой знаменательной встречи Геббельс отдал приказ напечатать собрание сочинений Гамсуна тиражом в 100 тысяч экземпляров.
Писатель тоже остался очень доволен встречей. Он описывал Геббельса как интеллигентного и тонко чувствующего человека. И в этом нет ничего удивительного: и Геббельс, и его жена Магда, тоже присутствовавшая на встрече, были истинными ценителями творчества Гамсуна и хорошо разбирались в его книгах. По возвращении домой писатель решает отблагодарить Геббельса за оказанный прием — и отсылает ему свою нобелевскую медаль, а в письме указывает, что «Нобель учредил свою премию для награждения „идеалистических“ произведений, а я не знаю никого, кто был бы более идеалистичен в своих речах и статьях о будущем Европы и человечества, чем Вы».
Практически сразу же по возвращении домой в Норвегию Гамсун вновь получает приглашение из Германии — в качестве почетного гостя на Конгресс прессы в Вене.
Мария Гамсун вспоминала, что «ему потребовался человек с сильным голосом и четким почерком, чтобы сопровождать его в Вену.
В письме к Сесилии он небрежно, шутливо, словно мимоходом, упоминает об этой поездке на большой журналистский конгресс, в котором он собирался принять участие и который поглощал все его мысли несколько недель.
Его словно озарило, что его поездка туда может дать возможность удалить из Норвегии Тербовена. Он был всецело поглощен этой идеей, хотя любой политик мог бы сказать ему, что это просто писательские фантазии и ничего более. Неделями он просиживал за пасьянсом, погруженный в свои размышления, бормоча и запоминая что-то, и иногда я слышала его голос за стенкой, как тогда, когда он сочинял Августа в соседней комнате. И даже если он не раскрыл ни одной живой душе истинные цели поездки, все равно его тайна не осталась таковой для того, кто живет с ним под одной крышей. Каждый день он воображал, как стоит лицом к лицу с Гитлером, говорил одни и те же слова, самые правильные слова, какие он только мог подыскать. На это Гитлер отвечал ему, вероятно, так или этак, но он, Кнут Гамсун, говорил следующее…
День за днем сидел он за столом и писал, вычеркивал, переделывал, рвал. Он беспокойно вскакивал и ходил по комнате, крадучись, нервно, как он обычно кружил вокруг своей рукописи. В такие моменты он боялся за свой письменный стол, словно птица за птенцов в гнезде. И преграждал путь каждому, кто хотел войти в комнату.
Я сказала ему, что считаю поездку делом безумным. „Почему?“ — спросил он, подозрительно глядя на меня. „Ну, ты о себе не заботишься… Ты можешь простудиться…“
Вот его письмо к Сесилии:
„Дорогая Сесилия, благодарю тебя за два письма, которые очень порадовали меня, за серебряную табакерку с четырьмя надписями „Папа“ и за ее содержимое — разные сорта табака, словно не из этого мира. Подумать только, там была даже пачка „Durham“! Это мой хороший знакомый из Америки. Я стоял в те времена в лавке в городе Элрой и торговал всякой всячиной: зеленым мылом, шелковым бельем, селедкой и наперстками; тогда-то я и продавал большие и маленькие пачки „Durham“. А теперь выходит, что я, так сказать, снова повстречал его, бросился к нему, набил им огромную трубку, и дым его окутывает меня. Твой муж говорил, что „Дарем“ надо сбрызгивать? Я никогда не видел ничего подобного, но сам я торговал пачками, которые были такими же сухими, как и эта. Вот и говори после этого, что датчане разбираются в „Дареме“, — нет, только норвежцы!.. В мае я должен поехать в Вену и потом расскажу вам об этом. Там будет проходить конгресс, и его устроители так хотели заполучить себе глухого норвежца около 84 лет, что выбор пал на меня. Я был рад, потому что люблю конгрессы. Во всяком случае, я обещал приехать, но разве я знаю, смогу ли я…“
Он полетел на самолете в Вену с переводчиком и большим числом сопровождающих. Так как я была против этой поездки, считая, что у него нет сил на нее, — тем более что я знала ее истинную цель, — он не стал просить меня поехать с ним и переводить ему, как обычно. И ему конечно же был оказан пышный прием, организованный министерством пропаганды, с именами и титулами, которые так и не влетели в его левое, глухое, ухо, чтобы затем вылететь из правого.
А затем он был удостоен столь долгожданной аудиенции у Гитлера. И все обстояло хуже, чем с глухим беднягой из сказки: „Я ему про Ерему, а он мне про Фому“. Только здесь не было места для улыбки.
Дома я прочла в газетах, что конгресс стал событием. На нем присутствовал Кнут Гамсун, и Гитлер принял великого норвежского писателя.
Я в нетерпении ждала, когда же он вернется домой, чтобы услышать о поездке из его собственных уст. Но в Нёрхольм вернулся безмолвный человек.
Я спросила его: „Ты встретился с Гитлером, что же он сказал?“ — „Не знаю!“
Кнут не понял слов переводчика. Это старая история, слишком хорошо мне известная. Я знала, что ему надо было в отчаянии выкрикнуть все эти взвешенные, выверенные слова, которые могли бы открыть фюреру глаза. „Все равно, что говорить со стеной!“ — как он выразился.
Он был подавлен, но не сдался.
…Через несколько дней он оправился и написал пресс-секретарю Гитлера Дитриху, прося его сообщить, что именно было переведено фюреру и каковы были его ответы.
Никакого письма он не получил.
Но позднее нам прислали стенографический отчет о встрече Гамсуна с Гитлером. Один немецкий журналист, нам незнакомый, присутствовал при этой встрече».[181]
Действительно, судьбоносная встреча с Гитлером состоялась в 1943 году, но Гамсуну ничего не удалось доказать фюреру.
Он был единственным человеком, который осмелился перечить диктатору и даже перебивать его. Известно, что Гитлер обладал поистине гипнотическим обаянием и умением вызывать в другом человеке чуть ли не благоговение. С Гамсуном эта гипнотическая сила не сработала. То ли сила духа писателя была сильнее воли ефрейтора, то ли стремление бороться за счастье Норвегии придало старику мужества, то ли Гамсун действительно разглядел, что фюрер представляет собой как человек… — мы этого не знаем. Но факт остается фактом: каждый говорил о своем.
Гамсун пытался толковать о том, что Норвегии не нужно немецкое правительство и что необходимо удалить из страны Тербовена, который предлагает в новой Европе Норвегии не место «за общим столом», а какой-то жалкий протекторат, о норвежских судах, которым не разрешено плавать в собственных территориальных водах и заниматься грузоперевозками, о непрекращающихся казнях, «которые нам совершенно не подходят», о необходимости собственного «норвежского» правительства… А Гитлер его не слышал и слышать не хотел, а потому просто приказал выгнать, заявив, что аудиенция окончена. Сохранились свидетельства очевидцев, что Гамсун в конце беседы воскликнул: «В конце концов, Вы совершенно не разбираетесь в том, о чем я говорю!»
После этой встречи Гамсун задумался, а был ли он прав в своей безоговорочной поддержке режима. Для него лично, и об этом свидетельствуют многие, встреча с Гитлером стала настоящей катастрофой. Все его надежды на светлое будущее Норвегии и на удаление из страны Тербовена были разбиты.
«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи…» А у Гамсуна, к сожалению, не было такого расстояния, чтобы разглядеть Большое Зло. Но писатель утешил себя тем, что Гитлер и Тербовен уйдут, как уходили другие правители, а великая Германия останется и будет по-прежнему противостоять ненавистной Англии. Почти маниакальное презрение и стремление уберечь Норвегию от Англии в какой-то момент лишили Гамсуна разума.
Особенно стоит подчеркнуть, что, хотя немцы широко использовали имя Гамсуна в своей пропаганде, сами они редко когда удовлетворяли его просьбы.
* * *
В 1945 году Гамсун перенес еще один инсульт. Это было очень тяжелое для него время и в том, что касалось семейных отношений.
Единственной радостью для него было возобновление общения с Викторией, но и оно вначале причинило ему боль.
В 1943 году, во время поездки в Германию, он получил от нее письмо с сообщением о смерти ее матери, Бергльот Бек. Гамсун ответил: «Да, да, так твоя мать умерла! Мы с ней совершенно не подходили друг другу, но провели вместе несколько счастливых лет. Она всегда была так добра и чистосердечна, она никогда не причинила никому зла и всегда чувствовала себя более виноватой, чем была на самом деле. Я плачу, вспоминая о ней».
С тех пор Гамсун стал поддерживать отношения со старшей дочерью.
Отношения же с детьми от Марии были далеки от идиллии. Постоянные ссоры родителей, разговоры о деньгах и разделе наследства, нервозная обстановка в доме — во всем этом, по словам Сигрид Стрей, дети винили отца.
Кроме того, Гамсуну вновь стали приходить анонимные письма. Аналогичные тем, что писала ему Мария в 1937 году, все с теми же обвинениями в неверности и трате громадных денег на любовниц. Госпоже Стрей вновь пришлось, по просьбе своего клиента, заниматься этим неприятным делом и вновь ей удалось уладить его.
«Мне было очень жаль Кнута Гамсуна, — писала она. — Для большинства людей трудно стареть, а когда человек, как Гамсун, еще и глух и нелюбим своими родными, то это становится настоящим несчастьем. По желанию матери Арильд стал военным корреспондентом. Туре жил в Аскере и делал на продажу керамику, за которую получал жалкие гроши. Эллинор развелась и приехала домой из Германии, а Сесилия жила в Дании. Гамсун был одинок и, без преувеличения можно утверждать, находился во враждебных отношениях с собственной женой. В одном из своих писем ко мне, которые я считаю совершенно конфиденциальными, он назвал свои последние годы жизни „несчастными“».
Глава двадцать первая МИСТЕРИЯ ДУХА
15 декабря 1944 года правительство Норвегии, находившееся в эмиграции в Лондоне, приняло закон, по которому все норвежцы, бывшие членами нацистской партии, объявлялись изменниками родины и подвергались аресту. Туре и Арильд Гамсун были арестованы через неделю после освобождения Норвегии.
14 мая 1945 года газета «Афтенпостен» напечатала сообщение о попытке самоубийства Кнута Гамсуна. Однако это было всего лишь газетной уткой. Гамсун никогда не сдавался и сдаваться не собирался.
7 мая 1945 года он написал некролог Гитлеру, который все исследователи творчества писателя в один голос называют наиболее абсурдным из всей его публицистики и самым непонятным его шагом в жизни, если вспомнить, какое отталкивающее впечатление произвел на Гамсуна фюрер. Вот этот некролог:
«Я не достоин во всеуслышание говорить об Адольфе Гитлере, к тому же его жизнь и деяния не располагают к сентиментальности. Он был воином. Борцом за человечество, провозвестником Евангелия о правах всех народов. Он был реформатором высшего класса, его историческая судьба сулила ему действовать в эпоху беспримерной жестокости, жестокости, которая в конце концов захватила и его самого. В таком свете, вероятно, видит Адольфа Гитлера рядовой представитель Западной Европы, а мы, его ближайшие единомышленники, склоняем голову над его прахом».[182]
Туре Гамсун спросил отца, почему тот это сделал. «Пусть ему безразлично, что на него обрушится волна народного гнева, но ведь человек-то этот ему не нравился! Отец ответил:
— Из чистого рыцарства, больше нипочему!»
Это «чистое рыцарство» и есть объяснение некрологу, от которого Гамсуна отговаривали все родные. Вероятно, в некотором роде это же «чистое рыцарство», боязнь повторить путь своего героя Иваро Карено и предать идеалы молодости легли и в основу желания защищать фашизм до конца…
* * *
Как бы то ни было, но, в соответствии с решением правительства, и Гамсун, и его жена, и двое сыновей были признаны подлежащими аресту и суду.
26 мая Мария Гамсун была помещена в тюрьму в Арендале, а самого Гамсуна 14 июня отправили в больницу.
В последней книге «По заросшим тропинкам» (другой вариант русского названия — «На заросших тропинках») Гамсун пишет:
«26 мая начальник полиции Арендала приехал в Нёрхольм и объявил, что берет мою жену и меня под домашний арест — на тридцать дней. Меня заранее об этом не предупредили. Моя жена, по его приказу, отдала ему все мои ружья. Однако через некоторое время я был вынужден написать ему и сообщить, что у меня остались еще два больших пистолета, привезенных с последней Олимпиады в Париже, которые он может забрать, когда ему будет угодно. И еще я написал, что не буду воспринимать „домашний арест“ буквально, ведь у меня большая усадьба и за хозяйством надо присматривать.
За пистолетами вскоре приехал помощник ленсмана из Эйде.
14 июня меня увезли из собственного дома в больницу в Гримстад, а жену мою отправили за несколько дней до того в женскую тюрьму в Арендал. И присматривать за усадьбой у меня не стало никакой возможности. Это было очень печально, ибо хозяйство осталось на совсем еще молодого и неопытного работника. Но делать было нечего.
В больнице молодая сестричка спросила меня, не хочу ли я сразу же лечь в постель — ведь в „Афтенпостен“ было написано о моем „подорванном“ здоровье и о том, что „я нуждаюсь в лечении“. „Благослови вас Господь, деточка, я вовсе не болен, — отвечал я, — и еще не приезжал в вашу больницу человек здоровее меня, я всего-навсего глух!“ Она, верно, решила, что это я так пошутил, но не стала вступать со мной в разговор. Нет, не захотела она со мной говорить, и все остальные сестры во время моего пребывания в больнице тоже не нарушили молчания. Единственным исключением была старшая сестра, сестра Мария».
В первое после ареста время Гамсуна больше волновал не предстоящий суд, а любимая усадьба, в которую было вложено столько сил и любви, не говоря уже о деньгах. Однако вскоре забота о Нёрхольме отступила на второй план, потому что писатель понял, что судить его вовсе и не собираются…
В больнице в Арендале Гамсун провел 30 дней, а затем его перевели в больницу в Гримстад.
«23 июня меня отвезли к следователю, — вспоминал Гамсун. — Он встретил меня с ухмылкой:
— У вас должны быть еще деньги, помимо указанных в протоколе!
Я лишился дара речи и воззрился на него.
— Я не сижу на мешке с деньгами, — ответил я наконец.
— Само собой, но…
Мое состояние, как я и указал, — это около двадцати пяти тысяч наличными, двести акций издательства „Гюльдендаль“ и усадьба Нёрхольм. Да-да. Ну а как же быть с авторскими правами?
Если следователь может мне что-нибудь сообщить по этому вопросу, я буду ему очень благодарен. Сдается мне, что я, как писатель, не могу рассчитывать сейчас на хорошее положение дел.
Боже, как же я его разочаровал! И как разочаровал всех тех, кто надеялся прибрать к рукам мое „огромное состояние“, покопаться в нем. Но как бы там ни было, мое состояние велико, слишком велико. И я не собираюсь забирать его с собой в могилу.
Допрос был проведен очень вежливо, правда, он ничего и не решал. На многие вопросы следователя я отвечал уклончиво, чтобы не раздражать без нужды этого милого человека. Следователь Стабель фанатично ненавидит Германию и верит, пусть даже вера его с горчичное зерно, в святое и неоспоримое право союзников уничтожить немецкую нацию и стереть ее с лица земли. К тому, что опубликовано из материалов допроса, я добавлю лишь несколько деталей.
Он спросил меня, что я думаю о национал-социалистическом обществе, членом которого я состоял здесь, в Гримстаде.
Я отвечал, что в этом обществе были люди много лучше меня. Но я промолчал о том, что там было не менее четырех врачей, чтобы не называть какой-нибудь категории лиц.
Из его речей я сделал вывод, что слишком хорош, чтобы принимать участие в нацистском заговоре.
Там были и судьи, сказал я.
Да, к сожалению. А как я отношусь к преступлениям немцев в Норвегии, о которых стало теперь известно?
Поскольку начальник полиции запретил мне читать газеты, то знать я об этом не могу.
Неужели я ничего не знал об убийствах, терроре, пытках?
Нет. До меня доходили смутные слухи перед самым арестом.
Но ведь этот мерзавец Тербовен, получавший приказы непосредственно от Гитлера, истязал и убивал норвежцев пять лет. Слава Богу, мы выстояли — мы, но не вы. Вы считаете немцев культурным народом?
Я не ответил.
Он повторил вопрос.
Я посмотрел на него и не ответил.
— Если бы я был начальником полиции, я бы разрешил вам читать все газеты. Рассмотрение вашего дела откладывается до двадцать второго сентября».
Так началось мучение Гамсуна, ибо по-другому процесс над ним назвать невозможно.
* * *
Прежде чем рассказывать о суде и последних годах жизни писателя, нам бы хотелось напомнить читателю, что Норвегия — страна молодая с «пылким» чувством национального сознания, которая очень эмоционально относится ко всяким проявлениям бесчестия и предательства.
Предметом гордости всего норвежского народа являлся Гамсун. Он был кумиром народа.
«Писатель всегда таков, каким его хочет видеть нация, — пишет норвежский писатель Гейр Поллен. — В Норвегии, которая до сих пор выглядит застенчивым прыщеватым подростком на фоне большинства других наций, понятие „писатель“ неразрывно связано с великими национальными задачами, или, вернее сказать, ПРОЕКТОМ, поскольку речь идет о проекте, продолжающемся уже сто пятьдесят лет, и о том, как понятие „Норвегия“ обрело свое национальное содержание, то есть как Норвегия стала норвежской. Так уж сложилось, что Норвегия — одно из самых молодых независимых государств в Европе. Моложе ее только те страны, что появились на карте после падения „железного занавеса“.
Более четырех столетий… Норвегия была вынуждена мириться с ролью бесправной падчерицы в семье Скандинавских государств, где тон задавала Дания.
…В период разрыва унии с Данией и принятия новой конституции в стране зарождается национальное движение, и писатели играют в нем немаловажную роль не только как просветители народа и агитаторы, но и как фигуры символические — пример для нации, возрождающейся из пепла унии.
…нацистские симпатии Гамсуна до сих пор являются для норвежцев больной темой. Нацист Гамсун… — отнюдь не певец любви и природы, предавший своего верного читателя, нет. Он предал и, что еще хуже, осквернил само понятие „норвежский писатель“, к которому общество и история, казалось, намертво его приковали.
Как мне кажется, именно надругательство над „норвежским писателем“ вызвало такую бурную реакцию на прогитлеровские симпатии Гамсуна.
…После гамсуновского восхваления Гитлера как „Провозвестника Евангелия, справедливости для всех наций“, понятие „норвежский писатель“ потеряло свой былой авторитет в глазах народа. А жаль…»[183]
Эта статья написана в 2005 году, через шестьдесят лет после окончания войны, но она ясно дает понять, что «страсти по Гамсуну» не утихли и норвежцы до сих не могут простить своему кумиру предательства, которое заключается прежде всего в том, что Гамсун пошел против общественного мнения — впрочем, как всегда.
В 1945 году, когда встал вопрос о суде над ним, процесс решено было отложить в связи с преклонным возрастом подсудимого, Гамсуна отправили на психиатрическое освидетельствование.
Суд был отодвинут на неопределенное время — совершенно очевидно, в надежде, что старый писатель умрет и позор Норвегии не будет вынесен на всемирное «обозрение». Но сограждане плохо знали своего любимца: для него такая снисходительность и желание (из каких бы то ни было побуждений, в том числе и сострадания) уберечь его от унизительной процедуры как раз и были самым страшным наказанием. Гамсун хотел понести кару за содеянное, хотя вины за собой не видел, хотел иметь возможность выступить в открытом процессе и объяснить свои действия.
Современники наблюдали настоящее чудо — вернее, мистерию духа, — когда восьмидесятишестилетний старик смог не только противопостоять государственной машине, защищая свои идеалы и убеждения, но и написать замечательную книгу, одну из лучших за всю жизнь, которую даже его противники сравнивали с «Голодом», — «По заросшим тропинкам».
Но обо всем по порядку…
* * *
После помещения Гамсуна в больницу в Гримстаде к нему приезжает его адвокат, Сигрид Стрей. Сама она на процессе защищать своего клиента не могла, ибо была назначена судьей трибунала над военными преступниками, а потому вместе с Гамсуном они решают, что лучшим его защитником на суде будет он сам.
В больнице, хоть сам писатель никогда и не жаловался знакомым ни тогда, ни после, к нему относились плохо. Вот что написано в книге «По заросшим тропинкам»:
«В определенные часы мне приносят еду. Одна из трех сестричек ставит на стол поднос, поворачивается на каблуках и уходит. „Большое спасибо!“ — кричу я ей в спину. Но три медсестры не меняют своей тактики. Да и трудно им, наверное, подняться на холм, не расплескав кофе и суп. Я не знаю. Но поднос всегда залит. Так мне и надо, я это заслужил. Вначале, когда я только стал тут жить, я пытался объяснить им, что никого не убил, ничего не украл, не поджег дом, но это не произвело на них впечатления, им было совершенно все равно. Теперь я ничего больше не хочу им объяснять, да говорить тут не о чем. Подумаешь, пролитые суп и кофе, это пережить можно. Но вот я выуживаю из лужи на подносе письмо, оно вскрыто и вновь запечатано, полиция переслала мне его в таком виде. Может, это вырезка из шведской газеты. Может, какая-нибудь милая датская актриса шлет мне привет. Выудив письмо из лужи, я сушу его на солнце. Ну и что. Жаль лишь трех медсестер, ведь они такие молодые и красивые и так дурно воспитаны».
Но тут же Гамсун говорит, что люди относятся к нему по-разному: кто и разговаривать с ним не хочет, а кто-то старается помочь, чем может:
«Некая милая дама с Явы переслала мне через Голландию ящик сигар, они с мужем читали некоторые из моих книг, пишет она, спасибо вам большое. Она захотела сделать приятное человеку, живущему так далеко от нее, благослови ее Господь! Люди не забывают старика. Но в один прекрасный день сигары закончатся, и что мне делать? Тогда я брошу курить, просто брошу курить, вот так! Я уже трижды бросал, каждый раз — ровно на год, день в день. Итак, решено, я проявлю силу воли — и брошу курить. Отлично. Но ведь я все равно примусь за старое, к чему же тогда все усилия? Итак, решено, я проявлю силу воли — и примусь за старое.
Я вовсе не собираюсь скромничать и делать вид, что не знаю своих способностей».
2 сентября Гамсуна переводят в дом для престарелых в Ланнвике, поскольку в больнице нужны места для прибывающих больных полиомиелитом.
Дом престарелых считался вполне комфортабельным жилищем для стариков, и Гамсуну было там вовсе не так уж плохо.
Он отвечает на вопросы следователей, которые изредка наезжают к нему, а в оставшееся время читает, гуляет, раскладывает пасьянс и ведет что-то типа дневника, из которого и вырастет его последняя книга:
«Когда я отправляюсь гулять, то стараюсь походить подольше, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. Я делаю это ради ночного спокойствия, ради сна, который я заслужил. Сон лучше еды, даже сравнивать нечего. О, сон — это нечто совершенно особенное, им нельзя накормить голову, как желудок — едой, уж поверьте. Но сон — это и некое безумие: во сне я обнаруживаю в кармане какие-то деньги, которые никогда не терял, но которые безуспешно разыскивал. Во сне я вырываюсь из рук здоровенного моряка, которого хочу убить, а он в отместку пытается искромсать меня садовыми ножницами. Да, сон — чудесное переплетение выдумки, жизни и чуда.
Но и еда нужна, а как же иначе.
У меня нет распорядка дня: когда мне захочется, я беру свою палку и иду гулять. Я не слишком-то и пользуюсь палкой, она мне скорее заменяет собаку, не более того. Многие называют мою палку тростью, прогулочной тростью. „Вам подать трость?“ — спрашивали меня, бывало, в отелях. Но, по-моему, это звучит слишком высокопарно, и я всегда называю палку палкой. Она сделана в форме посоха, у нее резиновый наконечник внизу, но, к сожалению, она в свое время треснула, и теперь у нее внизу некрасивая стальная скрепка. Зато на ней имеются деления на сантиметры и миллиметры, так что, когда понадобится, я вполне смогу обойтись собственными силами.
Я здороваюсь с детьми, которых встречаю по дороге, некоторые из мальчишек слышали, видно, о моей глухоте, и развлекаются, подходя ко мне сзади почти вплотную и что-то выкрикивая. Я здороваюсь и со взрослыми, если вижу, что они доброжелательны, ну а если они отворачиваются и в плохом настроении, я спокойно прохожу мимо. Но здороваюсь я охотно, этого никто отрицать не может, даже более чем охотно. Так уж меня учили в детстве, тогда говорили, что воспитанные люди всегда здороваются, с тех пор это во мне и сидит».
Суд переносится с 22 сентября на 23 ноября. Власти не знали, как поступить с Гамсуном, и просто тянули время.
Обвинения ему были предъявлены в ведении нацистской пропаганды и членстве в национал-социалистической партии.
13 октября генеральный прокурор обращается к психиатру Габриэлю Лангфельдту с просьбой дать заключение о психическом состоянии обвиняемого и его возможностях нести ответственность за содеянное.
15 октября Гамсуна переводят в клинику профессора в Осло.
* * *
Личность доктора Лангфельдта волнует всех без исключения исследователей творчества Гамсуна. Ему отводят роль Злодея, воплощенного доктора Зло. И он действительно им был.
Он подверг психоанализу не только самого писателя, но и его супругу, а затем предал гласности их признания, нарушив тем самым врачебную тайну.
До сих пор не найден ответ, почему он так сделал.
Мария Гамсун вспоминала уже в самом конце жизни: «Но ходить по земле было все труднее, и наконец я сделала отчаянную попытку смягчить свою боль. Я написала профессору в психиатрическую клинику. Для меня уже было утешением просто написать письмо, выговориться. Однако Сесилия считала, что его надо отправить.
Профессор и прежде получал письма, но не от меня, а от людей, хотевших помочь мне. Они так и не помогли, не дали ответа, который мог бы прояснить хоть что-то для меня.
Я привожу здесь это письмо:
„Копенгаген, 17. 04. 1949.
Господин профессор!
С тех пор, как я в августе вышла из тюрьмы, я ежедневно собираюсь написать вам. Мне очень хочется вас спросить, почему вы так со мной поступили. Было ли это совершено с какими-то добрыми намерениями, или ради того, чтобы разрушить мою дальнейшую жизнь, или это, откровенно говоря, просто необдуманный поступок? Будьте добры, ответьте мне, мне нужно выяснить этот вопрос…“
Профессор сразу же ответил. Он писал, что вел себя честно, что он не несет ответственности за то, каким образом позднее были использованы мои показания. Профессор писал также, что, по его мнению, мне не в чем его упрекнуть, раз уж мои отношения с мужем не могли стать иными, даже если и были бы предъявлены эти мои показания (имеется в виду: попали на глаза Кнуту). Он ссылался на то, что мой муж простился со мной навсегда при нашей последней встрече.
Прощание навсегда однажды можно захотеть взять обратно. В ходе совместной жизни. Мне представляется, что профессор довольно поверхностно смотрит на вещи. Кроме того, я была возмущена той легкомысленной манерой, с которой он все отрицал, без намека на сожаление о том, что случилось.
И я написала снова: „…Но если бы вы дали мне понять, что ваша ответственность не простирается дальше ваших же четырех стен, что с моими показаниями может произойти что угодно, даже скандал, — я бы, разумеется, никогда не стала отвечать ни на один из ваших вопросов…“
Сегодня, на расстоянии 13–14 лет, я понимаю, что профессор непреднамеренно причинил мне и моим близким много зла. И больше всего, пожалуй, Кнуту, на старости лет».
Если уж Мария Гамсун, которой Лангфельдт причинил не просто боль, а настоящее горе, разлучив ее на несколько лет с мужем, смогла если не простить, то хотя бы понять его, то и нам негоже обвинять в чем-либо психиатра.
Вполне возможно, что он вовсе и не хотел причинять супругам зла и действовал во имя некоей своей высокой цели. Быть может, он всегда интересовался писателями и «механизмом» их души, а тут представился такой случай. Быть может, он искренне считал, что предложенный им диагноз «необратимое ослабление умственных способностей» — благо для Гамсуна, поскольку дает ему возможность избежать суда. Все может быть.
Ошибка же его была в другом: он недооценил своего пациента. Даже будучи глубоким стариком, Гамсун был намного сильнее своего молодого доктора.
Вот что он написал о пребывании в психиатрической клинике:
«Был понедельник, 15 октября, где-то между десятью и одиннадцатью часами утра, когда меня впустили в психиатрическую клинику, отперев три двери. Впустили и вновь все три двери заперли.
Меня окружил целый рой одетых в белое медицинских сестер, я должен отдать им все, что есть у меня в карманах, — ключи, часы, записную книжку, перочинный ножик, карандаш, очки — все. В отворот пиджака у меня были воткнуты две булавки, их тоже забрали; а с чемодана сорвали чехол, видно, боялись, что именно там я припрятал нечто опасное. А потом они открыли чемодан и принялись в нем рыться.
Мне задали вопрос о заключении врача. Неужели у меня нет письменного заключения врача? Нет. Меня же доставила полиция, я арестант, предатель родины, вы и так должны это знать. Милая старшая сестра поинтересовалась, как же это со мной приключилась такая беда. Это не имеет значения, сказал я. Нет, нет, это так ужасно, так прискорбно. Я сказал, что дам объяснения позже.
Они повели меня в ванную. Я говорил им, что устал и проголодался, но они отвечали, что я должен помыться. Когда я снова стал одеваться, то никак не мог отыскать булавки для галстука. Ее забрали, пока я лежал в ванне, и никто мне о том ничего не сказал. Я ползал по полу и искал, но никак не мог отыскать булавки! Я спросил санитара — не знает. Я разгневался и закричал, а они в ответ: „Шш-ш-ш!“ Я объяснил, что это маленькая булавка, но очень дорогая, это настоящее произведение искусства Востока, не то что те громадные булавки, что нацепляют некоторые. Наконец одна из сестер сказала, что булавка в надежном месте.
Потом мне дали несколько крошечных кусочков хлеба. И когда я все еще их жевал, ко мне пришли. Я не понял, что они говорят, и попросил написать на бумаге, вот они и написали: „Дохтур“. „А что такое дохтур?“ — спросил я. Они вновь написали „Дохтур“, но уже в другом углу листа, и подчеркнули это слово. „Вы, что, имеете в виду „доктор“? Врач?“ Да-да-да, закивали они.
— Врач мне не нужен, — сказал я. — Я не болен.
Доктор сидел на втором этаже, я с трудом туда взобрался. Я был возбужден и очень говорлив, нес всякую ерунду, жаловался на усталость, говорил, что лучше было бы плыть по морю. Стенографистка записывала, доктор терпел мою болтовню и хотел мне помочь.
— Вас не повезли на пароме из-за того, что ехать поездом в Осло гораздо быстрее.
— Ну да, всего лишь на пять часов дольше, — хмыкнул я. Я спросил, как его зовут.
— Рююд, — ответил он.
— Я очень устал и хочу лечь, — сказал я.
…Итак, я помещен в психиатрическую клинику в Осло, заведение для „нервно— и душевнобольных“. Случилось это 15 октября 1945 года, и с того дня моя жизнь состоит из одного только писания ответов на письменные же вопросы профессора Лангфельдта. Эти ответы написаны мною второпях, в самых ужасных условиях, в строго отведенные для этой работы часы, при плохом освещении, в состоянии нарастающей депрессии. Хочу сказать, что это не золотые копи. Но это моя работа.
Поскольку у меня не было времени переписать свои ответы, а профессор отказался предоставить мне на время оригиналы, я оставляю здесь пробел — мне нечем его заполнить».
Лангфельдт задавал Гамсуну вопросы о его детстве, родителях, братьях, об обучении в школе, о жестоком дяде, о молодости и зрелых годах, о поездках в Америку и путешествиях по миру, о его произведениях и о личной жизни.
Профессор, наверное, как и положено психиатрам, пытался разгадать загадку писательской души и попросил Гамсуна ответить, что он думает о своих личностных качествах, таких как агрессивность, ранимость, подозрительность, добродушие и тому подобное, а затем предложил проанализировать себя.
Вопросы задавались глухому писателю в письменном виде, и ответы на них он давал тоже на бумаге, причем совершенно добровольно, не подозревая ничего дурного, поскольку, как мы помним, всегда испытывал к психоаналитикам большое доверие.[184] Он только отказывался обсуждать с доктором личную жизнь и весьма скупо говорил о своих отношениях с Марией и другими женщинами, а также об очень интересовавших врача анонимных письмах.
Но профессор не успокоился, так ему была важна «личная» тема, и пригласил к себе Марию Гамсун (вернее, получил разрешение на беседу с ней, поскольку она сидела в тюрьме) и убедил ее, что, ради блага мужа, ей необходимо рассказать все, что она о нем знает, — вплоть до подробностей их сексуальной жизни. Почему Мария поверила доктору, который обещал ей, что никто, кроме него, не увидит ее ответов, мы не знаем, но она поверила и много чего рассказала. Быть может, ей впервые за многие годы предоставилась возможность выговориться… Быть может, доктор смог ее обаять… Быть может, она просто устала и потеряла над собой контроль…
Самое ужасное, что после разговора с профессором Марии предоставили свидание с мужем. Гамсун с первого же взгляда все понял, говорить с ней не захотел, справедливо посчитав, что она его предала, а напоследок сказал: «Ну вот что, Мария, я говорю тебе „прощай“. Мы с тобой уж больше не увидимся».
После этого он обратился к госпоже Стрей с просьбой (уже во второй раз за свою долгую жизнь с Марией) подготовить документы о разводе.
Гамсун хотел развестись, чтобы помешать Марии получать возможные доходы от издания его книг. Супруги оформили общее владение на авторские права, но после развода Гамсун надеялся единолично распоряжаться своими доходами. Он писал своему другу Кристиану Гирлёффу 17 февраля 1947 года: «Если случится чудо и мне удастся продать права на то, чем я сейчас занят, и издать эту книгу, то я не хочу рисковать гонораром, который тоже может попасть в руки той, о которой ты знаешь. Она была моим злым гением слишком долгое время. Поэтому развод».
Но дальше разговоров дело не пошло…
В результате же длительного пребывания в клинике Гамсун, как он сам писал, превратился в «желе»:
«Я и по сей день прекрасно помню, как меня подкосило пребывание там. И измерить или соразмерить с чем-либо тот вред нельзя. Меня медленно-медленно подрубили под корень.
Кто в этом виноват? Никто и ничто в отдельности, виновата система. Управление живой жизнью, распорядок дня, составленный без сочувствия и малейшей заботы, психология с графиками и ярлыками, целая наука вопреки человеческой воле.
Некоторые эту пытку выдерживают, но ко мне это не имеет отношения, ведь я-то не выдержал. И это врач-психиатр, видимо, должен был бы понять. Я был здоровым человеком, я стал желе.
…Это на иезуитский манер устроенное заведение, где есть полдюжины крепких парней в качестве подмоги и бесчисленное множество медсестер в белом, которые вносят оживление, порхая по палатам подобно белым голубям.
…Я узнал на опыте, что больница и сумасшедший дом — далеко не одно и то же, хотя оба заведения предназначены для ухода за больными.
…Для меня было в некотором роде загадкой, как здесь выдерживает персонал. Мужчинам доставалось меньше, но ведь многие сестры поступали на работу в клинику совсем молодыми и работали тут уже лет двадцать.
…Я часто вспоминаю этих славных сестер. Жаль их, воздух в заведении нездоровый, а они там проводят все время, пока не постареют.
…Верховодит тут господин Лангфельдт, главный врач клиники и профессор университета.
…В своем письме к генеральному прокурору я упоминал о своем отношении к профессору Лангфельдту, не изменилось оно и позднее. Я считаю его типичным ученым, вышедшим из учебного заведения с багажом книжных знаний, почерпнутых им из учебников и научных трудов и которые он, естественно, совершенствовал и углублял вплоть до сегодняшнего дня.
…Он абсолютно уверен в своих знаниях. Но это не то же самое, что быть уверенным в правоте старой мудрости: все знать невозможно! По своему характеру, по самой своей сути господин Лангфельдт пребывает на высоте собственного величия над всеми нами, его знания невозможно подвергнуть сомнениям, он лишь молчит в ответ на возражения и упивается своим превосходством, что кажется мне весьма искусственным.
…Я бы посоветовал психиатру научиться улыбаться. И пошучивать над самим собой.
Его холодная и высокомерная манера поведения вряд ли уж так ему свойственна, скорее всего, он так ведет себя лишь в больнице в соответствии с обстоятельствами. Его не назовешь ретроградом, закостеневшим в своих привычках и знаниях, иначе он не был бы столь энергичен и деятелен. Он не только совмещает научную и преподавательскую деятельность, но еще и находит время написать семейный лечебник для сельских жителей, а при случае представить на суд подписчиков популярного ежемесячного журнала „Самтиден“ статью на какую-нибудь биологическую тему. Он молод, пользуется известностью и, вне всякого сомнения, избран во всевозможные научные общества. Нет, он не закостенел. Другие, может, и закостенели, но только не он. Его косность — в определенной мере притворство. Он в равной степени способен играть в молчанку и раздраконить сотрудников.
Поясню свои наблюдения конкретными историями.
Санитары испортили мой бритвенный прибор, изрезав ремень, на котором я правил бритву, и вдобавок куда-то задевали одну важную деталь от бритвы. Найти ее так и не удалось. А потом санитары ушли, оставив меня в одиночестве. Сестра, проработавшая здесь лет двадцать, увела меня за перегородку и разрешила мне побриться ее или чьим-то еще скальпелем, но зеркала там не было, и я порезался. Вдруг мы услышали рев дракона, это ревел профессор. И раздраконил он нас по первое число: тут неподходящее место и для меня, и для моего бритья; он ревел, заговаривался и даже сказал сестре „девчонка“ (а ей лет сорок-пятьдесят), спохватился, замолчал и воззрился на нас, он не ушел, нет, он стоял и молчал! Это было то еще зрелище. Сестра лишилась дара речи, я вытирал мыльную пену и кровь. Она даже звука не проронила, а ведь ей так просто было оправдаться, рассказать о санитарах, но как можно перечить самому профессору! Неслыханная дерзость!
Я и сам нанимал людей к себе на работу, интересно, чем бы это для меня кончилось, если бы я так ревел на своего работника в похожей ситуации. Думаю, вместо того чтобы устраивать такой скандал, я просто прошел бы мимо, сделав вид, что ничего не вижу.
…В описанных мною случаях, вероятно, сыграли свою роль определенные отношения и правила внутри самой системы, которыми профессор может оправдать свое поведение. Мне нет смысла думать иначе. А потому не следует забывать и о том, что этот человек — одновременно директор и хозяин клиники, он хозяин отеля, в котором обитают не менее ста больных гостей и огромный обслуживающий персонал как мужского, так и женского пола, и все в его власти. Такой груз ответственности может вывести из себя любого университетского преподавателя.
…Однако профессору будет трудно уйти от ответственности за собственные действия и решения. К таковым я отношу его державшиеся в тайне усилия заполучить на обследование мою жену, чтобы использовать ее признания против меня, записать ее показания и бесстыдно разослать их юристам и судейским чиновникам всевозможных инстанций. Тут профессору Лангфельдту нет оправданий. Тогда как мою жену, напротив, многое оправдывает. Она жила в заточении несколько месяцев в полном неведении о происходящем, ее в легко объяснимом возбуждении привезли к профессору, вот она и наговорила всякого разного. Ее слушателем было важное должностное лицо. И еще он усадил в кабинете стенографистку, записавшую каждое слово моей жены.
Я бы не стал жаловаться из-за пустяков. Профессор неоднократно пытался выпытать у меня сведения о моих „двух браках“. Я просто перестал ему отвечать под конец. Последний раз он задал мне этот вопрос письменно. В своем кратком — также письменном — ответе я сказал по поводу моего брака: я бы закричал от ужаса, если бы попал в сети, плетущиеся за спиной моей жены сейчас, когда она оказалась под арестом, как и я!
Не правда ли, я выразился понятно? Я хотел защитить не только себя, я хотел прекратить произвол.
Но профессор не сдался: с разрешения генерального прокурора он перевозит мою жену из тюрьмы в Арендале в клинику на Виннерне и устаивает ей допрос с пристрастием. О результатах допроса может прочесть каждый, вся общественность — в подробнейшем его отчете.
…К тому моменту, когда моя жена была-таки переведена в клинику, профессор уже давным-давно понял, что я не сумасшедший. Ради чего тогда — не считая, конечно, стремления удовлетворить свое любопытство и раздуть скандал — он привез ее сюда? Неужто профессор станет утверждать, что обследование дало бы иные результаты без ее объяснений? Неужто он станет утверждать, что без показаний моей жены меня могли бы объявить сумасшедшим?
По этому делу существуют материалы. Возможно, их когда-нибудь изучат.
Но я уже и сейчас считаю, что профессор действовал безответственно. С самого начала обследования моей жены он мог бы действовать тактичнее. Услышав и увидев, какой оборот принимает дело, он мог бы самоустраниться и передоверить черную работу другому врачу, например, опытной женщине-психиатру. Но ему это и в голову не пришло, тогда как более тонкого психолога наверняка бы насторожила излишняя готовность пациентки поведать о всяческих недостатках другого лица. Профессор Лангфельдт и сам знает, что ему не пристало копаться в чужом грязном белье и исследовать интимные подробности чужой семейной жизни. Но он слишком жесток и прямолинеен, голова его забита вызубренными знаниями, которые строго классифицированы — в жизни и в науке».
После «работы» с супругами Гамсунами Лангфельдт сделал официальное заключение на 83 машинописных страницах со следующим выводом:
«1. Мы не считаем Кнута Гамсуна душевнобольным и не считаем, что он был таковым во время совершения вменяемых ему преступных деяний.
2. Мы признаем его человеком с необратимым ослаблением умственных способностей».
Гамсуна перевели обратно в дом престарелых в Ланнвике, а генеральный прокурор, получивший заключение психиатра, вынес следующее постановление:
«По полученным результатам и на основании заключения, данного специалистами, я выношу решение, что по общественным соображениям нет необходимости предъявлять обвинение Кнуту Гамсуну, которому скоро исполнится 87 лет и который практически глух».
Но Гамсун сдаваться не собирался. Он хотел суда — и стал добиваться его. Он пишет письмо генеральному прокурору:
«Дом для престарелых в Ланнвике,
Гримстад. 23 июля 1946 года
Господину генеральному прокурору,
Осло
Я сомневался, стоит ли мне писать это письмо. Ведь оно, вероятно, ничего не изменит. Да и мне в столь преклонные годы стоило бы найти себе другое, более подходящее, занятие. Мое оправдание в том, что я пишу не на потребу дня, я пишу для того, кто, быть может, прочтет это письмо, когда нас уже не будет. А еще я пишу для наших потомков.
После нескольких переездов в течение прошлого лета меня поместили 15 октября в психиатрическую клинику в Осло. Причина этого решения остается загадкой, и не только для меня. В официальном наименовании этого заведения есть слова „для нервно— и душевнобольных“, но я ни нервно-, ни душевнобольной. Я был стариком, и к тому же глухим, но я был здоров и бодр, когда меня вырвали из нормальной жизни, оторвали от работы и заперли там. Возможно, господину генеральному прокурору когда-нибудь зададут вопрос о его необдуманных действиях и самоуправстве в отношении меня. Вы могли бы вызвать меня к себе и хоть немного побеседовать со мной, но вы этого не сделали. Вы могли бы обезопасить себя медицинским заключением, где бы говорилось о необходимости поместить меня в клинику, но и этого вы не сделали. Местный врач обследовал меня в течение десяти минут „очень бегло“, по его собственным словам, может, он и сказал Вам что-то о моем „повышенном давлении“ и, быть может, о моем кровоизлиянии в мозг. Но разве из-за давления проводят освидетельствование психического состояния? И разве кровоизлияние в мозг, которое ни малейшим образом не отразилось на моей психике, — повод для перевода в психиатрическую клинику? Людей с кровоизлиянием в мозг немало, и атеросклероз не такое уж редкое и чем бы то ни было примечательное заболевание. Я знаю человека, который перенес кровоизлияние в мозг и тем не менее защитил целых две докторских диссертации. Он уверяет, что кровоизлияние ему в том помехой не стало.
Я должен исходить из того, что мое имя незнакомо господину генеральному прокурору. Однако Вы могли обратиться за справкой туда, где Вам бы ее дали. И уж кто-нибудь бы да рассказал Вам, что я не так уж безызвестен в мире психологии и что я за свою очень долгую писательскую жизнь создал несколько сотен персонажей — создал их и внешне, и внутренне похожими на живых людей, каждого со своим состоянием души и нюансами поведения, проявляющихся как в мечтах, так и в поступках. Но Вам все это было не нужно, Вы отослали меня, так сказать, не глядя, в некое заведение к профессору, который также ничего обо мне не знал. Зато был вооружен собственными знаниями, почерпнутыми из учебников и ученых трудов, которые он вызубрил наизусть и по которым сдал свои экзамены, но за всем этим скрывалось нечто иное. Если генеральный прокурор был так несведущ, то уж профессор-то должен был понимать, что меня следует незамедлительно отпустить. Он должен был понимать, что ему стоит не проверять на мне свои знания и что мой случай — вне его компетенции.
Кроме того, позвольте узнать, ради чего все это было затеяно? Ради того, чтобы объявить меня сумасшедшим, а значит, не способным отвечать за свои действия? Не хотел ли господин генеральный прокурор оказать мне эту услугу? Но напрасно Вы не приняли меня в расчет. Я с самого начала расследования, еще на допросе 23 июня, признал себя ответственным за все свои действия и с тех пор неизменно подтверждал это. Я абсолютно уверен, что если на суде смогу выступать свободно, то меня оправдают или, во всяком случае, будут готовы меня оправдать или вынесут такое решение, которое и мне самому покажется справедливым. Я знаю, что я невиновен, глух, но невиновен, я бы успешно выдержал экзамен, устроенный мне государственным прокурором, если бы только рассказал большую часть того, что происходило на самом деле.
Но вместо этого я был заперт в четырех стенах и провел в неволе несколько месяцев, провел в неволе, насилии, запретах, пытках, застенках инквизиции. Я прекрасно понимаю, что клиника может предоставить прекрасные отзывы, подтверждающие обратное. Нисколько в том не сомневаюсь. Мы все впечатлительны в разной степени, хорошо это или плохо, но мы реагируем по-разному в различных обстоятельствах. Некоторые живут, отдыхают и работают рывками, ни над чем особо не задумываясь. И если случится им на мгновенье почувствовать Божью благодать, то они способны будут своротить горы, а в остальное время ничто не потревожит их покоя. Что же касается лично меня, то я бы предпочел лучше отсидеть в кандалах в обычной тюрьме десять сроков, чем подвергнуться пытке пребывания с этими более или менее душевнобольными в психиатрической клинике.
Но именно там мне и пришлось задержаться.
Узника не жалеют. Профессор спрашивал, я отвечал; я писал и писал, потому что я глух, и я честно старался ответить на все вопросы. Я сидел и писал при плохом освещении, свет давала подвешенная высоко под потолком лампа, а ведь то были самые темные месяцы в году, и я стал чувствовать, что зрение мое ослабевает, но я все писал, чтобы дело и наука не потерпели из-за меня крушение. Профессор потребовал, чтобы я объяснил мои „два брака“, как он изволил выразиться. Я отказался — и сразу сделал это так решительно, что это, с моей точки зрения, окоротило профессора. По, как оказалось, не окоротило. Профессор повторил свой непристойный вопрос письменно и устно еще два раза, ссылаясь при этом на „власти“. Я не отвечал ему ни слова. Я не обстоятельства своей жизни хотел скрыть, я хотел прекратить непотребство.
Но профессор знал, что ему делать. Он добился у „властей“ разрешения, и в его клинику в Осло для освидетельствования доставили из Арендала мою жену. О результатах ее допросов можно прочитать на странице 132-й и далее большого заключения, посланного в окружной суд этим так называемым врачом.
Узника ни в коем случае нельзя щадить. Ни за что!
Когда в определенный момент я решил было, что приходит конец моим мучениям, профессор заставил меня пройти нечто, что он назвал судебной экспертизой или обследованием. Это оказалось не чем иным, как повторением пройденного. Те же самые вопросы и ответы, все повторилось в точности. Даже ни разу не изменилась интонация допросов, никакого нового поворота не было предпринято в обследовании, ничего нового, ни малейших изменений, на основании которых можно было предположить, что мы хотим хоть как-то расширить или углубить исследования. Ничего подобного. Единственное, что происходило, так это затягивание времени, затягивание на недели и месяцы.
Когда я в последний раз позволил себе надеяться на конец мучений, профессору переслали три моих письма, и мне вновь пришлось объясняться. Письма были написаны 50 — пятьдесят(!) — лет тому назад, и ничего плохого из них обо мне узнать было нельзя, напротив, там говорилось о скверном обращении со мною в полиции в ту пору, когда ее возглавлял печально известный Моссин. Но опять я должен был писать и писать, потому что я глух, и, хотя это не представляло уже никакого интереса ни для живых, ни для мертвых, эпизод был использован для того, чтобы помучить меня еще немного. Я смог и это преодолеть, но последние недели я держался исключительно за счет внутренних ресурсов. Когда мой друг отыскал меня там и забрал оттуда, я был как желе.
Ну и ради чего все это было затеяно? Во имя справедливости и правосудия задействовали огромный государственный аппарат. Назначение следователем двух заранее выбранных психиатров, поездки под надзором полиции, поездки по стране туда и обратно, шумиха вокруг визита иностранцев к содержащемуся взаперти чудищу, четыре месяца потрачено на наклеивание ярлыков на каждое мое воображаемое переживание… И вот долгожданный приговор: я не являюсь и никогда не был душевнобольным, но мое психическое здоровье ухудшилось.
К сожалению, ухудшилось. И резко ухудшилось именно во время моего пребывания в психиатрической клинике.
Виноваты в том два человека, но один держался — или его держали, — в полной тени. Я виделся с директором клиники дважды, каждый раз, наверное, минут по пятнадцать, мне он показался приличным и несамонадеянным человеком, мне даже удалось с ним поговорить. Правда, он допустил ошибку, ткнув мне в нос отчет о моей встрече с Гитлером, в ходе которой я якобы высказывался против евреев. Я и по сей день еще не читал того отчета, поэтому не могу подтвердить или опровергнуть его. Я высказывался против евреев? Да у меня среди них было много хороших друзей, друзей настоящих. Я любезно посоветовал господину директору изучить мои сочинения и постараться хоть в одном из них найти хоть один выпад против евреев.
Когда я позволил себе высказываться негативно о господине профессоре, который и был тем вторым человеком, я, разумеется, никоим образом не собирался ставить под сомнение его знания и квалификацию. Об этом не мне судить. Он наверняка знает свое дело, то есть он знает именно свое дело. Я утверждаю лишь, что его дело не имело ко мне отношения. Ни сам этот человек, ни его Geschaft мне не нравятся.
Господин генеральный прокурор! Одновременно с обнародованием вынесенного мне этими специалистами приговора Вы сделали публичное заявление, что прекращаете расследование моего дела и не будете передавать его в суд.
Прошу прощения, но Вы опять действовали, не считаясь со мной. Вы даже не подумали о том, что я могу быть не доволен данным решением, Вы забыли, что и в ходе следствия, и позднее я неизменно говорил об ответственности за свои действия и что я ждал суда. Благодаря Вашему импульсивному вмешательству я оказался между небом и землей, а дело мое так и осталось нерешенным. Опять половинчатость. Вы думали, что оказываете мне услугу, но это не так, и, я думаю, многие со мной согласятся. До недавнего времени я был не самым последним человеком в Норвегии, да и во всем мире тоже, и мне не нравится перспектива прожить остаток своих дней лицом, амнистированном Вами и не несущим ответственности за свои поступки.
Но Вы, господин генеральный прокурор, выбили из моих рук оружие.
Вы, верно, полагаете, что исправили ошибку теперь — задним числом, — послав мне повестку в окружной суд. Но сделанного не исправишь, потому что Вы меня жестоко оскорбили. И куда подевались Ваше „прекращение расследования“ и Ваше обещание „не передавать моего дела в суд“? Вы позволяете своим юристам и чиновникам давать интервью относительно моего дела, как только появляются новые обстоятельства, Вы используете меня в качестве подопытного кролика в Вашей весьма своеобразной судебной практике. Если бы Вы считались с моей точкой зрения и моими показаниями в ходе следствия, Вы бы постепенно избавились от необходимости действовать по указке журналистов и прессы. И, в конце концов, как быть с моими муками, когда на протяжении четырех месяцев меня держали в клинике? Должен ли я безропотно принять их? Или же эти мучения — предвестники грядущих пыток?
Будь на то моя воля, я бы настаивал на оправдательном приговоре по моему делу в окружном суде. Это не такая уж безнадежная затея, как Вам может показаться. Я бы употребил остатки своего „ухудшившегося психического здоровья“ прежде всего на то, чтобы предать гласности известные материалы, а после призвал бы суд рассмотреть мое дело по справедливости и только по справедливости.
Однако я отказался от своих планов, я утратил мужество. Даже в случае положительного исхода я предвижу немедленное закручивание гаек общественного мнения. Я снова стану подопытным кроликом.
С почтением
Кнут Гамсун».
Гамсун добился своего — суд был назначен на 18 февраля 1946 года, но состоялся 16 декабря 1947 года в помещении городского суда в Гримстаде.
Гамсун пишет:
«День настал. Заседает суд.
Поскольку я не слышу и мое зрение за последний год сильно ослабло, я слегка растерян, я захожу в темный зал суда, мне нужны указания, я с трудом различаю предметы. Сначала выступает прокурор, и ему отвечает назначенный мне тут же, на месте, защитник. Потом наступает перерыв.
Я не слышал и не видел, что происходило, но я спокоен и начинаю понемногу понимать, что происходит вокруг. После перерыва я получаю слово для изложения собственных взглядов по делу. Мне довольно трудно выступать, свет очень слабый, мне ставят лампу, но я все равно ничего не вижу; я держу в руках кое-какие записи, но уже и не пытаюсь разобрать, что там написано. Это уже и не важно. То, что я сказал, приводится здесь согласно стенографической записи.
(NB! Расшифровка стенографической записи автором не правилась.)
„Я не стану отнимать слишком много времени у уважаемого суда. Ведь это не я объявил в прессе давным-давно, годы и месяцы назад, что будет оглашен и рассмотрен полный список моих грехов. Это дело рук сотрудника Управления по возмещению нанесенного ущерба, некого судейского чиновника и журналиста. Кроме того, меня такой поворот дела даже устраивает. Я два года тому назад в длинном письме генеральному прокурору написал, что хотел бы разобраться в этом деле раз и навсегда. Сейчас у меня появилась такая возможность, и я хотел бы помочь суду рассмотреть список моих грехов с позиций порядочности и морали.
Я уже много раз видел за последние годы, как обвиняемые очень толково и с жаром защищали себя в суде при поддержке судейских, адвокатов и поверенных, но это мало им помогало. Суд, как правило, не обращал внимания на их усилия. Суд, как правило, обращал внимание на заключение государственного прокурора или общественного обвинителя, на так называемое обвинительное заключение. Этот загадочный термин мне не понятен. Я отказываюсь толково и с жаром защищать себя.
Кроме того, я прошу прощения за возможные ошибки в моей речи, причиной тому афазия, из-за которой я вынужден употреблять первые попавшиеся слова и выражения, а они могут не соответствовать сути сказанного или даже слегка исказить ее.
Впрочем, насколько я понимаю, я уже ранее ответил на все вопросы. Сначала ко мне заявились полицейские из Гримстада с бумагами, которые я, кстати, так не прочитал. Затем меня допрашивал следователь — два, три года или пять лет назад. Это было так давно, что я ничего не помню, но на вопросы я ответил. Потом был длительный период, когда меня заперли в некоем заведении в Осло, где пытались выяснить, не сумасшедший ли я, а может быть, и доказать, что я сумасшедший, и где я был должен отвечать на всевозможные идиотские вопросы. Так что вряд ли я смогу сейчас еще больше прояснить ситуацию, я и так уже сделал это.
Единственное, что может сразить меня — выбить почву из-под ног, — это мои статьи в газетах. А больше мне предъявить нечего. Поскольку весь я на виду. Я ни на кого не доносил, не участвовал в собраниях, даже не был замешан в махинациях на черном рынке. Я ничем не помогал ни Бойцам Фронта, ни другим представителям НС,[185] членом которой, как теперь утверждают, я якобы был. Значит, предъявить нечего. Я не был членом НС. Я пытался понять, что такое НС, я пытался разобраться в этом, но у меня ничего не получилось. Однако вполне возможно, что я и писал в духе НС. Не знаю, ибо не знаю, каков дух НС. И вполне может быть, что я писал в духе НС, потому что в мою голову могли запасть кое-какие сведения из газет, которые я читал. В любом случае мои статьи доступны всем и каждому. Я не пытаюсь преуменьшить их значение, сделать их менее значимыми, чем они есть на самом деле. Напротив, я отвечаю за каждую из статей и никогда от них не отказывался.
Я прошу обратить внимание, что я сидел и писал в оккупированной стране, захваченной стране, и потому мне хотелось бы очень сообщить некоторые краткие сведения о самом себе.
Мы мечтали, что Норвегия займет высокое, выдающееся место в мировом великогерманском сообществе, которое еще только зарождалось и в которое все мы — в разной степени — но верили, верили все. Я тоже верил и поэтому писал именно так. Я писал о Норвегии, которой суждено было занять столь высокое место среди других германских государств в Европе. То, что в том же тоне я был вынужден писать и об оккупационных властях, понять нетрудно. Я не должен был вести себя так, чтобы на меня пали подозрения, — но, вот парадокс! меня стали подозревать. Я — у себя в доме — был постоянно окружен немецкими офицерами и солдатами, даже по ночам, да, нередко и по ночам, до самого утра, и постепенно у меня создалось впечатление, что за мной установлена слежка, что за мной и моими домашними постоянно следят. Из достаточно высоких немецких кругов мне два раза (насколько я помню), два раза сообщили, что я сделал не так много, как некоторые названные поименно шведы, а ведь, как мне напомнили, Швеция сохраняла нейтралитет, в отличие от Норвегии. Мною были недовольны. От меня ожидали большего. И если я в таких условиях и при таких обстоятельствах продолжал писать, то очевидно, что мне в некоторой степени приходилось балансировать, мне, тому, кто я есть, человеку с таким именем, я вынужден был балансировать, учитывая и интересы моей родины, и другой страны. Я говорю об этом не для того, чтобы оправдать или защитить себя. Я себя не защищаю. Я даю показания уважаемому суду.
И никто не сказал мне, что я поступаю неправильно, никто, ни один человек в стране. Я сидел в полном одиночестве в своей комнате, предоставленный самому себе. Я ничего не слышал, я был глух, и никто со мной не хотел разговаривать. Мне стучали снизу по печной трубе, когда приходило время поесть, эти звуки я слышал. Я сходил вниз, ел и снова поднимался к себе наверх. Так продолжалось месяцами, годами, все эти годы именно так и было. И ни разу не подали ни малейшего знака. А ведь я не дезертир. У меня все-таки есть имя. Я считал, что у меня есть друзья и в обоих лагерях норвежцев, как среди квислинговцев, так и среди участников Сопротивления. Но ни разу мне не подали хотя бы малейшего знака, окружающий мир не дал мне ни единого доброго совета. Нет, этого окружающий мир старался всячески избежать. А от моих домашних и родных я почти никогда или очень редко мог получить какие-то объяснения или помощь. Ведь они должны были обо всем писать мне, а это так мучительно. Вот так я и сидел. В этих обстоятельствах мне оставалось лишь довольствоваться двумя моими газетами, „Афтенпостен“ и „Фритт фолк“, но они никогда не писали об ошибочности или неправильности моих поступков. Наоборот.
Но моя работа, как и мои поступки, не были ошибочными. Нет ничего дурного в том, что я тогда писал. Все было сделано правильно, и то, что я писал, тоже было правильным.
Я объясню. Что я писал? Я хотел предостеречь как норвежскую молодежь, так и людей зрелых от непродуманных и провокационных по отношению к оккупационным властям действий, ибо все это было бесполезно и могло привести лишь к гибели тех, кто их совершил. Вот что я писал и говорил об этом на разные лады.
К тем, кто нынче надо мною торжествует, потому что одержал победу, но победу мнимую, кажущуюся, к ним не приходили, как ко мне, целые семьи, начиная от простых и кончая представителями высшего общества, не приходили плачущие люди, чьи отцы, сыновья, братья сидели за колючей проволокой в концентрационных лагерях и были приговорены к смерти. Да, к смерти. У меня не было никакой власти, но они приходили ко мне. У меня не было совершенно никакой власти, но я посылал телеграммы. Я обращался к Гитлеру и к Тербовену. Я даже находил окольные пути, например, обращался к человеку по имени Мюллер, который, как говорили, влиял на ход событий из-за кулис. Наверняка где-то есть архив, в котором хранятся все мои телеграммы. Их было много. Я посылал их днем и ночью, когда время было дорого, а речь шла о жизни и смерти моих соотечественников. Жена моего управляющего по моей просьбе передавала телеграммы по телефону, поскольку сам я делать этого не мог. И именно из-за этих телеграмм немцы и стали относиться ко мне с подозрением. Они считали меня своего рода посредником, однако посредником ненадежным, за которым нужен глаз да глаз. Гитлер же вообще отказался читать мои обращения. Они ему надоели. Он отослал меня к Тербовену, но Тербовен мне не ответил. Помогли ли хоть кому-нибудь мои телеграммы, я не знаю, как не знаю и того, послужили ли мои газетные статьи предостережением для моих соотечественников, как то было мною задумано. Быть может, вместо того чтобы понапрасну рассылать телеграммы, мне стоило бы спрятаться самому. Я мог бы уехать в Швецию, как это сделали другие. Я бы там не пропал. У меня там много друзей, там живет мой великий и могущественный издатель. Я мог бы даже поехать в Англию, как опять же поступили многие и многие, и они-то вернулись назад на коне, хотя бросили свою страну, дезертировали. Я ничего подобного не сделал, не тронулся с места, мне это и в голову не пришло. Я решил, что принесу своей стране больше пользы, если останусь там, где я был, и буду по мере сил обрабатывать землю, ибо времена были трудные и люди испытывали недостаток буквально во всем, а кроме того, я решил поставить свое перо на службу Норвегии, которой предстояло занять высокое место в ряду германских государств в Европе. Эта мысль привлекала меня с самого начала. Более того, я был воодушевлен и охвачен ею. Не знаю, оставляла ли она меня хоть раз за все время, что я провел в одиночестве. Я считал, что это прекрасная возможность для Норвегии, я и сейчас считаю, что это была великая идея, достойная того, чтобы бороться за нее и претворять ее в жизнь: Норвегия, свободная и прекрасная страна на окраине Европы! Немецкий народ относился ко мне с уважением, равно как и русские, эти две могущественные нации оказывали мне поддержку, не всегда же они будут отклонять мои обращения.
Но дела мои не пошли так, как мне бы хотелось. Я очень быстро запутался в своих мыслях, я оказался в тупике, когда король и его правительство добровольно покинули страну, сложив с себя все полномочия. Это выбило почву у меня из-под ног. Я повис между небом и землей. Я потерял все точки опоры. Я сидел и писал, сидел и телеграфировал и думал. Моим обычным состоянием в то время было раздумье. Я думал обо всем. Я вспомнил, что все без исключения великие имена, составляющие гордость норвежской культуры, обрели мировую известность благодаря Германии и переводам на немецкий. Я имел полное право так думать. Но и в этом я, видите ли, ошибся, хотя это и бесспорнейшая истина в нашей истории, в нашей новейшей истории.
И эта моя деятельность не пошла мне во благо, вовсе нет. Наоборот, все стали считать, что я предал Норвегию, которую хотел возвысить. Я предавал ее. Что ж, пусть будет так. Пусть будет так, как хотят обвиняющие меня глаза и сердца. Это мое поражение, это мой крест, который я понесу. Через сто лет все забудется. Даже этот уважаемый суд забудется, совершенно забудется. Наши имена, имена всех присутствующих здесь сегодня через сто лет будут стерты с лица земли, и никто их не вспомнит, не назовет. Наши судьбы будут забыты.
Когда я сидел и писал по мере сил и возможностей и отправлял день и ночь телеграммы, я, оказывается, предавал родину. Я, оказывается, предатель родины. Пусть будет так. Вот только я себя таковым не чувствовал, таковым себя не считал, и сейчас я себя таковым не считаю. Я живу в полном мире с самим собой, и совесть моя чиста.
Я достаточно высоко ценю общественное мнение. И еще выше ценю наше норвежское судопроизводство, но все же не выше собственных представлений о добре и зле, о правом деле и неправом деле. Мой почтенный возраст дает мне право руководствоваться собственными правилами, и это право у меня никто не отнимет.
Всю свою жизнь, довольно долгую жизнь, в какой бы стране я ни был, среди какого бы народа ни жил, я всегда хранил в душе любовь и почтение к отчизне. Я намерен и впредь хранить в душе любовь к своей родине, тем более сейчас, в ожидании приговора.
А теперь мне бы хотелось поблагодарить уважаемый суд.
Вот то немногое, что я хотел сказать, пользуясь предоставленным случаем, чтобы не быть столько же немым, сколь и глухим. Но я не пытался себя выгородить. Если же кое-что в моей речи и прозвучало именно так, то это вытекает из самого ее содержания, из фактов, о которых я был вынужден упомянуть. Но это не было попыткой выгородить себя, поэтому я и не сказал о свидетелях, на которых мог бы сослаться, а таковые у меня есть. Точно так же я не стал говорить об остальных материалах, которые у меня имеются. Это может подождать. Подождать до следующего раза, а может, и до лучших времен и до другого суда. Когда-нибудь такой день наступит, так что я подожду. У меня есть время. Живой ли, мертвый, это без разницы, а главное, миру нет никакого дела до отдельно взятого человека, в данном случае до меня. Так что я подожду. Именно так я и сделаю“.
После моей речи выступил прокурор, а после него — мой защитник. И я вновь сидел час за часом, не ведая о происходящем. Под конец заседания мне передали несколько вопросов от судей в письменном виде, я на них ответил.
Так прошел день. На дворе уже был поздний вечер.
Наступил конец».
Гамсун был осужден по закону с обратным действием. Присяжный поверенный Эйде, председатель суда, выразил свое несогласие с судебным решением, поскольку счел недоказанным членство Гамсуна в НС.
В конце июня 1948 года Верховный суд вынес окончательный приговор. На писателя был наложен громадный штраф, который практически разорил его, однако сломлен Гамсун не был.
Глава двадцать вторая ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Сигрид Стрей поддерживала Гамсуна на протяжении всего времени их знакомства и сотрудничества, выполняла самые деликатные его поручения, хотя, как уже говорилось, всегда придерживалась противоположных политических взглядов и никогда не скрывала их от своего клиента.
В последние годы жизни писателя она была одним из самых доверенных его лиц. Именно она помогла ему получить заем у издательства «Гюльдендаль», чтобы выплатить необходимые первые взносы по наложенному штрафу и сохранить Нёрхольм, куда после суда и уехал писатель.
Именно ей Гамсун принес свою рукопись «По заросшим тропинкам» и поручил вести переговоры с издательствами. Писатель полагал, что его последняя книга поможет ему избежать финансового краха. И он, как всегда, оказался прав.
После долгих переговоров с Харальдом Григом и попыток издать книгу сначала за границей, потому что Григ предлагал подождать и не «дразнить» общественное мнение буквально на следующий день после приговора, «По заросшим тропинкам» были приняты к производству.
* * *
Отношения Гамсуна с Григом после войны совсем разладились.
После того как писателя выпустили из психиатрической клиники, он написал своему издателю 22 марта 1946 года:
«Дорогой Григ, я никак не могу понять, что произошло между нами — тобой и мной. Причиной этого не может быть мое так называемое „предательство родины“, это наверняка что-то другое. Я никак не могу понять, что именно, и если ты объяснишь мне это, я буду тебе искренне благодарен. Я, понятное дело, умер для Норвегии и всего остального мира, но ведь не это ты пытаешься показать мне? Тогда в чем причина произошедшего? Я хочу спросить тебя от всего сердца, что такого я сделал или, наоборот, не сделал.
С приветом Кнут Гамсун».
На это послание Григ ответил неделю спустя:
«Дорогой Гамсун. Ты удивляешься по поводу того, „что произошло между нами — тобой и мной“. Ответ прост: в борьбе не на живот, а на смерть мы стояли по разные стороны баррикад — и продолжаем делать это и сейчас. В мире мало людей, которыми я восхищался так сильно, как тобой, и мало людей, которых я любил так же сильно, как тебя. И никто более не разочаровал меня, чем ты. Я понял из твоего письма, что наш разрыв причиняет тебе боль. И я хочу, чтобы ты знал. Он причиняет и мне боль не меньшую. С приветом Харальд Григ».
В ответ Гамсун написал свое последнее из 180 писем к Григу:
«Дорогой Григ.
Благодарю тебя за твое письмо. Это был настоящий подарок. Более мне нечего сказать.
Твой Кнут Гамсун».
Своему сыну Туре Гамсун написал несколько дней позднее:
«Хорошо, что я получил ответ — каков бы он ни был. Но я не вижу в нем смысла. Это пустой звук обвинять меня в участии в „борьбе не на живот, а на смерть“».
Обычно «Гюльдендаль» всегда присылал все выпускаемые в издательстве книги своим акционерам, но после освобождения Норвегии Гамсун эти «сигнальные» экземпляры получать перестал. Через Сигрид Стрей он поинтересовался у Грига, в чем тут дело, и книги вновь стали ему приходить.
Надо сказать, что, несмотря на разрыв отношений, Харальд Григ до конца своих дней всегда с теплотой вспоминал о Гамсуне, но вот преодолеть политических разногласий не смог.
Сразу после войны книги Гамсуна не то чтобы перестали посылаться издательством, возглавляемым Григом, в магазины, они просто были лишены рекламы. А директор отдела продаж даже заявил в интервью одной газете, что «Гюльдендаль» «против сжигания книг, но мы также против усиления продажи таких книг, как книги Гамсуна, через рекламу и не собираемся включать их в свои каталоги».
Для самого же Гамсуна различие во взглядах никогда не было поводом перестать «дружить». Так, Альберт Энгстрём всегда посылал свои книги в Нёрхольм. Однажды он прислал книгу, в которой высмеивал Гитлера. В благодарственном письме Гамсун лишь слегка попенял ему на это, однако переписку и дружеские отношения не прервал.
О Григе Гамсун тоже всегда говорил как о своем друге. Сигрид Стрей вспоминала, что, когда она последний раз видела в Нёрхольме Гамсуна 7 мая 1951 года и показала ему новый каталог «Гюльдендаля» с фотографиями самого писателя и анонсом полного собрания его сочинений, он заплакал и сказал: «Какую весть Вы принесли мне. И я смог дожить до этого мгновения. Вот что сделал для меня Григ!»
Однако с выпуском книги Григ не спешил. Он ждал целый год с ее изданием, и, лишь только когда швейцарские и шведские издатели пригрозили издать книгу раньше «Гюльдендаля», Григ поторопился с отправкой рукописи в типографию в Норвегии.
Однако и тут возникли трудности. Григ настаивал на некоторых сокращениях — прежде всего большого пассажа о Лангфельдте.
Гамсун был неумолим.
В дело вмешался его друг Кристиан Гиерлёф.
Гамсун познакомился с Кристианом Гиерлёфом во время борьбы за независимость Норвегии в 1905 году, письмо 1911 года говорит о том, что они очень сблизились. Однако стали настоящими друзьями лишь в 1946 году.
Гиерлёф помогал Гамсуну чем мог. Антифашист, он оправдывал друга, считая, что в основе его мнимого предательства лежит англофобия. До нас дошли многочисленные письма Гамсуна и Гиерлёфа друг к другу.
Именно Гиерлёф забрал Гамсуна из психиатрической клиники и перевез его в дом престарелых в Ланнвике, он снабжал его всем небходимым — от мыла для бритья и черного сапожного крема до хороших сигар.
По одной из версий, именно Кристиан Гиерлёф предложил Гамсуну написать книгу воспоминаний и переживаний и неизменно поддерживал его в работе.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в обсуждение вопроса о сокращениях был вовлечен и Гиерлёф. Однако он переусердствовал и решил, что может без согласования с автором вносить собственную правку, которую его из-за ослабевшего зрения попросил сделать Гамсун, в корректуру книги. На письмо друга с уведомлением о «незначительной правке» Гамсун отвечает: «Сегодня ты написал мне, что в рукопись книги внесены лишь незначительные правки и ничего не стоит убрать их во второй корректуре. Будь так любезен, сообщи мне, какие именно незначительные правки были внесены в рукопись».
Надо сказать, что уговорить Гамсуна убрать имя Лангфельдта пыталась и госпожа Стрей. И ей был дан четкий ответ: «Вы и Григ должны выказать уважение к старому писателю и его желанию защититься, поэтому не вмешивайтесь в то, что он пишет именно так, а не иначе в своей книге… Говорю последний раз: я не выброшу имени Габриэля Лангфельдта из своей книги».
Госпожа Стрей впала в немилость, но Гиерлёф не угомонился и в течение нескольких недель продолжал настаивать на исключении имени Габриэля Лангфельдта из книги, в создании которой, как ему казалось, он принимал участие.
В результате Гамсун не выдержал и написал следующее письмо:
«Семейству Гиерлёф, Скотёй.
Господин Кристиан Гиерлёф знает, что более я не намерен отвечать ему. Тем не менее он позволяет себе забрасывать меня письмами и бандеролями, которые никогда не будут мною вскрыты. Мне никогда не доводилось слышать или читать о подобном бесстыдном поведении взрослого человека. И я прошу его семью защитить меня от посягательств.
Кнут Гамсун».
Это письмо вряд ли можно считать «положительным» для характеристики писателя. Но таков уж был Гамсун: он не умел прощать предательства и даже в своем очень почтенном возрасте совершенно не собирался смирять силу духа.
Он был борцом — и не мог оставить обидчика без отмщения. Помните, как он учил своих сыновей всегда давать сдачи, но только в том случае, если противник был более сильным? Вот и сам он имел полное право «дать сдачи» молодому и сильному Лангфельдту, который растоптал его семью и унизил его самого. И помешать ему дать сдачи не мог никто — даже старый друг.
Имя Лангфельдта и все куски текста, в которых он упоминался, были сохранены. Книга «По заросшим тропинкам» вышла в том виде, в котором писатель хотел ее видеть.
Мария Гамсун вспоминала, что у нее было ощущение, будто ее муж заключил с Богом договор: он не уйдет из жизни, не увидев напечатанных «По заросшим тропинкам». Так оно и случилось…
* * *
4 августа 1949 года Гамсуну исполнилось девяносто лет.
Поздравлений он получил множество, но многие газеты писали о нем как о предателе родины. Некоторые средства массовой информации просто предпочли о Гамсуне и его юбилее не вспоминать.
Однако в мире о Гамсуне и его книгах помнили. Так, в 1951 году ему было предложено принять звание рыцаря ордена Марка Твена. Из скандинавов такой чести удостаивались только двое — Сельма Лагерлёф и Ян Сибелиус.
В эти дни много говорили о наследстве Гамсуна и считали его деньги. Но писатель уже все уладил — при помощи Сигрид Стрей.
Он разделил свое имущество поровну между всеми детьми, включая и дочь от первого брака.
Он уже выплатил причитающееся ей наследство до войны, но после всех пережитых событий передумал и написал Виктории:
«Дорогая благословенная Виктория!
Ты была так добра и так терпелива со мной все это время, и все ждала и ждала… Послушай теперь меня, будь добра. Много лет тому назад ты получила кое-что от меня. Это было давно, и сумма была маленькой, но в те времена это было правильно, потому что я мало получал тогда. С тех пор я стал зарабатывать больше, и все доставалось твоим братьям и сестрам, а ты не получала ничего. Теперь ты будешь наследовать мне наравне со своими сводными братьями и сестрами, ты будешь включена в мое завещание, над которым я сейчас работаю… Я хочу поблагодарить тебя, дорогая Виктория, за то, что ты никогда не напомнила мне, что другие получили больше тебя, ты никогда не сказала мне ни единого слова, ни единого звука. Бог благословит тебя за это! Ты получишь причитающуюся тебе часть, как и остальные твои братья и сестры».
Нёрхольм, как и планировалось ранее, перешел Арильду.[186]
Суд согласился с адвокатом, и Виктория выиграла дело. С тех пор она и ее дети по праву могут пользоваться процентами от акций «Гюльдендаля» и отчислениями за авторские права на книги Гамсуна.
* * *
Гамсун отпраздновал юбилей в августе 1949 года, а в конце сентября вышла долгожданная книга «По заросшим тропинкам».
Сигрид Стрей написала Григу уже 29 сентября:
«Большое спасибо за книгу. Я тут же стала читать, и прерваться мне было трудно. Она меня просто заворожила, больше чем какая-либо другая книга. Быть может, это потому, что я все знаю о деле Гамсуна, потому, что я видела его в больнице, в доме для престарелых и в суде. Когда я читаю, я как будто слышу его голос.
Я читала рецензии в „Афтенпостен“, „Верденс Ганг“ и „Дагбладет“. Они должны преклониться перед его гением. И никто не отреагировал отрицательно на выход книги, совсем наоборот. Я очень рада, что к издательству не будет никаких претензий.
И еще я очень надеюсь, что продаваться книга будет хорошо, ведь семье так нужны деньги».
В Нёрхольме выход книги восприняли с радостью. Арильд читал отцу рецензии из газет, и тот был очень доволен.
Первоначальный тираж «По заросшим тропинкам» составил всего 5 тысяч экземпляров и, как только он поступил в продажу, был тотчас распродан. Так началось триумфальное шествие последней книги Гамсуна, которая и по сей день издается большими тиражами по всему миру.
Остаться к ней равнодушным невозможно.
* * *
«Выпустив эту книгу, — писал Туре Гамсун, — Кнут Гамсун сказал свое последнее слово как писатель. Поставленная им точка была звездой в его долгой литературной жизни и борьбе. Теперь на него снизошел покой вечерних сумерек — ему оставалось только следовать за течением дней».[187]
С возрастом Гамсун стал мягче и научился признавать свои ошибки. В письме к Виктории есть такие слова: «Я научился в старости признавать истину, что всё, что Бог ни делает, к лучшему. И надо сказать, что не слишком-то рано познал эту истину».
Он смог примириться не только с собой, но даже с Марией — во многом благодаря детям и ради них.
В апреле 1950 года он неожиданно попросил Арильда послать Марии, которая, отбыв двухлетний срок в тюрьме, жила в то время у Туре в Осло, телеграмму с просьбой приехать домой в Нёрхольм.
Мария немедленно приехала и ухаживала за своим старым мужем вплоть до его смерти двадцать месяцев спустя в возрасте девяносто одного с половиной года.
«Нам не нужно было больше запирать ворота, редко кто заходил к нам теперь, — писала Мария Гамсун. — Но если приходили, то приветливость Кнута распространялась и на гостя. В его кузнице больше не пылал огонь, не раскалялось докрасна железо; дрожащие нервы, неистовый нрав становились спокойнее. К нему возвращалось человеческое тепло, терпимость ко всем человеческим проявлениям.
…Кнут все еще без труда поднимался и спускался по лестнице и садился вместе с нами за стол. Уклад жизни в доме никогда не нарушался, и потому за завтраком он сидел один в столовой. Перед ним лежали хлеб, масло, сыр, варенье — как обычно, на протяжении сорока лет. Теперь из меню были исключены яйца, он больше не мог одолеть яйцо, сваренное в мешочек. На плите стоял кофейник, налить себе кофе давалось ему с трудом, но он не хотел сдавать последних позиций.
Так было заведено, когда он был писателем. Никто и ничто не должно было беспокоить его по утрам, ему нужно было излить за письменным столом еще свежие мысли и идеи, пришедшие ему на ум ночью.
Завтрак в одиночестве сохранился на всю жизнь.
Но потом мы заметили, что он почти ничего не ест: со стола исчезали лишь немного хлеба и варенье. Оказалось, он таким образом экономил в это трудное время. „Ты ведь должен выплачивать проценты, Арильд!“ — говорил он. Сам же он никогда не платил никаких процентов.
Мы намазывали хлеб маслом и несли ему. Он начинал ворчать что-то про „транжирство ради старика“. Мы следили за тем, чтобы он съедал все, иначе он экономил еще и на рыбе с мясом. „Пусть это достанется детям!“ — неизменно повторял он.
Он был вынужден экономно расходовать кофе. И здесь обстоятельства были на его стороне. На праздники мы всегда получали из Швейцарии пачку превосходного кофе. Ее присылал неизвестный нам читатель Гамсуна; он единственный из тысяч старых читателей, кто посылал Кнуту кофе! Имя его было Фриц. Еще из Америки приходила посылка с лучшим на этом континенте кофе, она была словно дар небес. Ее присылал совершенно неизвестный нам человек по имени Тённес.
В итоге, когда Кнут отказывал себе в еде, он по-прежнему охотно брал маленькую кружку, в которую я наливала ему кофе. При этом он пытался шутить, и, вероятно, это была его последняя шутка: „Это кофе от твоего Тённеса или от моего Фрица?“
Теперь, когда он перед многим смирился, ему пришлось смириться еще и с тем, что он не мог заставить других слушать себя. А между тем он, в отличие от меня, встречал многих, кто просто не всегда умел это делать.
Он терпеливо сносил все неудобства, когда я садилась возле него и пыталась читать ему в левое ухо „Агдерпостен“. Что-нибудь коротенькое, никаких длинных статей, только местные новости. Через события в мире я перескакивала.
Он говорил: „Не знаю, хорошо ли это, что я возвращаюсь к мелочам жизни. Я обращался к Богу. И мне кажется, Он немилостив ко мне“.
…Однажды пришло письмо от Туре. Распахнув окошко, я крикнула: „Эсбен, Эсбен, беги скорее к дедушке и скажи ему, чтобы он поднялся в дом, он сидит под золотым дождем!“
Туре писал нам, что немецкий издатель, доктор Вальтер Лист, приехал в Осло и охотно желал бы посетить Нёрхольм, чтобы поприветствовать Гамсуна и обсудить с ним продолжение издания его книг в Германии. Мне пришлось несколько раз крикнуть эту новость Кнуту, прежде чем он понял, о чем речь.
Старое издательство — „Альберт Ланген — Георг Мюллер“ — после войны было закрыто. Оно являлось прямым наследником издательства Альберта Лангена. Того самого, которое в крохотной каморке в Париже начинало издавать первые романы Кнута Гамсуна, а затем превратилось в крупнейшее в Германии издательство.
Через несколько лет это гамсуновское издательство возродилось, и оба издателя договорились между собой об издании книг Гамсуна.
Настала зима, и мы с Кнутом залезли в берлогу.
…В Нёрхольме мы всегда старались отгородиться от зимы. У нас хватало дров, и в доме стояли большие старинные печи.
…Подобная берлога должна была быть маленькой, чтобы в ней сохранялось тепло. В комнатке Кнута было хорошо, у меня тоже. Теперь между нами всегда была открыта дверь, а в прошлом она иногда закрывалась.
…Кнут располагался поудобнее в своем старом плетеном кресле, поближе к печке, чтобы чувствовать с ней общность.
…Он любил, когда я сидела рядом. Здесь стоял маленький деревянный стульчик, который он смастерил своими руками. Изящный, вечный. Он хотел, чтобы я садилась именно на этот стул, на расстоянии вытянутой руки от него, и время от времени что-нибудь кричала ему в ухо. Больше ему ничего не было нужно. Он здоров, он в состоянии справиться сам…
Если я иногда выходила за дверь, спускалась по лестнице и оказывалась на холодном дворе, то долго отсутствовать мне было нельзя. Ибо он тут же выходил следом за мной, останавливался у входа, между колоннами, набросив на плечи красное вязаное покрывало, и кричал, чтобы я возвращалась в берлогу.
Иногда к нам наверх приходили внуки: маленькие девочки болтали без умолку и ни минуты не могли устоять на месте, а он плохо слышал их и плохо видел. „Нет-нет, какие же они славные!“ — говорил он. Так он всегда отзывался о детях. С Эсбеном другое дело, тот уже научился выкрикивать нужные слова в нужное ухо: „У тебя тут просто сказка, дедушка!“
…Мы пережили зиму, самую снежную на памяти жителей Сёрланна. В Нёрхольме развалилась одна постройка — большой сарай, выстроенный Кнутом, когда мы сюда приехали. Но жизнь продолжалась, люди и животные стали жить дальше. И вот, как всегда, наступила весна.
…В это лето, последнее для Кнута, мы, как обычно, сидели на солнышке в саду. Однажды он еще долго оставался сидеть на скамейке, после захода солнца. Опустилась роса, вечерело, и он произнес: „Сделай что-нибудь, я замерз“. Я помогла ему дойти до кровати, поспешила обложить его бутылками с горячей водой, накрыть старым пальто поверх одеял. Но он всю ночь метался, и я была рядом с ним, вновь обкладывала его бутылками, укрывала его. Очень хорошо помню это, потому что та ночь стала поворотным пунктом…
Утром он начал бредить, не узнавал меня, думал, что я его мать. Пришел доктор, оказалось воспаление легких.
Кнут пережил болезнь. Но все же не преодолел ее, он был уже не таким, как прежде. Я больше не читала ему коротенькие местные новости. Он не хотел спускаться вниз к столу, вообще не хотел есть… Он говорил: „Я так и не умру…“
Кнут никогда не выносил мысли о смерти. Во всяком случае, до сих пор. Он любил жизнь, был глубоко привязан к ней… но теперь я стала замечать, что он готовится к неизбежному. Казалось, он обрел прочную связь с Богом своего детства и был очень спокоен.
Его мысли о Боге и вечности менялись на протяжении всей жизни, как меняется и сама жизнь. Но они всегда звучали в нем, громче или тише. Он читал Библию, она всегда была у него под рукой. Теперь она досталась мне. Библия 1886 года издания, большая книга в потертом коричневом кожаном переплете, со старинным шрифтом, на языке, который для него был исполнен поэзии. Эта старая книга сделалась его последним чтением; сидя с лупой, он разбирал в ней слова.
Потом уже и лупа не помогала, но он в ней и не нуждался, он знал многое наизусть. Однажды он произнес: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю“. В противном случае предстояло идти во тьму. Но теперь — к свету!
…Последние 48 часов он спал. Под конец я осталась у постели одна. Доктор был у нас вечером и пришел теперь снова. Наступила полночь, Кнут тихо скончался.
Жизнь, которую он любил, была временами жестока к нему, но смерть, которой он страшился, оказалась милосердной».[188]
Гамсун умер в ночь на вторник 19 февраля 1952 года.
Вместо заключения
Кнут Гамсун прожил долгую, трудную и достойную жизнь. Он никогда не изменял своим убеждениям, Родине и друзьям, он любил свою семью и заботился о ней, он никого и никогда не предавал и не убивал. Пожалуй, он даже не нарушил ни одной библейской заповеди, насколько это вообще возможно для живого человека.
Он обычный человек — и в нем, как и в каждом из нас, много «темного». Таких, как он, в XIX веке называли «чудаками и оригиналами» и считали способными на самые эксцентричные поступки.
Практически все авторы биографий и литературоведческих трудов о писателе говорят о его противоречивости. Он ненавидел театр и презирал актрис — и прожил большую часть жизни с одной из них, он называл себя крестьянином — и зарабатывал на жизнь писательским трудом, он выступал против феминизма — и одним из его близких друзей и, пожалуй, чуть ли не самым доверенным лицом стала чуть ли не единственная в то время в Норвегии женщина-адвокат Сигрид Стрей…
«Общее между Кнутом и героями его книг состоит в том, что он никогда не уступал давлению извне, — писала Мария Гамсун. — Он слушал свой внутренний голос, из самых глубин души, — тот голос, который вел его через трудное детство и юность, через годы тяжелой борьбы за то, чтобы стать писателем. И у него были причины полагаться на внутренний голос. Он не мог изменить ему, даже если для него самого это приводило к счастью или несчастью.
Однажды он сказал: „В нас есть нечто более глубокое, чем то, что у нас в головах“.
Он писал о юности и старости, о детоубийстве, о языке, о туризме, теологах, премиях мира — если перечислить лишь некоторые из его тем. Читатели газет имели повод пережить настоящий шок. Теперь так много выдающихся эссеистов, но в то время, пожалуй, неравнодушным был один Гамсун. Не только потому, что он виртуозно владел пером, но еще и потому, что писал он кровью. О нем говорили также, что он „отдаст свое имя за каждую ворону“.
Таким образом, он слыл эксцентричной натурой. А против ему подобных выступают все концентричные натуры, на стороне которых — большинство!
Я читала об эксцентричных натурах, в истории они встречаются. Их редко терпели. Чаще — хотя не столько в наше время, сколько в более варварские времена, — им рубили головы, растаптывали их, сажали на кол. А потом проходило время, и им ставили мраморные статуи, воздвигали их на пьедестал, и толпа, прежде терзавшая их, теперь им поклоняется».[189]
Норвежцы, горячо любившие своего героя, так и не смогли смириться с тем, что он (как и всегда в жизни) пошел своим путем. Даже новейшие исследования о Гамсуне, написанные норвежскими авторами, грешат совершенно очевидной пристрастностью.
Автор же этой биографии, тоже пристрастный к гению Норвегии и не скрывающий своей любви к нему, надеется, что читатель, после прочтения книги, в которой использовались только документальные материалы, потому и цитировавшиеся достаточно много, смог составить собственное мнение о человеке и писателе Кнуте Гамсуне.
А напоследок хочется вспомнить слова из Библии: «Не судите, да не судимы будете».
Приложение
Судебное постановление по делу Гамсуна 19 декабря 1947 года
В соответствии с судебным постановлением от 16 мая 1946 года Комитет по возмещению нанесенного во время войны ущерба от имени норвежского государства постановляет:
Кнут Гамсун приговаривается к выплате норвежскому государству 500 000 крон — равно и возмещению судебных издержек.
Основанием для данного решения суда послужило следующее:
«Нашунал Самлинг» своей преступной деятельностью… нанесла норвежскому государству ущерб, оцененный Министерством финансов в 280 000 миллионов крон.
Из этой суммы Комитет от имени норвежского государства постановляет возместить 500 000 крон за счет Кнута Гамсуна.
Основанием для этого решения послужило следующее:
Кнут Гамсун зарегистрирован в картотеке «Нашунал Самлинг» под номером 26 000 22 декабря 1940 года. Гамсун утверждает, что никогда не подавал заявления о вступлении в ряды НС, но признает, что всегда поддерживал эту партию и считал себя ее членом и в анкете НС от 15 января 1942 года письменно подтвердил свою принадлежность к партии Квислинга.
Гамсун в газетных статьях «Почему я стал членом НС» в «Гримстад Адрессетидене» от 30 января 1941 года и «Я не боюсь за судьбу Норвегии Видкуна Квислинга» в «Вестландске Тидене» от 23 октября 1941 года официально признавал свое членство в НС. Содержание этих статей было повторено в статье в «Дойче Цайтунг» от 23 октября 1941 года.
Кроме того, Гамсун в ряде статей сделал все возможное, чтобы подорвать волю народа к сопротивлению, нападая на наше законное правительство и наших сторонников, поддерживая оккупационные власти и призывая норвежцев к сражениям на стороне врага.
Также в интервью Гамсун призывал к поддержке врага. 23 июня 1943 года состоялась встреча Гамсуна с Гитлером в ставке последнего. Этой встрече предшествовал конгресс прессы в Вене, где была произнесена речь Гамсуна, полная выпадов против ненавистной ему Англии.
…Кнут Гамсун родился 4 августа 1859 года. По профессии писатель. Женат. Содержит жену.
…Суд интересует, насколько замешан Гамсун после 8 апреля 1940 года в антигосударственную деятельность «Нашунал Самлинг», что будет иметь значение при вынесении приговора.
…Так как сам Гамсун отрицает свое официальное членство в «Нашунал Самлинг», то суд счел нужным собрать фактические данные по этому вопросу, которые и приводятся ниже.
Гамсун действительно никогда не посылал никаких заявлений о принятии его в члены «Нашунал Самлинг». Но в картотеке партии он числится под номером 26 000 и приписан к Роголандской и Агдерской районной организации, 41 округа Эйде. Этот номер зарегистрирован 22 декабря 1940 года и впоследствии оставался личным номером Гамсуна. В октябре 1941 года Гамсун заполнил анкету пресс-бюро «Нашунал Самлинг» и ответил, в частности, на вопрос о том, что побудило его стать членом партии. Этот ответ был опубликован в «Гримстад Адрессетидене» от 14 октября 1941 года под названием «Почему я стал членом „Нашунал Самлинг“». Там Гамсун пишет: «Я всегда руководствовался своим крестьянским чувством здравого смысла и моим собственным умом, кроме того и интуиция подсказывала мне, что я должен стать человеком Квислинга. И я его человек уже многие годы, в несчастьях и радостях…»
15 января 1942 года он заполняет и отсылает анкету местного отделения партии в Арендале. В анкете, в частности, есть вопрос о том, был ли анкетируемый ранее членом «Нашунал Самлинг». На этот вопрос Гамсун не ответил.
Зато на следующий: «Если „да“, то когда вступили в партию» отвечает: «Я не вступал в партию, но всегда был человеком Квислинга».
В анкете, кроме того, были вопросы о личных данных, принадлежности к ложе масонов, еврейском происхождении etc. Эта анкета была своеобразным прошением о принятии в члены НС.
Гамсун присутствовал на некоторых партийных заседаниях в Гримстаде, но это вряд ли принесло ему много пользы — из-за глухоты. Однажды во время войны председателем отделения партии ему был вручен значок НС, который Гамсун носил до конца войны. Членский билет вручен, по всей вероятности, ему не был. Во всяком случае, Гамсун его лично не получал. Не платил он и членские взносы.
Суд считает, что в декабре 1941 года Гамсун был принят в члены НС без его личного на то согласия. Совершенно очевидно, что в то время вступить в члены партии было довольно легко. При последующей перерегистрации Гамсуну была послана анкета, о которой говорилось выше. После заполнения ее партийное руководство сочло вопрос о членстве Гамсуна решенным.
Для самого же Гамсуна эти формальности, конечно, не имели особого значения. И он не мог не знать, что в партийных кругах его считали одним из своих приверженцев. Если не сразу, то уж после появления статьи «Почему я стал членом НС», в которой он во всеуслышание заявил о своей принадлежности партии Квислинга. И когда впоследствии ему была прислана анкета и он заполнил ее, он должен был отдавать себе отчет в том, что его считают членом партии.
И он позволил опубликовать статью, в которой заявляет во всеуслышание о своей поддержке «Нашунал Самлинг» и Квислинга. В статье, которая была напечатана в «Вестландске Тидене» 31 марта 1943 года под заголовком «Я призываю студентов присоединиться к нам», он пишет:
«Более двух лет уже говорят, и пишут, и демонстрируют, и доказывают, что „Нашунал Самлинг“ значит для нашей страны и что мы должны сделать, чтобы стать свободным и великим народом в Европе нового порядка — так неужели наши студенты не услышали этих призывов?.. Неужели наши студенты не усвоили то, что глава нашего правительства Квислинг и все наши министры вдалбливали нам годами?»
Кроме того, 17 мая 1943 года были опубликованы, в том числе и во «Фритт фолк», поздравления Гамсуна в связи с десятилетним юбилеем партии.
Суд большинством голосов (2 голоса) решил, что Гамсун несет ответственность за свои действия и выступления в поддержку НС, начиная с января 1942 года… Председатель суда считает сомнительным тот факт, что Гамсун официально считался членом НС. Председатель не имеет в своем распоряжении убедительных доказательств того, что Гамсун посылал прошения о принятии его в члены партии или считал себя членом партии.
…Гамсуну было известно, что Норвегия с 1940 года и до конца войны была оккупирована немцами, которые считались врагами нашего народа. Ему было также известно, что король Норвегии и правительство находились в Лондоне и оттуда осуществляли руководство военными действиями после того, как были вынуждены покинуть страну. Ему также было известно о движении Сопротивления и о гибели норвежских патриотов. Он отдавал себе отчет в том, что, присоединившись к партии Квислинга и осуществляя пропаганду в поддержку немцев, помогал врагам родины.
Поэтому суд большинством голосов признает Гамсуна виновным во вреде, причиненном стране Квислингом и его партией в период управления страной с января 1942 года.
Именно с этого времени членство в «Нашунал Самлинг» считается преступлением.
…Уже в своем открытом письме к редактору «Нашунен», датированном 23 апреля 1940 года и опубликованном во «Фритт фолк» 1 мая 1940 года под заголовком «Правительство Нюгордсволда», Гамсун выступает против норвежского правительства и объявленной им мобилизации. Он пишет: «Правительство отдало приказ о мобилизации и сбежало. Оно знало, что мы не сможем защитить себя, но отдало приказ о мобилизации и сбежало. И теперь норвежская молодежь гибнет за правительство. Но нам есть чем занять молодых людей, кроме как заставлять их участвовать в сельскохозяйственных забастовках и умирать за правительство Нюгордсволда».
4 мая 1940 года во «Фритт фолк» появляется статья Гамсуна «Норвежцы», в которой он призывает норвежских солдат «отбросить винтовки и вернуться домой». Призыв подписан Кнутом Гамсуном. Суд недоумевает, каким образом Гамсуна можно считать неответственным за статью, которую он же сам и написал.
В письме Виктору Могенсу, датированном 17 августа 1940 года и с согласия Гамсуна опубликованном во «Фритт фолк» 28 сентября, он вновь выражает мнение, что со стороны правительства было неверным шагом объявить мобилизацию. Он говорит: «А что если бы мы выступили с протестом? Я имею в виду не какой-то конкретный случай, а общую политику правительства. Подумать только: мы должны были остановить немецкую мощь! Что если бы избранные солдаты и офицеры пошли бы к королю и его правительству и доказали бы им, что они идиоты и преступники?
Депутаты стортинга, которые выбрали себя сами, обращаются к королю без королевства и без страны, не будет ли он так милостив вернуться в Норвегию. Нет, не будет. И все успокаиваются. Неужели у вас нет сил для принятия решения?»
В том же самом письме Гамсун говорит, что необходимо новое правительство во главе с Квислингом.
В ряде газетных статей во время оккупации Гамсун неоднократно выступал в поддержку Германии и правительства Квислинга и нападал на союзников Норвегии. В статье от 30 января 1941 года в «Гримстад Адрессетидене» он выражал уверенность в том, что все изменения в стране пойдут на пользу Норвегии и Германии и что «вскоре на Севере наступит расцвет культуры, построенной на германских взглядах и убеждениях».
…13 июня 1941 года Гамсун выражает уверенность в том, что Германии удастся сохранить позиции на Западном фронте после вторжения во Францию и что это единственное спасение для народов Европы.
Говоря о пропагандистской деятельности, которую Гамсун вел в защиту врага, нельзя не вспомнить о поездке, предпринятой им летом 1943 года в Вену на конгресс прессы, организованный «Объединением национальных журналистских сообществ», в котором принимали участие ведущие журналисты Германии и оккупированных немцами стран. Поездка была совершена по инициативе главного редактора «Фритт фолк» Рисховда, также принимавшего участие в конгрессе. Рисховд зачитал речь, которая была специально для этого случая написана Гамсуном и содержала в себе агрессивные выпады против Англии. Поездка Гамсуна была широко освещена в нацистской прессе и использована для пропагандистских целей, что должен был предвидеть и сам Гамсун.
Во время пребывания в Вене Гамсун совершил поездку на самолете к Гитлеру. Во время этой поездки он потребовал убрать из Норвегии Тербовена, поскольку последний не нравился норвежскому народу и желал превратить Норвегию в немецкий протекторат. Взаимопонимания по этому вопросу не получилось.
При определении вины Гамсуна и ущерба, который нанесла Норвегии его деятельность, особое внимание следует уделить факту, что он был всемирно известным писателем и одним из самых выдающихся деятелей норвежской культуры. Благодаря своему литературному, социальному и экономическому статусу, а также авторитету среди норвежцев, поведение Гамсуна в высшей степени было показательным для его сограждан и служило примером для других, чего сам Гамсун не мог не понимать.
По поводу поведения и убеждений Гамсуна суд считает нужным заметить, что он вел себя, исходя из своих личных взглядов, не принимая во внимание долг верности своему государству и уважение законов своей страны. С ранней юности Гамсун был поклонником Германии. Англию же он всегда ненавидел. И у него постепенно возникла идея Европы, свободной от влияния Англии. И когда немцы вторглись в Норвегию в 1940 году, он сразу усмотрел в этом возможность осуществления своей мечты. Он сразу принял план Германии о включении великой и свободной Норвегии в великий немецкий союз. Подобные убеждения были и у Квислинга, и поэтому Гамсун счел естественным поддержать его. И совершенно естественно, что Гамсун сам должен нести ответственность за собственные действия, когда они стали противоречить существующим законам.
Известно, что последние годы Гамсун, по причине своей глухоты и других обстоятельств, жил очень изолированно. Во время войны он был вынужден обращаться к газетам, чтобы узнать о происходящем в стране. Он был лишен информации, которая могла бы возбудить в нем подозрение в правильности его действий.
…Гамсун использовал свое влияние, чтобы смягчить участь политических заключенных или спасти их.
Он всегда отзывался на просьбы о помощи и… посылал множество прошений о помиловании, в том числе и Гитлеру. Мы исходим из того, что аресты и казни произвели на Гамсуна тяжелое впечатление, и статья «Опять!» должна рассматриваться с этой точки зрения.
…В заключение суд считает необходимым заметить, что Гамсун осенью и зимой 1945 года проходил обследование в психиатрической клинике. В медицинском заключении… говорится, что Кнут Гамсун не является психическим больным и не был им в период войны… Суд не видит причин считать, что Гамсун не понимал, что делает, и не отдавал отчета в собственных действиях.
…В медицинском заключении написано:
«Очевидно, что поведение Гамсуна могло бы быть иным, если бы он нормально слышал и мог самостоятельно следить за мнением общественности. Кроме того, с 1942 года он был болен атеросклерозом, а в апреле того же года у него случилось первое кровоизлияние в мозг. В это время он был легко внушаем и не мог противостоять влиянию извне. После кровоизлияния у него возникла афазия — потеря речи, — что также повлияло на его способности судить самостоятельно и противостоять нацистской пропаганде».
Учитывая все вышеизложенное, суд снижает штраф до 425 000 крон.
…За исключением вышеуказанных разногласий, суд вынес приговор единогласно.
Основные даты жизни и творчества Кнута Гамсуна
1852, 14 октября — венчание Педера (Пера) Педерсена и Торы Гармутреет.
1859, 4 августа — в семье Педера (Пера) и Торы Педерсенов родился сын Кнут.
28 августа — Кнут был крещен в церкви Гармо.
1868 — Кнута отдают в дом дяди Ханса Ульсена, которому мальчик должен был стать опорой — в прямом и переносном смысле этого слова. Дядя издевался над ребенком, и вскоре Кнут возненавидел своего мучителя. В этом же году Гамсун пошел в специальную приходскую «передвижную» школу.
1873 — Кнут оканчивает школу и уезжает на работу в Лом к своему крестному, торговцу Турстейну Хестехагену. Кнут работает в лавке и готовится к конфирмации.
1874, 4 октября — состоялась конфирмация Кнута в Ломе. Поссорившись с крестным, Гамсун уезжает к родителям и вскоре устраивается на работу младшим приказчиком у местного богача и настоящего властелина округи Валсё. Первая любовь — младшая дочь Валсё Лаура.
1874–1875 — Кнут отправляется бродяжничать по стране. Работает коробейником. Сведения об этих годах его жизни скудны и противоречивы.
1875 — родители уговорили Кнута поступить в ученики к своему родственнику — сапожнику Бьёрнсену из Будё.
1876 — Кнут бросает ремесло и вновь становится «перекати-поле».
1877 — выходит первое произведение Гамсуна — повесть «Загадочный человек. Любовная история, случившаяся в Нурланне».
1878 — отец помогает Гамсуну устроиться на работу к ленсману Нурдалу в Бё на Лофотенских островах. Кнут влюбляется в младшую дочь ленсмана Ингер. Выходит поэма «Свидание».
1879 — на свои деньги Гамсун издает роман «Бьёргер» и занимает место школьного учителя в округах Рингстад и Нюквог. Летом Кнут получает «стипендию» от матадора Паля для продолжения писательской карьеры и уезжает в Хардангер, где работает над крестьянской повестью «Фрида».
Осень — Гамсун отправляется с «Фридой» в Копенгаген, где показывает ее издателю Ф. Гегелю и получает оскорбительный отказ.
Зима — Гамсун возвращается в Норвегию и наносит визит в Аулестад к Бьёрнстьерне Бьёрнсону. По совету своего кумира Кнут решает забыть о писательском деле и заняться театром. Возвращение к творчеству и попытка найти мецената. Голодное время, нужда и нищета.
1880, январь — Гамсун получил работу в Дорожной службе Норвегии и отправляется в Тотен. На строительстве дорог в Тотене Гамсун проработал почти два года и сделал неплохую карьеру: от простого рабочего до учетчика.
1880–1881 — чтение первых публичных лекций, в том числе по скандинавской литературе и об Августе Стриндберге.
1882, январь — Гамсун уезжает в Соединенные Штаты Америки.
1882–1884 — годы странствий и тяжелого труда в Америке. Чтение публичных лекций. Знакомство с писателем и унитарианским священником Кристофером Янсоном и отъезд в Миннеаполис, где Гамсун работает литературным секретарем Янсона.
1884 — Гамсун заболевает чахоткой и уезжает домой в Норвегию, где он обосновывается в небольшом горном городке Эурдале в Вальдресе.
1885, весна — происходит чудо — Кнут полностью выздоравливает. В это же время в столичном журнале в трех номерах была напечатана статья Гамсуна о Марке Твене, которая была подписана Кнут Гамсунд, но в результате типографской ошибки «д» отпало, и с тех пор писатель стал Гамсуном.
Зима — Кнут уезжает из Вальдреса в Кристианию.
1886 — тяжелая жизнь в столице, случайные заработки, голод и унижения.
Осень — богач и меценат гроссерер Дублауг дает Гамсуну взаймы денег, и Кнут вновь уезжает в Америку.
1886–1888 — годы жизни в США. Сначала Гамсун работал на строительстве железной дороги, кондуктором «электрического трамвая», сельскохозяйственным рабочим на ферме, перебивался случайными заработками, но затем уехал к Кристоферу Янсону.
1888, лето — Гамсун возвращается в Скандинавию, живет в Копенгагене, где работает над книгой «Голод».
Ноябрь — печатаются первые главы из «Голода».
Зима — выступает с лекциями о духовной жизни Америки.
1889, март — выходит книга очерков «О духовной жизни современной Америки». Книга принесла Гамсуну заслуженный успех и первые деньги. Гамсун стал модным, он вошел в круг скандинавской богемы. Несколько раз он посещает Кристианию, но неизменно возвращается в Копенгаген, где ему хорошо работается. Он понимает, что ключ к его успеху в жизни — «Голод».
1890, весна — «Голод» завершен и практически тут же напечатан. После появления книги Гамсун начал вести жизнь профессионального писателя.
Лето — Гамсун уезжает в норвежский городок Лиллесанд для работы над новой книгой. Роман с английской писательницей Мэри Данн.
Осень — начинает годичное турне с лекциями по Норвегии, результатом которого стала революция на норвежском Парнасе.
1891, лето — Гамсун решает сделать паузу в турне и приезжает поработать в «тихий уголок» Сарпсборг. Роман с горничной Каролиной, работавшей в местном отеле. «Голод» выходит на немецком языке.
Осень — чтение в Кристиании трех знаменитых лекций: «Норвежская литература», «Психологическая литература» и «Модная литература».
1892, январь — май — Гамсун живет в Кристиансанне. Помолвка с фрекен Лулли Льюис и ее расторжение.
Осень — в Копенгагене выходит роман «Мистерии».
Зима — Гамсун уезжает работать над новым памфлетно-критическим романом «Редактор Люнге» на датский остров Самсё.
1893 — выходят два памфлетно-критических романа — «Редактор Люнге» и «Новые всходы». Гамсун уезжает в Париж.
1893–1895 — Гамсун живет в Париже, где ведет богемный образ жизни и знакомится с лучшими представителями мировой литературы и искусства. Во Франции Гамсун много писал и печатал критических статей. В это время он часто приезжал в Скандинавию.
1894 — Гамсун знакомится с немецким миллионером Альбертом Лангеном, который становится его «постоянным» издателем.
Январь — Гамсун начинает работу над «Паном».
1895 — написана первая часть драматической трилогии об Иваре Карено, пьеса «У врат царства».
1896 — Гамсун возвращается в Норвегию. Сначала он обосновывается в санатории в Фоберге неподалеку от Лиллехаммера, где поправляет здоровье. Выходит вторая часть драматической трилогии об Иваре Карено, пьеса «Игра жизни». Гамсун много выступает с публичными лекциями и критическими статьями.
1897 — Гамсун переезжает в пансион фрекен Хаммер в Льян, предместье Кристиании, где и знакомится с фру Бергльот Гёпферт (урожденной Бек), женой австрийского консула в Кристиании. Выходит первый сборник новелл Гамсуна «Сиеста».
1898, 13 мая — после получения Бергльот развода она вышла замуж за Кнута Гамсуна. Медовый месяц молодые провели в санатории в Оппегорде на берегу красивого озера. Затем пара уезжает в Эурдал, где Гамсун пишет роман «Виктория». В этом же году он пишет заключительную часть трилогии об Иваре Карено, пьесу «Вечерняя заря».
Зима — Гамсун получает стипендию от Союза писателей Норвегии, которую не смог получить годом ранее, и уезжает с женой в путешествие на Восток. Остановка в Финляндии.
1899 — Гамсуны живут в Гельсингфорсе, а летом отправляются в путешествие по России, Кавказу и Турции.
1900, март — супруги приезжают в Копенгаген, где писатель начинает работу над книгой путевых очерков «В сказочном царстве».
Апрель — Гамсуны возвращаются в Кристианию. Бергльот остается в столице, а Кнут впервые за 25 лет едет к родителям на север Норвегии, где проводит полгода. Брак Гамсуна трещит по всем швам.
1901, весна — Гамсун уезжает в Бельгию в надежде выиграть денег в казино и тем самым поправить свое финансовое положение, но проигрывает в Остенде очень большую сумму. Жена присылает ему деньги, и Гамсун тяжело переживает свой долг Бергльот.
1902, 15 августа — у Гамсунов рождается дочь Виктория. Выходит историческая драма в стихах «Мункен Вендт».
1903 — выходят сразу три книги Гамсуна — «В сказочном царстве», драма «Царица Тамара» и сборник рассказов «Густые заросли». Благодаря гонорарам за эти книги Гамсун гасит свой долг Бергльот.
1904 — выходят первый сборник стихов Гамсуна «Дикий хор» и роман «Мечтатели».
1905 — выходит третий сборник рассказов Гамсуна — «Бурная жизнь».
Весна — Гамсун покупает участок земли и начинает строительство дома по собственным чертежам для своей семьи в Дрёбаке.
1906, 20 апреля — развод Гамсуна и Бергльот. Дочь остается с матерью, но отец в специальном мировом соглашении оговаривает право своих встреч с ней. Гамсун пишет роман «Под осенней звездой», начало «трилогии о странниках».
1907 — Гамсун переезжает в Конгсберг, где проводит время в свое удовольствие и ничего особенно не пишет. Выходит собрание сочинений писателя в пяти томах.
17 марта — умирает отец Гамсуна.
1908, апрель — Гамсун знакомится с актрисой Марией Андерсен, которая вскоре станет второй женой писателя. Выходит роман «Бенони». К Гамсуну приезжает на лето дочь Виктория.
Осень — выходит роман «Роза» — продолжение «Бенони».
1909, 25 июня — состоялась свадьба Кнута и Марии. Молодые уехали в короткое свадебное путешествие в Лиер. Затем Гамсун отослал жену погостить к ее сестре в Драммен, а сам провел остаток лета с дочерью Викторией.
Осень — Гамсун с женой переезжает на постоянное место жительства в Сульлиен. Там он пишет вторую часть «трилогии о странниках» «Странник играет под сурдинку».
1910 — лето Гамсун проводит с дочерью Викторией, поэтому свой юбилей, который праздновала вся Норвегия, он справил без Марии.
16 ноября — в Национальном театре в Осло состоялась премьера пьесы «В тисках жизни».
1911, весна — супруги едут в Хамарёй и в полумиле от Гамсунда, хутора отца Гамсуна, покупают усадьбу Скугхейм — Лесной дом.
1912, 3 марта — у Кнута и Марии рождается первый ребенок — сын Туре. Летом в Скугхейм приезжает в гости к отцу Виктория.
Осень — Гамсун пишет заключительную часть «трилогии о странниках» «Последняя радость».
1913 — выходит роман «Дети века». Гамсун впервые открыто выступил в защиту Германии, во всеуслышание заявил о своей прогерманской позиции.
1914, 3 мая — родился сын Арильд.
1915, 23 октября — родилась дочь Эллинор. Выходит продолжение «Детей века» — роман «Местечко Сегельфосс».
1916 — Гамсун работает над романом «Соки земли». В начале года Скугхейм выставили на продажу.
1917, весна — Скугхейм продан, а семья Гамсуна переезжает в Ларвик.
13 мая — родилась дочь Сесилия.
Осень — выходят «Соки земли».
1918, ноябрь — семейство Гамсуна вселилось в новый дом — Нёрхольм.
1919, 6 января — умирает мать Гамсуна.
1920, осень — выходит роман «Женщины у колодца». Гамсуну присуждают Нобелевскую премию в области литературы за роман «Соки земли».
10 декабря — вручение Нобелевской премии.
1922–1925 — судебный процесс по поводу использования псевдонима Гамсуна его младшим братом Турвальдом и племянником Альмаром.
1923, осень — выходит роман «Последняя глава».
1924 — Гамсун покупает 400 акций издательства «Гюльдендаль» и становится одним из крупнейших его акционеров.
1926, январь — июнь — Гамсун проходит курс психоанализа в Осло.
Лето — возвращается в Нёрхольм, где начинает работать над «Бродягами», первой частью трилогии об Августе.
Осень — вместе с семьей приезжает в Осло, и теперь к психоаналитику ходит Мария.
1927, январь — Гамсун начинает повторный курс психоанализа.
Весна — семья возвращается в Нёрхольм.
Осень — выходят «Бродяги».
1929, 4 августа — мир чествует Гамсуна и поздравляет его с семидесятилетием.
1930 — Гамсун переносит операцию в Арендале. Серьезно болеют Мария, Эллинор и Туре.
Осень — выходит вторая часть трилогии «Август».
1931, февраль — Гамсун вместе с женой и Туре уезжает на Французскую Ривьеру.
Март — Кнут и Мария возвращаются в Нёрхольм. Гамсун продает «Гюльдендалю» все свои права.
1931–1934 — судебный процесс по поводу использования имени Нёрхольма его бывшими владельцами.
1933 — Гамсун выкупает свои авторские права у «Гюльдендаля». Выходит последняя часть трилогии об Августе «А жизнь идет».
1934, весна — писатель отправляется во Францию навестить Эллинор и Арильда, а летние месяцы проводит в Лиллесанде и Кристиансанне. Институт Гёте присудил ему свою премию, которую Гамсун принял, но полагающиеся 10 тысяч немецких марок передал в фонд помощи немецким рабочим.
1935, лето — совершает поездку во Францию и Германию, работает там над своим новым романом «Круг замкнулся». Отношения между супругами постепенно разлаживаются.
1936 — серьезные неприятности в семье.
Осень — выходит роман «Круг замкнулся».
1938, март — поездка в Италию.
Апрель — май — поездка в Дубровники (Югославия).
1939, 4 августа — восьмидесятилетний юбилей Гамсуна.
1 сентября — начинается Вторая мировая война, и симпатии писателя — на стороне Германии.
1940, 9 апреля — Германия вторглась на территорию Норвегии.
1940–1945 — Гамсун пишет статьи в поддержку Германии. Одновременно пытается спасать заключенных концлагерей и приговоренных к смерти.
1942, 6 апреля — у Гамсуна случился первый инсульт. Всего их за время войны будет три.
1943 — Кнут и Мария побывали в гостях у Геббельса. После этой знаменательной встречи Геббельс отдал приказ напечатать собрание сочинений Гамсуна тиражом в 100 тысяч экземпляров, а Гамсун отсылает ему свою нобелевскую медаль.
26 июня — состоялась встреча Гамсуна с Гитлером.
1945, 7 мая — Гамсун из «чистого рыцарства» пишет некролог Гитлеру.
26 мая — Кнут и Мария подвергнуты домашнему аресту.
14 июня — Гамсуна отправляют в больницу в Гримстаде.
23 июня — состоялся первый допрос.
2 сентября — Гамсуна переводят в дом для престарелых в Ланнвике. Суд над Гамсуном постоянно переносится.
15 октября — Гамсуна переводят в психиатрическую клинику профессора Лангфельдта в Осло, из которой он выйдет, по его собственным словам, в состоянии «желе».
1946, 11 февраля — Гамсуна возвращают в дом престарелых в Ланнвике.
1947, 16 декабря — состоялся суд над Гамсуном. Разоренный писатель возвращается в Нёрхольм.
1948 — Гамсун заканчивает рукопись «По заросшим тропинкам» и начинает вместе со своим адвокатом фру Стрей борьбу за издание книги. Писатель составляет завещание в пользу своих детей.
1949, 4 августа — Гамсуну исполнилось девяносто лет.
Сентябрь — вышла книга «По заросшим тропинкам».
1950 — Гамсун попросил Марию, с которой он не общался с 1945 года, вернуться домой в Нёрхольм.
1951 — Гамсуну было предложено принять звание рыцаря ордена Марка Твена.
1952, 19 февраля — Кнут Гамсун скончался в своей комнате в Нёрхольме.
Избранная библиография
Галь Н. Слово живое и мертвое. М., 2003.
Гамсун М. Под сенью золотого дождя / Пер. с норв. Т. Чесноковой. Рукопись.
Гамсун Т. Кнут Гамсун — мой отец. М., 1999.
Даниельсен Р., Дюрвик С, Греши Т., Хелле К., Ховланн Э. История Норвегии. От викингов до наших дней. М., 2003.
Кан А. С. История Скандинавских стран. М., 1971.
Лауреаты Нобелевской премии. Т. 1–2. М., 1992.
Норвежский ландшафт // Иностранная литература. 2005. № 11.
Переписка М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960.
Ристад У. История внешней политики Норвегии. М., 2003.
Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. М., 2004.
Творчество и судьба Кнута Гамсуна. М., 2001.
Хейберг X. Генрик Ибсен. М., 1975.
Шарыпкин Д. М. Русская литература в Скандинавских странах. Л., 1975.
Шверубович В. В. О старом Художественном театре. М., 1990.
Bull F. Rnut Hamsun раа ny. Oslo, 1954.
Den unge Hamsun (1859–1888). Oslo, 1998.
Falkenstjerne V., Jensen B. Haandbog i dansk litteratur. Kobenhavn, 1955.
Ferguson R. Gaaten Knut Hamsun. Oslo, 1988.
Gierlфff K. Kjaerlighet og hat i storpolitikken. Oslo, 1950.
Grieg H. En forleggers erindringer. Oslo, 1971.
K. Hamsun. Brev til Marie. Oslo, 1970.
Hamsun M. Hamsun. Eine Bildbiograpfie. Munchen, 1959.
Hamsun M. Regnbuen. Oslo, 1953.
Hamsun M. Under gullregnen. Oslo, 1959.
Hamsun T. Knut Hamsun. Oslo, 1959.
Hamsun T. Knut Hamsun — min far. Oslo, 1987.
Hamsun og Norden. Ni foredrag fra Hamsum-dagene pa. Hamaroy, 1992.
Hamsun-symposium. Oslo, 2002.
Hansen T. Prosessen mot Hamsun. Oslo, 1978.
Hфyesterett og Knut Hamsun. Oslo, 2004.
Janson K. Hvad jeg liar oplevet. Kristiania, 1913.
Kittang A. Hamsun. Dessfflasjons roman fra Suit til Ringen sluttet. Oslo, 1984.
Knut Hamsuns brev. 1908–1914. Utg. av Haraid S. Naess. Oslo, 1996.
Knut Hamsun som nan var. Oslo, 1956.
Kolloen I. S. Knut Hamsun. Biografi i 2 bd. Oslo, 2003–2004.
Langfeldt G., 0degaard 0. Den rettspsykiatriske erklaering om Knut Hamsun. Oslo, 1978.
Langslet L. R. Rev eller pinnsvin? Oslo, 1995.
Nag M. Geniet Knut Hamsun — en norsk Dostojevskij. Oslo, 1998.
Nag M. Hamsun og Dostojevskij. Oslo, 1993.
Nettum R. N. Konflikt og visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap. Oslo, 1970.
Naess H. Knut Hamsun. Oslo, 1984.
Naess H. Knut Hamsun og Amerika. Oslo, 1969.
Om Knut Hamsun og Nфrholm. Oslo, 1961.
0stby A. Knut Hamsun — en bibliografi. Oslo, 1972.
0yslebф 0. Hamsun. Gjennom stilen. Oslo, 1964.
Stray S. Min klient Knut Hamsun. Oslo, 1995.
Основные издания произведений Кнута Гамсуна на русском языке
Полн. собр. соч. В 12 т. М., 1905–1908.
Полн. собр. соч. В 5 т. СПб., 1910.
Собр. соч. В 6 т. М., 1991–2000.
Август. М., 2002.
А жизнь продолжается. М., 2003.
Виктория. М., 1994.
В сказочном царстве. М., 1993.
В сказочном царстве // Рюдберг Б., Фёрланд У. П. В сказочном царстве — сто лет спустя. М., 2005.
Избранное. М., 1996.
Избранные произведения. В 2 т. М., 1970.
Круг замкнулся. М., 1999.
Мечтатели. М., 2006.
На заросших тропинках. М., 1993.
Незнакомый Гамсун. Мурманск, 2001.
О духовной жизни современной Америки. СПб., 2007.
Скитальцы. М., 2001.
Фотографии
Отец Гамсуна, Педер (Пер) Педерсен
Мать Гамсуна, Тора Гармутреет Педерсен
Хутор Хамарёй
Злой гений Гамсуна — дядя Ханс Ульсен
Пятнадцатилетний Кнут Гамсун перед конфирмацией
Интерьер лавки Валсё
В поселковой лавке. Конец XIX в.
Гамсун в кругу друзей перед лавкой Валсё. 1876 г.
Обложка книги Гамсуна «Бьёргер». 1878 г.
Фредерик Хегель, директор датского издательства «Гюльдендаль»
Рыбачий поселок на Лофотенских островах. Северная Норвегия
Кнут Гамсун в форме кондуктора. Чикаго. 1886 г.
Норвежские переселенцы на уборке пшеницы в штате Висконсин. 1875 г.
Эрик Фрюденлюнд
Кристофер Янсон
Дом Друде и Кристофера Янсона в Миннеаполисе
Афиша лекций Гамсуна о литературе. Кристиания. 1891 г.
Кнут Гамсун. Э. Вереншёльд. 1889 г.
Типичная улица Бергена. Начало XX в.
Кнут Гамсун. 1890 г.
Август Стриндберг. 1890-е гг.
Портрет Гамсуна, ставший причиной ссоры писателя с Э. Мунком. 1896 г.
Кафе «Бернина» в Копенгагене, где собиралась скандинавская богема. Конец XIX — начало XX в.
Бьёрнстерне Бьёрнсон. 1890-е гг.
Хенрик Ибсен. Э. Вереншёльд. 1880-е гг.
Центральная улица Карла Юхана в Осло и кафе «Гранд»
Гамсун с фрёкен Л. Льюис и друзьями. 1892 г.
Интерьер дома зажиточного человека. Конец XIX в.
Первая жена Гамсуна фру Бергльот с дочерью Викторией. 1903 г.
Гамсун с друзьями перед своей виллой в Дрёбаке. 1905 г.
Бьёрнсон и Гамсун славят друг друга. Карикатура. 1908 г.
Черновик стихотворения «На смерть Бьёрнсона». 1910 г.
Эдвард и Нина Григи
Тумтегатан, 11. Дом, в котором написан «Голод»
Водопад Лотефоссен в Норвегии
Кнут Гамсун. 1940-е гг.
Мария и Кнут Гамсун. 1909 г.
Письмо Кнута Гамсуна к Марии. 1908 г.
Мария, вторая жена Гамсуна. 1908 г.
Скугхейм, усадьба Гамсуна в Нурланне
Кнут Гамсун. 1924 г.
Харальд Григ, директор норвежского издательства «Гюльдендаль»
Интерьер типичной норвежской церкви
Гамсун у трактора во время полевых работ на усадьбе
Сушка рыбы на Лофотенах
Кнут Гамсун. О. Гюльбранссон. 1923 г.
Типичный норвежский амбар
Гамсун с семьей в Ларвике. Слева направо: Туре, Мария, Арильд, Кнут и Эллинор. Мария ждет Сесилию. 1918 г.
Норвежский фьорд
Письмо Гамсуна норвежским властям. 1938 г.
В апреле 1940 года война пришла в Норвегию
«Помощь из Англии». Нацистский пропагандистский плакат
Газетная статья под заголовком «Гамсун на борту подводной лодки»
Обложка журнала с карикатурой на Гитлера и Квислинга. 1943 г.
Гамсун ждет автобуса на остановке. Гримстад. 1941 г.
«Против большевизма». Нацистский пропагандистский плакат
Дети из норвежской нацистской молодежной организации «Барнехирден»
Визит Адольфа Гитлера в Норвегию. 1934 г.
Глава немецких оккупационных властей в Норвегии И. Тербовен принимает парад
Гамсун во время своего визита в Германию. 28 июня 1943 г.
Гробы с телами убитых немцев спускают на берег в Йоссингфьорде
Импровизированная детская демонстрация в майские дни 1945 года
Психиатрическая клиника профессора Лангфельдта в Осло
Гамсун входит в зал суда. Гримстад. 1947 г.
Гамсун слушает обвинительную речь. Гримстад. 1947 г.
Комната, в которой умер Кнут Гамсун. На стене висят портреты Ф. М. Достоевского и И. В. Гёте. Нёрхольм
Фьорд в Западной Норвегии
Примечания
1
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)2
Гаммельтрейн — буквально «старое дерево» (норв.).
(обратно)3
Туре Гамсун (1912–1991) — художник и писатель, автор ряда романов, а также книг, основанных на документах и рассказах отца и матери о жизни и творчестве Кнута Гамсуна.
(обратно)4
Велтрейн — буквально «маленькое дерево» (норв.).
(обратно)5
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)6
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)7
У протестантов, не признающих миропомазания, конфирмация состоит из исповедания веры конфирмуемым, нравоучительной речи пастора и молитв; служит актом окончательного введения в церковную общину.
(обратно)8
Кристиания — название Осло, столицы Норвегии, с 1624 по 1925 год. Дано в честь короля Кристиана IV, отстроившего город заново после пожара 1624 года.
(обратно)9
Ленсман — судебный чиновник в Норвегии.
(обратно)10
Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1823–1897) — классик мировой литературы, автор романов, новелл, пьес и стихов, лауреат Нобелевской премии в области литературы, один из «четверки великих» норвежской литературы. Главными героями произведений Бьёрнсона были крестьяне и герои средневековых северных сказаний.
(обратно)11
Халлинг — норвежский народный мужской танец, в котором мужчина должен прыгнуть как можно выше и сбить ногой шляпу с шеста, который держит девушка.
(обратно)12
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)13
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)14
Фредерик Гегель (1817–1897) — издатель, директор издательства «Гюльдендаль» в Дании с 1850 года. Именно он сделал это издательство крупнейшим в Скандинавии.
(обратно)15
Андреас Мунк (1810–1873) — поэт, классик норвежской литературы. Известен еще и тем, что в 1860 году получил жалованье в 400 далеров, рассматриваемое как первое жалованье, выплаченное стортингом (норвежским парламентом) художнику.
(обратно)16
«Король поэтов» — титул, которым в Скандинавии в Средние века награждали лучшего скальда. В XIX веке этого звания удостоился Бьёрнсон.
(обратно)17
Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса под ред. Ю. Хинкиса.
(обратно)18
Август Стриндберг (1849–1912) — классик мировой литературы, шведский писатель, драматург, чьи пьесы до сегодняшнего дня идут в ведущих театрах мира.
(обратно)19
За океаном (англ.).
(обратно)20
Унитарианство (от лат. unitas — единство, единое) — религиозное учение внутри протестантизма, исходящее из принципа единоличия Бога в лице Бога-Отца. Унитарианство противостоит доктрине триединства. Следствием неприятия Троицы является тезис о том, что Христос по своей природе не Божествен, а возвышен до Божественного Богом-Отцом.
(обратно)21
Кристофер Янсон (1841–1917) — норвежский писатель, священник в США в 1881–1892 годах.
(обратно)22
Сохранились свидетельства очевидцев, а также статья в журнале «Эйдсволд» в 1909 году, в которых Андерсон называл Гамсуна «крестьянским парнишкой из Норвегии», «вагоновожатым из Чикаго» и даже «человеком, который рассчитывает стать президентом Соединенных Штатов».
(обратно)23
Гамсун, всегда довольно болезненно относившийся к насмешкам в свой адрес, достойно «отплатил» Андерсону: он до конца своих дней отказывался признать, что действительно приехал к профессору с рекомендательным письмом от Бьёрнсона, что был приглашен к обеду и рассказывал ему о себе и о своих планах, и уж тем более отрицал «подсказку» профессора взять псевдоним Гамсунд.
(обратно)24
Тоскующий по дому, по родине (англ.).
(обратно)25
«Нут» — искаженное «Кнут».
(обратно)26
«У Харта, — пишет Туре Гамсун, — Кнут прослужил больше года. С детских лет ему нравилась атмосфера, царящая в лавке. Но тут его не сразу поставили за прилавок. Хозяин затеял строить что-то на заднем дворе за лавкой, и Кнута нарядили помогать каменщикам. Первую неделю Кнут работал на совесть, дело у него спорилось благодаря его необыкновенной физической силе. Но по мере того как строение росло, Кнут становился только помехой в работе. Он всегда плохо переносил высоту. На лестнице у него так кружилась голова, что он не мог передать каменщику кирпич. Говорят, это было и смешное, и трагическое зрелище, когда молодой поэт, стоя на верхушке лестницы, отчаянно цеплялся за планки, и его пенсне, словно маятник, раскачивалось на шелковом шнурке. Но говорят также, что Харт, оказавшись однажды свидетелем этого жалкого зрелища, тут же поставил Кнута за прилавок.
Вот когда он проявил все свои способности. Он обладал счастливым даром располагать к себе, шутил с покупателями и очаровывал дам. Рассказывают, что однажды, когда Харт был в отъезде и Кнут заправлял в лавке один, туда явился коммивояжер, торгующий предметами женского туалета. Кнут решил воспользоваться возможностью и показать, что он понимает толк в коммерции. Он смело приобрел то, что счел нужным, и вернувшийся хозяин оказался владельцем множества дамских манишек, которые хоть и были тогда в моде, но оказались такого странного фасона, что хозяин сомневался, можно ли будет их продать.
— Положитесь на меня, — сказал Кнут.
Через несколько дней в лавку зашла одна из первых модниц города, и Кнут, пустив в ход весь свой талант торговца, а может, и другие тоже, добился того, что дама приобрела сразу всю партию манишек».
(обратно)27
«Моя жизнь — полет без отдыха. Моя религия — мораль натурализма, а мой мир — эстетская литература» (англ.).
(обратно)28
Мнение сына Гамсуна вряд ли можно считать объективным. Известно, что писателю было свойственно относиться к людям с сильной симпатией или крайней антипатией. А того, кто ему не понравился, он никогда не жалел в своих оценках.
(обратно)29
Бьёрнсон боролся против теории жертвенности и страдания в христианстве, сурового аскетизма и ненависти к «эстетическому» в человеке.
(обратно)30
Первоматерия (лат.).
(обратно)31
Пер. с норв. О. Комаровой.
(обратно)32
Лютефиск — норвежское национальное блюдо, которое готовят на северо-западном побережье Норвегии из рыбы, вымоченной в слабом щелочном растворе.
(обратно)33
Гамсун всегда, всю жизнь, с недоверием относился к любой религии, но это — мягкое недоверие зрителя, а не сильное негодование борца. Кристофер Янсон вспоминал: «Моя надежда на то, что он заинтересуется религией, отнюдь не сбылась. У него все сильнее проявлялось отвращение ко всему, что пахнет теологией». А в тех случаях, когда религия все-таки занимала Гамсуна, его интерес был направлен на ее человеческую, а не Божественную, сторону.
(обратно)34
Эрик Скрам (1847–1923) — датский писатель, с которым Гамсун долгие годы был дружен и вел оживленную переписку.
(обратно)35
Поль Шарль Жозеф Бурже (1852–1935) — французский писатель. В романе «Ученик» (1889) отвергал гуманность разума, противопоставляя ему религиозную мораль.
(обратно)36
Один из них — «Миг жизни», — подписанный «Молодой неизвестный писатель» был опубликован 12 декабря 1884 года в «Дагбладет». Новелла представляет собой прощальное письмо смертельно больного молодого человека к актрисе, в которую герой безнадежно влюблен.
(обратно)37
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)38
Пер. с норв. О. Комаровой.
(обратно)39
История литературы знает и другие подобные чудесные излечения. Вспомним хотя бы Александра Исаевича Солженицына, который смог побороть не менее, а, быть может, и более страшную болезнь — рак.
(обратно)40
Боччья — итальянская игра с шарами типа крикета.
(обратно)41
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)42
Надо сказать, что некоторую грусть по поводу «упущенных» (из-за бедности семьи) возможностей Гамсун сохранил до конца своих дней. Он неоднократно подчеркивал, что он — «просто крестьянин». А в письме своей русской переводчице, Марии Благовещенской, в 1906 году пишет: «Я самоучка, так и не получивший приличного образования. Мои родители — крестьяне, и у них не было средств, чтобы отправить меня учиться. Поэтому я то и дело оказываюсь в затруднительном положении». Конечно, в этом заявлении есть и доля фрондерства и эпатажа, однако доля правды в нем тоже есть.
(обратно)43
Арне Гарборг (1851–1924) — классик норвежской литературы, основатель новонорвежской литературы, вдохновитель движения за «норвегизацию» литературного языка. Выступив против запрещения романа Ханса Йегера, лишился места государственного ревизора.
(обратно)44
Сам Гамсун ценил оба свои рассказа. В письме Эрику Фрюденлюнду он характеризует их следующим образом: «На мой взгляд, написаны они хорошо. В „Грехе“ я хотел показать, что воровство, совершенное при определенных обстоятельствах, например, то, на которое человека толкнула нужда, нельзя считать грехом, а в „Лжеце“ — что лживость не грех, а талант». Оба рассказа, несмотря на выплаченные гонорары, опубликованы в «Дагбладет» не были.
(обратно)45
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)46
Гроссерер — оптовый торговец (нем.).
(обратно)47
«Только сейчас, через три недели после переселения в Америку, я наконец-то посылаю Вам свой рассказ о путешествии через океан, — писал Кнут Гамсун в письме редактору. — Я не прошу извинить меня за то, что не сделал этого раньше; дух хотел, но ослабела плоть. В середине августа я покинул Норвегию, где уже давно ходили в пальто, а через три недели попал в жару более 90° по Фаренгейту в тени. Это не прошло для меня даром и плохо отразилось на моем обычно хорошем сентябрьском самочувствии.
Я пишу все это из головы, по памяти. У меня не осталось ни клочка из моих корабельных записей. Все пропало, все бумажки до единой. Все бесследно исчезло однажды ночью около Ньюфаундлендской отмели. Любой другой на моем месте наверняка бы пал духом — с моих же уст не сорвалось ни стона. Я лишь тихо опустился на свой желтый портплед и встретил беду как мужчина. А через пять часов я даже проглотил полчашечки чая — простите, если я покажусь Вам нескромным».
(обратно)48
Ваше письмо того стоило (англ.).
(обратно)49
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)50
По другим данным (поскольку сведения об этом периоде жизни Гамсуна крайне противоречивы), Гамсун работал на ферме после того, как побывал у Янсонов.
(обратно)51
Пер. с норв. О. Комаровой.
(обратно)52
Виктор Нильссон (1860–1927) — шведский журналист, редактор «Свенска фолькете тиднинг», один из близких друзей Гамсуна. С ним Кнут часто обсуждал не только свои собственные «перспективы» и произведения скандинавских писателей, но и литературу других стран. Так, они неоднократно обсуждали русскую литературу и постоянно возвращались к роману «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, который Кнут к тому времени уже прочел. Насколько хорошо Гамсун знал в те годы творчество Достоевского, окажется важным в 1892 году, когда его обвинят в плагиате.
(обратно)53
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)54
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)55
Георг Брандес (1843–1931) — известный датский критик, историк литературы.
(обратно)56
Эдвард Брандес (1847–1931) — датский писатель, востоковед, драматург, критик, политик.
(обратно)57
Этот эпизод в измененном виде есть и в полном варианте «Голода».
(обратно)58
Александр Хьелланн (1849–1906) — классик норвежской литературы, автор многочисленных романов, один из «четверки великих».
Ханс Йегер (1854–1910) — норвежский писатель. Его натуралистический роман «Из жизни богемы Христиании» (1885) был запрещен сразу же после выхода в свет, а сам он осужден за оскорбление чувства стыдливости.
Амалия Скрам (1846–1905) — норвежская писательница, представительница натуралистической школы. Большинство ее романов направлены против классовых различий, двойной морали, косности института брака и угнетения женщин.
(обратно)59
Одобрение Стриндберга было очень важно для Гамсуна, который был буквально потрясен талантом маститого писателя. В своих письмах Нильссону Кнут часто пересказывал самые невероятные истории о великом шведе.
(обратно)60
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)61
Статьи были столь популярны в свое время, что владелец маленького издательства в Бергене решил издать их отдельной книгой и выплатил Гамсуну вполне приличный гонорар (250 крон).
(обратно)62
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)63
Новелла вошла в сборник рассказов писательницы «Ключевые заметки», который под псевдонимом Джордж Эджертон вышел в 1894 году в Лондоне.
(обратно)64
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)65
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)66
Гамсун жил в Кристиансанне с января по май 1892 года.
(обратно)67
Зигмунд Фрейд (1856–1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа, автор теории психосексуального развития индивида, в формировании характера патологий которого главное место отводил переживаниям детства. От разработанного совместно с Й. Брейером «катартичного» метода (отреагирование с помощью гипноза забытых психических драм) перешел к методу свободных ассоциаций как основе психоаналитической терапии. Универсализация психопатологического опыта привела Фрейда к психологизации человеческого общества и культуры (искусства, религии, литературы).
(обратно)68
Эдвард Григ (1843–1907) — норвежский композитор, пианист, дирижер. Крупнейший представитель национальной школы, активно использовавший в своих произведениях мотивы норвежского музыкального фольклора. Его жена Нина была известной пианисткой.
(обратно)69
Это во многом и грехи самого Ибсена. Так, во время двух процессов в Норвегии против литераторов (один из процессов был затеян буржуазными кругами против романа Ханса Йегера, другой — против романа о молодой проститутке «Альбертина» художника и писателя Кристиана Крога) Ибсен промолчал, в то время как Бьёрнсон выступил в защиту молодых писателей, хотя именно Ибсену, которого сразу же после публикации пьес «Кукольный дом» (1879) и «Привидение» (1881) обвинили в пропаганде безнравственности и который знал, как тяжело «отбиваться», следовало помочь молодым авторам.
(обратно)70
В 1894 году против Ибсена было совершен еще один подобный демарш. В этом году, во многом с помощью самого классика, был создан Союз писателей Норвегии. На банкете по случаю его учреждения несколько молодых писателей изрядно выпили, и один из них, талантливый Нильс Кьяр, произнес речь, суть которой сводилась к лозунгу «Мы, молодые, ненавидим старых писателей! Ваше время прошло!». С тех пор ноги Ибсена в Союзе писателей не было.
(обратно)71
Герман Банг (1857–1944) — датский писатель, критик, автор социально-психологических романов.
(обратно)72
Пер. с дат. А. Чеканского.
(обратно)73
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)74
«Фрайе Бюхе» — австрийский журнал.
(обратно)75
Нильс Кьяр (1870–1924) — норвежский писатель и драматург, критик, прославился психологическими эссе.
(обратно)76
Гамсун же всегда ценил Гарборга и его произведения, хотя и подозревал его в интриганстве. Зимой 1891 года, разъезжая по Норвегии с лекциями, он писал своему бергенскому другу: «…я еще не читал „Усталых людей“ Гарборга, но когда узнал, что издательство сразу же сделало второй тираж, я прослезился и послал телеграмму фру Ларсен: „Второй тираж Гарборга! Ура!“»
(обратно)77
Эдвард Мунк (1863–1944) — крупнейший норвежский художник, имя которого принесло известность всей национальной школе живописи. Мунк считается одним из предшественников европейского экспрессионизма.
(обратно)78
Густав Вигеланн (1869–1943) — норвежский скульптор и художник, человек универсальных дарований. В Осло есть парк Вигеланна (Фрогнер-парк), в котором выставлены скульптуры знаменитого норвежца, созданные им в символике, близкой по теме и настроениям Эдварду Мунку.
(обратно)79
Альберт Ланген (1869–1909) — немецкий издатель, владелец собственного издательства и журнала «Симплициссимус», был женат на дочери Бьёрнсона.
(обратно)80
«Я был пьян вчера вечером, иначе бы написал вам. Сегодня я чувствую себя ужасно, да еще мне и стыдно. Спасибо!» (англ.).
(обратно)81
Юхан Бойер (1872–1953) — норвежский писатель, один из самых читаемых в свое время. Его перу принадлежат романы, сборники новелл, пьесы и мемуары. Был другом Гамсуна.
(обратно)82
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)83
Вместе с Гамсуном письмо-обращение подписали Свен Ланге, Юнас Ли и еще трое других писателей.
(обратно)84
Петр (Петер) Готфридович (Эммануилович) Ганзен (1846–1930) — известный переводчик скандинавской литературы на русский язык, более всего прославившийся переводами X. К. Андерсена. По происхождению датчанин, он приехал в Россию, служил телеграфистом в Сибири, впоследствии основал и возглавил школу связи в Санкт-Петербурге. Переводил вместе со своей женой Анной Васильевной (1869–1942).
(обратно)85
Пер. с нем. А. Блока. (На русский язык перевод полного текста рассказа был сделан Блоком с немецкого текста, опубликованного в «Симплициссимусе».)
(обратно)86
Подразумевается мать Туре, Мария Гамсун, вторая жена Кнута Гамсуна.
(обратно)87
«Я здоров, я молод, я богат! И сейчас лето» (англ.).
(обратно)88
Чтобы ничто не отвлекало его от работы, Гамсун отсылает Бергльот в Кристианию и завершает роман в полном одиночестве.
(обратно)89
Аксели Вольдемар Галлен-Каллела (до 1905 года — Галлен) (1865–1931) — известный финский художник, иллюстратор народного карело-финского эпоса «Калевала», чем и объясняется его поздний псевдоним, основатель нового финского декоративного искусства.
(обратно)90
Альберт Эдельфельдт (1854–1905) — финский художник, глава национальной школы.
(обратно)91
Ян Сибелиус (1865–1957) — известный финский композитор, автор семи симфоний.
(обратно)92
Альберт Энгстрём (1869–1940) — шведский художник, известный карикатурист, редактор журнала «Стрикс», обладал незаурядным чувством юмора, что заметно в его картинах.
(обратно)93
Пер. с норв. А. Шараповой.
(обратно)94
У Сибелиуса были красивые зеленые глаза, которые в минуты сильных переживаний становились еще зеленее.
(обратно)95
Пер. с норв. Л. Горлиной.
(обратно)96
Пер. с норв. Л. Горлиной.
(обратно)97
Пер. с норв. Л. Горлиной.
(обратно)98
Явное преувеличение и так понятное желание похвастаться. Гамсун бывал только в европейских странах, Америке, России, на Кавказе и в Турции.
(обратно)99
Пер. с норв. Л. Горлиной.
(обратно)100
Пер. с норв. Л. Горлиной.
(обратно)101
Пер. с норв. Л. Горлиной.
(обратно)102
Венцель Хагельстам (1863–1932) — издатель и писатель, друг Гамсуна, с которым он познакомился в Финляндии.
(обратно)103
Хельгеланд — местность на севере Норвегии.
(обратно)104
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)105
«Гранд» — ресторан в одноименном отеле в центре Осло. В течение ряда лет был местом встречи художников, поэтов, писателей. В 1880 — 1890-е годы «Гранд» облюбовали радикально настроенные литературные критики. Эдвард Мунк писал об этом ресторане: «… раньше это было гостиницей Осло, там всегда можно было почувствовать пульс столицы». С конца 1890-х годов сюда каждый день приходил Ибсен, у которого даже был свой собственный столик с именной табличкой. Этот столик сохранился до наших дней.
(обратно)106
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)107
Это был второй сборник рассказов Гамсуна. Первый («Сиеста») вышел в 1897 году.
(обратно)108
Пер. с норв. А. Шараповой.
(обратно)109
Пер. с норв. А. Шараповой.
(обратно)110
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)111
Пер. с норв. К. Бальмонта.
(обратно)112
Вплоть до начала XX века многие норвежские писатели писали по-датски. Борьба за «норвегизацию» литературного языка велась фактически на протяжении всего XIX века. В Норвегии создалась уникальная языковая ситуация — в стране сегодня существует две формы языка: лансмол (нюнорск) и букмол (до 1929 года — риксмол). Риксмол представляет собой результат развития датского языка в Норвегии, основывающийся на речевой практике образованных слоев городского населения, а лансмол создан путем искусственного синтеза сельских диалектов Норвегии.
(обратно)113
Здание социалистических рабочих организаций.
(обратно)114
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)115
Тетис — прозвище Доре Лавика среди близких и друзей.
(обратно)116
Гамсуна очень разозлило, что Мария дала в газету некролог о смерти своего гражданского мужа и подписала его «фру Доре Лавик».
(обратно)117
Пер. с норв. О. Комаровой.
(обратно)118
Пер. с норв. О. Комаровой.
(обратно)119
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)120
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)121
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)122
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)123
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)124
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)125
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)126
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)127
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)128
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)129
Ханс Е. Кинк (1865–1926) — норвежский писатель и историк.
(обратно)130
Эвре Рихтер Фишер (1872–1945) — норвежский писатель, автор криминальных романов.
(обратно)131
Свен Эльвестад (Стейн Ривертон) (1884–1934) — норвежский писатель, журналист, автор многочисленных криминальных романов, известный мистификатор.
(обратно)132
Ларс Хансен (1869–1944) — норвежский писатель, автор книг о природе и жизни Заполярья.
(обратно)133
Имеется в виду рассказ А. Гарборга «В горах» (1900).
(обратно)134
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)135
Пер. с норв. Н. Федоровой.
(обратно)136
Германская подводная война против Великобритании началась весной 1915 года, а летом 1916 года, наконец, дала желаемые результаты. Германией была объявлена военная зона в Северном море и выставлено минное заграждение.
(обратно)137
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)138
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)139
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)140
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)141
Эрик Аксель Карлсфельдт (1864–1931) — шведский писатель, лауреат Нобелевской премии в 1931 году, долгое время был секретарем Академии наук в Швеции.
(обратно)142
Сельма Лагерлёф (1858–1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской премии в области литературы 1909 года, автор многочисленных романов и всемирно известного учебника по географии «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции».
(обратно)143
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)144
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)145
Ниссе — рождественский гном в Норвегии, аналог русского Деда Мороза.
(обратно)146
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)147
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)148
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)149
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)150
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)151
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)152
Сигурд Хёль (1890–1960) — известный норвежский писатель, работал в таких крупных газетах, как «Дагбладет» и «Арбайдербладет». Консультант издательства «Гюльдендаль», главный редактор одной из самый популярных серий этого издательства — «Желтых книг».
(обратно)153
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)154
Норвежец, плотник Тур Бьёрклюнд из Лиллехаммера, в 1925 году изобрел так называемый «сырный рубанок» — ostehфvel, специальный нож для сыра в виде лопаточки с поперечной прорезью. Его ужасно раздражало, что люди кромсают куски сыра, как им придет в голову, а потому, внимательно разглядев свой плотницкий инструмент, и придумал специальный рубанок, которым стало легко строгать сыр. Однако далеко не все сограждане обрадовались новому изобретению. Бедняки, в чьих домах всегда царила нужда, с энтузиазмом покупали новый нож, который резал тонюсенькие кусочки сыра. А вот владельцы сыроварен и молочных заводов пришли в негодование: они боялись, что продажи сыра упадут, и даже «спонсировали» акцию протеста под лозунгом «Выбрось сырный рубанок!». Однако вскоре они поняли, что продажи сыра не уменьшаются, и стали сами выпускать такие ножи. За период с 1925 по 1928 год Бьёрклюнду, который внимательно следил за «продвижением на рынке» своего ножа, удалось собрать более 100 различных его подделок. Сейчас завод Бьёрклюнда — один из крупнейших в мире по производству кухонной утвари, а норвежские ножи для сыра продаются почти во всех странах Европы и по праву считаются лучшими в мире.
(обратно)155
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)156
Для норвежцев все вопросы, касающиеся Гамсуна, настолько болезненны, что в 1971 году состоялся повторный суд по так называемому делу «имени Нёрхольма». Туре Гамсун выступил в прессе и сказал, что ему безразлично, как будет называть себя семья Петерсенов. Но Арильд Гамсун, который был в то время владельцем усадьбы, заявил, что категорически возражает против такого мнения и всячески поддерживает отца. В результате решение суда от 1934 года осталось в силе.
(обратно)157
Другой вариант названия на русском языке — «А жизнь продолжается».
(обратно)158
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)159
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)160
Четырнадцатилетнюю Эллинор Гамсун отослал на воспитание в монастырь в Германию, потому что считал необходимым для девочки хорошее и «приличное» образование. Вскоре туда же отправилась и Сесилия. На каникулы девочки приезжали к семье в Вальдрес.
(обратно)161
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)162
В 1930 году Гамсун пишет сестре своей первой жены, с которой всегда поддерживал тесный контакт, и просит ее передать Бергльот, чтобы она «хоть изредка писала мне».
(обратно)163
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)164
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)165
Видкун Квислинг (1887–1945) — майор, политик, военный атташе посольства Норвегии в Петрограде в 1918 году, в Хельсинки в 1920–1922 годах. Соратник Нансена и его друг, принял активное участие в акциях Нансена по оказанию гуманитарной помощи России. Министр обороны Норвегии в 1931–1933 годах. Во время посещения Бергена в 1933 году выступил с предложением оккупации Норвегии войсками Германии. В 1940 году пробовал стать главой кабинета министров, но неудачно. В 1942 году назначен главой оккупационного правительства, после освобождения Норвегии от фашистов сдался норвежским властям и был осужден на смертную казнь.
Слово «Квислинг» в норвежском языке стало нарицательным и означает «предатель».
В своих записях, написанных по просьбе доктора Эдегорда в 1945 году, Гамсун писал: «Я не вижу ничего предосудительного в том, что сделал Квислинг. Конечно, ему не стоило убивать евреев, ведь они такие же люди, как и мы все. Но в тех журналах и газетах, что были у меня во время войны, об этом ничего не говорилось. Я узнал об этом много позже».
(обратно)166
Эгон Фриддель (1878–1938) — австрийский писатель, историк искусств, еврей. Фриддель был большим поклонником Гамсуна и даже посвятил ему свою книгу «Старинная история», которая как раз в год его смерти вышла на норвежском языке.
(обратно)167
Того, что Гамсун тяжело принял смерть Фридделя, не отрицают даже самые ярые критики писателя.
(обратно)168
Макс Тау (1897–1976) — писатель, историк литературы, по происхождению немец, в 1944 году принял норвежское подданство. В 1955 году выступил организатором Международной библиотеки мира.
(обратно)169
Подробнее об антисемитизме Гамсуна см. в книге Л. Р. Лангслеттена «Лисица или еж» (Гамсун К. Мечтатели. М., 2006).
(обратно)170
Пер. с норв. Э. Панкратовой.
(обратно)171
Пер. с норв. Н. Федоровой.
(обратно)172
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)173
Пер. с норв. Н. Федоровой.
(обратно)174
Йозеф Тербовен (1898–1945) — немецкий политик, нацист, глава оккупационных германских властей в Норвегии, окончил жизнь самоубийством.
(обратно)175
Через шесть недель после утверждения в должности премьер-министра Квислинг вернул изменения 1851 года в конституцию (параграф 2). По этому новому «закону» евреи не имели права находиться в Норвегии. Кроме того, был принят ряд законов, которые разрешали арест и высылку евреев из страны, а имущество их переходило в собственность государства. В результате 42 процента норвежских евреев (762 человека) до конца ноября были арестованы и высланы в нацистскую Германию. В живых остались 23 человека.
(обратно)176
Пер. с норв. Н. Федоровой.
(обратно)177
Пляской смерти в своей одноименной дилогии (1900) А. Стриндберг называет уподобленную аду семейную жизнь супругов.
(обратно)178
Пер. со швед. Ю. Яхниной.
(обратно)179
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)180
Пер. с норв. Н. Федоровой.
(обратно)181
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)182
Пер. с норв. Ю. Яхниной.
(обратно)183
Пер. с норв. Е. Рачинской.
(обратно)184
Позднее Гамсун обратился к профессору с просьбой предоставить ему сделанные им записи в больнице, однако Лангфельдт отказал писателю, сказав, что они являются частью его досье. Тогда через адвоката С. Стрей Гамсун обратился к генеральному прокурору с просьбой вернуть ему бумаги. Только вмешательство властей заставило Лангфельдта предоставить писателю копии его собственных записей.
(обратно)185
«Нашунал Самлинг» — Норвежская фашистская партия, созданная Квислингом в 1933 году.
(обратно)186
Завещание Гамсуна, составленное в 1948 году, в котором он выделял Виктории равную часть в наследстве с другими своими детьми, было изменено Марией двумя годами позже и было, что бы ни говорили, подписано Гамсуном. По этому последнему завещанию акции «Гюльдендаля», отданные первоначально Виктории, распределялись в равных долях между детьми Марии.
После смерти Гамсуна Виктория ознакомилась с измененным завещанием и обратилась в суд. Адвокату старшей дочери писателя удалось доказать — благодаря двум последним письмам писателя к Виктории, — что отношения между отцом и дочерью были очень сердечными, но после двух инсультов и в силу возраста Гамсун мог не понимать внесенных в завещание изменений.
(обратно)187
Пер. с норв. Л. Горлиной и О. Вронской.
(обратно)188
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)189
Пер. с норв. Т. Чесноковой.
(обратно)




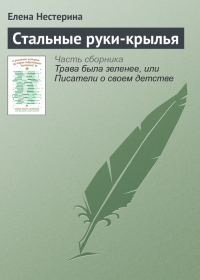
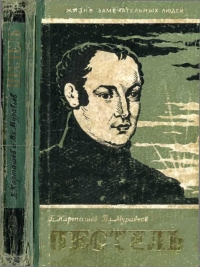

Комментарии к книге «Гамсун. Мистерия жизни», Наталия Валентиновна Будур
Всего 0 комментариев