О. ПИСАРЖЕВСКИЙ Дмитрий Иванович Менделеев
Жизнь и творчество великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева всегда будет предметом пристального изучения исследователей. Наследие, завещанное нам этим гигантом научной мысли и научного дела, поистине неисчерпаемо. Родившись в 1834 году и еще на студенческой скамье (в 1855 году) начав научную работу, Д. И. Менделеев до самой своей смерти (1907) плодотворно и напряженно работал над развитием химической науки и заводского дела в России. Он оставил яркий след не только во всех областях химии и ее приложений, но и в целом ряде смежных дисциплин, развитию которых он содействовал своим авторитетом, побуждая к активности и вдохновляя русских ученых.
Наиболее крупным свершением научного гения Д. И. Менделеева явилось открытие взаимной связи всех атомов в мироздании, нашедшее свое выражение в Периодическом законе химических элементов. Этот закон, над которым сам Менделеев работал почти сорок лет, находя все новые и новые подтверждения своему открытию, уточняя и углубляя его, еще при жизни его, а особенно на глазах нашего поколения, после его смерти, превратился в неугасимый маяк, освещавший и освещающий науке новые пути исканий. В настоящее время Периодический закон химических элементов получил значение глубочайшего закона природы.
В этой книге, не претендующей на исчерпывающий анализ творчества Д. И. Менделеева, показывающей его в самых главных, самых основных чертах, вы найдете глубоко жизненный портрет великого химика, девизом которого было изречение: «Посев научный взойдет для жатвы народной». Он изображен без прикрас, как сын своего времени. Здесь не затушеваны отдельные ошибки и срывы в его мировоззрении. Но вместе с тем вы почувствуете, читая эту книгу, как передовая мысль лучших людей русской науки неизменно стремилась нащупать верную дорогу на материалистическом пути естествознания, подготовляя тот чудесный расцвет всех наук, который является достоянием и знаменем советской эпохи. Автор сумел увидеть и, воспользовавшись новым и малоизвестным широкой аудитории материалом, показать нам на фоне этих исканий правдивый облик Менделеева в лаборатории его мысли и творчества.
Слова Менделеева, которыми автор заканчивает книгу, на самом деле являются ключом к ней. Мне хотелось бы, чтобы с этих прекрасных слов вы начали ваше знакомство с Менделеевым, который всегда помнил и чувствовал, что труд есть радость и полнота жизни.
Герой Социалистического Труда академик Н. Д. Зелинский
«Наука только тогда благотворна, когда мы ее принимаем не только разумом, но и сердцем». Д. Менделеев (1857)
I. МЕНДЕЛЕЕВА НЕЛЬЗЯ ПРИГОВОРИТЬ К БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Менделеев в юности был тяжело болен, и врачи приговорили его к смерти. Предполагали, что у него последняя степень чахотки: время от времени у него горлом шла кровь. Тогдашние врачи долго не могли распознать истинной причины этих кровотечений. А их вызывал совсем не смертельный и, при известных условиях, даже не очень опасный порок сердечного клапана. В автобиографических заметках, написанных уже под старость, Менделеев вспоминал об этой врачебной ошибке ворчливо, но благодушно. Однако представьте себе печально обнаженные стены лазарета Главного педагогического института в Петербурге, где учился Менделеев. Представьте себе худощавого, голубоглазого юношу, ослабевшего от потери крови и еще хуже чувствующего себя от пребывания в постели. Неподвижность его угнетает. Он много читает и пишет- больше, чем разрешают больничные правила. Только это примиряет его с неприветливыми стенами больницы.
Директор института хочет перевести его учиться в Киев. В то время как там уже расцветают акации и ночи над Днепром дышат теплотой нагретого за день песка, в Петербурге голые ветви Летнего сада цепенеют от мокрой измороси. Однако Менделеев отказывается покинуть север. Он дорожит каждым часом пребывания именно здесь – в Петербургском Главном педагогическом институте.
Что ему мелочная опека наставника, слишком подробное расписание будней, которые томят иных его друзей! Вырвавшись на свободу, они назовут институт «тюрьмой» и «застенком духа». Менделеев не с ними. Быть может, он даже привязан к этой кровле, под которой стоят шкафы с книгами и где вечерами долго не гаснет масляная лампа на его столе…
Менделеев не выносит даже вида институтского лекаря Кребеля. Когда тот приходит, юноша откидывается на подушки и закрывает глаза. В одно из таких посещений лазарета, думая, что Менделеев спит, лекарь говорит директору громче, чем это полагается над постелью больного:
– Этот уже не встанет…
Представьте себе все это и попробуйте угадать, что станет делать Менделеев, оставшись один. В глубокой тоске он долго еще будет лежать с закрытыми глазами. А затем… Вы думаете, он покорно подчинится велению рока, провозглашенному лекарем? Поддастся безысходному отчаянию? Будет биться головой о железные скрепы больничной койки? Ничего подобного! Он приподымается с подушек и начинает приводить в порядок записи своих лекций.
Его можно приговорить к смерти, но нельзя приговорить к ничегонеделанию. Жить для него – это значит узнавать. Жить – это значит мечтать широко и привольно, вырываясь свободной мыслью сначала за стены училищного лазарета, затем за грани своей эпохи. Жить – это значит творить, трудясь безустали, с неиссякаемым вдохновением.
Таков Менделеев, и не удивляйтесь, когда узнаете, как много этот великий химик успел сделать в своей жизни.
Его поддерживал напор могучих жизненных сил, еще скрытых, еще таящихся под запретом болезни. Ей нельзя поддаваться! Ведь столько надо успеть посмотреть, проверить, самому изучить и заново приспособить к людской пользе! Временная слабость не должна быть помехой для подготовки к большому делу жизни. Менделеев и верил, и все-таки до конца не мог поверить в безнадежность своего положения. Во всяком случае, он страстно не хотел чувствовать себя недолгим гостем на прекрасной земле, лишь по недоразумению нищей, по недоразумению несчастной. Он готов был вмешаться во все ее беды. В нем жила и зрела ответственность человека, который уже знал, как хорошо может быть, а беспокойный нрав заставлял неотступно думать над тем, что для этого надо сделать.
Он был искренне убежден, что для этого нужно совсем немного. В сущности, наивно полагал он, все в мире стоит на своих местах: при пашне состоят мужики и помещики, при заводах – рабочие и заводчики, за прилавками – купцы, в министерствах – чиновники, при войске – офицеры, и царь, как ему полагается, на троне. Правда, эти люди делают не совсем то, что им положено, и совсем не так, как следовало бы…
Совсем недавно Менделеев совершил на лошадях многотысячеверстный путь из Тобольска до Москвы, а оттуда до Петербурга. Он видел великий российский простор: нескончаемость лесов, приволье степей и красоту рек. Он вырос на стекольном заводике, который вела горячо любимая им мать. В пламени горнов речной песок перерождался в прозрачное стекло, находившее тысячи необходимейших применений. Сколько таких бросовых материалов, вроде песка, закопано по стране! Лужайки в тайге, песчаные плесы, груды мертвых камней, глиняные завалы – все это само по себе, конечно, небольшое богатство. Но тот, кто узнает, как этим воспользоваться, может обещать доброму хозяину настоящий прок от большого труда. Человек должен завести в природе собственные порядки. А тогда здесь, на русском приволье, всем всего достанет…
Менделеев вступал в жизнь с пылкой мечтой служить родному народу. Но как расплывчато у него это понятие! Для него это прекрасное слово «народ» вмещало всех: и «лапотников» и «бархатников». Он надеялся, что и тех и других, без коренной ломки, удастся приурочить к спасительному делу, вручить им рычаг, на который стоит лишь всем «миром» навалиться, как можно будет горы своротить, все клады земли из-под них повыбрать. Этот рычаг- наука, выросшая из потребностей жизни. Он не допускал мысли, что люди могут не захотеть этим рычагом воспользоваться, что для достижения всеобщего достатка люди еще должны освободиться от захребетников, сговориться между собой о
слаженном труде, научиться справедливо распределять его плоды, а не жить по волчьему закону – все Друг другу враги…
«С какой радостью снова поступил бы я в институт, где я впервые испытал сладость трудового приобретения»,- так через год после выпуска Менделеев писал директору обители «раболепства и обскурантизма», как называли Главный педагогический институт другие передовые люди России. Это разноречие не должно нас удивлять. Добролюбов, который окончил филологический факультет Главного педагогического института, имел, конечно, достаточно оснований утверждать, что общий строй жизни этого учебного заведения был задуман так, чтобы превратить его в крепость мракобесия и рассадник духовной нищеты. Но Менделеев, со своими взглядами, не мог быть в этом вопросе его единомышленником.
К тому же на естественно-математическом факультете, в отличие от других, преподавали люди, которые не только не ставили целью закрывать от юношества новые горизонты науки, но, наоборот, прилагали все усилия, чтобы насколько возможно шире раздвинуть кругозор своих питомцев.
Отдельных предметов, а значит и профессоров, на этом факультете было немного. «Ради этого, – писал впоследствии Менделеев, – огонь в нашем очаге не тух от избытка топлива, а мог только разгораться…»
На лекциях математики над кафедрой вздымались могучие плечи Михаила Васильевича Остроградского. Голос его гремел. На экзаменах ему ставили два стула рядом. Испытуемым он задавал простые, но коварные вопросы: для ответа на них надо было не помнить, а думать. Услышав удачный ответ, он весело ворчал: «соображает», и особенно отличившихся называл «архимедами» и «ньютонами». В свое время Остроградский отказался от кафедры, предложенной ему в Париже, в коллегиуме Генриха IV. Он предпочел ей малозаметный поначалу труд воспитателя молодых ученых в родной стране. И в увлечении этим делом он не знал границ… Он никогда не укладывался в рамки обычной оценки готового знания. Он стремился вдохнуть в своих слушателей постоянную неудовлетворенность достигнутым, внушить им настойчивость и дерзость в познании. Его требовательность была соразмерна с его нетерпением увидеть как можно больше русских «ньютонов» и «архимедов» на большом, живом деле созидания русской науки. О его любовном, высоком спросе с них говорила даже его привычная неуклюжая пословица: «Математику на 12 баллов, – говаривал он, – знает один господь-бог, я ее знаю на 10 баллов, а вы все на нуль». Знать математику на 10 баллов, что он оставлял для себя, очевидно, означало быть соратником славнейших геометров и механиков.
Для выдающеюся русского математика «смежными» науками оказывались все области нарождавшегося точного естествознания. И среди них на первом месте – физика, развивающая великий закон, высказанный еще за сто лет до того Ломоносовым, гласивший, что энергия не может создаваться из «ничего» и не может исчезнуть, она способна лишь превращаться из одной формы в другую. Неисчислимые следствия, вытекающие из этого закона, позволяли теоретически рассчитывать тепловые машины и обещали ввести точный расчет в изучение тайны тайн – сущности химических процессов. Ведь в них происходили не только преобразования неизменяемого вещества, но и превращения энергии. Именно химические процессы были главным источником той же теплоты.
Граничила с математикой, которую преподавал Остроградский, и астрономия. О новых трудах по развитию «небесной механики» рассказывал своим воспитанникам Остроградский, врываясь тем самым в область своего «соседа» – профессора А. Н. Савича.
Читая лекции, Остроградский увлекался, и мысль опережала руку. Он часто бросал писать и продолжал формулы на словах. Только «архимеды», среди которых был и Менделеев, успевали следить за сверкающим потоком идей, пока он не обрывался… «А теперь посмотрим», – говорил, наконец, лектор и, оглядываясь на чистую доску, где не на что было смотреть, смущенно мял в руках платок вместо губки…
Увлечения захватывают. В IX томе собрания сочинений отца русской авиации Н. Е. Жуковского помещены рядом статья «Ученые труды М. В. Ост- роградского» и восторженный отзыв «О работах Д. И. Менделеева по сопротивлению жидкостей и воздухоплаванию». В сближении этих имен в истории русской механики мы не видим случайности. Влиянию Остроградского можно смело приписать столь успешные отклонения Менделеева в область механики струй и газов.
Неутомимую разностороннюю пытливость Менделеева отличал и Степан Семенович Куторга – другой выдающийся профессор, читавший в институте геологию и «геогнозию»[1]. Куторга умел различать виды гранитов и гнейсов, кувшинок и роз, современных моллюсков и вымерших миллионы лет назад зверей с мордами дельфинов, плавниками кита, зубами крокодила и рыбьими хвостами. Это был один из последних представителей ранней науки, которая жадно и любовно описывала все разнообразие сущего. На смену подобным энциклопедистам закономерно приходили представители эры узкой специализации. Одни только перечни земноводных тварей, камней, руд и минералов, вместе с описанием их качеств, начинали вырастать в целые тома. Необозримое пространство естествознания начинало распадаться на крошечные участки, трудолюбиво исследуемые отдельными отрядами знатоков. Отдельными, но и объединенными! Но Куторга скорее чувством, чем суждением, угадывал в дымке неизвестного единство законов мироздания.
Куторга не удивился бы, если бы ему сказали, что всего через несколько десятилетий геологическое изучение земной коры (которому он, кстати сказать, посвятил первую в России научно-популярную книжку в области геологии) объединится не только с химией, но и с зоологией и с ботаникой. Наука сумеет с единой точки зрения объяснить и причины преобладания зеленых тонов в окраске горных пород Уральских хребтов, в причины повсеместного рассеяния металла церия, и хрупкости костей поволжского скота, и появления в тех местах, где можно надеяться найти золото, венчика золотособи- рающего растения Lonусеrа, цветущего подобно легендарному цветку Ивановой ночи над кладом… Но прежде еще должна появиться естественная Периодическая система химических элементов Менделеева… Куторга не дожил до этого торжества естествознания. Но у него, у этого старого энциклопедиста, впервые говорившего с университетской кафедры о дарвинизме, учил Менделеев уважению к большой научной задаче поисков единства среди хаотического, на первый взгляд, нагромождения частностей.
Однако наиболее полно овладеть его воображением сумел не пламенный Остроградский, не блестящий Куторга, неистощимый в выборе тем для своих лекций, а медлительный, тяжеловесный профессор Александр Абрамович Воскресенский.
Что могло сблизить этих столь непохожих друг на друга людей? Один из них – неудержимый мечтатель, пылкий и нетерпеливый. Другой – умудренный философ, которого жизненные разочарования так и не смогли сделать желчным скептиком, но научили ждать и находить тихие радости в скромных делах.
В тридцатых годах прошлого века Воскресенский окончил тот же Петербургский педагогический институт по первому разряду и, получив золотую медаль, был отправлен в Германию.
Глава гиссенской химической школы Либих, как он сам впоследствии рассказывал Менделееву, получил в лице Воскресенского наиболее талантливого ученика, которому «все давалось с легкостью, который на сомнительном распутье сразу выбрал лучший путь». Об этом Менделеев написал в биографии Воскресенского.
Германские химики недаром многозначительно переглядывались при упоминании этого имени. Для развития химии много дали его первые блестящие исследования некоторых типов веществ, получивших широкое применение в быстро развивавшейся германской науке и технике. От Воскресенского ждали еще и еще. Однако через два года он уехал в Россию, и с тех пор его имя почти не появлялось ни в одном из журналов, публиковавших первые сообщения о новых работах. Оно ярко сверкнуло только раз, в связи с открытием состава яда, сходного с кофеином и содержащегося в какао. Это возбуждающее в небольших дозах вещество Воскресенский назвал теобромином. Больше он не публиковал ничего заметного. Не лень и не беспечность были тому причиной.
Воскресенский оставил готовую его всячески обласкать заграницу и вернулся в родную страну. В России в то время только закладывались первые химические заводы, хотя у России был Ломоносов. Традиции русской химической науки жили в университетах. География ранней русской химии – это география университетских центров.
Воскресенский, так же как и его современник, выдающийся русский химик Зинин, начинал путь почти в одиночестве. Оба они ощущали себя центрами зарождения отечественной химической науки.
Один камень может вызвать лавину. Сдвигаясь с места, он увлекает два других, те сдвигают следующие, и скоро грандиозный поток камней грохочет по ущельям. Для того чтобы процесс создания русской химической школы разрастался подобно такой лавине, одному Воскресенскому приходилось читать химию и в университете, и в педагогическом институте, и в институте путей сообщения, и в инженерной академии. Постепенно отбирались ученики: продолжатель дела родоначальника русской физической химии Ломоносова Н. Н. Бекетов, Н. Н. Соколов, Д. И. Менделеев и многие другие, впоследствии любовно называвшие неповоротливого толстяка Воскресенского «дедушкой русской химии».
«Дедушка» угадывал таланты с проницательностью большого ученого, каким он, несомненно, и был, и растил их с терпением и страстью крупного педагога. Менделеева роднила с ним бродившая в обоих неистощимая закваска жизнерадостности. «Другие говорили часто о великих трудностях научного дела, – писал Менделеев, увековечивая память своего учителя, – а у Воскресенского мы в лаборатории чаще всего слышали его любимую поговорку: «Не боги горшки обжигают и кирпичи делают». Воскресенский, как и Остроградский, больше всего ценил в своих воспитанниках живую мысль[2].
Именно об этом – о собственных исследованиях, о своем участии в раскрытии самых глубоких тайн природы – под влиянием Воскресенского мечтал Менделеев. У него была уже даже собственная маленькая программа дальнейшей работы. Вернее, не программа, а как бы главное устремление, перечень основных вопросов, которые он хотел бы природе задать. Все эти вопросы относились к области химии.
II. О ДАЛЕКИХ СВЕРШЕНИЯХ И ЗАБЫТЫХ ОШИБКАХ
Как будто не богата событиями жизнь студента закрытого учебного заведения. Жизнь в четырех стенах, в окружении примелькавшихся лиц. Ни ярких происшествий, ни увлекательных встреч!..
Но так ли это? А разве каждая лекция, каждая лабораторная работа – это не встреча с новым, будоражащим ум, воображение, страсть? Лаборатория – только с виду тихая обитель. В действительности это никак не приют для вялых созерцателей.
Приходится еще раз добром помянуть Воскресенского, который помог юному Менделееву разглядеть за сухими листами академических сочинений, испещренных химическими символами, взрывы разочарований, горечь разбитых надежд, новые их вспышки и радости заслуженных – всегда заслуженных! – успехов.
Воскресенский вводил Менделеева в мир самых волнующих приключений, в мир борьбы идей, исход которой решал опыт – беспристрастнейший и справедливейший судья. Для того чтобы последовать за молодым Менделеевым в мир приключений человеческой мысли, который его увлекал до самозабвения, нужно хотя бы бегло перелистать несколько страничек истории химии. То, что для нас уже история, для Менделеева было живой действительностью. Журналы, печатавшие споры, следы которых нам придется искать в пожелтевших фолиантах, лежали на его рабочем столе. Книги, участвовавшие в давно забытых перипетиях борьбы, стояли у него в шкафу. Что это были за споры и какие книги в них участвовали, можно заключить из слов самого Менделеева. Много позже, отмечая память своего учителя, Менделеев писал о Воскресенском:
«Он… проводивший и в чтениях и в сочинениях идеи Берцелиуса… всегда ясно видел, что истинное знание не может ограничиваться односторонностью, а потому нас, начинающих, заставлял сопоставлять мысли и взгляды Берцелиуса – с учениями Дюма, Лорана и Жерара, тогда уже выступивших, но еще далеко не получивших господства».
Большинство этих имен у современного читателя не вызывает никаких воспоминаний. Однако они принадлежат выдающимся научным деятелям до-менделеевской эпохи химии. Это имена участников борьбы, в которой выковывалось понятие об атоме.
Во времена Воскресенского существование атомов было для химиков только сомнительным и необязательным предположением. Постичь, что свойства, которые вещество проявляет в большой массе, должны зависеть от свойств каких-то мельчайших его частиц, было очень не легко. Для этого надо было быть таким титаном мысли, как Ломоносов, атомистические воззрения которого намного опередили его время.
С одной стороны, эту мысль подсказывали наблюдения даже над простейшими химическими соединениями. Опыты утверждали, что составные части известного сложного вещества вступают в соединение между собой в определенной пропорции.
Ознакомимся с типичным образчиком рассуждений, которые приводили химика того времени к понятию об атоме.
Например, для образования киновари нужно всегда одно и то же относительное количество ее составных частей – серы и ртути.
Можно представить себе большой опыт, в котором 4 пуда серы соединяются с 25 нудами ртути. При этом образуется, без малейшего остатка, 29 пудов киновари.
Можно уменьшить масштабы опыта, повторив его с 4 фунтами серы и 25 фунтами ртути. Результат останется точно подобным первому – сера и ртуть соединятся без остатка. Этот же результат можно воспроизводить во все меньшем и меньшем масштабе, доходя до мельчайших долей единицы веса…
Но дальше естествоиспытатель имел бы дело с исчезающе малыми порциями соединяющихся веществ. Он мог продолжить деление веществ только мысленно, предположительно. И он неизбежно спрашивал себя: до какого же предела можно при этом дойти?
Долгое время этот вопрос считался неразрешимым. Способов непосредственного наблюдения строения вещества еще не было известно. Можно было только предполагать, что дробление вещества на все более и более мелкие части нельзя продолжать до бесконечности. А когда оно останавливается – это значит, что мы дошли до мельчайшей неделимой частицы вещества – до атома[3].
Неделимой частицы!..
Слово «неделимой» приводило в смущение исследователей, когда они вплотную подходили к понятию об атоме. Как представить себе частицу, имеющую объем, длину, но дальше неделимую? [4]
Решительный сдвиг в науке об атоме знаменовало открытие закона природы, оставшегося в науке под названием «закона кратных отношений» .
Этот закон был очень сильным косвенным доказательством существования атомов. С утверждением этого закона «атомистическая гипотеза», уже превращенная Ломоносовым в орудие познания, выдвигалась на первый план.
Как странно чувствуешь себя, перенесясь в эпоху, когда то, что сейчас так бесспорно для нас, вызывало осторожные оговорки! Существование атомов в наше время – это олицетворенная несомненность. Принимая ее сразу, чуть ли не с детских лет, как готовое утверждение, мы часто забываем о том, что до нас существование атомов было доказано десятками различных способов, ценой усилий целых поколений исследователей.
Древние философы создали замечательные, хотя и умозрительные, представления на эту тему. Римский поэт Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» писал:
Мед и молочная влага
Чувства приятные на языке нам всегда оставляют. Горький полынь же и золототысячник дикий, напротив, Вкусом своим отвратительным морщиться нас заставляют. Ты узнаешь без труда, что приятно ласкают нам чувства Те вещества, коих тельца первичные круглы и гладки. Те вещества же, которые горьки и остры по вкусу, Цепкие, тесно сомкнутые тельца в себе заключают…
Представления древних атомистов были плодом могучих усилий философской мысли античности, но творцы их и не помышляли о подтверждении своих предположений опытом. Но химик нового времени не может «воображать» природу. Опыт учит его сдержанности. Для него он не только критерий истины, но и орудие ремесла. Опыт – это вопрос, который задается природе, и если он поставлен правильно, природа даст на него ответ.
Если атом – реальность, то он должен быть наделен, как и всякий предмет материального мира, множеством разнообразных свойств. При открытии закона кратных отношений он позволил обнаружить себя по одному из признаков этих свойств – постоянному весу, с которым он входит в соединение. Однако этого мало. Должны, непременно должны быть еще какие-то свойства атомов, которые определяют различие веществ между собой и способность их взаимного соединения.
Вскоре после открытия закона кратных отношений один из учителей Воскресенского, упоминаемый Менделеевым шведский химик Берцелиус, начал исследовать действие на разные тела электрического тока и пришел к убеждению, что атом открылся ему еще с одной стороны – со стороны своих электрических свойств. Он построил целую теорию «электрической химии», и до поры до времени эта теория удовлетворяла науку, но в дальнейшем оказалось, что эта теория ошибочна.
За работами северной лаборатории – в стране гранита, белых ночей и фиордов – с огромным интересом следили все выдающиеся химики, с которыми Берцелиус состоял в оживленной переписке. Эти работы нашли свое отражение в журналах и учебниках, которые, занимаясь химией, изучал Менделеев.
В Стокгольме, в маленьком двухэтажном домике, в котором жил Берцелиус и где помещалась его лаборатория, были сделаны первые крупные исследования действия на различные тела гальванического тока. Берцелиуса издавна увлекала идея, что всякое химическое соединение состоит из сходящихся противоположностей. Она получала в этих исследованиях как будто наглядное подтверждение.
Одни тела отлагались из растворов на том полюсе батареи гальванических элементов, который обозначался знаком «плюс», другую категорию тел привлекал к себе отрицательный полюс цепи. На этом полюсе, отмеченном знаком «минус», отлагались, например, доказывая тем самым свою положительную электрическую заряженность, металлы, щелочи.
Берцелиус шел дальше. Он объяснял, что положительный заряд окисла металла натрия образуется потому, что положительный заряд натрия преобладает над отрицательным зарядом кислорода. Если же с кислородом соединяются атомы несколько менее положительной серы, то окисел обнаруживает отрицательный заряд. Образование сернокислого натрия (глауберовой соли) происходит в результате взаимного соединения этих противоположно заряженных окислов и т. д. и т. п.
Открытие закона кратных отношений как нельзя более устраивало Берцелиуса. Он доказывал существование атомов. Оставалось предположить, что в каждом атоме существует два противоположных электрических полюса, и все химические явления, казалось, разом получали единое объяснение.
Берцелиус считал, что «полюсы» атома не должны содержать равных количеств электричества, иначе они взаимно уничтожаются, и атом будет электрически нейтрален. Электричество одного полюса должно преобладать над электричеством другого. Берцелиус учил, что оно находится на одном из полюсов в «большем сгущении».
Все это граничило, конечно, с чистой фантастикой. Электрохимическая теория Берцелиуса, по ироническому замечанию Менделеева, которое он обронил в лекциях по основам химии, объясняла «мало известное совершенно неизвестным, или еще более темным».
На самом деле, ставя свои первые электрохимические эксперименты, скандинавский ученый слышал тихий и не очень внятный шопот природы, начавшей рассказывать ему одну из самых глубоких своих тайн – тайну электрического строения атома[5]. Трудности, которые он при этом испытывал, один остроумный физик сравнил с затруднительным положением слушателя концерта, который пытался бы по исполняемой музыкальной вещи догадаться об устройстве рояля… Пробуя истолковать свои наблюдения на языке химии, Берцелиус проявил и отвагу и изобретательность. За это его осуждать никак нельзя. Но к своему химическому пересказу действий тока на различные вещества Берцелиус слишком многое добавил от себя и слишком упорно именно на этих добавлениях настаивал.
Берцелиус представлял себе химическое соединение так: атомы различных элементов в соединении сходятся своими противоположными полюсами. Точно так же он объяснял, почему электрический ток разделяет соединение на его составные части. Берцелиус считал, что гальванический ток, притекающий со стороны, восполняет запас электричества, утерянный атомами при соединении, и позволяет им выделиться в прежнем свободном состоянии. Интересно, что русский ученый М. Г. Павлов (1793- 1840) развивал правильные взгляды на этот вопрос. Он говорил о возбуждении электрических атомов в процессе их соединения.
Свои взгляды Берцелиус опубликовал в классическом руководстве.
«Если электрохимические воззрения верны, – уверенно провозгласил в своем учебнике шведский химик священную формулу, отдающую теорию на суд опыта, – то из этого следует, что каждое химическое соединение зависит единственно от двух противоположных сил, положительного и отрицательного электричества, и что каждое соединение должно состоять из двух частей, соединенных действием электрохимической реакции… Из этого следует, что каждое сложное тело, из скольких бы частей оно ни состояло, может быть разделено
на две части, из которых одна будет электрически положительной, а другая – отрицательной»[6].
Таким образом, условие было поставлено.
Теперь опыт должен был сказать, исполнится ли решительное предсказание, то есть будет ли верна выдвинувшая его теория.
Берцелиус и его сторонники находили все новые и новые подтверждения этой теории, которая обосновывала представления о «двойственном» строении любого сложного химического вещества. Двойственность возводилась во всеобщий принцип химии. Ради цельности схемы уже отрицалось самое естественное предположение, что тела состоят из своих простейших составных частей.
Через пятнадцать лет после окончания института Менделеев в своих первых университетских лекциях подробно останавливался на событиях этого времени. Застенографированные студентом Никитиным, они составляли почти всю первую часть опубликованного Менделеевым в 1869 году замечательного химического руководства «Основы химии». Менделеев учил студентов опасаться в науке предвзятости, и в качестве ее примера он называл ошибку Берцелиуса. Именно предвзятость побуждала Берцелиуса и его последователей видеть в сернистом натрии не естественное сочетание серы, кислорода и натрия, а две воображаемые составные части: электроположительную серную кислоту и электроотрицательный натр; в квасцах различать не их действительные простейшие составные части, а результат сочетания выдуманного электроотрицательного «элемента», например сернокислого аммония, и электроположительного, скажем, сернокислого калия, и т. д.
Многие вещества сторонники системы Берцелиуса обозначали двумя различными способами. Одна – практическая, «рабочая» – формула описывала соединение так, как оно в действительности происходило, перечисляя исходные – атомные – составные части сложного тела. Другая формула – «теоретическая» – соответствовала тем скрытым и только подозреваемым соотношениям полярно-противоположных частей, которые, по идее Берцелиуса, притягивались друг к другу различными электричествами и тем самым придавали прочность соединению. Правда, большинство этих фантастических скрытых составных частей никогда не удавалось выделить в свободном состоянии. «Но элемент фтор тоже никому не приходилось видеть»[7], – возражал Берцелиус скептикам, которые называли его условные формулы «химией несуществующего».
До поры до времени обо всем этом еще можно было спорить.
Но наступил момент, когда спорить уже было не о чем, а спор продолжался…
Удар по электрохимической теории Берцелиуса, от которого она уже не оправилась, был нанесен из Франции. Его нанесли исследователи, изучавшие один из способов химического соединения веществ, когда один элемент вытесняется из сложного соединения другим. В простейших случаях такого вытеснения на место одного атома одного элемента встает также один атом другого элемента.
Теоретическому изучению этого вопроса неожиданно способствовала неудача одного бала в Тюильрийском дворце в Париже. Приглашенное на один из вечеров общество, собравшееся повеселиться, вынуждено было разойтись по домам: залы дворца были наполнены едким паром. Его испускали восковые свечи, горевшие коптящим пламенем. Директор королевского фарфорового завода в Севре считался как бы придворным химиком. Он был очень смущен, когда к нему обратились за разъяснением: он не мог допустить умаления своего престижа, но откуда директору фарфорового завода было знать природу испускаемого свечами ядовитого дымка? Под большим секретом он поручил исследование подозрительных свечей своему зятю – профессору и академику Жану Дюма. Дюма тем более охотно занялся этим делом, что ему пришлось уже им заниматься по поручению другой стороны. Сейчас к нему обращались пострадавшие потребители, а недавно он принимал у себя поставщика. Тот показывал ему образцы воска, который нельзя было выбелить обычным способом и который поэтому не находил сбыта. Зная, какие советы он подал торговцу свечами, Дюма легко объяснил происшествие в Тюильри. Выбеленные хлором, по его собственному совету, свечи, как оказалось, нашли сбыт во дворец… В этих свечах, повидимому, оставался хлор, который и выделялся в виде соляной кислоты при горении свечи. Удушливые пары, разогнавшие людей, – это и были пары соляной кислоты. Причины неприятности, таким образом, были отысканы, и можно было принять меры против ее повторения. Таким образом, было исполнено все, что требовалось от директора фарфорового завода.
Но для химика Дюма самое интересное только начиналось. Неожиданно им был установлен тот факт, что при обработке хлором органические вещества обладают способностью поглощать этот элемент, причем в больших количествах!
Здесь хлор не был случайной примесью. Научному исследованию открывались новые просторы. При их обследовании была сделана важнейшая находка: оказалось, что при отбелке хлором свечей водород, который входит в состав воска, непосредственно замещался в сложной частице горючего вещества хлором.
По словам современника химики встретили этот вывод Дюма «безграничным изумлением, чтобы не сказать – презрительным недоверием». Еще бы! Это простое заключение было убийственным для теории Берцелиуса. Основное условие, под которым Берцелиус, как мы помним, отдавал свою теорию на суд опыта, нарушалось. Оказалось, что электроположительный водород мог быть замещен… электроотрицательным хлором, то есть в одной молекуле могли быть соединены вместе два электроположительных и два электроотрицательных элемента.
Но вслед за тем ученик Дюма Лоран (которому многие историки химии приписывают главную роль в раскрытии значения факта замещения водорода) исследовал действие хлора на нафталин и полностью подтвердил предсказание Дюма о том, что
и в нафталине водород может быть замещен хлором.
Берцелиус пытался сопротивляться. Он находил, что явление замещения одного элемента другим идет вразрез с основами науки (под наукой он разумел – увы! – только свою электрохимическую теорию). Во имя этой теории он пытался отрицать факты, а заодно, как мягко выразился один из историков химии, «в своих ежегодниках порицал всю ученую деятельность Лорана».
Однако открытие факта замещения электроположительного водорода в воске электроотрицательным хлором было лишь ракетой, с которой начиналась атака. Появились еще более убедительные факты, добивавшие электрохимическую двойственность. Оказалось, что в результате действия того же хлора на уксусную кислоту можно было получить так называемую «трихлоруксусную кислоту» – еще одно соединение, в котором водород также оказывался замещенным хлором.
И все-таки Берцелиус не сдавался!
Продолжая отрицать очевидность, он искал – и ему казалось, что он находил,- в трихлоруксусной кислоте все то же, по его мнению, «скрытое», а в действительности воображаемое, сложное сочетание электроположительных и электроотрицательных частей.
Но безжалостный опыт разрушал одно его построение за другим. Была проделана обратная реакция: в трихлоруксусной кислоте хлор снова был замещен водородом. Таким образом, из трихлоруксусной была снова получена обыкновенная уксусная кислота. Теперь уже было окончательно ясно, что все происходило так, как предполагали противники Берцелиуса и вопреки его ошибочной теории.
В конце концов химия должна была отказаться от электрохимической теории в том виде, в каком она была введена Берцелиусом.
Современники неоднократно упоминали, что, находясь в зените своей славы, Берцелиус «лишь изредка согласовался с мнением других». Но отчаянное упорство, с которым он отстаивал свои ложные воззрения, нельзя объяснить одной лишь замкнутостью характера и преувеличенным чувством превосходства. Ведь Берцелиус отстаивал свои ошибочные взгляды даже тогда, когда бесстрастный опыт, выполняя условия, заранее сформулированные им же самим, оставил от его теории лишь груду обломков.
Берцелиус обладал тончайшей интуицией, великолепным «химическим чутьем», которое часто давало химикам повод удивляться, что он «находил истину там, где у него не было почти никакой точки опоры». Но ни это, ни чудесное искусство умелого аналитика не смогли спасти от краха исследователя, посмевшего предписывать природе законы, которые ей не были свойственны.
«Не в полярном различии тел, а в совокупном влиянии всех элементов на свойства образуемого соединения стали искать потом объяснения известных реакций», – рассказывал Менделеев в «Основах химии» уже своим собственным ученикам о периоде развития химической науки, который был связан с критическим преодолением взглядов Берцелиуса.
«Такое отрицание,- продолжал он, рассуждая как диалектик, – не ограничивалось одним разрушением шатких основ предшествовавшего, оно выступило с учением новым, положило основание всему направлению нашей науки».
Французский химик Дюма, в пылу спора по поводу электрохимической теории Берцелиуса, воскликнул однажды: «Не было еще идеи, более вредной для развития химии, чем эта!» Менделеев не был склонен, подобно Дюма, приписывать электрохимической теории и ее творцу одну только вредоносность. Пусть, сама по себе, теория оказалась ошибочной. Однако она выдвинула на первый план важнейший вопрос о внутреннем строении вещества. Под влиянием Берцелиуса, и в спорах с ним, химики стали особое внимание уделять определению ближайших составных частей химического соединения, то есть определению групп простейших атомов, из которых строится сложная частица вещества. Продолжая изучение реакций замещения, они увидели в сложных частицах таких веществ, как воск, нафталин, уксусная кислота и другие, подобие зданий, «в которых части, состоящие из водорода, можно заменить, без разрушения всего здания, такими же частями, состоящими из хлора или кислорода», как образно писал об этом сам Дюма.
Впоследствии знаменитый русский химик А. М. Бутлеров заключил опыт всех своих предшественников в новой, подлинно научной, теории химического строения сложных частиц или молекул. Эта теория и заложила уже прочное основание всей современной химии, которую можно смело назвать химией молекул. В наше время химик занимается тем, что по указаниям теории «разбирает» или «строит» молекулы – сложнейшие конструкции из атомов различных веществ.
Менделеев не осуждал Берцелиуса за его неудачу. Но его нисколько не привлекала безнадежная и обреченная верность шведского химика своему развенчанному кумиру, своей ниспровергнутой опытом теории. Менделеев восхищался подлинно научным рыцарством, которое, по его мнению, воплощалось в строгой объективности Воскресенского. «Истинно научным делом», по словам Менделеева, Воскресенский считал «только возможно твердое следование за фактами, добывать которые и разбирать он и учил массу своих слушателей».
Это узнавание недаром было активным, вполне в духе Менделеева. Направление его выражалось столь действенными глаголами, как «добывать» и «разбирать». В этом критическом анализе не было и следа неверия в теорию, охватившего в то время всю массу химиков мира. Первое время после крушения электрохимической теории, которая, казалось, впервые, с единообразной точки зрения обнимала всю химическую науку и по одному общему признаку позволяла классифицировать все химические вещества, очень многие европейские химики проявляли отвращение ко всякому умозрению. Они считали, что надо лишь полно и добросовестно собирать факты и не следует пытаться их толковать… Вопреки этим скептикам, Менделеев вошел в химию с твердым убеждением, что если ученые отказываются от широких обобщений, смиряют дерзкий порыв человека к разоблачению основных тайн природы, это происходит исключительно от слабости их знаний, а совсем не потому, что наука имеет чисто эмпирический характер.
Исторические поражения учили Менделеева лишь тому, что надо лучше подготовлять смелые попытки наступления на неведомое. Они внушали скромность и помогали отчеканить метод познания природы. А этот единственный верный метод заключается в том, что мысль от обобщения фактов неизменно опять возвращается к опыту и безбоязненно встречает его проверку своих заключений.
Открывавшийся перед Менделеевым во всей своей сложности мир опытного знания радовал его. Это был прочно опирающийся на нерушимые законы природы мир высшей справедливости. Здесь нет первенства по старшинству, есть первенство только по заслугам. Каждый может задать природе вопрос, и если он сумеет услышать ответ, природа ответит ему, кто бы он ни был. Древняя легенда рассказывала о царе, который хотел сразу все узнать, и о великом геометре Эвклиде, который отвечал ему, что, увы, в науке нет «царского пути». Воскресенский открывал своим ученикам мир науки не как Олимп, жилище богов, а как обширную мастерскую. В этом прекрасном мире существовало в конечном счете одно движение – вперед. Даже ошибки исследователей были плодотворны для развития знания. Они предостерегали других от выбора неверного пути. И кто-кто, а Менделеев этими предостережениями воспользовался в полной мере!
Это он написал в предисловии к своему руководству «Основы химии», с любовью посвященному всем начинающим изучение этой науки:
«Лишь связь идей с фактами и наблюдений с направлением мыслей, по моему мнению, может действовать в надлежащую сторону, иначе действительность ускользнет и на место ее легко встанет
фикция… чего мне всеми силами хотелось избежать в своем изложении».
И еще в своей юношеской работе «Удельные объемы» он писал: «Без фактической основы, руководствуясь каким-либо соображением, мы не можем и не должны вводить что-либо в науку».
Мы познакомились с некоторыми эпизодами истории науки, которые вызывали раздумья молодого Менделеева. Если мы, вместе с Менделеевым, оценим их напряженность, их внутреннюю драматичность, мы поймем, что побудило его смолоду выбрать удел усидчивого труженика лаборатории, прикованного к пробиркам и газовым рожкам, почему, едва ли не единственный из целого выпуска студентов Главного педагогического института, Менделеев на всю жизнь оставил своей основной специальностью химию.
Да, работа химика лишена всякого внешнего блеска! Человек в прожженном халате, с пальцами, коричневыми от кислот, внимательно и молчаливо отмеривает, взвешивает, пересыпает, соединяет жидкости и порошки. Счесть ли время, которое он тратит на подготовку, на продумывание опыта, на выжидание конца сменяющих друг друга реакций… Химия – это школа терпения и выдержки, но в то же время это и арена борьбы за истинное познание природы.
Вместе с тем именно химия казалась Менделееву той дорогой, следуя которой, действуя с умом, можно рассчитывать быстрее всего достичь могущества. А он о нем пламенно мечтал. Не для себя, нет! Для своей страны. Мысль о ней у него всегда была первой, мысль о себе – всегда последней! Даже когда он сражался за признание первенства
своих работ, он делал это «не ради славы своего, а ради славы русского имени». Источник достатка и могущества народа, как он его понимал, он видел в расцвете производительных сил. В химии воплощалась с детства захватившая его мечта – обратить на пользу людям простые, дешевые, доступные, «повсюдные», как он выражался, то есть повсюду распространенные, вещества.
Природа осмысленная, подчиненная строгим законам, устремленная к человеческим целям, природа в пробирках, горнах, заводских печах – против дикой природы, строптивой, сопротивляющейся, скрытой и необузданной, – вот величественное поле вековой борьбы, исход которой – он в это верил – призвана решить химия. Химия – совершеннейшее оружие в арсенале человеческого ума и труда. Его стоит оттачивать, им стоит учиться владеть.
Темпераментный, увлекающийся, нетерпеливый, Менделеев в школе Воскресенского воспитывал в себе сдержанность, аккуратность, осмотрительность. Эти достоинства необходимы исследователю, который хочет уверенно пользоваться экспериментом. С этим вооружением, и в то же время оставаясь прежним Менделеевым – пламенным энтузиастом познания, – он вступил в самостоятельную научную жизнь.
* * *
Итак, Менделеев еще на школьной скамье, но уже, о чем бы он ни думал, чтобы он ни делал, его мысли сходятся к одному главному пункту, как световые лучи, попадающие в линзу. Он слушает лекцию профессора А. Н. Савича по астрономии -
предмету, как будто достаточно далекому от его химических устремлений, – но и здесь он находит нечто важное для своих замыслов: астрономия раскрывает перед ним картину всеобщего движения.
Когда Земля, благодаря усилиям астрономов, «сдвинулась со своих устоев», тогда косные умы захотели закрепить хотя бы Солнце и звезды. Но астрономия вслед за тем открыла, что и Солнце неуклонно движется.
Все движется! В кажущемся хаосе всеобщего движения царствует, однако, строгий порядок.
Быть может, у Менделеева уже вспыхивают в уме смелые сравнения. Разве не напоминает солнечную систему крохотная молекула аммиака со своим «сдерживающим Солнцем» – атомом азота – и своими планетами – атомами водорода, из сочетания которых она состоит? Молекула поваренной соли- разве это не «двойная звезда из натрия и хлора»?..
В действительности это поэтические образы, не больше того. Именно как к поэтическим аллегориям Менделеев вернется к этим сравнениям в своей лекции, которую он напишет уже в зрелые годы для Фарадеевских чтений в Англии.
Но сейчас в подобных сравнениях заложен для него глубокий смысл. Не открывают ли они путь к познанию важнейшей тайны химии, в которую он мечтает проникнуть, – тайны сродства химических веществ, вступающих в соединение? Большинство химиков этот вопрос нисколько не волнует. Они готовы без конца пробовать все новые сочетания веществ, с наслаждением изучать все новые и новые производные этих сочетаний в их бесконечном разнообразии. Их интересует главным образом результат химической реакции, то есть превращения одних веществ в другие, отличающиеся от исходных по своим свойствам. Каков тайный механизм этой реакции – это может заинтересовать только человека с особой склонностью к физическому мышлению, то есть особым вкусом к вскрыванию основ сущего.
Но именно таков Менделеев!
И размышляя над мучающими его химическими загадками на уроке астрономии, он продолжает смелое – слишком смелое! – сближение идей. Профессор Савич рассказывает о том, как вся новая теоретическая астрономия, или, что то же, «небесная механика», развилась из закона тяготения. Этот закон, простой, как дыхание, неотразимо убедителен во всех своих проявлениях. Падает яблоко – его притягивает к Земле та же сила взаимного тяготения масс, которая удерживает Землю на ее орбите около Солнца и превращает в рой падающих звезд, или астероидов, обломки миров, встречающихся на пути нашей планеты. Масса тела – последняя основа природы. От сил электрического поля можно загородиться металлическим экраном. Но нельзя себе представить никакого экрана, способного ограничить действие силы взаимного притяжения масс. Электричество бессильно против изолятора. Но ничто не может изолировать море от действия силы притяжения Луны, вздымающей приливную волну. Не является ли масса атома главной характеристикой вещества, от которой зависит все его поведение в реторте химика? Кто может сказать, так это или не так?
Так это или иначе, Менделеева увлекала во всем этом возможность самому действенно вмешаться в естественное течение событий. Положение химика выгодно отличается от положения астронома тем, что он может не только наблюдать интересующие его явления природы, но и по своему произволу создавать особые условия для изучения заинтересовавшего его факта. Это и значит поставить опыт.
Опыт позволяет, например, устранить несколько возможных причин наблюдаемого явления, оставив только одну, – так сказать, «очистить» его. Затем уже можно без помех удостовериться, действительно ли изучаемые следствия связаны с предполагаемой их причиной. Не считаясь со временем, ученый умножает число примеров, подтверждающих уловленную им закономерность. Он испытывает ее всеми способами, он сам себя всячески старается опровергнуть, прежде чем признает: «да, это так».
И если, в заранее намеченном пункте, теория совпадает с фактами и, таким образом, получает в них новую опору, то предвидение оправдывается… Какой это праздник человеческой мысли! Как волнующе прекрасно, «на дно не опираясь… пересягать пропасти неизвестного, достигать твердых берегов действительности и охватывать весь видимый мир, цепляясь лишь за хорошо обследованные береговые устои».
Эти слова предпослал одному из самых значительных своих научных трудов – «Основам химии»-Менделеев, уже профессор, ученый, который до конца своих дней не потерял усвоенного в школе Воскресенского поэтического отношения к науке. Романтикой познания всегда была овеяна в его глазах каждая страница истории развития и приложения к химии новой для нее атомистической теории, получившей окончательное признание уже при его непосредственном участии (нельзя забывать, что сам Менделеев – добросовестнейший ученый и осторожный экспериментатор – еще долгое время в своих сочинениях называл ее «атомистической гипотезой», то есть предположением).
Таким образом, задача была поставлена! Менделеев отправлялся на поиски загадочных, таинственных сил, управляющих слиянием атомов в химическом соединении.
Путь был намечен! Путь, на котором исследователя сразу же ждали ослепительные удачи. И одна из них, самая близкая, которую он не захотел полностью признать только потому, что он не ее искал…
III. МЕНДЕЛЕЕВ ЗАНИМАЕТСЯ ИЗОМОРФИЗМОМ
Главный педагогический институт был окончен Менделеевым в 1855 году. В его стенах молодой химик успел уже стать знаменитостью. Его первая- еще студенческая – исследовательская работа[8], порученная ему руководителем кафедры химии, предназначалась к опубликованию в серьезном специальном журнале. Характерно, что она должна была искать приюта в журнале по горному делу: ни одного химического журнала в России в то время еще не было.
На выпускном экзамене сияющий Воскресенский принимал поздравления с блестящей подготовкой своего воспитанника.
Немногочисленные знатоки, присутствовавшие на торжестве, отмечали не только отличную эрудицию диссертанта, но и другое: злободневность и остроту темы, избранной для защиты. Для успеха на экзаменах вполне достаточно было бы воспроизвести какую-нибудь прославленную реакцию, вошедшую во все руководства. Достаточно было даже
повторить одно какое-нибудь классическое измерение, доказав тем самым способность дотянуться до высокой техники эксперимента, некогда проявленной учителем. Но нет, ареопагу профессоров было доложено вполне своеобразное исследование.
Менделеев обратился в нем к изучению удивительной способности некоторых веществ заменять друг друга в кристаллах, не меняя, или почти не меняя, формы кристаллической постройки. Это было необъяснимо с точки зрения распространенных тогда воззрений на природу химического соединения, – воззрений, ставивших под сомнение существование атомов.
Выбирая предмет для своего исследования, Менделеев достигал того, к чему стремился. Он сразу вступил в сражение, происходившее на бранном поле химической теории. Исход этого сражения в глазах современников отнюдь еще не был решен, что и составляло его главную заманчивость для нового бойца.
Сторонники ошибочных взглядов Берцелиуса, искавшего в любом химическом соединении обязательной двойственности, отвечавшей игре скрытых электрических сил, отступали в беспорядке. Но в лагере победителей существовала тоже немалая сумятица. Как уже было сказано, мало кто давал себе труд углубленно анализировать положение, сложившееся на поле боя. И еще меньше было охотников подобрать и обновить оружие, брошенное разгромленным противником, хотя многое в этом вооружении представляло серьезную ценность.
Главной из этих ценностей было признание необходимости найти единую меру химического вещества. Этой мерой и служит атом. Над ее уточнением
й сам Берцелиус и другие исследователи трудились много, упорно и плодотворно до тех пор, пока предвзятые идеи не свернули их с правильного пути.
Новые, более полные и совершенные представления о строении химического начала – элемента – должны были окрепнуть, преодолевая ложные идеи, но одновременно используя здоровое, разумное, материалистическое зерно, которое было добыто предшественниками. Между тем исследователи, неспособные мыслить диалектически, вместе с ошибками склонны были зачеркнуть весь пройденный путь.
Однако сама природа химических превращений, или, как говорят химики, реакций, все время возвращала исследователя к мысли об атоме и его свойствах. Дерево химии разрасталось: все новые и новые вещества, все в новых и новых сочетаниях входили в круг знаний химика. И они совсем не собирались приноравливать свое поведение к тощим схемам теоретиков. Затруднения практиков предупреждали о том, что пренебрежение теорией начинало мстить за себя.
Менделеева, в его студенческой работе, увлекало стремление вложить и свой «пай» в уточнение атомистических представлений. Он с тем большим жаром взялся за предложенное ему Воскресенским исследование случаев замещения одних веществ другими в таких сложных атомных постройках, как кристаллы, что это и был прямой шаг к осуществлению его замыслов: разгадать тайну химических связей между атомами.
Некоторые элементы, при всем своем различии вели себя в кристаллах сходным образом. Им было
присвоено название, по обычаю составленное из двух греческих слов: «isos», что значит «разный», и «morphe» – «вид», «форма», а само явление получило имя «изоморфизм».
Объекты исследования, избранные Менделеевым, были не только поучительны, но и красивы. Кому не приходилось любоваться игрой огней, пусть даже не в драгоценных камнях, а хотя бы в обыкновенных кристаллах каменной соли! Кто не восхищался бесконечным разнообразием узоров в снежинках! Они радуют глаз точностью своих геометрических форм.
Но для исследователя – химика, минералога – кристаллы – это еще «к тому же выразители внутренних качеств вещества, атомов. Атомы группируются в кристалле друг подле друга, подчиняясь силам, между ними возникающим. Всеми своими внешними очертаниями – расположением ребер, углов, граней-кристалл наводит на мысль о какой-то правильной атомной постройке. Каковы законы этой постройки, на каких свойствах атомов они основаны – эти мысли захватывают естествоиспытателя, который держит в руках чудесный камушек, так изобретательно отграненный самой природой. Сама природа отчеканила этот прозрачный ключик к се важнейшей тайне – строению вещества.
Исследователь погружает кристалл одного из изоморфных по отношению друг к другу веществ в насыщенный раствор второго такого же вещества. Исходный, казалось бы чужеродный, кристаллик начинает обрастать с поверхности новыми слоями новых атомов. Это значит, что условия притяжения друг к другу частиц атомной постройки остаются почти неизменными. Частицы второго изоморфа так же ориентируются друг около друга, как и частицы первого. И те и другие выбирают в кристалле одни и те же места, на которых им в одинаковой степени легко удержаться. Они садятся вблизи угла, где уже засевшие в кристалле атомы могут с ними энергичнее взаимодействовать, где большее число связей свободно. От ребра к ребру пролегают стройные цепочки атомов, они ложатся параллельными рядами и образуют новые поверхностные слои и грани.
Менделеев, конечно, не представлял себе этой картины с такой ясностью, с какой она рисуется исследователю в наше время, когда химик и физик пронизали кристалл светом рентгеновских лучей, длина волны которых соизмерима с размерами атома. Они уловили на экране «зайчики» от рентгеновских же лучей, отраженных внутренними атомными слоями кристаллической постройки, измерили эти слои с величайшей точностью. Менделеев изучал лишь основы этого знания. Он с восхищением наблюдал, как изоморфные друг другу вещества выкристаллизовываются из смешанных растворов в виде общих кристаллов. Их количественные отношения непостоянны. Атомы как бы перемешиваются: в постройке может участвовать больше атомов одного из изоморфных веществ или, наоборот, меньше.
Это зависит от того, сколько тех или других веществ будет находиться в растворе. Если смешать растворы калиевых и аммониевых квасцов, то при пересыщении этих растворов не выделяются в отдельности кристаллы квасцов того или другого рода: в каждом отдельном кристалле будет содержаться и калий и аммоний. Изоморфные смешения, то есть взаимные замены близких по свойствам веществ, особенно часто встречаются в минералах.
Известь и магнезия, глинозем и окись железа, магнезия и закиси марганца часто замещают друг друга без перемены кристаллической формы. Попробуйте уяснить хитрую механику этих замен без участия атомов!..
***
В своей студенческой работе Менделееву кое- что удалось добавить к тому, что до него было известно о поведении атомов в кристаллах, составленных из смеси изоморфных веществ. Но для него эта работа была не только пробой сил. Пытливо всматривался он в смутные связи, обозначавшиеся в его опытах между составом и свойствами разнообразных «твердых растворов» изоморфных веществ. Кто мог в то время предвидеть, какое интересное развитие получат эти исследования в его собственных работах о растворах, которые в дальнейшем заложат основу целого направления в русской и мировой химии!
Несколько забегая вперед, следует отметить еще одну важную особенность этой первой научной работы Менделеева. В ней отчетливо проявилось то направление поисков, следуя которому исследователь пришел впоследствии к величайшим открытиям в области химии.
В явлении, которое приковало к себе внимание молодого ученого – в изоморфизме – отчетливо обнаруживались удивительные черты сходства в поведении различных элементов. В своем капитальном труде «Основы химии» сам Менделеев впоследствии отмечал, что первые наблюдения над изоморфизмом учили его открывать «сходство соединений» различных элементов. Мы увидим дальше, насколько эти наблюдения были важны.
Впрочем, все похвалы на экзамене радовали учителя гораздо больше, чем ученика.
Как бы то ни было, Менделеев получал свободу. Вдвоем со своим другом по институту, молодым механиком Вышнеградским, он снял комнату на частной квартире. Когда приятелей спрашивали, где они живут, они весело отвечали: «На Петербургской стороне, за табачной лавочкой». Кончилась жизнь по расписанию. Не было больше обязательных дежурств, репетиций.
Но единственно, для чего Менделееву могла бы пригодиться свобода, – это для работы. А работе попрежнему мешала болезнь, и Менделеев все так же этой болезни сопротивлялся. Его тело, выросшее из кряжистого сибирского корня, упорно не подчинялось давнему смертному приговору врачей. Однако всех окружающих, да и его самого, смущали повторяющиеся горловые кровотечения. Если это действительно туберкулез, его не перехитрить простой осторожностью…
Друзьям удалось настоять, чтобы Менделеев показался петербургской знаменитости – будущему придворному медику Здекауэру. Почтенный доктор удостоверил, что медицина может протянуть Менделееву единственную соломинку в виде совета поехать на юг. Доктор Здекауэр не договорил, что и это он считает бесполезным. Любезный и холодный, он дал Менделееву, на случай неизбежных осложнений, рекомендательное письмо к своему просвещенному коллеге Пирогову, который находился где-то на юге, не то в эвакуационных госпиталях возле Одессы, не то на полях сражения в Крыму. Он участвовал в длительной и тяжелой войне, в которую правительство Николая I ввергло Россию. Русские солдаты и матросы преодолевали неимоверные трудности, обороняясь против войск коалиции четырех держав, вторгшихся в пределы родной страны. Великий хирург Пирогов был с ними.
Прощай «Петербургская сторона, за табачной лавочкой»! Прощай магистерская диссертация – диплом на право занятия наукой! Вместо нее в кармане Менделеева лежало вежливое напутствие на тот свет, подписанное Здекауэром. К нему должно было присоединиться назначение на должность гимназического преподавателя химии и физики в одном из южных городов. Временная остановка на пути в небытие!..
Менделеев окончил институт с золотой медалью и имел право выбирать, куда ехать – в Одессу или в Симферополь. Одесса – это город, где есть лицей и библиотека. Он уже предчувствовал наслаждение, с которым погрузится в ароматы печатной бумаги и кожаных переплетов.
Но департаментская канцелярия перепутала фамилии, и желанное назначение получил некий Янкевич.
Менделеев отправился в министерство и тут впервые выказал свой строптивый нрав. Он не удовольствовался тем, что бушевал в приемной. Он добрался до самого директора департамента Гирса и высказал ему все, что думал о нем и его заведении. А думал он нечто такое, что на следующий день «на Петербургской стороне, за табачной лавочкой» появился специальный посыльный министра. Министр, по доносу Гирса, вызывал к себе Менделеева для отеческого внушения.
В назначенный день, в 11 утра, он отправился на прием к министру. К своему удивлению, он застал в приемной и Гирса. Менделеев сел в одном углу комнаты, Гирс – в другом. Прошел час, другой, третий. Прием окончился, все ушли. В это время отворилась дверь, и из кабинета, опираясь на палку, стуча деревяжкой, которая заменяла ему одну ногу, вышел министр Авраам Сергеевич Норов.
Дальше следует рассказ, записанный со слов Менделеева его ассистентом, ныне покойным академиком В. Е. Тищенко:
«Остановились среди комнаты. Норов посмотрел на меня, потом на Гирса и сказал:
Вы что это в разных углах сидите? Идите сюда.
Мы подошли. Он обратился к директору:
Что это у тебя там писари делают? Теперь в пустяках напутали, а потом в важном деле напортят. Смотри, чтобы этого больше не было!
А потом ко мне:
А ты, щенок! Не успел со школьной скамьи соскочить и начинаешь старшим грубить. Смотри, я этого впредь не потерплю. Ну, а теперь поцелуйтесь.
Мы не двигались
Целуйтесь, говорю вам!
Пришлось поцеловаться, и министр нас отпустил».
Поцелуйным обрядом «пустяк» исчерпался, и, печально проклиная человеческие недуги, всех начальников департаментов и всех министров на свете, Менделеев должен был все-таки отправиться на перекладных не в Одессу, куда он хотел, а в Симферополь.
IV. МЕНДЕЛЕЕВ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ДВЕ ДИССЕРТАЦИИ
«Парусиновый покров фургона мешал видеть кругом, и нечего было видеть, – писал Менделеев друзьям по приезде в Симферополь. – Вся местность, начиная от Перекопа, опустошена, не видно ни травки – всю съели волы, верблюды, везущие страшно бесконечные обозы раненых, припасов и новых войск»[9].
Это были печальные августовские дни окончания осады Севастополя. Тяжело было находиться совсем рядом и не иметь возможности участвовать в этой борьбе.
Письма Менделеева становились с каждым днем все меланхоличнее:
«По дороге к Севастополю… идут постоянно войска; по этой дороге открывается… вид на наш жалкий, в сущности, городок».
Это, конечно, себя, а не городок, жалеет Менделеев.
Никогда еще он не жил так нелепо! Произошло самое для него страшное: ему нечего было делать. Он набросился бы на преподавание, но гимназия была закрыта. В предместьях Симферополя раскинулись палатки Красного креста, и стоны раненых смешивались с завываниями скрипок в импровизированных ресторанах.
Менделеев делил с инспектором гимназии маленькую каморку при гимназическом архиве. Городская комната с глиняным полом стоила бы тридцать рублей из тех тридцати трех, которые он получал. Он томился и мучительно завидовал офицерам в пыльных мундирах. Война – это ведь тоже труд, напряженный, героический и захватывающий.
Бродя по окрестностям, Менделеев беседовал с офицерами переформировывавшихся поредевших полков. У союзников была прекрасная артиллерия, нарезные многозарядные ружья (штуцеры) против русских гладкостволок, заряжавшихся с дула. С гордостью за русского человека Менделеев узнавал вместе с тем о бессмертных подвигах Нахимова и его соратников на бастионах города-героя.
Попутно Менделеев навещал лазареты, там мелькал неуловимый Пирогов. Слава о великом хирурге обгоняла его самого, и раненые начинали чувствовать себя лучше, лишь только разносилась весть о возможном его появлении. Он являл блестящий пример самоотверженности, с которой наука обязана служить народу. До Пирогова в армии существовали отдельные врачи. Пирогов призвал на службу войску медицину. Пирогов учил смотреть на войну, как на своего рода эпидемию. В том, что эпидемия требует плановой борьбы, организованных, коллективных усилий,-в этом все, более или менее, отдавали себе отчет. Пирогов требовал, чтобы помощь раненым была продумана так же, как продумываются все детали борьбы с эпидемией. Врач должен позаботиться обо всем: и о перевозке больных, и о том, чтобы эта перевозка не привела к ухудшению, об условиях «сберегательного лечения», о способах достижения у больного подъема сил, который должен помочь врачу. Пирогов первый ввел гипсовые повязки переломанных конечностей. Он первый отказался от прощупывания свежей раны зондом и первый же ввел наркоз при операциях.
Менделеев с восхищением слушал рассказы о знаменитом хирурге, но не слишком настойчиво его искал. Он заранее предвидел, что могло произойти. Пирогов велик, но он бесконечно занят. Собственными руками он делает ежедневно десятки ампутаций. Усталый, он небрежно осмотрит этого нескладного чахлого учителя несуществующей гимназии и скажет все то же безличное, равнодушное и уклоняющееся: «Больше отдыхайте, не утомляйтесь, старайтесь гулять».
Иногда в письмах Менделеева брату мелькают лики южной природы: «синева южного неба, темная, мягкая синева, о какой в С.-Петербурге нельзя иметь и понятия…»
Но что до того Менделееву!
«Юг, который так влечет тебя, – пишет он в другом письме, – этот юг, поверь, хорош только на севере, да два-три месяца в году, а то бог с ним. Меня сильно порывает быть в Сибири, и, может быть, как-нибудь через Географическое общество удастся побывать. А летом непременно поеду в Петербург, разве что особенное удержит».
Но вот встреча с Пироговым, наконец, состоялась. Пирогов выслушал страстную жалобу своего неожиданного пациента. Это жалоба не столько на болезнь, сколько на терзания от неподвижности, на тоску от бездеятельности. Это крик о неудовлетворенной жажде творчества. Главный хирург действующей армии достаточно часто видел людей, и впрямь находящихся на краю смерти. Он хорошо знал признаки вспышки внутреннего огня, который подчас судорожно озарял последние минуты угасания. А этот худощавый, бледный юноша бурлил, как котелок, у которого плотно закрыта крышка. Пирогов с интересом осмотрел его, выстукал и просиял:
– Нате-ка вам, батенька, письмо вашего Здекауэра, – сказал он. – Сберегите его да ему когда-нибудь и верните. И от меня поклон передайте. Вы нас обоих переживете…
Это говорил сам Пирогов!
Менделеев был готов ко всему, но только не к помилованию.
От радостной растерянности он молчал.
На прощанье Пирогов надавал советов, как приноровиться к шалостям сердца, неизбежным, но не опасным; как беречь себя, не превращаясь в то же время в тоскливую, неприкаянную тень человека.
«Это был врач!» – много раз в своей жизни восхищенно повторял потом Менделеев, вспоминая Пирогова. И это была высшая похвала, потому что к высшему разряду людей Менделеев относил тех, которые достойны своего дела.
Итак, на этот раз была получена действительная свобода. Рассеялся страх призрака, сковывавший все порывы. Какое счастье!
Кое в чем он отстал от своих сверстников. Он застенчив, робок с женщинами, неуклюж. Но во многом он идет впереди. Только теперь, когда у него развязаны руки, он чувствует, какие они у него крепкие и голодные, – хватит ли часов в сутках, месяцев в году, лет в жизни, чтобы их сладко утомить? Лежа без сна длинными ночами в лазарете Главного института, он высмотрел для них в темноте подходящую ношу.
Довольно прозябать в гимназическом архиве!..
«30 октября выехал из Симферополя… – в неузнаваемом тоне пишет Менделеев родным. – В полушубке, который едва защищал от ночных холодов, в медвежьих сапогах, с месячным жалованьем в кармане, с надеждой в сердце… покатил из Крыма».
В Одессу приехал совсем другой Менделеев, не тот, который вялым поцелуем в щеку директора департамента запечатлел неудачное завершение своего первого турнира с министерством просвещения. Этот новый Менделеев не увязнет в бумажном болоте. Его энергия неистощима. Он уже находит каких-то нарочных для своих эстафет в столицу. Он развивает план кампании, вербует союзников в самой Одессе, приводит в движение всех петербургских друзей и, прежде всего, надежнейший таран – массивную фигуру Вознесенского. В Одессе он добивается того, чего не мог достичь в Петербурге, – места преподавателя естественных наук в 1-й Одесской гимназии при Ришельевском лицее. Здесь у него есть лаборатория, библиотека, а в сутках пока еще достаточно часов.
Новое исследование, до которого он, наконец, дорвался, поражает историка химии строгостью ограничений, которые наложил на себя молодой исследователь. Перед ним непрерывно маячила заманчивая цель – раскрытие тайны химического сродства. Но он подбирался к ней издалека, с непоколебимым упорством обследуя каждую пядь неизвестной области. Он не сторонник лихих партизанских набегов, хотя время покажет, что в нужный момент у него достает ›и смелости, и решительности, и размаха. Но, прежде всего, у него есть дисциплина воина регулярной научной армии.
Он знает, что прежде чем наступать, надо закрепить плацдарм. Плацдарм, над освоением которого неутомимо работал Менделеев, исчезающе-мал. На протяжении одного миллиметра может уложиться такое количество этих плацдармов, которые не описать числом с двадцатью семью нулями. Ну, конечно же, это атом! Он продолжал и в новой работе Менделеева находиться в центре его внимания, – разумеется, выражаясь фигурально, потому что у исследователя не было никаких способов наблюдать и изучать свойства отдельных атомов. Но это его не смущало. «Давно сказано, – писал он из своей одесской лаборатории, – что ничто не может быть определено само по себе и само из себя. Одно общее изучение многих признаков может вести по естественному пути в деле согласования состава и свойств с их изменениями».
Когда бы Менделеев ни писал, он обычно гораздо больше заботился о полноте выражения своей мысли, чем об удобочитаемости получившегося грамматического предложения. Тот, кто хочет познакомиться с оригиналами его работ, должен быть готов к тому, что некоторые фразы придется читать и перечитывать, прежде чем проникнуть в их смысл, не по одному разу, призывая на помощь интонацию живой беседы с читателем, которая почти всегда скрывается за менделеевской строкой. И каждый раз читателя покоряет самобытная прелесть менделеевской манеры письма. Но мы отклонились от высказанной Менделеевым мысли о том, что, изучая влияние изменений состава химического соединения на его свойства, нельзя ограничиваться наблюдением одного какого-либо признака этих изменений: для того, чтобы достичь успеха, исследование должно быть полным и разносторонним.
Мы уже видели, какое огромное значение в развитии химии того времени имело изучение явления замещения одних атомов в химическом соединении другими. Новое вещество создается из ранее известных. Из него, в свою очередь, создаются новые и т. д. и т. п. Замечательная находка для исследователя, если часть этих веществ может быть получена из иных исходных материалов! Сопоставляя одни вещества с другими в их химическом действии, можно постепенно распутать сложный клубок науки о превращении веществ. В сравнениях рождается истина. Естественно, что Менделеев продолжал интересоваться явлениями замещения, которые он с таким успехом изучал в своей первой работе со взаимозаменяемыми атомными «блоками» в кристаллических постройках. У него нет способов непосредственно наблюдать свойства взаимодействующих атомов. Ну что же, у него есть выход, подсказываемый передовыми идеями Авогадро, с которыми он отлично знаком, новыми мыслями Жерара, которые он не устает приветствовать и пропагандировать. Если отношения объемов газов повторяют отношения атомов, из которых эти газы состоят, надо тщательно изучить взаимодействия и замещения газовых объемов.
Он с головой ушел в эту «химию паров», уточняя отношения объемов химически соединяющихся тел, пытался проследить, насколько и чем именно они отличаются от весовых отношений тех же тел. Он исправлял десятки измерений своих предшественников. Наконец он увидел, что нагромождение ошибок в химической литературе, относящейся к этому вопросу, настолько велико, что надо проверять все подряд. И он, не колеблясь, принялся за эту титаническую работу. Каждое осуществляемое им измерение удельных объемов химически соединяющихся тел ложилось прочным камнем в фундамент здания химической науки, еще только формировавшейся, еще только вырабатывавшей методы исследования, только нащупывавшей опорные пункты для новых теоретических построений.
Совершенствуя в процессе этой черновой работы приемы исследовательского мастерства, Менделеев не терял из виду и своей большой цели. В своей работе, так и названной «Удельные объемы», он еще раз, хотя вскользь, формулировал свою главную мысль:
«Причину химического сродства мы должны искать в простом преобладании притяжения разнородных атомов или частиц».
Познать эту силу сродства можно, лишь наблюдая за ее изменениями, пишет он дальше, и тут же намечает некоторые вехи программы своих дальнейших исследований. «Изменение силы сродства от действия теплоты… растворяющего вещества и других причин, – продолжает он, – изъяснится изменением расстояния атомов, причем очевидно изменяется и сила притяжения».
С этой точки зрения он обсуждает явление превращения газа в жидкость. Частички газа при ожижении сближаются и, очевидно «могут притти в такое положение, что равновесие происходит только при ином их расположении» (надо понимать- при ином, чем в газе). Это сама по себе правильная и интересная мысль, но Менделеев явно еще не ощущает принципиального различия между физическим явлением перехода одного и того же тела из одного состояния в другое – из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное – и явлениями чисто химическими, в которых тела с одними свойствами превращаются в новые тела со свойствами совершенно иными. Однако не будем спешить указывать гению на его заблуждения… Мы скоро узнаем, каким образом, побеждая их, Менделееву удалось открыть для человечества новую область знания – физику низких температур…
Не будем также упускать из виду уже отмеченное однажды значение этих поисков связи между химическими свойствами атомов и их массой для последующих крупнейших открытий Менделеева, перевернувших всю химию. Нам это легко сделать, оглядывая жизненный путь Менделеева из далекой исторической перспективы.
Сам Дмитрий Иванович неоднократно подчеркивал значение этих первых работ для открытия Периодического закона, составившего его главную славу. По словам его сына – И. Д. Менделеева – великий химик говорил, что путь, на который он стал в упоминавшихся нами сейчас первых исследованиях, неизбежно должен был привести его к
Периодической системе. «Ведь изоморфизм, то есть способность различных веществ давать одинаковые кристаллические формы, – говорил он, – есть одно из типичных свойств элементов одной и той же химической группы… Точно так же и удельные объемы, то есть величины, обратные плотностям, дают, как я впоследствии наблюдал, один из наиболее ярких примеров периодичности, повторяемости свойств простых тел при возрастании их атомного веса…»[10]. Но об этом после!
Между тем в работе над «Удельными объемами» он не заметил, как пролетело время. Он приехал в Одессу всего лишь в октябре. А в мае – через какие-нибудь полгода – он уже в Петербурге и уже докладывал ученому совету университета результаты своих измерений. Весна 1856 года – это памятная весна для Менделеева, весна его новой жизни. И вот ее новый стремительный успех: после защиты диссертации, в основе которой лежала его работа над удельными объемами, завоевана первая ученая степень магистра физики и химии.
Но Менделееву не с кем было делить свою радость. Любимая сестра Лиза, которая приехала с ним из Сибири, недавно умерла – ночью, совсем одна, в пустой больничной палате. Менделеев тогда еще жил в институте и, навестив ее в тот вечер, не смог по больничным правилам остаться около нее позже десяти часов.
Менделеев мысленно возвращался в другой, незабываемый для него, уголок Петербурга. Уже без ранящей боли, с грустной нежностью вспоминал он Эртелев переулок, маленькую квартирку на третьем этаже, где мать, привезя его из Тобольска и устроив с огромным трудом в институте, решила дождаться совершеннолетия своего последыша. Случайная простуда – и ее не стало…
Смерть матери была большим ударом для Дмитрия Менделеева. После рождения последнего ребенка – любимца, Митеньки – маленькая, худощавая, но сильная духом мать сделалась главной опорой семьи. Как раз в год рождения Дмитрия, в 1834 году, ослеп его отец Иван Павлович Менделеев, директорствовавший в Тобольской мужской гимназии. Все тяготы борьбы за существование и воспитание многочисленных детей легли целиком на плечи матери. Брат Марии Дмитриевны, Василий Дмитриевич Корнильев, пришел на помощь сестре и отдал ей в пользование стеклянный заводик, находившийся в тридцати верстах от Тобольска, в селе Аремзянском. Настойчивая, энергичная Мария Дмитриевна восстановила завод и через два года смогла уже отправить мужа в Москву на операцию снятия катаракты, которая частично восстановила ему зрение. Вернувшись в Тобольск, он содействовал жене в управлении заводиком и в занятиях с детьми. Он помог Мите одолеть латынь в гимназии, куда его отдали семи лет отроду. Несмотря на помощь отца, с латынью у Дмитрия Ивановича дело подвигалось туго, в то время как по математике и физике он был первым учеником.
Между тем Марию Дмитриевну продолжали постигать семейные неудачи.
Рушилась надежда матери видеть образованным человеком своего старшего сына Ивана. Он сбился с пути, и его пришлось взять домой.
Отдалась религии старшая дочь. Она стала фанатичкой и изуверкой и погибла от туберкулеза, не выдержав добровольных истязаний постом и молитвой. Последний, любимый, сын кончил учиться, и его-то выхода на широкий самостоятельный путь она не дождалась, не успела порадоваться…
Менделеев собирал у всех родных и перечитывал старые письма матери:
«…Слезы мои часто капают на журналы, посудные и статейные книги, но их никто не видит.
Я всею силою воли моей покоряюсь судьбе и утешаюсь тем, что, привыкнув к черным кухонным работам, смогу без горя оставить Тобольск, когда надо будет везти отсюда учиться в университет Пашу и Митю; я не заставлю на старости лет мужа моего нанимать для себя прислуги, а сварю ему щи и испеку хлеб. За всем тем и в самой старости моей самолюбие еще так велико, что мне кажется тяжко вести жизнь или существование для одних забот о чреве, и не иметь свободной минуты для души, ума и сердца…»
Тает пачка серых, плотных листков. В последних письмах чувствуется приближение старости. Мать пишет:
«Я уже не могу проводить в гуте и гончарной ночей без сна…»
Гута – знакомое слово! Так называется стекловарочная печь. Вспоминается Аремзянка и в этом сельце крошечный стекольный заводик, управляемый матерью Менделеева. Ее отец, Дмитрий Корнильев, известен тем, что в 1787 году открыл в Тобольске первую типографию. Он же завел около Тобольска, в Аремзянке, тот самый стекольный завод, который восстановила Мария Менделеева, получив его от брата в управление.
С Аремзянкой для Менделеева связаны в памяти ребячьи сражения с лопухами. Печи, не угасающие ни днем, ни ночью, с таинственными горшками, в которых варится стекло… Няня, сосланная в Тобольск на поселение своим тульским помещиком за то, что ее сын сбежал от рекрутчины. Когда няня хотела сказать наибольший попрек, вспоминал Менделеев, она обзывала своего Митю «латынцем».
В памяти Менделеева жило возвращение в То
больск… Задорные стычки мальчишек, стенка на стенку, на городском мосту… Хрестоматия Попова по латинскому языку, которую гимназисты ставили на расправу к дереву и избивали камнями. «Этой книги ни у кого не было целой…» Гимназический наставник Петр Павлович Ершов, его умный «Конек-Горбунок» и нигде не напечатанные стихи, списанные в тетрадку:
Рожденный в недрах непогоды, В краю туманов и снегов, Питомец северной природы И горя тягостных оков.
Я был приветствован метелью И встречен дряхлою зимой, И над младенческой постелью Кружился вихорь снеговой.
Мой первый слух был – вой бурана,
Мой первый взор был – грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный гроб высоких гор
С приветом горестным рожденья
Уж было в грудь заронено
Непостижимого мученья
Неистребимое зерно…
Чредой стекали в вечность годы,
Светлело что-то впереди,
И чувство жизни и свободы
Забилось трепетно в груди.
Я полюбил людей – как братий,
Природу – как родную мать
И в жаркий круг своих объятий
Хотел живое все созвать..
Еще одно письмо матери из Тобольска, с памятной датой 1846 года, когда Аремзянский завод занялся от пожара церкви и сгорел.
«Мои детки фабричные… – вьется старинная вязь материнского письма, – в октябре сложили новую мастерскую и печь и полтора месяца вели действие, получая только на хлеб, и когда к Николину дню написала, что отдаю на их волю – загасить или продолжать действие, потому что не знаю, будет ли иметь сбыт посуда, то все они решились работать в долг, а действие продолжать, потому что и печь и горшки хороши. Все это трогает меня до слез…»
Менделеев читал эти строки с просветленным сердцем. Вот так надо дорожить своим трудом, так надо любить его! Менделеева обуревали жаркие мечты отплатить рабочим людям за их веру в труд, которой они его научили, и за самый их труд, которому он обязан тем, чем он стал.
На обратной стороне образка, который мать передала сыну умирая, дрожащей рукой начертаны слова, указывающие на то, что Менделеев смолоду уже был атеистом: «Благословляю тебя, Митенька; я прощаю твои заблуждения и умоляю обратиться к богу…»
Этого не произойдет никогда.
Но то, что написано дальше, священно: «Помни мать, которая тебя любила паче всех. Мария Менделеева».
Когда-то, в родной Аремзянке, маленький мальчик Митя Менделеев, вцепившись в материнскую руку, с боязливым и в то же время жадным любопытством, заглядывал в неугасимую печь для варки стекла. Впервые наблюдал он пленительное и поражающее воображение таинство превращения веществ. Там же, в долгих беседах со стеклянных дел мастерами, из детского любопытства выросла любознательность, которая затем превратилась в жажду познания…
В октябре 1856 года магистр физики и химии Дмитрий Иванович Менделеев удивил ученый мир, защитив вторую диссертацию. Она называлась так: «О строении кремнеземистых соединений».
Из смеси кремнеземистых соединений состоит почва, на которой существует все живое. Одно из наиболее простых но составу подобных соединений – соединение кремния с кислородом – это кварц. Его разновидности – белый речной песок и горный хрусталь. При сплавлении в печи с известью и содой песок дает смесь кремнеземистых солей кальция и натрия – это и есть стекло.
В новой работе Менделеева речь шла о химии стекловарения.
Двадцатидвухлетний магистр физики и химии по-своему прощался с прошлым…
Вторая диссертация с точки зрения большой науки объясняла добытые опытом законы стекольного производства. Это был новый вклад и в науку и в технику. Диссертация была принята не без некоторого смущения – что это, в самом деле, скорострельная мортира, этот Менделеев! – но безоговорочно.
Вторая диссертация открывала Менделееву право на замещение должности доцента при любой кафедре и на самостоятельное чтение лекций в Петербургском университете и Технологическом институте.
V. МЕНДЕЛЕЕВ ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ НАУЧНОГО ПУБЛИЦИСТА
Первая аудитория Менделеева была невелика: несколько десятков студентов.
Первая лаборатория Менделеева – две темные закопченные комнатки с каменным полом, пустыми шкафами. Но зато он может здесь проводить столько времени, сколько ему заблагорассудится…
Во всем Петербурге химик не мог в те годы найти в продаже пробирки. Даже каучуковые трубки, «спайки», как их называли, надо было делать самому. Отсутствие вытяжки испорченного воздуха то и дело выгоняло самого химика, и в дождь и в стужу, на двор. Здесь к его услугам был самый емкий поглотитель едких испарений – вся земная атмосфера и самая неистощимая вентиляция – свободный ветер.
Как всегда, находились люди, готовые нужду превратить в добродетель. Среди химиков была распространена поговорка: «Чем хуже лаборатория, тем лучше выходящие из нее исследования». Называлась, к примеру, химическая лаборатория Казанского. университета. Двадцать лет назад знаменитый русский химик Н. Н. Зинин провел там свои наиболее важные работы, широко прославившие русскую науку. А его лаборатория была не лучше других: так же, как и везде, сжигания производились здесь на углях, вручную раздувался горн; как и повсюду, профессор и ученики должны были спасаться бегством на улицу, если случайно у кого-нибудь разбивался сосуд с едкими и летучими соединениями.
Но не так думал сам Зинин. Только тот, кто собственными руками делал науку и стремился при этом вперед, мог в полной мере ощутить тягостность пут, которые нищета рабочей обстановки налагала на его порывы. Зачем проявлять чудеса ловкости, влезая в окно, когда гораздо проще и экономнее просто войти в дверь? Зачем растрачивать время, изобретательность и мастерство на преодоление препятствий, одолеть которые может помочь любой подмастерье, если ему за это заплатить? Но платить было нечем…
Для того чтобы обеспечить приток средств в науку, надо было привлечь к ней общественное внимание, заставить ее ценить. Многие, в том числе и молодой Писарев, который советовал даже Салтыкову-Щедрину бросить публицистику и заняться популяризацией знаний, все надежды возлагали на всеобщее распространение образованности.
Менделеев склонялся к мудрой стратегии Зинина.
Н. Н. Зинин для распространения влияния своей химической школы перенес свои работы из Казани в Петербургскую Медико-хирургическую академию. Развитие химии он связал с подготовкой врачей.
Искусство лечить людей требует постоянного совершенствования – эта истина никогда не тре-
бовала доказательств. Она затрагивала интересы, наиболее близкие каждому. На них-то и опирался Зинин, стремясь дать новый толчок развитию химии. До его появления в академии врачей воспитывали почти исключительно на изучении анатомии. Зинин не оспаривал того, что врач должен знать все кости скелета, все мышцы и связки. Но в тех же мышцах и костях живого организма происходят сложные процессы, протекающие по строгим законам физики и химии. Надо стремиться уловить тонкую связь между ними и на исследованиях в этой области воспитывать научное мышление. Каждый будущий врач, прежде чем стать врачом, должен самостоятельно поработать в какой-нибудь области естественных наук. А для этого надо иметь жизнеспособные и обеспеченные кафедры физики и химии, во главе с творчески одаренными профессорами. Такова была программа Зинина. Если бы она была принята, то самый недоброжелательный тупица, и тот понял бы, что ее нельзя осуществить с помощью лаборатории, на содержание которой отпускалось… 30 рублей в год.
Настойчивость Зинина дала результаты, особенно после того, как к нему присоединился Пирогов. Во время Крымской войны выяснилось, насколько слаба была общеобразовательная подготовка врачей.
В один прием в десятки раз были увеличены суммы, отпускаемые на содержание обновленных кафедр физики и химии. На берегу Невы, у Литейного моста, под руководством Зинина была начата постройка нового специального здания Естественно-исторического института Медико-хирургической академии.
Это был добрый знак.
Молодой магистр химии Менделеев, со своей стороны, стремился доказать необходимость насаждения химии на отечественной почве в интересах других областей жизни. Это было гораздо труднее, потому что тут надо было начинать с азов. Сначала еще надо было увлечь заманчивостью приложений, а затем уже требовать признания ценности их первоисточника. Неясно было также, к кому адресоваться. К услугам Менделеева было достаточное количество широко распространенных газет и журналов. На вопрос, кого убеждать в пользе науки, они отвечали: всех. В глазах Менделеева это означало – никого. Ему было трудно и непривычно разговаривать с безликой читательской массой. И в дальнейшем он всегда старался в ней отыскать совершенно определенного, конкретного собеседника, к которому можно запросто обращаться. В данный момент наиболее желанным для него собеседником был бы свой брат педагог – практический деятель, непосредственно влияющий на воспитание юношества. Через него можно воздействовать на умы молодой России, с которой связаны все надежды. А для этого надо, прежде всего, его самого приохотить к пониманию любимой науки, научить ценить ее достижения, интересоваться ее движением.
Одним словом, случилось так, что в один прекрасный день редакция тусклого официозного «Журнала министерства народного просвещения» внезапно очнулась от дремы и заговорила совершенно новым языком. Она объявила, что «в области естественных знаний совершается ныне, почти ежедневно, столь много любопытного и важного, что
Следить за новостями становятся потребностью для каждого, кто желает следить за ходом современной науки». В этом анонимном предисловии к новому отделу, заведенному журналом, без труда угадывалось авторство его недавно объявленного редактора Д. И. Менделеева. Это было тем менее затруднительно, что вслед, как хвост кометы, вытягивалась вереница статей и заметок, подписанных «Д. Менделеев», «Д. М.» или просто одной буквой «М.». Редактор отдела научных новостей был по совместительству и его единственным автором.
Статьи носили скромные названия. Они трактовали, например, «О жидком стекле или стеклянной поливе и способах ее употребления». Однако жидкое стекло было лишь поводом для широких выводов. Их основная идея красной нитью проходила сквозь все остальные:
«Наука и промышленность должны стремиться к тому, чтобы извлечь всевозможную пользу из повсюдных веществ».
Автор «М.» рассказывал не только о том, что из стекла можно тянуть нити, а из этих нитей делать ткань, что, как мы знаем, осуществилось в наши дни. Он уже мечтал о возможности приготовления из тех же «повсюдных запасов» даже органических, в том числе питательных веществ. На что только не способна великая волшебница и мастерица – химия!
«Д. М.» приглашал читателя подивиться новому способу «фабрикации алюминия или глиния», который в наше время является одним из основных материалов современной техники. Глинием заменяли серебро для ручек столовых ножей. Из него отливали орлов для знамен французской армии.
Это, не считай елочных украшений, пока все известные его применения. Но «Д. М.» берется предсказать, что это серебро из глины, которое еще пока что дороже настоящего серебра, – это металл будущего. Предсказание смелое, потому что даже через тридцать лет Английское королевское общество (так называется научное учреждение, соответствующее в Англии Академии наук), желая почтить признанного мирового корифея науки – Менделеева, поднесет ему, в качестве равноценных подарков, две вазы – золотую и алюминиевую…
За статьей, разъясняющей явление сфероидального состояния жидкостей, следовало описание лампы и горна, впервые заработавших на парах скипидара. От состава пироксилина Менделеев переходил к опытам образования азотной кислоты из воздуха. Успешное продолжение этих первых попыток связать азот воздуха позволит впоследствии создать величайшую индустрию удобрений и взрывчатых веществ.
«На подверстку» идут небольшие заметки об «алмазовидном боре» или «насекомом без нервов». Но на первом месте – сообщения о ведущих направлениях борьбы человека с природой.
Со своей скромной, малозаметной, а теперь и вовсе позабытой трибуны Менделеев выступал не только как информатор, но и как публицист. Он пропагандировал науку в ее приложениях.
Среди других заметок под инициалами «Д. М.» напечатано сообщение о судьбе трудов русского химика Н. Н. Зинина. Это сообщение называется «Новое красильное вещество», и помещено оно в мартовской книжке «Журнала министерства народного просвещения» за 1857 год.
Заметка лаконична и суха.
Всем известно, что русский исследователь Н. Н. Зинин еще в 1842 году открыл простой и удобный способ получения нового вещества «фенилами- на». Фениламин теперь можно добывать из каменноугольной смолы (точнее, из нитробензола, то есть простейшего производного бензола). Фениламин называют иначе анилином, так как он впервые получен при разложении приятной для глаза глубокого синего тона растительной краски «индиго», которая по-испански называется «аниль».
Менделеев, конечно, не может предвидеть, что анилин впоследствии будет получаться во всем мире миллионами тонн, что на его основе удастся создать лекарства от множества болезней, на анилине будет работать гигантская промышленность красок и фотографических проявителей. Автор заметки «Новое красильное вещество» – химик XIX века. Он не занимается пророчеством. Он отмечает очередной факт роста науки своего времени.
Вот этот факт:
Молодой химик Перкин берет анилин и на его основе случайно создает новое красящее вещество- мовеин. Мовеин – первая, искусственным путем полученная, краска. В важнейшей области технологии это первая решающая победа лаборатории над природой.
Стоит поразмыслить над этим фактом!..
Иной читатель «Журнала министерства народного просвещения» мог бы сказать: ну что ж, это хороший факт. Отличный ученый Виллиам Перкин, – да преуспевает он счастливо во всех своих достойных делах, – разумеется, он двигает своими трудами науку. Но почему ее, эту науку, по пути к Велико- британии и Германии двигал русский, а по пути к промышленности и жизни ее удалось сдвинуть только англичанину? Это происходит именно потому, что у нас нет еще основы для деятельности русских Перкиных. У нас нет химических заводов. Вот на какие размышления хотел бы натолкнуть своих читателей научный корреспондент «Журнала министерства народного просвещения» Менделеев.
Спор о судьбах химии еще не перерастал в спор о судьбах страны, но Менделеев пользовался своей временной трибуной, чтобы почти без обиняков высказать обуревающие его идеи.
«Стремление использовать отвлеченные выводы науки в действительной жизни, – писал он в том же журнале, – есть замечательная черта нашего времени, великий шаг вперед. Эта благодетельная связь науки с жизнью может объяснить те громадные успехи современного общества, то удивительное развитие, которым, по справедливости, может гордиться XIX столетие. Поэтому, если мы уважаем и преклоняемся перед философами, которые своими исканиями открыли истину и подарили ее миру, то мы должны, не менее того, быть признательны человеку, который приложил ее к практике и сроднил с жизнью народа…»
Вскоре у Менделеева появляются уже и непримиримые враги. Он их называет, пользуясь для этого любым поводом, даже библиографическими заметками. С негодованием он говорит о тех, кто цедит сквозь зубы, что заниматься промышленностью «не дворянское дело».
В статьях, рецензиях на новые книги, в заметках Менделеев откликается на отголоски закипающих вокруг него страстей. Но он не пускается в отвлеченные словопрения с людьми, которые пытаются заклинаниями удержать ход истории.
«Довольно говорить о прошлом!» – восклицает он в обзоре новинок экономической литературы, вырываясь смелой мыслью за пределы 1857 года, когда были написаны эти строки.
«Перед нами открывается новое время, обещающее много в будущем, время, в котором обнаружилось уже столько утешительного. Фраза, что все принимает у нас движение, и наука, и литература, и общественная жизнь- слышна из всех уст. Война доказала необходимость изменений в нашем народном хозяйстве».
Он спешит, он всегда спешит, этот неукротимый витязь прогресса. Он говорит уже о «народном хозяйстве» – и это в стране, где одиннадцать двенадцатых земли, вместе с людьми, ее населяющими, принадлежит прирожденным врагам народа, владельцам больших и малых помещичьих имений.
Какие перемены хотелось бы видеть вокруг себя Менделееву и как они пойдут в действительности, мы узнаем из следующих глав этой книги. А сейчас рассказ об этом мы вынуждены прервать, потому что магистр химии, доцент университета и научный корреспондент «Журнала министерства народного просвещения» приостановил свою разнообразную деятельность и принялся укладывать не слишком тяжелые чемоданы, собираясь в дальнюю командировку от университета.
Он ехал через Варшаву на лошадях в почтовой карете. При этом он занял наружное место, рядом с кучером. Здесь можно было, по крайней мере, вытянуть во всю длину ноги и оглядеться вокруг. И несмотря на такое большое преимущество для человека высокого роста, это место было дешевле внутренних…
За границей он ехал уже по железной дороге, держа направление сложного маршрута на живописные верховья Рейна, между Швейцарией и Францией, в маленький городок Баденского герцогства.
Вот он, знаменитый Гейдельберг!
Менделеев писал своему приятелю – химику Л. Н. Шишкову, который находился еще в Петербурге:
«Приезд в Гейдельберг после месяца бродяж- ничанья (я заезжал в Краков, Бреславль, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт и Франкфурт) для меня был приятен во многих отношениях. Не говоря уже о том, что местность и климат нравились, я встретил здесь кружок русских…»
VI. НЕКОТОРЫЕ ТОНКОСТИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Буржуазные германские историки охотно и распространенно повествовали о том, как молодые иностранные ученые, скажем, те же химики, попадали под гостеприимную сень немецкой науки… Они предусмотрительно умалчивали о бессовестном присвоении труда этих гостей и о том, что присвоение на этом не заканчивалось.
Вернувшись к себе домой, научная молодежь, – мы говорим в первую очередь о химиках, – продолжала плодотворно работать. Сообщение о новых работах автор посылал в приветливый немецкий журнал.
Журнал, в виде эмблематического поощрения, отсылал автору несколько оттисков его статьи. Чужеземный исследователь приобретал право быть упомянутым в очередном обзоре новостей науки (право, которым авторы обзоров отнюдь не злоупотребляли). Зато немецкий предприниматель приобретал возможность любыми опубликованными новостями свободно воспользоваться. В странах со слабым химическим производством ученым часто не приходило в голову патентовать свои открытия, даñе если они обещали выход в промышленную жизнь. Русские ученые особенно много открытий подарили миру.
В 1853 году живший в России шведский инженер Альфред Нобель познакомился с Н. Н. Зининым на даче под Петербургом[11]. У Альфреда Нобеля были хорошо объяснимые причины искать этого знакомства.
В последней своей работе о Крымской войне академик Е. Тарле опубликовал документы военного министерства, характеризующие Нобелей как неудачных поставщиков негодных гранат для русской армии. В это же время Зинин, вместе с поручиком артиллерии Петрушевским, производил опыты над новым, им открытым взрывчатым веществом. Известно было, что это вещество изготовлялось на основе нитроглицерина – сладкой, желтоватой, маслянистой жидкости, способной взрываться от самого легкого удара, иногда даже от покашливания. Зинин и Петрушевский нашли способ обезопасить капризный нитроглицерин и новым, обезвреженным составом начиняли гранаты, которые с переменным успехом взрывали в одном из уголков полигона на Волковом поле. Война прекратилась ранее окончания опытов, а Зинин отвлекся от них ради переустройства Медико-хирургической академии.
В Германии, а затем и в других странах мира, вскоре, однако, был оформлен патент на совершенно безопасное взрывчатое вещество, получаемое на основе нитроглицерина. Это был восемьдесят пятый патент Альфреда Нобеля, искушенного «применителя научных открытий на практике», как его рекомендовала официальная биография[12]. Он утвердил для этой биографии легенду о счастливой случайности, подарившей миру новое взрывчатое вещество, названное им динамитом. Легенда рассказывает, что Нобель якобы делал опыты с нитроглицерином на пароме среди озера. Однажды, при перевозке, треснула бутыль с нитроглицерином. Вытекшее «взрывчатое масло» пропитало землистую прослойку, предохранявшую бутыль от толчков. Нобелю внезапно пришло в голову испытать смесь нитроглицерина с таким нейтральным пористым поглотителем.
Оказалось, что это и есть взрывчатое вещество, которое не боится толчков и взрывается только от детонации специальным запалом. Идея запала из гремучей ртути, которую в дальнейшем применил Нобель, принадлежала английскому химику Говарду.
Восемьдесят пятый патент принес своему владельцу неплохой доход. Настолько неплохой, что знаменитый присваиватель чужих открытий решил после своей смерти расплатиться с некоторыми долгами. Воспоминание о счастливой случайности – скрывалась ли за ней несвоевременно разбившаяся бутыль, или очень своевременная встреча с Зининым -побудило Нобеля основать международную премию для ученых. Он завещал тридцать пять миллионов марок на выдачу ежегодных премий за лучшие научные достижения, в частности по физике и химии, и еще за труды в деле пропаганды мира между народами. Великий подрыватель заботился о мире во всем мире! У душеприказчика Нобеля – Шведской Академии наук – совесть была менее чувствительна, чем у завещателя. Ни один русский химик и ни один русский физик не разу не получил Нобелевской премии.
***
Менделееву предстояло быть в Гейдельберге гостем у химика Бунзена. Но Бунзену в то время было решительно не до Менделеева. Когда молодой русский химик был ему представлен, Бунзен не только не был в состоянии заинтересоваться его планами, но вряд ли даже вслушивался как следует в то, что ему говорили, поскольку это никак не относилось к охватившему его, в тот период, увлечению.
Перед самым приездом Менделеева в Гейдельберг Бунзен принял участие в опытах своего друга, физика Кирхгофа, по разложению света, испускаемого раскаленными парами различных веществ.
Лучи света разной окраски, разного происхождения, проходя через прозрачную призму, по-разному отклоняются от прямого пути. Со времен Ньютона это не было новостью. Новым было то, что линии видимого спектра лучей, испускаемых каждым светящимся химическим элементом, всегда одинаковы и всегда находятся в определенном месте на длинной полоске спектра от фиолетовой до темнокрасной его части. Эти линии оказывались постоянным свойством каждого элемента.
Как всегда, обнаружение нового свойства вещества открывало неожиданные горизонты в смежных отраслях знания и, как мы увидим дальше, сыграло важную роль в гениально предсказанном Менделеевым открытии новых элементов. Еще раз физике удалось подтолкнуть развитие химии. Вместо сложных исследований с помощью химических реактивов оказалось возможным сразу обнаруживать элементарные составные части химических соединений по анализу света пламени, в которое была введена крупинка или капля раствора испытуемого вещества.
Можно было мгновенно определять наличие самых ничтожных примесей к веществам, считавшимся химически чистыми. Одной трехмиллионной доли миллиграмма натрия оказывалось достаточным для получения резкой двойной желтой «натриевой» линии спектра. Считавшийся одним из самых редких элементов – литий – оказался в действительности одним из самых рассеянных, он обнаруживался повсюду, даже в табачной золе. Спектроскоп, сделанный из двух старых подзорных труб, сигарной коробки и стеклянной призмы, наполненной жидким сероуглеродом, мог рассказать, из каких элементов состоит хвост кометы, возможна ли жизнь на Марсе, или в атмосфере этой планеты есть ядовитые вещества.
Но главным было не это. После того, как было точно установлено положение в спектре отдельных линий всех известных химических элементов, каждая новая неизвестная линия могла означать только одно – присутствие в пробе неведомого химического элемента. Пойманные Бунзеном две тонкие голубые линии соответствовали новому элементу, который он назвал церием. Темнокрасная и фиолетовая линии, не замечавшиеся раньше, выдали ему же присутствие среди испытуемых веществ еще одного неизвестного элемента – рубидия.
Подобные поиски были доступны всякому. Они казались неограниченно широкими: кто мог сказать, сколько еще неведомых элементов есть на свете! Вскоре эта охота за элементами стала всеобщим спортом.
Множество честолюбивых молодых физиков и химиков, и просто любителей, жгли перед спектроскопом брызги океанской воды, ткани животных, листья деревьев и трав и всевозможные минералы. Не прошло и года после первых публикаций Кирхгофа и Бунзена, как англичанин Вильям Крукс, сжигая колчедан, увидел в спектре его пламени великолепную зеленую линию неизвестного элемента. Он назвал его «таллий», что значит «зеленая ветвь».
Если бы Менделеев пожелал заняться этой новой областью исследований, его встреча с Бунзеном прошла бы, надо думать, по-другому. Но для этого Менделеев был слишком постоянен в осуществлении своих планов и не склонен легко бросаться по следам чужого успеха. Он не собирался отступать от своей главной задачи, которая, как мы знаем, предусматривала, в конечном итоге, отыскание ключа к важнейшему свойству атомов любого элемента, кто бы их ни открывал, – свойству соединяться с другими атомами.
Когда речь зашла о возможности поработать в лаборатории университета, для Менделеева нашлось место только в том отделе лаборатории, где толпились университетские школяры. К единственным порядочным весам – главному инструменту задуманных опытов – устанавливалась очередь, как у фонтана на площади перед ратушей. Поэтому Менделеев тотчас стал искать предлога, чтобы расстаться с лабораторией Бунзена.
Этот предлог он нашел без труда. Рядом с ним сосед по столу сосредоточенно чадил сернистыми соединениями. Их запах вызывал у Менделеева боль в груди. С видом сожаления, что ему приходится покидать столь славную лабораторию, Менделеев выразил свою признательность ее хозяевам за их радушие, но сообщил, что неудачное соседство вынуждает его, однако, искать уединения. Его никто не удерживал.
Очень довольный своей дипломатией, Менделеев снял крохотное помещение для собственной лаборатории. Это было легко потому, что приезжие практиканты составляли привычную статью дохода местных жителей. Почтенные бюргеры готовы были рекламировать Гейдельберг, Геттинген, Лейпциг, как рекламировались лечебные воды или тирольские отели: «Отличные виды!», «Превосходные профессора!», «Свободные лаборатории!» Сарайчик, который Менделеев снял под лабораторию, его вполне устраивал. Здесь не было больших удобств, но задуманные им опыты и не требовали ничего, кроме точных измерительных инструментов. А их можно было заказать недалеко – в Париже, у знаменитого механика Саллерона.
Мсье Саллерон сдержан и учтив. Маленькая лавочка, в которой он в те времена принимал посетителей, была расположена в тихом квартале Парижа, на «Мосту в Лоди», такому же сухопутному, как Кузнецкий Мост в Москве. О существовании предприятия мсье Саллерона не подозревала шумная толпа, заливавшая ежедневно Пассаж – дворец мишуры и рынок роскоши для модников всего мира. Скромная вывеска Саллерона не искала дешевой известности. На всем континенте и на островах не было ученой знаменитости, которой не довелось бы вдыхать здесь доносившиеся из-за перегородки кислые запахи медных опилок и не высказывать тонких похвал искусству мастеров Саллерона.
С теми, кто работает только руками, принято говорить свысока. Мсье Саллерон отгораживался от уколов самолюбия черным сюртуком негоцианта. За его любезной замкнутостью невозможно было угадать фанатика, способного ночь напролет прилаживать стрелку к какой-нибудь необычайной конструкции указателя прибора, которую он придумал днем, в беседе с клиентом. Если его приборами были недовольны, он презрительно поджимал губы. На долгом опыте он убедился, что очень мало людей знает, что им нужно.
Менделеев хорошо знал, что ему нужно, и со второго визита Саллерон принимал молодого магистра из Петербурга в кожаном фартуке – отличие, которым он удостаивал немногих. Это было уже после того, как Менделеев забраковал все разновески к его весам.
Он показал, положив апельсин на чашку весов, как, вывесив груз и взвесив разновески, можно точно взвешивать на неточных весах, если есть точные гири.
Саллерон взялся за тридцать пять дней изготовить разновески с необходимой точностью. Впервые он признался, что вытачивать их будет сам. В свою очередь Менделеев не скрыл от него, что весы с его разновесками послужат для изумительных опытов.
Весы – единственный прибор, по которому возможно судить о количестве вещества. Но в граммах можно непосредственно измерять и ту силу, с которой держатся друг за друга мельчайшие частицы жидкости! К одному концу коромысла весов вы привешиваете пластинку, уравновешиваете на другом конце ее гирьками и кладете ее на поверхность жидкости. Жидкость к ней прилипает. Чтобы определить теперь силу, необходимую для того, чтобы оторвать пластинку от жидкости, то есть для преодоления сил сцепления жидкости, надо постепенно накладывать на другую чашку весов все новую и новую тяжесть, пока, наконец, под ее действием пластинка не оторвется. Менделеев тут же показал, как это делается. Саллерон был удивлен, что у частиц текучей воды сила сцепления гораздо сильнее, чем у вязкого масла.
Они очень подружились.
Менделеев писал о Париже в далекий Петербург подруге своей сестры, институтке Феозве Никитичне Лещевой. Сестра его убедила, в свое время, в том, что письма, отправленные по этому адресу, будут читаться с особым вниманием…
«Народ, то-есть сами блузники, рабочие Парижа, – писал Менделеев, – это для меня было новое племя, интересное во всех отношениях. Эти люди, заставлявшие дрожать королей и выгонявшие власть за властью, – поразительны: честны, читают много, изящны даже, поговорят обо всем, живут настоящим днем – это истинные люди жизни, понимаешь, что встрепенутся толпы таких людей, так хоть кому будет жутко. Это класс, совершенно отличный от буржуазии, от торгашей: те сладки, вертлявы – просто французики, каких мы знаем, плутишки, барышники, не те, которым принадлежит история Франции. Ну, на месяц этих интересов хватит вдоволь…»
Через месяц и пять дней после своего первого появления здесь Менделеев увозил свои приборы, сделанные так, как это мог придумать только Менделеев.
Вскоре после возвращения в Гейдельберг он получил письмо из Парижа от своего приятеля молодого химика Олевинского.
«Саллерон очень Вас уважает, – писал Олевинский. – Он сказал, что большинство химиков – пачкуны».
Менделеев решил, что пришло время побеседовать с неведомым джином химии, услугами которого все химики пользуются, не спрашивая его имени. Этот благодетельный джин выступал под псевдонимом «химического сродства».
Введение этого термина в химию основывалось на том убеждении древних философов, что соединение, слияние разных веществ может происходить только тогда, когда соединяющиеся вещества имеют нечто общее, сродное. Но это настолько неопределенный признак вещества, что только на основании его невозможно с уверенностью все тела разделять на группы.
Что определенного можно сказать об особенностях, скажем, серы, которая легко соединяется и с металлами, и с кислородом, и с хлором, и с углеродом и образует с ними разнообразные соединения? Вот рядом с ней фосфор, – он сходен с ней по способности соединяться с кислородом и хлором, но с металлами и с углеродом либо не соединяется, либо дает соединения, сходные с самим металлом.
В чем же отличие атомов серы и фосфора? В чем их сходство?
По первому изданию «Основ химии» Менделеева, которое вышло в 1869 году, можно восстановить ход мыслей Менделеева в этом направлении. Он пишет:
«Химические явления определяются существованием взаимного притяжения разнородных веществ, подобно тому, как падение тел определяется притяжением их к земле».
Дальше он возвращается к этой аналогии с еще большей надеждой: «Астрономические явления – расположение светил в пространстве, движение Земли и планет около Солнца и др., объясняются, во многих своих частях, через знакомство с немногими законами, управляющими притяжением тел на далеких расстояниях. При уменьшении расстояния притягивающихся тел их форма, распределение массы тела в частях, самые свойства притягивающихся тел оказывают уже влияние на движение, возбуждаемое притяжением. При самом близком прикосновении эти отношения оказывают еще большее влияние. Таковы и есть молекулярные явления, происходящие на расстоянии, незаметном для глаза. Здесь влияние всей массы тела более или менее ограничено, масса тела удалена, и только прикасающиеся ее части оказывают взаимодействие. Расстояния здесь бесконечно малы, и потому явления притяжения иные».
Какие же, какие? Ответ отсутствует…
«Представления о природе химических процессов, – грустно замечает Менделеев, – имеют в себе много мечтательного, неясного, произвольного, вызываются общечеловеческой привычкой везде отыскивать борьбу и ее причины». Он сам прекрасно понимает, что «можно излагать всю химию, – нисколько не касаясь понятия о мере сродства разнородных элементов».
Но напрасно именно на таком подходе к химии настаивали из Петербурга друзья Менделеева.
Какое дело правоверному химику до судеб атома? Ведь эта неделимая часть абсолютно простого вещества не претерпевает никаких изменений при химических превращениях!
От Менделеева ждали, что со свойственной ему энергией и трудолюбием и он будет совершенствовать чудесное искусство превращений одних веществ в другие.
Но эти ожидания были основаны на недостаточно хорошем знакомстве с главной чертой исследовательского дара Менделеева. Это был, вероятно, самый беспокойный дар из всех, которые когда-либо доставались человеку науки.
Менделеев считал несовместимым два одновременных существования: свое и однажды взволновавшей его загадки. Загадка должна была уступить. Тем более, что, как ему казалось, он знал, как ее заставить открыться.
Он написал попечителю Петербургского учебного округа, отвечая на тревожный запрос о направлении его занятий в Гейдельберге, после отказа от работы у Бунзена:
«Главный предмет моих занятий есть физическая химия.
Первым предметом для занятий должно было по многим причинам выбрать – определение сцеплений химических соединений – то-есть заняться капиллярностью, плотностью и расширением тел…»
Он искал только там, где ему хотелось. И он нашел… Но на первых порах не то, что искал.
VII. УДАЧА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ПРОЯВЛЯЕТ СВОЕНРАВИЕ
Огорчение, которое причинило петербургским друзьям Менделеева его временное отступничество от химии, как они ее понимали, исторически вполне объяснимо.
Вообще говоря, содружество двух родственных наук – физики и химии – зародилось достаточно давно, еще тогда, когда Ломоносов, открывая новую эпоху в науке, впервые взвесил все вещества и приборы до химического опыта, затем взвесил вещества, получившиеся после химических превращений, и таким, чисто физическим приемом доказал, что вещество не творится и не пропадает, что материя вечна. В 1760 году он писал в Санкт-Петербургскую Академию наук:
«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупляется к другому. Так, ежели убудет несколько материи, то умножится в другом месте».
С тех пор физика и химия оставались струями одного течения, но текли рядом, смешивая воды и выравнивая скорости хотя и непрерывно, но медленно. После весов химия получила от физики еще ряд новых орудий эксперимента: термометр, с помощью которого ей удалось установить, что при химических превращениях вещества происходит и превращение энергии (выделяется или поглощается тепло), гальванический элемент, который был первым источником электрических воздействий на химические соединения, и, наконец, такое совершенное орудие химического анализа, как спектроскоп. Впрочем, химия приветствовала эти подарки, главным образом, постольку, поскольку они способствовали расширению списков веществ, с которыми она оперировала. Свойства же отдельных веществ, которые прежде всего приковывают к себе внимание физика (теплопроводность, электропроводность, коэфициент преломления и пр.), до поры до времени оставляли химика почти равнодушным. Химики не были безразличны только к одному свойству любого элемента: к его способности образовывать соединения, вступать в реакции. Это особенно отчетливо проявилось в развитии органической химии, которая занималась и занимается бесконечным построением все новых и новых причудливо сложных веществ из очень малого круга разновидностей элементов.
Следуя своими простыми путями, химия и не могла особенно углубляться в исследование механизма химической реакции. Она считала это не своим делом, и Менделеев не ошибался, когда говорил, что для химика соединение разных элементов существенно не как процесс, а как результат. Химик задавал природе один главный вопрос: что получится, если соединить или разъединить те или иные вещества, ставил опыт и тут
же выписывал готовый ответ. Классическая химия была чисто описательной наукой и, как мы видим, этой своей ограниченностью нисколько не смущалась.
В свою очередь физик обычно мало интересовался химическим составом вещества. Он стремился установить общие законы, управляющие всеми веществами вообще. Его внимание поглощали не столько сами по себе бром, цинк, иод и т. д., сколько те состояния, в которых они могли находиться: твердое, жидкое и газообразное. И действительно, зная, что цинк кипит при одной температуре, а вольфрам – при другой, еще ничего нельзя сказать о них как о химических элементах. Но зато можно сделать важное для физика заключение о том, насколько прочнее связи между атомами у одного металла, чем у другого.
Физический закон, утверждающий, что равные объемы газов при одинаковом давлении и температуре содержат равное число молекул, является общим законом для всех газов, независимо от их химического состава. Таких примеров можно привести много.
Называя главный предмет своих занятий «физической химией» и провозглашая тем самым наступательный союз двух наук во имя разоблачения тайны химического сродства, Менделеев выдвигал, следуя за Ломоносовым, широчайшую новую программу науки, которую удалось осуществить в полном объеме лишь значительно позже. В основе современной науки действительно лежит синтез физических и химических знаний. Он осуществляется физической химией и новой ее отраслью, которая называется химической физикой. Здесь нет игрысловами: речь идет о самостоятельных областях единой науки, широко применяющей физические методы для решения все той же основной задачи, которую всегда ставила перед собой химия. Но если физическая химия, по преимуществу, подбирает примеры для решения этой задачи, химия изучает готовый ответ, то химическая физика расшифровывает ход ее решения. Соперничая в совершенстве методов исследования с быстротой химических превращений, эта новая наука сумела «остановить мгновение» – она расчленила, разъединила химическое превращение, успела рассмотреть его промежуточные ступени, не различимые ранее.
Для уточнения различия в предмете исследований этих родственных областей знания можно сказать, что физическая химия исследует вопросы превращения тепловой, механической и электрической форм энергии в химическую. Химическая же физика изучает процессы, происходящие внутри атома, точнее – в его электронной оболочке.
После Менделеева в России физическая химия была представлена школами Н. Н. Бекетова, Н. С. Курнакова, Л. В. Писаржевского. В настоящее время ее полного расцвета достигли школы крупнейших советских физико-химиков – академиков Н. Н. Семенова, А. Н. Фрумкина, А. Н. Теренина, П. А. Ребиндера и других.
Но здесь нет места для рассказов об увлекательных достижениях и сложных проблемах новой науки. От них нам надо вернуться очень далеко назад – к первым шагам, которые в этой области сделал молодой Менделеев. Для этого нам придется оставить в стороне все, что мы успели узнать о сущности химического сродства благодаря объединенным усилиям физики и химии последнего времени.
Нам придется забыть, что атомы заставляет соединяться между собой та же сила, которая заставляет гребенку, потертую о волосы, притягивать к себе листочки бумаги, – сила электрического притяжения, проявляющаяся, однако, совсем не так элементарно, как это представлял себе когда- то Берцелиус. Забудем об электрической природе такого свойства гранита, как прочность, такого свойства стали, как твердость, и чисто химической «любви» соли к воде. Забудем, что присущее атому свойство соединяться с точно определенным числом атомов других элементов, сущность которого как раз и стремился выяснить Менделеев, – так называемая атомность или валентность, – объясняется способностью атомов обмениваться между собой электронами, которыми насыщены оболочки их ядер. Сила сцепления частиц вещества, порождающая такие явления, как прилипание, смачиваемость и т. д., тоже электрического происхождения, но проявления ее связаны с более грубым взаимодействием частиц вещества – молекул, составляющих индивидуальность того или иного химического соединения. Отсюда нельзя сразу перескочить к значительно более тонким силам химического сродства, характеризующим индивидуальность отдельных атомов, сцепляющихся между собой для того, чтобы образовать молекулу.
Но мы все эти современные воззрения на структуру вещества должны оставить в стороне совсем не для того, чтобы на опустевшем фоне большой карты нашего знания нам показались более оправданными попытки Менделеева от «механики частиц» подобраться сразу же к силам химического сродства.
Все высказанные уже оговорки необходимы лишь для того, чтобы мы могли следить за опытами, задуманными Менделеевым в 1860 году, без всякой предвзятости и без чрезмерных ожиданий. Они достаточно интересны сами по себе, и мы их так, попросту, и опишем.
Чего хотел достичь Менделеев – мы знаем: он стремился ослабить силы сцепления между молекулами и посмотреть, не прячутся ли за ними какие-нибудь любопытные и важные для химии свойства вещества, обычно замаскированные игрой этих сил взаимодействия между молекулами. Когда, с помощью рычага весов, он оторвал пластинку, припаянную к поверхности жидкости, он противопоставлял силе сцепления частиц жидкости силу земного тяготения. Он словно «взвешивал» стремление молекул к взаимному сближению. В этом опыте сила сцепления испытывалась на крайнем пределе ее мощи, когда она в состоянии еще удерживать прилипающую к поверхностному слою пластинку твердого тела. Но эту же силу можно наблюдать и на крайнем пределе ее немощи, когда она почти уничтожена. Что лее может свести «нанет» силу сцепления частиц между собой? Только что родившаяся новая механическая теория тепла указывала Менделееву ответ: ускорение их хаотического теплового движения.
Прибором для измерения сил сцепления частиц жидкости Менделееву служила тонкая стеклянная трубка с отверстием не толще волоса, так называемый капилляр. Если такой капилляр погрузить одним концом в жидкость, он тотчас начнет наполняться этой жидкостью до определенного уровня. Одна жидкость поднимается в капиллярной трубке на большую высоту, другая – на меньшую. Она вздымается повыше, если сила сцепления частиц в жидкости велика, пониже – если она мала. Таким образом, в этом простом приборе связываются между собой два физических явления: сила сцепления частиц жидкости и высота подъема жидкости в капилляре, – здесь одно является следствием другого, одно познается через другое. Шкалой этого прибора является сама стеклянная трубочка капилляра. Указатель силы сцепления – столбик жидкости, вздымающийся по волосному каналу капилляра на ту или иную высоту. Если жидкость нагревать, сцепление частиц в ней ослабляется, потому что верх берет хаотическое тепловое движение, передающееся от молекулы к молекуле и заставляющее их двигаться все быстрее и быстрее. Термометр показывает, насколько сильно нагрета жидкость. Насколько, соответственно, уменьшается сила сцепления, показывает высота подъема жидкости в капиллярной трубке. Вот и все исходные условия для наблюдений, которые предпринял Менделеев.
Он с утра и до ночи пропадал в своем сарайчике. Ему приходилось быть одновременно и исследователем, и препаратором, и лаборантом. Он сам паял термометры, сам очищал исследуемые жидкости от примесей, проверял или заново определял их удельные веса, снова оставляя в наследство своим благодарным последователям громадные таблицы безупречно точных данных. Он сопоставлял силу сцепления жидкостей и их плотность. Он наблюдал за тем, как сцепление изменялось с изменением состава жидкости. Он старался обнаружить еще новые, неизвестные связи явлений. И он не замечал ничего! Во всяком случае – ничего интересного для химика.
Он несколько видоизменил свои опыты: он измерял удельный вес жидкости при самых высоких температурах и самых больших давлениях, которые мог получить. Для этого он нагревал жидкости в запаянных с обоих концов стеклянных трубках. Увы, изменения удельного веса при всех условиях подчинялись одним и тем же законам. Никаких отступлений от хорошо известных правил! Было от чего прийти «в отчаяние… Вместо того чтобы открывать новые явления, Менделеев исчерпывал – «закрывал» – одну область исследования за другой. После такого тщательного обследования там нечего было бы больше делать. Он выполнял, таким образом, почетную и важную, хотя и незаметную, черновую работу ученого. Без нее наука не может двигаться вперед, как войско, не закрепившее за собой тыла.
Но Менделеев мечтал о другом!.. Где творческие свершения? Где разгадка ускользающей тайны?
Но вот одно явление, настолько мало выделяющееся из ряда других, подобных, что мимо него легко пройти равнодушно, как это и произошло со многими наблюдавшими его ранее – французским химиком Каньяр Латуром и другими. Перед исследователем запаянная стеклянная трубка с жидкостью. Он ее ставит вертикально. Края поверхностной пленки жидкости в капиллярной трубочке наползают на ее стенки и поднимаются выше уровня жидкости, как бы загибаются кверху. Поверхность жидкости, под действием сил сцепления, становится вогнутой. К запаянной трубке с жидкостью подводится источник тепла. Жидкость начинает нагреваться. Под влиянием нагревания силы сцепления ее частиц ослабевают, уравновешиваются силами теплового движения молекул, и уровень жидкости постепенно выравнивается. Из вогнутого он становится почти совсем плоским, еще более плоским, затем вдруг, внезапно, происходит мгновенный переход, и жидкость в трубке нацело исчезает – она вся сразу превращается в пар. Это происходит, когда сцепление становится равным нулю и жидкость превращается в тело без сцепления – в газ, – это отметил Менделеев в своей статье «Частичное сцепление некоторых жидких органических соединений», напечатанной в 1860 году в первом русском химическом журнале Н. Н. Соколова и А. Н. Энгельгардта, который эти неутомимые пропагандисты химии стали издавать в виде приложения к «Горному журналу».
«Температура этого превращения жидкости в газ – это абсолютная температура кипения», – написал Менделеев далее. С этими словами в науку входило новое понятие огромной важности. В следующей большой статье, опубликованной в том же журнале, «О сцеплении некоторых жидкостей и об отношении частичного сцепления к химическим реакциям» (1860) Менделеев еще более определенно подчеркивал, что «абсолютная температура кипения» жидкостей – это такая температура, выше которой жидкость уже не может существовать как жидкость: она вся превращается в пар».
«Абсолютная температура кипения» могла быть обнаружена только в опытах с жидкостью, нагреваемой в запаянной трубке, потому что для ее проявления должно существовать равновесие между стремлением частичек жидкости выскочить за границы поверхности, разделяющей жидкость и газ, и давлением пара над жидкостью, ограничивающим это стремление жидкости к испарению. С повышением температуры все больше частичек жидкости превращается в пар, а следовательно, все больше возрастает его давление, и так до того мгновения, когда все различия между жидкостью и паром сглаживаются и для полного перехода всей жидкости в пар не требуется уже никакой дополнительной затраты тепла.
Если понижать температуру любого газа, он также, рано или поздно, достигнет своей «критической точки», и если охлаждать его еще дальше, температура его перейдет за эту точку и он неизбежно превратится в жидкость. Всякую жидкость можно обратить в газ, и всякий газ можно обратить в жидкость. Это произойдет при достижении каждым из них своей особой «критической» точки – менделеевской «абсолютной температуры кипения».
Напрасно бились исследователи, пытаясь, вслед за Фарадеем, с помощью высоких давлений сжижать углекислый газ, азот и кислород, из смеси которых состоит воздух, которым мы дышим. Они подвергали эти газы все большему и большему сжатию, но получали сжатый газ и ничего больше. Газы – упрямцы, не желавшие сжижаться ни при каких давлениях, получили даже название «постоянных газов». Открытие Менделеева разоблачало секрет этого поразительного постоянства. Если эти газы не удавалось привести в жидкое состояние, так это только потому, что их не сумели охладить до «абсолютной температуры» их кипения, до «критической температуры», как ее сейчас называют в науке. Если бы экспериментаторы, которые продолжали безуспешно единоборствовать с «постоянными газами», дали себе труд дотянуться уж если не до «Горного журнала», издающегося в Петербурге, а хотя бы до известий Парижской Академии наук («Соmpte Rendus»), в которых были опубликованы краткие сообщения Менделеева об открытой им «температуре абсолютного кипения», и если бы они вдумались в сущность этого открытия, то на десять лет раньше, чем это в действительности произошло, они поняли бы, что никаких «постоянных газов» в природе не существует и существовать не может. Лишь десять лет спустя после обнародования результатов менделеевских исследований английский физик Эндрюс опубликовал свой мемуар, где понятия о «критической температуре» он связывал с задачей сжижения углекислоты. Менделеев с живостью отозвался на эту работу. Он написал «Замечания к исследованию Эндрюса над сжижаемостью углекислоты», где привел наиболее важные места из своих старых – гейдельбергских – работ, более точно определяющих «абсолютную температуру кипения», или «критическую температуру», чем это делал Эндрюс[13].
В декабре 1877 года француз Кайете и швейцарский физик Пикте, охладив воздух до температуры – 184ºС, наблюдали первые капли жидкого воздуха, осевшие на стенках сосуда, в котором происходило охлаждение. Они работали независимо друг от друга, но они оба зависели от открытия Менделеева, впервые указавшего науке тот путь, следуя которым они достигли своего замечательного успеха. И теперь, когда в сотнях колонн громадных промышленных гигантов мировой индустрии текут целые реки жидкого воздуха, переведенного через границу его «абсолютной температуры кипения», чтобы в жидком виде он мог отдать кислород, вдуваемый в домны, ускоряющий химические процессы, заливаемый в холодо-упорные баки сверхскоростных ракетных самолетов, – не пришло ли теперь время отдать справедливую дань памяти пионера науки, перебросившего первый мостик познания к этому широкому пути? Не пора ли в расчетах холодильных заводов, в теоретических работах, посвященных самому диковинному веществу на свете – жидкому гелию, начать называть неизбежно упоминаемые
«критические температуры» их настоящим именем: точками Менделеева?
Приближалось время возвращаться в Петербург, в ту же лабораторию с пустыми шкафами, которую он так недавно покинул. По существу ее надо было оборудовать и отстраивать заново…
А у его друга, молодого физиолога Ивана Михайловича Сеченова, не было даже и такой зацепки в жизни, как собственная лаборатория. Друзья хлопотали о кафедре для него в Московском университете. Но все хлопоты были пока безуспешны. Кафедра физиологии в этом университете была свободна, и профессор Иноземцев предложил Сеченова в качестве ее руководителя, но достопочтенный профессор Анке заявил на заседании ученого совета университета, что, как ему доподлинно известно, Сеченов занимается не физиологией, а психологией, и потому эта кафедра ему не по специальности. Предложение Иноземцева было отклонено. А у профессора Анке был, разумеется, припасен свой кандидат на эту кафедру – профессор Эйнбродт…
Действительно, Сеченов, в числе других проблем естествознания, интересовался и психологией. Но, ссылаясь на это, профессор Анке вел заведомо нечистую игру – физиология была главным интересом Сеченова. Волновавшие его идеи находили горячий отклик у Менделеева. Сеченов стремился ввести в науку о живом объективные методы исследования.
В Гейдельберге, например, он исследовал собственное свечение тканей глаза – флюоресценцию. Ему удалось усовершенствовать способ определения газов, растворенных в крови. Это пона-
добилось ему для изучения влияния на организм острого алкогольного отравления.
С любимой идеей Сеченова о единстве жизненных процессов, о материальном единстве мира, Менделеев связывал задачу естественного расширения границ химии. Он принимал близко к сердцу успехи Сеченова в выяснении химического характера газообмена в тканях живого тела.
О присоединении к этому кружку третьего сочлена – химика и музыканта Александра Порфирьевича Бородина – мы узнаем из его письма к матери. Мы приводим выдержку из него, так как оно сообщает некоторые штрихи, характеризующие тамошнее окружение друзей.
«Русские здесь разделяются на две группы,- писал Бородин из Гейдельберга, – ничего не делающие, то-есть аристократы: Голицын, Олсуфьевы и пр. и пр., и делающие что-нибудь, то-есть штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедом и по вечерам. Я короче всех сошелся, конечно, с Менделеевым и Сеченовым – отличным господином, чрезвычайно простым и очень дельным. Общество же немцев невыносимо до крайности: чопорность, сплетни ужасные… Общество немецких студентов еще противнее… Представьте себе, что все они разделены на партии, из которых каждая имеет своего наибольшего – сениора. Студенты разных партий отличаются костюмами и цветами: у одних фуражки желтые, у других – красные, у третьих – белые и т. д. Кроме того, у каждого студента шелковая перевязь через плечо; у сениора шляпа треугольная; фасоны фуражек самые курьезные! Прибавьте к этому еще ботфорты престранной формы, и вы будете иметь понятие о костюме немецкого студента. По воскресеньям студенты пьянствуют, и редкая неделя проходит без дуэли; повод всегда один и тот же: один студент назовет другого «думмер юнге»[14]. И это ведется с незапамятных времен. Вот консерватизм-то! Дуэли эти, впрочем, ограничиваются всегда пустяками: одному раскроят лоб, другому порежут физиономию – и только. Все сходки их сопровождаются кучей формальностей, самых нелепых, которые, однако, всегда используются с точностью.
Город имеет увеселения: театр и концерты симфонического общества. На одном из этих концертов мне удалось быть. Музыка очень порядочна. Но театр – это просто чорт знает что такое. Кроме двух или трех персонажей, остальные никуда не годятся. Но пьеса, которую я видел, воистину удивительная. Трудно выдумать что-нибудь бессмысленнее. А немцы сидят и восхищаются…»
Друзей тянуло в Россию. Менделеев мечтал об этом нетерпеливо. В милой сердцу родной стране есть свои собственные научные центры, лучше Гейдельберга. Но передовая русская наука не встречала поддержки со стороны правящих верхов.
«В России плохо заниматься наукой…» – так начиналось письмо на эту тему, которое Менделеев отправил из Гейдельберга на имя попечителя Петербургского учебного округа. Он называл и разбирал в своем письме и причины этого: «Недостаток во времени и недостаток в пособиях, необходимых при занятиях».
«Недостаток во времени, – продолжал он, – происходит от множества посторонних занятий, какое берет на себя каждый для того, чтобы иметь средства к жизни, или по причине того общественного положения, в каком находится у нас небольшое число специалистов».
Менделеев не жаловался, а требовал. Вот что должно было быть, по его мнению, изменено в университетской научной жизни:
«Недостаток у нас в средствах для занятий, – писал он, – происходит, во-первых, от того, что… самому приходится выполнять кучу черной работы, а при недостатке во времени приготовление грубых материалов сильно убивает энергию. Во-вторых, упомянутый недостаток происходит от того, что мы не имели лабораторий под руками…»[15].
Сеченов не предвидел особенных успехов от таких обращений к официальному руководству ведомства просвещения. По своему собственному
признанию, которое мы находим в его «Автобиографических записках», он был крайне удивлен, когда, вернувшись в Россию, он услышал мнение на этот счет Н. Н. Зинина. «В ответ на наши – мои и Боткина – сетования на некоторые стороны русской жизни: «Эх, молодежь, молодежь, – сказал он, словно всерьез, но, конечно, соглашаясь с нами, – знаете ли вы, что Россия единственная страна, где все можно сделать»[16].
Больше всего друзей сближала свойственная им всем неистовая, вдохновенная, фанатическая привязанность к труду. Менделеев позже писал в одной из своих публицистических работ: «Для меня несомненно, что придет время, когда нетрудящиеся не будут в состоянии прожить, хотя до этого, конечно, ныне очень далеко…»
В этом смысле и Бородин, так же как и Менделеев и Сеченов, был человеком будущего. Его биограф А. П. Дианин писал о нем: «…И вообще он не любил быть без занятий». Это звучало так же, как если бы кто-нибудь написал об огнедышащем вулкане: «И вообще он не любил не извергаться». Одновременно с созданием партитуры оперы «Князь Игорь» Бородин опубликовал не одну даже, а несколько крупных химических работ. Он умел лепить и гравировать, готовить фейерверки, рисовать карандашом и писать красками, играть на нескольких инструментах. Он мог сколько угодно иронизировать над целеустремленной поглощенностью Менделеева, но тот отлично знал, что сам Бородин, впервые занявшись химией, к великому ужасу жиль-
цов, не только свою комнату, но и всю квартиру превратил в химическую лабораторию и гордился тем, что в совершенно неподходящем месте впервые самостоятельно получил гликолевую кислоту. Все, чего бы ни касалось его увлечение, превращалось в ветер, в огонь, в стихию. Однажды он возвращался домой со своим другом Щиглевым. Фонари еле-еле мерцали на Петербургской стороне и то кое-где. Вдруг Щиглева поразил какой-то неопределенный шум, и шаги Бородина, шедшего впереди, перестали раздаваться. Вслед за тем он услыхал у себя под ногами звуки флейты. Оказалось, что Бородин слетел в подвал лавки и, испугавшись за свою самую большую в этот момент драгоценность – за флейту, которая вылетела у нею из футляра, мгновенно поднял ее и начал пробовать, цела ли она…[17]
Бородин любил Менделеева за то же, что и тот ценил в нем: за способность безраздельно отдаваться творческой мысли, порыву. Но для Бородина одного порыва хватало, подчас, едва на неделю, а у Менделеева он продолжался всю жизнь. Менделеев принимал все извивы сложной талантливости своего друга как естественное природное богатство; близость к нему он рассматривал как собственное везенье и наслаждался этой дружбой без зависти и корысти.
Они поклялись, что в случае, если одного замучит какой-нибудь непосильный вопрос, родившийся из столкновения с суровой жизнью, другие придут ему на помощь. Они съедутся вместе, чтобы дать для решения все свои знания, опыт и убеждения. Этой клятвой связали себя Менделеев, Бородин и
Сеченов. К ней потом присоединились Мечников и рано умерший Олевинский. На памяти близких Менделеева пять раз собирался этот съезд друзей, назначенный в дни сомнений и печали одного из них. Они обсуждали вопросы общественного устройства, вопросы этики и морали. Темы последних двух съездов не знает никто.
Каждый из них шел своим путем, держась за поручни этой дружбы.
Она скрасила тревожные гейдельбергские раздумья о будущем, о науке, о себе.
Она внесла в жизнь Менделеева светлую радость искусства. Вдохновленные импровизациями Бородина на рояле, друзья снимались с места и отправлялись пешком в соседний Фрейбург слушать, в складчину, знаменитый орган.
Вместе с Бородиным Менделеев забирался, ради отдыха, в горы.
Из маленького швейцарского местечка Интерлакен Менделеев подробно описывал свои впечатления в письме к Феозве Никитичне Лещевой. Невольно он все чаще думал об этой девушке.
«Только не ждите, пожалуйста, – писал он Лещевой, – чтобы я вам объяснил, почему и для чего бродят по горам пешком по камням, снегу и в грязи… Снеговая вершина просто-напросто точно острая крыша, покрытая снегом. Мы идем на гору вышиной с версту, справа скачет ручей Рейхенбах, скалистая гора поросла елями, усталый стираешь пот и вдруг между деревьями видишь снеговую пирамиду, блестящую, отражающую свет. Кажется, простая штука, а нет, так и охватывает всего что-то прекрасное, пропадает усталость… Не забудешь этой минуты, рад будешь десять верст лезть, чтобыеще раз испытать то же. А от чего? Я вам не скажу. Не скажу не потому, что не хочу, нет, сам не знаю, и выдумывать не могу…»
Бывают мгновенья, когда ученый нуждается в помощи поэта.
Менделеев вкладывал в свое письмо пушкинские строки (цитируя их на память и с некоторыми неточностями).
Когда б не смутное томленье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б наслажденье Вкушать в неведомой глуши.
«Право, – продолжал он, – это то же самое чувство, которое и Ольгу заставило грустить – все чего-то не хватает…»
Чувствовал он сильно и ярко, как это может только большой человек. Но, вспоминая о своих озарениях, он мучительно путается в неуклюжих строчках письма. Он совсем не умел разбираться в своих чувствах и, тем более, писать о них. Только когда он говорил или писал о своем любимом труде, о творчестве, о химии, о судьбах страны, в его трудном и «своеобычном» языке, откуда ни возьмись, появлялись и яркие образы и запоминающиеся сравнения, он умел быть и торжественным, и убедительным, и ироничным, и даже влюбленным.
VIII. В ХИМИИ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОНЯТИЕ МОЛЕКУЛЫ
Все оттенки чувств, от восторженности до негодования, мы найдем в письме Менделеева к Воскресенскому с международного конгресса химиков в Карлсруэ.
В поисках объяснений очередных побед Менделеева на научном поприще иные его биографы обращают свои взоры к западноевропейским влияниям. Затаив дыхание от избытка почтительности, они упоминают об этом съезде, на который молодой Менделеев попал якобы благодаря своему пребыванию в Гейдельберге. Робким учеником западных мастеров представляют они читателю Менделеева.
Уже известные нашему читателю факты говорят совсем обратное. В действительности, как мы уже знаем, воздухом самых вершин науки Менделеев дышал полной грудью еще на лекциях Воскресенского, а ко времени первого международного съезда химиков уже успел протоптать к этим сияющим вершинам знания и свою собственную, пока еще, правда, небольшую, тропку.
Во всяком случае, он давно уже имел все основания чувствовать себя своим человеком среди ученых и на съезд в Карлсруэ приехал не только в качестве равноправного члена русской делегации, но и сразу же был избран в комиссию, которой была поручена основная работа съезда – подготовка важнейших его решений.
Съезд этот – фактически первый мировой съезд химиков – действительно сыграл в истории химии большую роль.
Письмо учителю, в котором Менделеев со многими подробностями описывал ход конгресса, было настолько содержательным, а тема его настолько злободневной, что Воскресенский опубликовал его в одном из очередных номеров газеты «С.-Петербургские ведомости»[18]. Таким образом, оно стало первым газетным выступлением Менделеева перед широкой русской публикой.
Для того чтобы читатель – современник блистательных побед новой химической науки – мог оценить воодушевление Менделеева, участвовавшего в установлении основных понятий химии, нужно предпослать менделеевскому письму несколько пояснений.
К моменту первого международного конгресса химиков продолжение «смутного времени» в химии становилось нетерпимым. Такое название сохранилось за эпохой развития химии, непосредственно предшествовавшей эпохе менделеевских и бутлеровских открытий, перевернувших всю химию и окончательно придавших ей научную стройность. В описываемое же время исследователи, в буквальном смысле слова, перестали понимать друг друга. Внешне это противоречие между формой, в которую облекались химические знания, и их содержанием находило свое выражение в следующем.
У химии есть свой особый условный язык, гораздо более простой, чем язык математических символов, но такой же краткий и выразительный. Отдельными терминами этого своеобразного языка химических формул служат сокращенные наименования веществ, входящих в состав сложного соединения – инициалы их латинских или греческих названий. Водород обозначается в этих формулах буквой Н (начальной буквой латинского названия этого элемента Hydrogenium), кислород – буквой О (Oxigenium), углерод – буквой С (Cabronium), азот – N (Nitrogenium), сера – S (Sulfur), фосфор – Р (Phosphorus), железо – F (Ferrum) и т. д., и т. п. С помощью этих обозначений можно записать все, что интересует химика относительно состава соединения.
Сейчас, когда на этот счет во всем мире существует полная договоренность (мы увидим дальше, с каким энтузиазмом Менделеев участвовал в ее установлении), условный язык химии приобрел исключительную простоту и наглядность. Каждый значок, вставляемый в формулу, указывает не только наименование элемента, к которому он относится, не только качество вещества, участвующего в реакции. Эти значки имеют и количественное значение. За каждым из них, в действительности, стоит один атом, со своим строго определенным относительным весом (относительным потому, что сейчас все атомные веса отнесены к единице, в качестве которой избран вес атома кислорода). Значок Н обозначает вес атома водорода, значок N- вес атома азота, значок О – вес атома кислорода и т. д., и т. п.
Если нужно показать, что в составе сложного соединения участвуют два или несколько атомов любого из этих элементов, внизу буквенного обозначения атома ставится соответствующая цифра. Таким образом, для того чтобы показать, что частица соли состоит из одного атома хлора (Сl) и одного атома натрия (Nа), достаточно написать NaCl. Это и будет химическая формула обыкновенной поваренной соли. Если серную кислоту обозначают H2SO4, то это значит, что частица серной кислоты состоит из 1 атома серы, 4 атомов кислорода и 2 атомов водорода и т. д. Но тогда все это не было так просто и наглядно. Перед исследователями возникали трудности. За буквенными обозначениями элемента в одних случаях химиками подразумевался «весовой пай», с которым этот элемент вступает в известные им соединения, в других случаях объем, в третьих – «эквивалент»[19], который они, вдобавок ко всему, путали с атомом…
Подобное смешение понятий приводило к ошибкам, и можно ли удивляться, что многим они казались непреодолимыми. Вот один пример таких затруднений, который больше других любил впоследствии приводить, в своих лекциях Менделеев.
Мы уже знаем, при каких обстоятельствах французский химик Дюма выяснил, что при белении воска хлором происходит частичная подмена содержащегося в воске водорода хлором. Мы знаем, как открытие этого факта расшатало «двойственную», электрополярную теорию Берцелиуса. Уточняя свое открытие, Дюма установил, что на один и тот же объем освобождающегося из воска водорода (если перевести его в газообразное состояние) приходится в точности такой же объем газообразного хлора, представляющего собой плотный, зеленоватого цвета, ядовитый газ. Если отношение равных объемов газов выражает отношение атомов, из которых они состоят, то это значило, что на место атома водорода становится атом хлора. Вслед за тем Велер и Либих, обрабатывая хлором горькоминдальное масло, обнаружили, что в получающемся при этом соединении уже не один, а два объема водорода замещаются таким же количеством хлора.
Это наблюдение было первым звеном в целой цепи исследований, показавших, что равные объемы водорода, брома, хлора и йода, а значит и атомы этих веществ, равноценны, эквивалентны. Но вместе с тем они были химически равнозначны лишь половине равного объема кислорода… Отсюда можно было вывести заключение, что атом кислорода по своему химическому действию соответствует двум атомам хлора, двум атомам натрия, двум атомам водорода! Значит, понятие об атоме, если уж его придерживаться, надо строго отделять от понятия о величине его химического значения, его эквивалента, то есть способности его ко взаимному насыщению.
«Учение об эквивалентах было бы совершенно просто, – рассказывал впоследствии Менделеев студентам на своих лекциях о «смутном времени» в химии, – если бы каждый металл и каждое простое тело давало только одну степень соединения с кислородом, или один окисел. Оно усложняется тем, что многие металлы дают несколько степеней окисления, следовательно, представляют в различных степенях окисления различные эквиваленты. Через это понятие об эквиваленте усложняется, и каждому простому телу нельзя придать одного определенного эквивалентного веса.. и потому понятие об эквивалентах, играя весьма важную роль в историческом отношении, представляет, при более полном изучении фактов химии, только вводное понятие, подчиненное более высшим…»
Отказ от овладения этими «высшими понятиями», под которыми Менделеев разумел в первую очередь понятие об атоме, тормозил поступательное движение науки.
Составляя формулу соединения, химик должен был каждый раз оговаривать, что именно он разумел под символами, обозначающими вступившие в химическую реакцию вещества. Получилось так, что простое, сравнительно, вещество можно было обозначить десятком различных способов.
Для уксусной кислоты, формулу которой сейчас прочтет без труда каждый школьник, в те времена, в зависимости от взглядов автора, применялось до 19 различных обозначений. К каждому химическому сочинению должна была прилагаться своя особая «смысловая отмычка». Издатель одного из химических журналов жаловался, что «каждой статье необходимо предпосылать ключ, как в музыке». Дело, конечно, не в значках, не в обозначениях, не в иероглифах химических формул. Об их единообразии легко было бы договориться, если бы химики одинаково понимали то, что творится за стеклом пробирок.
Физики могли бы оказать химикам в этом существенную поддержку, но химики не спешили обращаться за этой помощью.
К этому времени был уже хорошо известен простой и остроумный способ уточнения одного из важнейших свойств атома как материальной частицы – его веса. Изучая различные газы, физики установили, что как бы эти газы ни были разнородны, но при изменении температуры или изменении давления объем любого газа изменяется почти одинаково. Отсюда был сделан важный вывод, с которого сейчас в школе начинают изучение химии, что равные объемы газа при постоянной температуре и постоянном атмосферном давлении представляют собой своеобразные «упаковки», в которых заключено равное число частиц газа. На этом основывалось важное предложение, которое впервые внес туринский физик Амедео Авогадро, – воспользоваться этими «упаковками» частиц различных газов, то есть их равными объемами, взятыми при одинаковых и неизменных условиях, чтобы узнать относительный вес частиц любого газа.
В самом деле! Совет Авогадро можно пояснить на общеизвестном примере, напоминающем простую арифметическую задачку. Чтобы узнать, во сколько раз яблоко одного сорта тяжелее яблока другого сорта, если ящики запакованы и достать по одному яблоку оттуда невозможно, надо взвесить целиком один ящик, взвесить другой, заключающий в себе столько же одинаковых яблок, и сравнить их вес. Во столько же, во сколько один ящик будет тяжелее другого, во столько средний вес отдельного яблока, которое в нем заключено, будет тяжелее среднего веса отдельного яблока, заключенного в более легком ящике.
Ход рассуждения не меняется, если бы мы захотели тем же способом узнать относительный вес атомов. За единицу сравнения надо взять вес самого легкого атома, каким является атом водорода. Чтобы полутать сравнительный вес атома любого элемента относительно атома водорода, надо в одинаковых условиях сравнить «упаковку», заключающую в себе частицы водорода, с такой же «упаковкой», содержащей столько же частиц другого вещества, но весящей больше.
Однако этот простой способ установления атомных весов не случайно долгое время оставался в пренебрежении у химиков. Казалось, что он приводит к безысходному противоречию. Известно было, например, что из 1 объема ядовитого газа хлора и 1 объема водорода получается 2 объема газа хлористого водорода. Если верить правилу, что в равных объемах содержится равное число частиц любого газа, то выходило, что из двух атомов – одного атома хлора и одного атома водорода – образуются тоже две частички хлористого водорода и в каждой из них присутствует и хлор и водород. Выходило, что или атомы химически делимы и, таким образом, они вовсе не атомы, или правило Авогадро совсем не правило…
Одним из важнейших признаков окончания «смутного времени» в химии было опубликование французским химиком Жераром смелой догадки, что газ водород состоит не из отдельных атомов водорода, а из более сложных частиц, молекул, понятие о которых установил Ломоносов и каждая из которых в данном случае заключала по два атома водорода, соединенных вместе. Из двух соединенных атомов состоит и частица газа хлора. Если это так.
то становилось понятным, что при попарном соединении этих частичек, или молекул, соединяются совсем не половинки атомов, а целые атомы, выделяющиеся из разделившихся молекул. Из одной молекулы хлора, состоящей из двух атомов этого элемента, и одной молекулы водорода, также состоящей из двух атомов этого элемента, образуются тоже две молекулы нового вещества – хлороводорода:
В химии утверждалось понятие молекулы!
***
Этот важный момент лег в основу решений первого съезда химиков в Карлсруэ. Его горячо приветствовал молодой Менделеев.
«Существенным поводом к созванию международного химического конгресса, – писал он Воскресенскому, – служило желание уяснить и, если возможно, согласить основные разноречия, существующие между последователями разных химических школ. Сначала г. Кекуле предложил было для разрешения многие вопросы: вопрос о различии частицы, атома и эквивалента, вопрос о величинах атомного веса… далее, вопрос о формулах и даже, наконец, о тех силах, какие при современном состоянии науки надобно считать причиною химических явлений. Но в первом же заседании, 3 сентября, собрание нашло невозможным в такое короткое время уяснить такое большое число вопросов и поэтому решилось остановиться только на первых двух.
Была избрана комиссия, в которую вошло до 30 человек, для предварительной разработки этих двух вопросов; был в ней и С. Каниццаро, одушевленная речь которого, по справедливости, была встречена общим одобрением. На втором заседании конгресса, 4 сентября, комиссия вынесла выработанную ею резолюцию такого содержания: «Предлагается принять различие понятий о частице и атоме, считая частицей количество тела, вступающее в реакции и определяющее ее физические свойства, и считая атомом наименьшее количество тела, заключающегося в частицах. Далее предлагается понятие об эквиваленте считать эмпирическим, не зависящим от понятий об атомах и частицах. При голосовании за резолюцию большинство подняло руки. Кто против? Робко поднялась одна рука-и опустилась.
Результат неожиданно единодушный и важный. Приняв различие атома и частицы, химики всех стран мира приняли начало унитарной системы; теперь было бы большой непоследовательностью, признав начало, не признавать его следствий».
Встречая это решение, как должное, Менделеев недаром с некоторым удивлением отмечал «неожиданное» единодушие химиков в вопросе, прояснению которого он посвятил столько самоотверженного труда, работая над изоморфными соединениями и над удельными объемами. Победа была достигнута дорогой ценой, хотя на торжественных заседаниях съезда об этой цене не упоминалось. Светила химии, которые здесь поднимали руки за утверждение в науке различия между атомом и молекулой, тем самым невольно осуждали собственные заблуждения. Среди них не было уже выдающегося французского химика Жерара, который доказал применимость в химии закона Авогадро. Жерар умер, надорванный непосильным бременем преподавания в провинциальном лицее, затравленный самовлюбленными недругами, увенчанными званием «бессмертных», как во Франции предупредительно именуют академиков. Его обычный обед состоял из воды и хлеба. Эта диета, по его словам, поддерживала ясность головы, а сбереженные с ее помощью деньги он тратил на покупку химических реактивов. Он должен был их приобретать сам, потому что его влиятельные противники отрицали за ним, этим выходцем из простолюдинов, право на занятие наукой, а за его яркими идеями – права гражданства в химии.
После того как Жерар скоропостижно скончался в расцвете лет, оставив без средств семью, один из тех, кто ему отказывал при жизни в малейшей поддержке, – академик Вюрц, – высокопарно писал о «возвысившей его смерти», об «искании истины», которое было его страстью, во имя которой он предпочел независимость карьере, убеждения – выгодам, познав любовь к науке не только превыше благ мира, но даже превыше самой жизни, так как умер за работой. «Славная смерть, которую Франция не забудет», – так кончалась надгробная речь человека, одного слова которого было бы достаточно, чтобы спасти эту жизнь для науки… Менделеев учился понимать действительную ценность красивых фраз, не подкрепленных делами!
Соотечественник Авогадро итальянец Каниццаро привез на конгресс в Карлсруэ маленькую книжечку, в которой наиболее последовательно излагал взгляды Жерара и выводы из них. Оказалось, что эту работу скромного итальянского ученого почти никто из общепризнанных германских, английских, французских мэтров химии не удосужился даже перелистать. Они узнали о ней только на съезде, хотя она была им разослана задолго до этого. Любопытное свидетельство на этот счет одного из видных немецких химиков Лотара Мейера приведено в специальной исторической работе, посвященной конгрессу (о письме Менделеева, содержавшем его наиболее полную характеристику, там, конечно, даже не упоминается). Лотар Мейер писал, что после его ознакомления с брошюрой Каниццаро «словно спала пелена, которой были закрыты глаза». Это испытывали многие, но они не спешили в этом признаться…
IX. «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» И ЕЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО
12 февраля 1861 года Менделеев получил в городе Ковно подорожную на две лошади до Динабурга. Это была уже Россия. Все железные дороги России в то время составляли протяженность одной современной магистрали от Москвы до Севастополя.
Менделеев возвращался из дальних странствий к кафедре органической химии в университете, руководить которой он был назначен, обуреваемый новыми мыслями. Он увез со съезда химиков в Карлсруэ и могучее воодушевление и глубокую неудовлетворенность. Он был счастлив торжеством новых идей, которым был предан еще со школьной скамьи.
Русские химики на съезде оказались в первых рядах преобразователей химического знания. Этим можно гордиться.
Но Менделеева огорчало, что наряду с людьми больших порывов и смелой мысли он нашел среди признанных олимпийцев науки косных рутинеров. Он наблюдал, как игра мелких самолюбий подчас затмевала интересы знания.
Менделеев не скрывал ни от себя, ни от читателей опубликованного в газете письма со съезда, что хотя единство взглядов на основные вопросы химии как будто бы и было достигнуто, но в глубине души многие участники съезда еще колебались, многие так и не поняли до конца важности происходившего в науке перелома, многие все еще оставались равнодушны к теориям и продолжали думать, что гораздо большее значение имеет открытие новых веществ, чем объяснение сущности происходящих при этом процессов.
Поэтому Менделеев уже думал о необходимости какими-то дополнительными усилиями способствовать закреплению успеха, достигнутого в развитии химической теории. Это можно было сделать, только практически показав приложимость и плодотворность новых воззрений в какой-нибудь неиспытанной области.
Опыт – лучший судья любых теоретических взглядов! И зачем откладывать этот опыт в долгий ящик, если у студентов университета нет ни одного порядочного учебника химии?
Менделеев затащил в свою лабораторию высокую конторку (в молодости он предпочитал писать стоя) и залпом, работая и днем и ночью, как об этом рассказывал в своих воспоминаниях его ассистент Г. Г. Густавсон[20], в два месяца написал курс органической химии. Эта книжка была дозарезу нужна его слушателям. Тем лучше! Но вместе с тем это была своеобразная – менделеевская – репликав незавершенном споре. Реплика звучная, щедрая – на триста страниц убористого шрифта.
Судьба этой книги примечательна во всех отношениях.
Это был первый и единственный в то время в России вполне оригинальный курс органической химии. Он был встречен всеобщим одобрением. Новые взгляды, изложенные в нем Менделеевым, получили признание. По представлению Н. Н. Зинина книга была удостоена большой Демидовской премии Российской Академии наук. Однако второе издание этой отличной книги (1863) было в то же время и последним. Разъяснение этого странного обстоятельства приведет нас к истории соперничества и дружбы двух титанов русской химии – Менделеева и Бутлерова.
Надо хотя бы кратко пояснить, что за новое слово произнес Менделеев в своем университетском курсе органической химии.
После того, как стало ясно, что можно избежать путаницы между молекулами и атомами, и ценные советы Авогадро о способах точного взвешивания атомов оказались осуществимыми, химическая формула приобретала строгую определенность.
За каждым значком, обозначившим название элемента, становился атом со всей своей точно измеренной массой, со своими особыми свойствами, хотя еще и не выясненными до конца. Молекула складывалась из отдельных атомов, хотя, как именно это происходило, никому не было ясно.
Во всяком случае, шагом вперед было то, что химическая частица молекула, «маленькая масса» химического соединения, рассматривалась как нечтоцельное. В целом она сравнивалась с другими мо лекулами, в целом входила в какую-то систему науки. Она, так же как и атом, служила своеобразной единицей меры химического соединения. От французского слова unité – единица – и происходило незнакомое современному читателю название новой «унитарной» химии молекул, которое Менделеев употребил в своем письме к Воскресенскому.
Унитарная система устанавливала известный порядок в довольно бесформенной массе разнородных фактических данных, собранных к тому времени, позволяла несколько ориентироваться среди хаотического нагромождения разнообразнейших веществ с различными свойствами. Вооруженный представлением о молекуле, исследователь стал искать и находить прочные, устойчивые молекулы, которые оставались неизменными при многих химических превращениях. Они присоединяли к себе новые части, теряли их, приобретали другие, но сами не утрачивали своей химической индивидуальности. Вокруг таких «типовых» молекул группировались сходные с ними, образуя как бы галлерею химических «типов».
Но классификаторы «типов» молекул останавливались в смущении перед обширным классом веществ, называвшихся «органическими».
Прежде всего это были вещества, встречающиеся в организмах. Из таких, встречающихся в природе, тел научились при помощи сухой перегонки (прокаливания в замкнутом сосуде с отводной трубкой), действуя на них азотной кислотой и т. д., получать более простые вещества. Иногда они были настолько просты, что их причисляли на этом основании к неорганической химии. Но так как исход ным материалом для них всегда служили вещества, встречающиеся в природе, считалось, что в области органических тел химик способен только упрощать. «Никогда, быть может, между двумя отделами одной и той же науки не существовало такой пропасти, как в то Бремя между неорганической и органической химией, – рассказывал впоследствии об этом периоде К. А. Тимирязев, – они говорили на двух разных языках, изображали одно и то же различными формулами. Так что студент, основательно знающий неорганическую химию, попав случайно в аудиторию органической химии, мог не признать на доске самых хорошо известных тел».
Главную прелесть поставленной перед собой задачи Менделеев видел именно в том, чтобы не только описывать известные химические молекулы, но и показывать, как они получаются, как ведут себя в тех или других случаях и каким предельным изменениям могут быть подвергнуты.
Это была химия молекул в действии. Менделеев уводил читателя из музея веществ в лабораторию и вместе с ним прослеживал сложнейшие родственные связи разных веществ. Сам он писал об этой задаче своего курса «Органической химии» так:
«В прежнее время одной почти растворимостью руководствовались для отделения органических составных веществ. Смесь их обрабатывали водой, спиртом, эфиром и так разделяли на отдельные вещества, из которых потом делали целые отделы или группы. Так, был отдел жиров – нелетучих тел, нерастворимых в воде, мало растворимых в спирте и смешивавшихся во всех пропорциях с эфиром;
отдел летучих масел… и т. д. Эти группы впоследствии или раздробились, или вовсе уничтожились, потому что основанием для естественной химической системы должна быть их взаимная связь по происхождению и химическому характеру, а не одно или два физических свойства…[21] Самые естественные группы органических соединений… представляют только последовательность в изменении свойств с изменением веса частиц. Оттого в одном… ряду встретим легколетучие тела вместе (но не рядом) с телами, не улетучивающимися без разложения, растворимые с нерастворимыми и т. д.».
Здесь, в курсе «Органической химии», уже отчетливо проявлялось стремление Менделеева использовать сведения об относительном весе атомов и молекул и способности отдельных элементов присоединять к себе строго определенное количество атомов (которую Менделеев называл «атомность», а современная наука – валентностью) «как для сравнения и систематического описания, так и для изучения реакции тел». И в этом мы также находим элементы подготовки к тем знаменательным обобщениям связи атомов по их свойствам, широкие выводы из которых в веках прославили имя Менделеева.
«Органическая химия» Менделеева имела еще одну важную особенность. Автор книги, со всем своим пылом, обрушился на искателей особой, исключительной «жизненной силы», которой будто бы были обязаны своим появлением сложнейшие органические вещества. Когда исследователи того времени говорили о «жизненной силе», они имели в виду не своеобразие, не особое качество тех сложнейших процессов, связанных с проявлениями жизни, которое не может не признать материалист. В их глазах «жизненная сила» была некоей непознаваемой субстанцией, чем-то вроде божества или провидения, сообщавшего явлениям жизни их принципиальную неповторимость и невоспроизводимость в условиях лаборатории.
Ссылки на таинственную и непостижимую «жизненную силу» всегда служили утешением неудачникам знания. К их числу никак нельзя, конечно, целиком причислить Берцелиуса, заслуги которого перед химией велики. Но когда в преклонные годы он с упорством отчаяния отстаивал свою любимую теорию «дуализма», двойственности химических соединений, разделяемых на электрополярные части, и когда, в только еще нарождавшейся органической химии, эта теория сразу проявила свою полную неприложимость, он не нашел мужества сказать: «тем хуже для теории». Он отдал свою теорию под защиту фантома и объявил, что открытые им законы теряют власть в сфере влияния таинственной «жизненной силы». Приверженцы идеалистического учения о «жизненной силе» видели в ней особое духовное начало, пребывающее в живом организме, и только в нем. Благодаря этому началу, – ошибочно полагали они, – в живых организмах происходит синтез органических веществ из неорганических. Так как вне живого организма «жизненной силы» быть не может, – утверждали идеалисты, – то органические вещества не могут быть синтезированы в искусственных условиях (за пределами живого организма). Берцелиус предпочел, во имя сохранения ложной теории, отказаться от познания реальной действительности. Даже любимец юного Менделеева, реформатор химии Жерар, и тот допускал решающее участие «жизненной силы» в формировании органического вещества и не верил в возможность искусственного органического синтеза.
Уже было известно много веществ, которые в лаборатории, искусственным путем, из элементов неживой природы, из обычных атомов составляли сложные частицы органических веществ – мочевины и др. Но «жизненная сила» находилась под особым покровительством философов правившего в России лагеря, так же как человек прославлялся ими как центр мира. Для того чтобы найти источники действительно мощного влияния, которое испытывал на себе Менделеев в гейдельбергский период, нужно вспомнить бунтарские работы его друга Сеченова, утверждавшего, что человек – это лишь «определенная единица в ряду явлений, представляемых нашей планетой и вся его даже духовная жизнь… есть явление земное». По учению церкви, поддержанному всей силой государственного авторитета, душа существовала отдельно от тела, дух и материя подчинялись разным законам. Но для Сеченова «обособление духовного человека от всего материального» – это был «самообман, упорно поддерживающийся в людях яркой характерностью самоощущений».
В то время как Сеченов писал в своей гейдельбергской диссертации, что «физиолог – это физико-химик, имеющий дело с явлениями животных организмов», Менделеев, в свою очередь, пояснил в своем курсе «Органической химии», что новая химия занимается не только описанием и сравнением форм и свойств химических веществ, но, главным образом, изучает реакции тел, то есть химические изменения, происходящие при их взаимодействии, и на этом основании называл излагаемую науку «физиологией и анатомией мертвых тел». Сеченов учил, как он об этом писал впоследствии, что «вся тайна животной жизни, поскольку она выражается деятельностями, движениями, заключается в непрерывных химических превращениях веществ, входящих в состав животного тела». И еще более определенно: «Жизненные химические процессы в животном теле подчинены общим основным законам химических превращений веществ».
А Менделеев, в своей «Органической химии», рассказывал о только что зародившейся химии жизни-биологической химии, или, как ее сейчас называют, биохимии, и начинал этот рассказ с вызывающего, хотя и более сдержанного, чем у Сеченова, утверждения:
«Каждое жизненное явление не есть следствие какой-то особой силы, каких-то особых причин, а совершается по общим законам природы». Не отрицая своеобразия явлений жизни в целом, Менделеев писал, что «ни один жизненный процесс, отдельно взятый, не есть следствие особенных сил».
Это уже была перекличка единомышленников!
Но у замечательной книги Менделеева была своя «ахиллесова пята». Она указывала на незавершенность теории, которой пользовался Менделеев, составляя свой курс. Если бы Менделеев был по специальности химиком-органиком, если бы основные его интересы были сосредоточены в области этих изменчивых, подвижных соединений углерода, можно не сомневаться, что он не только оценил бы по достоинству первостепенную важность признаков неполноты теории, которой он руководствовался, но и сделал бы отсюда практические выводы для своей работы.
Но для него органическая химия не была родной областью. Экспедицию сюда он предпринял только в качестве глашатая и проповедника новых «молекулярных» представлений.
Поэтому, натолкнувшись в своем изложении на необъяснимую загадку природы, он не накинулся на нее по своему обыкновению, чтобы поскорее ее разоблачить, а ограничился только тем, что подробно ее описал.
Необъяснимым еще, на том уровне развития химической теории, которого достигла наука ко времени составления Менделеевым своего курса, оставался факт существования большого количества веществ, совершенно сходных по своему химическому составу и в то же время имевших особенности, резко их отличавшие. Так, например, существовала «правая» и «левая» винная или виноградная кислота. На объяснении таких странных характеристик кислоты, как «правая» и «левая», необходимо несколько задержаться.
Винная кислота – это бесцветное твердое тело, без запаха. Кристаллы ее имеют вид призмочек с клиновидными гранями. Это очень полезное вещество: оно употребляется для протравки нитей при крашении, для получения белых и розовых узоров по красному фону в ситценабивном производстве, оно заменяет лимонную кислоту при изготовлении лимонадов.
Молекула винной кислоты состоит из четырех атомов углерода, шести атомов водорода и шести атомов кислорода. Соответственно, ее формула пишется так: C4H6O6. Заменяя в этой молекуле водород металлами, можно получать различные соли. Например, из нее изготовляется сегнетова соль, кристаллы которой известны сейчас каждому радиолюбителю как незаменимый материал для изготовления пьезоэлектрических адаптеров и громкоговорителей (во времена Менделеева она употреблялась только в медицине). Другая соль винной кислоты, называемая винным камнем, используется в гальванотехнике и т. д. Винная кислота легко растворяется в воде.
Изучение водных растворов этой кислоты и привело к открытию существования двух химически неразличимых кислот-близнецов. Через прозрачную ванночку с раствором кислоты пропускается луч поляризованного, то есть особым образом препарированного, света.
Обычное световое излучение образуется световыми волнами, колебания которых происходят в самых разнообразных направлениях. В потоке обычного света попадаются волны, колеблющиеся вверх и вниз, вправо и влево, во всех возможных плоскостях. Это можно очень ясно представить себе, если сделать из веревки, прикрепленной одним концом к неподвижному предмету, модель волнового движения и встряхивать эту веревку так, чтобы по ней побежали волны. Эти волны могут возникать не только в вертикальной плоскости, но и в любой другой плоскости, под любым углом к вертикали.
Существует способ «фильтрации» световых волн, отбора таких, которые колеблются только в одной плоскости. Таким световым фильтром – поляризатором – служат некоторые, естественно приспособленные для этого сложные кристаллические атомные «решетки». Например, способностью «поляризовать» пропускаемый через них свет обладают кристаллы полудрагоценного камня турмалина. Имея два таких кристалла, можно поставить красивый опыт. Пучок света, поляризованного одним таким кристаллом, то есть состоящего из волн, колеблющихся только в одной плоскости, пропускают через второй такой же кристалл. Если он будет расположен в точности подобно первому, скажем, в вертикальной плоскости, то свет, поляризованный первым кристаллом, будет свободно проходить сквозь него.
Если начать теперь поворачивать второй кристалл, то он уже не сможет пропускать лучей, колеблющихся в вертикальной плоскости. Он потеряет прозрачность для этих световых волн. Продолжая смотреть сквозь него на прежний источник поляризованного света, мы не увидим ничего, свет погаснет.
Итак, опыт с винной кислотой состоял в том, что сквозь раствор этой кислоты пропускался поляризованный одним из кристаллов свет. Пучок поляризованных лучей, прошедших сквозь раствор, улавливался другим кристаллом. И вот с помощью этого второго кристалла удалось установить, что раствор винной кислоты поворачивает плоскость поляризации светового пучка, причем в одних случаях вправо, а
в других – влево. Состав исследуемого вещества оставался неизменным; он описывался одной и той же формулой – С4Н6O6. И вместе с этим опыт ясно показывал, что под этой формулой скрывались два каких-то, отличающихся между собой, вещества. Это явление было названо изомерией (от двух греческих слов: «isos» – равный и «meros» – частица), а подобные молекулы – изомерными. Изомеров было известно много. Менделеев описывал их с большим вкусом и заканчивал это описание так, как подобало настоящему искателю:
«Все эти явления, – писал он, имея в виду явления изомерии, – составляют один из самых интересных предметов химии, потому что не подчиняются до сих пор никаким теоретическим соображениям».
Это надо было понимать так, что здесь, где обозначалось противоречие между теорией и фактами, – именно здесь под заступом пионера должен был забить живой ключ-источник открытий. Менделеев еще не подозревал, что теоретические соображения, которым должна была «подчиниться» изомерия, уже выведены, что опыты, на которых эти соображения основаны, будут отнесены к наиболее блестящим в истории химии и что сила теоретических соображений, сорвавших уже покров загадочности с явлений изомерии, настолько велика, что они откроют новую эпоху в науке. И что, наконец, именно поэтому прекрасный учебник «Органической химии», только что им написанный, выдержит всего два издания: так быстро устареют некоторые его положения…
Покончив с «Органической химией» и таким образом по-своему подведя итоги съезда в Карлсруэ, Менделеев с увлечением окунулся в преподавание и в новые, захлестнувшие его дела.
Подписчикам рассылалась мартовская книжка журнала «Современник» за 1861 год, высказывавшая мысли, которые Менделеев, как мы уже знаем, полностью разделял.
«Мы ценим ученость, – писал журнал в безыменном обращении к читателю, – и глубоко уважаем людей, посвятивших себя науке, но думаем, что истинная ученость, cамая глубокая, может привести человека к тому убеждению, что единственно прочное благо на земле – тем или другим способом служить человечеству, что… ученые, занимающиеся постройкой великолепных систем и забывающие при этом о деятельности на пользу своих меньших братий, представляют собою безжизненных Вагнеров[22], бесплодно тратящих время на штопанье дырок всего мироздания.
Уж слишком отрывочна жизнь и вселенная,
К профессору немцу пойду непременно я,
Верно, ее не оставит он так:
Системы придумает, даст им названия… Шлафрок надевши и старый колпак,
Он штопает дырки всего мироздания.
Итак, читатель, побольше и побольше любви к человечеству, особенно к тому, которое мы привыкли считать за двуногих, не имеющих с нами ничего общего. В этом состоит венец истинного знания и истинной мудрости…»
Ближайшим выражением любви Менделеева к народу в духе облеченных в шутливую форму, но по существу глубоко серьезных призывов «Современника» явилось то, что он взвалил на себя новый груз обязанностей, которые принял от умиравшего от чахотки руководителя кафедры технологии в Петербургском университете, талантливого ученика Воскресенского, профессора Михаила Васильевича Скобликова. Этот груз состоял не только в чтении лекций, но и в редактировании задуманного Скобликовым обширного курса общей технологии. В основу его Скобликов положил немецкое руководство.
В 1862 году вышел в свет первый выпуск «Технологии», посвященный производству муки, хлеба и крахмала. От первоисточника там осталось только название.
Курс был написан заново, с примерами из русской действительности. Издатели в предисловии извещали, что «в настоящее время общее заведывание переводом и дополнениями технологии… принял на себя доцент С.-Петербургского университета Д. И. Менделеев. По его предложению первоначально мы издаем те отделы, которые имеют наибольшее практическое значение в России, а именно, отделы, касающиеся разработки сельско-хозяйственных продуктов».
В глазах Менделеева преподавание, составление теоретического курса, переделка прикладного руководства для практиков не были разными делами.
Он явно не принадлежал к числу «безжизненных Вагнеров» и никогда не делил науку на высшую – «чистую», «теоретическую», и второсортную – «прикладную». Он знал лишь науку и ее приложения.
В редкие свободные вечера – много ли их могло остаться от подготовки к лекциям, от лабораторных занятий, от редактуры!-он устремлялся в единственный близкий ему в Петербурге дом. С окончанием срока ссылки мужа в столицу переехала сестра Ольга, которая была замужем за декабристом Басаргиным. Здесь, словно ненароком, Менделеев встречался с вдохновительницей своих швейцарских посланий, уже окончившей институт Феозвой Никитичной Лещевой. Ольга Ивановна считала, что брату не пристало ходить в неприкаянных холостяках, и она делала все, чтобы ускорить налаживание давно облюбованного ею союза. Дмитрий Иванович тем охотнее позволял собою руководить в этом щекотливом предприятии, что не доверял показаниям собственных чувств. Когда Феозва была где- то вдали, он мечтал о ней с нежностью и страстью. Но стоило молодым людям хоть немного побыть наедине, как между ними проскальзывал пронизывающий холодок отчуждения.
Во всем он винил себя. Он не владел искусством непринужденного общения с людьми. Для этого нужно было, вероятно, обладать большим душевным досугом, уметь легко отрешаться от тягот повседневности. А он, куда бы ни попадал, всюду оседал и располагался со всем своим тяжеловесным скарбом неизбывных забот. Мысли его никогда не могли полностью оторваться от очередного неоконченного дела, от задуманного опыта. А дела никогда не кончались, планы набегали друг на друга, как льдины в ледостав.
Он осторожно пытался посвящать Феозву в свои заветные мысли. Она выслушивала его с такой бездумно-вежливой внимательностью, что он задыхался и умолкал, а она принималась за свое вышивание. Ему казалось, что он читает в ее взгляде молчаливый укор. Он не знал, к чему его отнести, и не знал, как о таких вещах спрашивать. Были ли ей непонятны его думы или неинтересны его занятия? В действительности дело обстояло гораздо хуже. Она не допускала и мысли, что это и есть главное содержание его жизни, вот это самое, что он так неудачно пробовал перед ней раскрывать.
Если бы он успел ей досказать, что мучительную, невыгодную, оплачивавшуюся грошами работу по созданию новой «Технологии» он предпринял потому, что, по его мнению, это нужно было для пробуждения в России промышленности, она только широко и недоуменно открыла бы свои красивые карие глаза. Люди почему-то считают себя обязанными окутывать самые простые вещи целыми облаками пустых слов. В ее прекрасных глазах действительно мелькала тень досады: он никогда не хотел ради нее отказаться от множества ненужных слов, которыми сопровождал и свои удачные и свои неудачные поступки. Она не могла уловить в его словах то, что должно было касаться только их одних, их будущей семьи, – ведь недаром же он тянется к ней, делит с ней ее долгие часы досуга. Все люди, как она думала, во имя своего главного, по ее мнению, жизненного дела – устройства семьи, воспитания детенышей-наследников – вынуждены носить какую-то личину, которую они считают для себя наиболее удобной и право на которую окружающие за ними признают. Один принимает для этого обличье
чиновника, другой – адвоката, третий с профессорской кафедры распространяет скуку познания среди нового поколения. Ее всегда тяготили занятия в институте острым ощущением своей никчемности. Учителя отбывали ежедневную тоскливую обязанность. Они задавали уроки «от сих до сих» и требовали, чтобы она запоминала имена давно почивших в бозе императоров, произносила названия никому не нужных рек, извивавшихся на карте, как расщепившиеся шелковинки, пуговок – городов, формул, которые ей-то наверняка, а может быть и никому, не понадобятся. Во всяком случае, учитель не мог об этом сказать ничего определенного…
Ольга Ивановна находила, что ее замысел развивается успешно. Помолвка произошла. Менделеев виделся с Феозвой Никитичной чаще, чем раньше. И он никак не мог понять, чем завтрашний день должен отличаться от сегодняшнего, откуда ждать той полноты радости, которую должно было бы обещать начало совместной жизни с любимым человеком.
Он написал Ольге отчаянное письмо – она уезжала по каким-то хлопотам в Москву. Он выносил на ее суд все свои сомнения и тревоги. Сестра ответила ему, что жизнью нужно управлять рассудком, а не плыть по течению чувств. Письмо начиналось с увещеваний, а кончилось упреком: «Вспомни еще, что великий Гёте сказал: «нет больше греха, как обмануть девушку». Ты помолвлен, объявлен женихом, в каком положении будет она, если ты теперь откажешься?»
Менделеев сдался. За исключением того, что они оставались и во время помолвки безнадежно чужими друг другу, у него не было никаких возражений против предстоящего брака.
Свадьба состоялась в 1862 году, и молодые отправились в свадебное путешествие.
Подробности первых лет семейной жизни Менделеева не вполне ясны. Известно только, что Феозва Никитична на третий год замужества пережила две радости: вскоре после рождения сына, названного Владимиром, Дмитрий Иванович объявил, что его приятель, профессор технологического института Ильин предложил ему разделить с ним покупку у разорившегося князя Дадиани маленького именья Боблово около Клина и что он принял это предложение. Если бы Феозва Никитична меньше надежд связывала с этим последним событием, горечь разочарования, которую ей пришлось испытать, была бы менее острой…
X. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
Дмитрий Иванович Менделеев был четырнадцатым ребенком в семье, младшим сыном. Одна из его старших сестер, Екатерина Ивановна Менделеева, вышла замуж за управляющего Томской Казенной палатой Капустина, уехала в Томск и в 1859 году овдовела, имея на руках большую семью. Менделеев помогал сестре. Весной 1867 года он посоветовал ей совсем перебраться из Томска в Петербург для воспитания детей, а по пути приглашал в Боблово. Приглашение было принято с радостью, и вся семья Капустиных – мать, ее три сына, три дочери и внучка – поселились у Дмитрия Ивановича до осени.
Прошло много лет, дети выросли, и одна из племянниц, Надежда Яковлевна Капустина (Губкина), оставила «Воспоминания о Дмитрии Ивановиче Менделееве»[23] изданные ею после его смерти в 1908 году, вместе с некоторыми письмами его матери, отрывки которых нами уже приводились, а также братьев и сестер, в виде своеобразной хроники семьи Менделеевых. В ее собственных воспоминаниях, подчас наивных, но всегда теплых и дружественных, подкупает искренность и чистота преклонения сначала девочки, затем девушки и, наконец, прошедшей большой жизненный путь женщины перед кумиром, каким для нее всегда оставался Дмитрий Иванович.
По следам Гёте тенью ходил его секретарь, верный Эккерман, который с педантизмом фанатика заносил в специальный журнал описания всех деяний, совершенных его великим патроном, изъяснения всех слов, им произнесенных. Надежда Яковлевна Капустина могла бы быть менделеевским Эккерманом, и ее свидетельства явились бы неоценимым подспорьем историка, если бы она хоть отдаленно понимала, что делал Менделеев за пределами крошечного по сравнению с большим миром, в котором он так жадно жил, мирка семьи; и если бы Надежда Яковлевна имела хоть малейшее представление о том, как нужно документировать исторические факты. Нужно быть благодарным ей и за то, что ей удалось сделать. Но каково же огорчение биографа, который наталкивается на обрывки «мыслей и мнений» Менделеева, в святом неведении выхваченных Надеждой Яковлевной из каких-то бесконечно более драгоценных записей разговоров и встреч. Эти лоскутные «мысли и мнения» она с трогательной старательностью опубликовала пестрыми пачками, без связи с происходившим, без указаний дат, без ссылок на поводы, которые их вызвали к жизни!..
Вместе с тем она оставила несколько безыскусственных зарисовок жизни в Боблове, какой та запечатлелась в памяти двенадцатилетней девочки. Она начинает их с описания старинной вязовой аллеи в глубине обширного парка из вековых дубов, кленов, развесистых берез и сторожевых елей, скрывающих дом на Бобловской горе. Тарантас, который везет ее в Боблово, сворачивает с аллеи на мостовую двора усадьбы, и навстречу ему с крыльца сбегает «высокий и бодрый, немного сутуловатый человек в серой куртке, с русой бородой и длинными развевающимися над высоким лбом волосами». Этот высокий человек – Менделеев. Ему тридцать три года. Его двухлетний сын Володя уже хорошо говорит и бойко бегает.
«Дмитрий Иванович был не только нежный, но и горячо любящий отец. Как бы он ни был занят, но если он слышал крик или плач ребенка, он бросался с места, прибегал испуганный, кричал громко и резко няне: – В чем дело? В чем дело? – и очень ласково и нежно говорил мальчику: Володичка! Что ты, об чем?..»
На следующий день Надя увидела жену дяди – «маленькую, грациозную женщину, уже немолодую» (она была на шесть лет старше своего мужа). Но «душой дома был Димитрий Иванович», в его «серой, неподпоясанной широкой куртке, в белой… соломенной шляпе, с… быстрыми движениями, энергичным голосом, хлопотами по полевому хозяйству, увлечением в каждом деле и всегдашней лаской и добротой к нам, детям…»
Она знала, что Дмитрий Иванович ученый и профессор и что он химик. Но, по ее собственному признанию, ей тогда это не казалось ни интересным, ни важным. «А было важно и интересно, что Дмитрий Иванович так любил поля, лес, луга».
В Боблове было еще одно существо, которое относилось к Менделееву точно так же и выражало это с той же непосредственностью двенадцатилетней девочки. Это была его немолодая жена.
Она наслаждалась безмятежным счастьем в своем, отгороженном от всего света, углу. Счастье заключалось в том, что ей никто не был нужен и она никому не была нужна, кроме своих близких.
В имении было мало пахотной земли, и она вся была занята опытным полем. Как вспоминает племянница, Дмитрий Иванович на своем гнедом жеребце часто ездил осматривать это поле. «При этом иногда бывало, что я, маленькая ростом и худенькая, но бойкая, оказывалась, по приглашению дяденьки, сидящей с ним вместе верхом на лошади, впереди его казацкого седла. И счастью и гордости моей не было конца».
Иной раз, когда он уходил перед вечером поглядеть на возвращающееся стадо, его провожала жена. Они останавливались у низкого частокола, за которым колыхалась тугая рожь. В молчании Феозва упивалась медовым дыханием полей, переливами вечерней песни какой-то пеночки, – для нее все птички были пеночками… И сколь же разными были их думы!..
***
Опыты Дмитрия Ивановича давали богатые плоды. Юная бытописательница бобловской жизни вспоминала, как однажды во двор к Дмитрию Ивановичу пришли несколько мужиков по какому-то делу и, кончив его, спросили:
Скажи-кася ты, Митрий Иванович, хлеб-то у тебя как родился хорошо за Аржаным прудом… Талан это у тебя, али счастье?
«Я стояла тут же и видела, как весело и ясно сверкнули синие глаза Дмитрия Ивановича, он хитро усмехнулся и сказал:
Конечно, братцы, талан…
…Потом, за обедом, он, смеясь, рассказывал это большим и прибавил:
Зачем же я скажу, что это только мое счастье? В талане заслуги больше».
Его «талан» не был мертвым сокровищем, закопанным в землю. Он был пущен в мир и умножался несчетно, этот «талан» знаний и умелости. Во многих, более поздних, высказываниях Менделеева и в его докладах в Вольно-экономическом обществе сельскохозяйственные увлечения той поры выявляются со всеми своими корнями. Маленькое бобловское поле для него самого было источником ответов на глубоко волновавшие его вопросы. Опыты, поставленные на этом поле, знаменовали начало его первых общественных экспериментов и выступлений. С этого он начал осуществлять свой заветный замысел продвижения науки в народнохозяйственную жизнь. В обрывках «мыслей и мнений», собранных в коробе воспоминаний Н. Я. Капустиной, есть одно, весьма примечательное, высказывание Менделеева, неизвестно, впрочем, к какому периоду жизни относящееся. Он говорил как-то о том, что в будущем труд крестьян, вооруженный знанием и техникой, будет разновидностью умственного труда…
Он искал в своих опытах опоры для протеста против рассуждений разнообразных последователей Мальтуса. Ханжествующий английский пастор не только возводил в непреложный закон нищету, которая душила огромную часть человечества, но предрекал еще большие беды от роста народонаселения, обгоняющего якобы рост средств существования. Надо подавить, ограничить, иссушить силу размножения, учил он, ибо число приборов на жизненном пиру строго ограничено и лишним места нет. Этот бред человеконенавистничества возмущал Менделеева не меньше, чем проповедь благостности страдания в земной юдоли во имя воздаяния в потустороннем мире. Хотя Менделеев не раз повторял, что от «лентяев и лежебоков все отнимется когда-нибудь, несмотря ни на что», однако он никогда не поднимался выше туманных благих пожеланий, никогда не достигал ясного понимания законов классовой борьбы, которым подчиняется жизнь общества и из которых единственно вытекало научное предвидение подлинно светлого будущего. Но искренняя и честная любовь к трудовому люду, которая в нем жила, внушала ему глубокую ненависть к проповеди блаженной и смиренной скудости, лицемерно призывающей многих голодных отказаться от своих человеческих прав во имя безраздельного довольства немногих сытых. На склоне лет он писал в своих «Заветных мыслях», что не хочет вдаваться даже в рассмотрение «слащавой мысли», что условием «блага народного» должно считать довольство первобытными потребностями.
«Не хочется мне этого делать по той причине, что, долго живши, я слышал речи подобного рода от лиц с очень сложными потребностями, больше всего от литераторов». Этому от всей души противилось ясное, молодое, менделеевское: «Чтобы все было!» Чтобы деток было побольше – «деток надо жалеть». Чтобы люди жили и обильнее и теснее, – «без тесноты людской не мог бы появиться ни Рафаэль, ни Стефенсон», – из глуши народных масс выкристаллизовываются таланты и гении, «что теснее, то дружнее». И обилие и тесноту можно совместить. Кто смеет утверждать, что убывание земного плодородия неизбежно? Мы не знаем, когда Менделеев говорил о крестьянине будущего, занимающемся умственным трудом, но мы наверняка знаем, что именно он под этим понимал. А он разумел под этим научное управление процессами увеличения производительности сельскохозяйственного производства, безграничное расширение пира жизни. Это та же мечта о превращении земли в благоухающий и плодоносящий сад, которую вынашивали в себе Чехов и другие лучшие люди старой России. Максим Горький вспоминал, как незадолго до смерти, устраивая свой домик в Крыму, Чехов говорил: «Как прекрасна была бы земля наша, если бы каждый на одном маленьком клочке сделал все, что он может…» Этой мечте о трудовом подвиге нехватало самой малости – точки приложения этого рычага, способного перевернуть мир, – того самого свободного клочка земли, на котором можно создать чудеса…
Менделеев не видел прямых путей передачи трудового уменья, воспитанного наукой, из одних рук в другие, из рук ученого – в чьи-то руки, которые смогут использовать все могучие средства покорения природы в полную силу. Чьи это руки? Где, когда они примут этот дар? Не по-менделеевски, не орлиным взором исследователя, а робко.
ощупью он будет искать ответы на этот вопрос. Но зато первую часть задачи он понимает в совершенстве. Выковать победоносное оружие своей науки он умеет, быть может, лучше, чем кто бы то ни было в его время. Он охватывает просторы знания шире, чем другие…
И вступая на путь сельскохозяйственных опытов, он был на своем коне. На незыблемую опору опытного знания он хотел поставить зревшее в нем убеждение, что «хлебная производительность… не достигла своего наибольшего возможного развития и с увеличением знаний может еще безгранично возрастать до возможности искусственного производства (заводским путем) питательных веществ» и что, следовательно, «проповедь… мальтузианцев… может иметь влияние… противное естественной разумности». Мнение это, которому он справедливо придавал большую важность, он имел уже право с полной уверенностью высказать в своей большой работе о своде российских таможенных тарифов 1891 года, откуда мы его и заимствуем. К тому времени он уже успел подкрепить его обширным материалом. К этому вели, в частности, и затеянные им бобловские сельскохозяйственные опыты.
Незадолго до смерти, приводя в порядок свой рабочий архив, он написал на полях рукописей, относившихся к сельскохозяйственным опытам шестидесятых годов: «Они важны для меня потому, что оправдывают все мое дальнейшее отношение к промышленности»; это была другая их сторона. На интереснейшем вопросе об отношении Менделеева к промышленности нам придется еще подробно остановиться, рассказывая о его участии в борьбе за развитие производительных сил родной страны. В данном случае он имел в виду совершенно определенную, обозначавшуюся в предпринятых им опытах связь между успехами земледелия и необходимостью развертывания такой существенной отрасли химической промышленности, как производство удобрений.
Он упоминал в своей речи в Вольно-экономическом обществе о первых опытах по выяснению роли удобрений в сельском хозяйстве[24]. Эти опыты служили прекрасным примером полезности коллективных усилий в науке, плодотворности споров, решаемых практикой. Они все вытекали из ясного понимания того, что сельскохозяйственное производство относится к тому особому кругу обмена веществ на земном шаре, который направляется сознательной творческой волей человека и входит, как новое звено, в общую цепь круговорота веществ в природе. Менделеев всегда говорил об этой идее в плане именно такого широкого обобщения. «Основным законом химии, – писал он, например, в своем отчете о поездке на Международную выставку 1867 года в Париже, – служит закон вечности материи, который гласит, что материя ни в одном знакомом нам процессе не создается и не пропадает, что она только подвергается разнообразным превращениям, но ее элементы не создаются и друг в друга не переходят. Эта истина, примененная ныне к растениям, дала те основы, которыми должны руководствоваться земледельцы при употреблении удобрений».
Юстус Либих был одним из первых, кто начал пробовать применять эти основы на практике. Неутомимый в удовлетворении своей любознательности аналитика, он исследовал вещества, которые содержатся в золе, остающейся при сжигании растений. Он установил таким образом, что озимая рожь вытягивает своими корнями из каждого гектара пашни около 40 килограммов фосфорной кислоты и до 75 килограммов окиси калия. Естественно, что у него сразу возникла мысль о необходимости возвращать земле соли, похищенные у нее урожаем, для восстановления, тем самым, ослабленной силы ее плодородия и о вероятной возможности повышать урожаи, создавая в почве избыточные запасы солей. Но Либих потерпел неудачу: одни только фосфорно-калиевые удобрения оказались не в состоянии поднять урожай.
Эти исследования довелось дополнить Жану Буссенго. Двадцатилетним юношей, окончив горную школу, Буссенго отправился в Южную Америку, чтобы стать под знамя Боливара, легендарного героя освободительных войн против испанских феодалов[25]. Переходя с места на место с армией повстанцев, в промежутках между боями Буссенго изучал распределение растительности в горах, состав газов, выходящих из расселин в кратере действующего вулкана, а также залежи чилийской селитры и перуанского гуано, которое местные жители примешивали к бесплодной песчаной почве, чтобы получать богатейшие урожаи маиса.
Вернувшись в Европу, Буссенго объяснил причину неудачи Либиха. Внесение в почву одной только золы не может обеспечить поднятие урожая, потому что в золе нет третьего элемента, прозванного когда-то «безжизненным»[26] и без которого на самом деле нет жизни, – в ней нет азота. Либих возражал: он ссылался на свои безупречные анализы химического состава десятков разнообразных почвенных образцов. Все они показывали, что азота в почве больше чем достаточно. Буссенго доказал, в свою очередь, что преобладающая часть этих азотных богатств почвы также недоступна растению, как вода, заключенная в кристалле, для желающего утолить жажду. Корни могут всасывать только растворимые в воде минеральные соединения азота – селитру, соли аммиака, которых в почве почти всегда нехватает. Озимая пшеница, например, ежегодно уносит с каждого гектара около ста килограммов усвояемого минерального азота. Буссенго доказал также, что растения не в состоянии питаться недеятельным свободным азотом из воздуха. Чтобы растение нормально развивалось, ему необходим навоз, который богат усвояемыми азотистыми соединениями.
Менделеев напомнил об этих начальных опытах, чтобы итти дальше. Вопрос о значении удобрений до тех пор был только поставлен и выяснен лишь в самых общих чертах. Нужны были новые подробные фактические данные. И «их надо собирать… по плану», – заявлял Менделеев. Он рассказывал о своих собственных опытах, в которых
испытывались им самим приготовленные подкормки земли. Он сам ездил по окрестным селам, скупал на свалках старые кости, золу, устроил костедробилку и обрабатывая костяную муку серной кислотой, добывал суперфосфат. Обожженная кость служила ему фосфорно-известковым удобрением. Он смешивал эти минеральные удобрения с навозом, испытывал их в разных пропорциях на горохе, на ржи. Он утроил урожай на своем опытном участке и видел, что это еще далеко не предел.
Многие ему «предрекали неуспех», как вспоминал он потом, но это, разумеется, его «еще больше возбуждало».
Он не считал свои выводы вполне и до конца «безучастными» (объективными, как сказали бы мы сейчас). Он настаивал на более широкой постановке исследований, чтобы можно было «превратить виденное в числа, которые добываются измерением». Он ясно представлял себе, что единичными усилиями громадную проблему, к которой он прикоснулся, не продвинуть. Он развертывал перед своими слушателями, на собраниях Вольно-экономического общества, заманчивую программу крупных исследований. Надо одновременно вести опыты в разных местах. Надо тщательно учитывать все их особенности: узнавать историю каждого опытного поля, производить анализы почвы и подпочвенных слоев, изучать метеорологические условия местности, наблюдать за развитием не только опытных растений, но и сорной растительности, научиться точно анализировать продукты урожая. Надо уметь гибко менять масштабы опыта: можно рассматривать то или иное явление сельскохозяй- ственного производства как бы при большом увеличении – это будет опыт лабораторный; в более крупном масштабе, с более широким охватом материала – это будет опыт вегетационный и, наконец, на полном развороте полевых испытаний.
Но кто восприемники этой программы, предусматривающей приложение соединенных, мы бы сказали сейчас-комплексных, усилий целой плеяды науки: и химии, и несуществующего еще почвоведения, и метеорологии, и ботаники, и физиологии растений? Его вдохновенным речам несколько скептически внимают просвещенные землевладельцы и восторженно горсточка научной молодежи, среди которой, впрочем, молодой Докучаев, будущий основатель мировой науки о почвах, исследователь русского чернозема, создатель системы лесозащитных зон, преобразующих земледелие степной полосы. Среди нее будущий великий русский ученый Тимирязев, которому предстоит показать применимость к анализу жизни растения законов физики и написать новую главу науки о круговороте веществ в природе, – главу о механизме поглощения растением четвертого, важнейшего, необходимого ему элемента-углерода. Из этого элемента растение, в основном, строит свои ткани, преимущественно его оно откладывает в своих плодах. Тимирязев решит одну из интереснейших загадок жизни – откроет изумительную естественную приспособленность растения к использованию энергии красной части солнечного излучения для разложения углекислоты – источника углерода, из которого растение строит свои ткани.
Может быть, для начала этого не так уж мало!
Появляются охотники предоставить для новыхопытов свои земли и средства. Менделеев отправляет Тимирязева в Симбирскую губернию, в имение князя Ухтомского. Там закладывается один из четырех – первых в России – опытных участков сельскохозяйственной науки[27]. Другие участники опытов – Яковлев, Капустин, Густавсон – «разъезжаются по другим поместьям, в другие края.
161
Пусть невелики будут полученные ими первые результаты. Менделеев понимает, что значение их не столько в них самих, «сколько в положенном ими начале опытного пути». «Главной пользы от наших опытов мы ждем только тогда, когда они будут продолжены», – говорит он с трибуны Вольно-экономического общества, обращаясь к будущему. Ему в высокой степени свойственно ощущение простора научных возможностей. «Если можно было дойти до производства тюльпанов желаемого цвета, то можно дойти и до производства из рябины – фрукта на славу по широте спроса, по вкусу и пользе, – продолжает он в лекции «Мысли о развитии сельско-хозяйственной промышленности». – Но к этому перескочить сразу нельзя, надо начинать – передовикам… Только тогда можно надеяться на открытие многого нового, неизвестного, а совокупность таких новостей может глубоко повлиять на науку и на практику сельского хозяйства. Наши главные породы культурных хлебов ведь все созданы давно-давно, разве один картофель поновее, а вероятно, что когда за дело примутся с за-пасом знаний, наблюдательности и настойчивости, найдутся неожиданности…»[28].
Здесь вновь углубляется то противоречие, которым отмечена его жизнь. Ведь эти его слова не могут относиться к тому будущему, которое он хотел бы провидеть, оставаясь со всеми своими передовыми идеями в плену жизненного строя царской России. В этом душном и косном мире жизнь, конечно, тоже будет итти вперед. По инициативе профессора А. Я. Зайкевича возникнут опытные поля в Харьковской губернии, правда, для того, чтобы вскоре закрыться из-за материальной необеспеченности. Будет снаряжена «Особая экспедиция для испытания и исследования различных способов и приемов лесного и водного хозяйства» под руководством В. В. Докучаева. Результатом ее явится замечательное научное обобщение-о существовании зависимости между климатом и культурной растительностью, хотя в отчетах этой экспедиции, как и в отчетах всех опытных станций, будет указано, что «намеченная программа на деле не была осуществлена вполне». Д. Н. Прянишников завершит здание теории круговорота азота в природе и в культурном обиходе человека. Тимирязев выступит со своими блистательными открытиями. Мичурин, в безвестном Козлове, не только из рябины создаст «фрукт на славу», но и передвинет юг на север, пересоздаст природу южных растений, сделав их произрастание доступным в несравненно более северных широтах…
Но в полном объеме ожидания Менделеева оправдались только тогда, когда народ сделался полновластным хозяином своей судьбы и сделал науку своим путеводным огнем.
А тогда, в 1867 году, для самого Менделеева поставленная им перед собой скромная задача была решена. Начатое дело было передано надежным преемникам. Перед ним открывались уже новые области кипучей деятельности.
Долгое время еще никто из его близких не понимал, что его жизнь вступала уже в новую фазу. Ведь за полетом его мысли, давно вырвавшейся за пределы бобловского мирка, никто из его обитателей не мог уследить, а внешне ничто не предвещало перемен. Так свет погасшей звезды еще долго несется в пространстве…
«Вот я гуляю с Димитрием Ивановичем за парком по оврагам, называемым Стрелицами, потому что поля между ними идут как бы стрелами… – продолжает вспоминать Надежда Яковлевна Капустина радости своей двенадцатилетней поры. – Я рву цветы, а он говорит мне их названия.
Он сорвал сам один красивый цветок с липким стеблем и мелкими малиновыми цветочками, и говорит:
– Это дрёма. Вот. не будешь спать, сорви и положи под подушку, уснешь.
И я не знаю, шутит он, или это правда…»
В имении появляется племенной скот, конная молотилка. Дмитрий Иванович играет в нее с увлечением ребенка, получившего новую забаву. Он присутствует при ее сборке и, конечно, никому не уступит права в первый раз опустить развязанный сноп в барабан. С неменьшим пылом он играет в крокет и увлекается так, что его не затащить домой, пока не кончится партия. «Я очень любила играть с ним в одной партии, – вспоминает Н. Я. Капустина свое золотое детство, – тогда всегда выиграешь. Он руководил планом игры, учил, как лучше целиться, и в азарте игры прилегал головой к земле, проверяя, верно ли наставлен молоток для удара о шар. Если темнело, а партия не была окончена, он посылал за фонарями, и мы при свете фонарей кончали игру».
Поля попрежнему источают медвяный дух. Пчелы, как всегда, жужжат над клеверами и носят к себе в свои домики янтарный взяток. Феозва Никитична, как и прежде, любит обходить усадьбу, опираясь на его руку. Какой он хороший здесь! Когда он останавливается в задумчивости, прислушиваясь к голосам природы, он словно вырастает из земли. Родной, домашний, уютный…
А он в то время был уже далеко, далеко…
Она радовалась увеличению урожаев, она гордилась тем, что он был хорошим хозяином. А на самом деле он был великим ученым.
Его тянуло в этот ужасный Петербург. Но пускай бы это только на зиму. Быть профессором – хорошо потому, что у профессоров большие каникулы. Пускай он там зимой поработает, но только для того, чтобы как можно скорее, с еще большей радостью, отдаться созиданию тихого благополучия семьи. Она нетерпеливо поджидала возвращения преуспевающего помещика Менделеева к своему растущему, умножающемуся добру. А для него эксперимент был закончен…
Надежда Яковлевна Капустина вскользь касается этой драмы в своих воспоминаниях, рассказывая о том, как «Димитрий Иванович за неимением времени оставил свои хозяйственные опыты в деревне…»
Душа дома покинула его.
Она ни словом не упоминает о том, как эту «измену» встретила Феозва Никитична. Но позволительно думать, что именно тогда трещина, которая всегда существовала в их интимных отношениях, превратилась в непроходимую расселину. И она уже не могла сомкнуться никогда…
XI. МЕНДЕЛЕЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ
В середине 1867 года Менделеев вошел в состав комитета, которому предстояло организовать русский павильон на Всемирной промышленной выставке во Франции. Он отбыл в Париж с поручением составить некоторые его отделы.
После того как главные хлопоты по оснащению выставочных стендов русского павильона были окончены, пояснительные надписи на всех языках составлены, гиды заняли свои места и выставка открылась, – для участников поездки наступили приятные дни отдыха и веселья. Когда схлынули первые дни оживления, во всех отделах наступило затишье. Редко-редко здесь пробегал случайный посетитель, чтобы кинуть невнимательный взгляд на сверкающие полированными частями локомобили и колонны, свитые из морских канатов, коллекции щеток всех фасонов и величин, фестоны из кружев, бочки с сухими красками и прозрачные куски канифоли. Кто был свободен от обязанностей обслуживания выставочных павильонов, устремлялся туда же, куда текли разноплеменные толпы богачей, съезжавшихся сюда со всего мира- на праздник нарядов, к ярким огням рамп парижских варьете.
Менделеев держал себя непохоже на всех. Уже тогда, когда официальные поручения были выполнены, он казался странно занятым, – даже более, чем раньше. Целыми днями он бродил по выставке, беседовал с представителями отделов главнейших стран, делал какие-то отметки в своей записной книжке. Он не чуждался вечерних увеселений, но большею частью пропадал неизвестно где. На самом деле он восстанавливал знакомства с французскими химиками, заводил с их помощью новые и, пользуясь любезными рекомендациями, ездил по заводам. Его спутникам невозможно было понять, зачем ему все это было нужно. Это отчасти разъяснилось, когда он вернулся в Петербург и выпустил в свет отчет о выставке. В этом причудливом отчете меньше всего было рассказано о самой выставке. Она являлась лишь предлогом для выступления, смысл которого был в чем-то ином. Отчет назывался так: «О современном развитии некоторых химических производств в применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года». Хотели этого издатели брошюры или не хотели, но даже в заглавии выставка отодвигалась на второй план, а на первом плане оказывались какие-то новые замыслы Менделеева, осуществлявшего, как могло показаться поверхностным наблюдателям со стороны, новый крутой поворот со своей определившейся было жизненной колеи на какую-то иную дорогу. Но кто подумал бы так, тот ошибся бы не менее жестоко, чем поспешивший увидеть в Менделееве доброго помещика.
Исследований деятельности Менделеева в отдельных узких направлениях не так мало. Но, к сожалению, слишком часто мы являемся свидетелями попыток проследить поступки и мысли нашего ученого лишь на каком-то коротеньком отрезке этого богатейшего жизненного пути. А затем, желая охватить взором весь этот путь целиком, его складывают, как мозаику, из отдельно обследованных частностей.
Между тем мало можно найти других примеров научной деятельности столь целеустремленной, столь органично развивавшейся, столь последовательной. Говоря о научной деятельности Менделеева, мы имеем в виду такие разные вещи, как исследования растворов, изучение сопротивления воды движению корабля, «Основы химии» и размышления вслух о том, где строить нефтяные заводы, потому что служение интересам науки и исполнение заданий практики в творчестве Менделеева были сплавлены и подчинены одному высшему закону – закону служения своему народу.
Менделеев стремился к насаждению в России «большой» принципиальной науки, к развитию высокой теории, представляющей крайнее обобщение наших представлений о материальном мире. Без этого бесконечного стремления к познанию все новых и новых неизведанных сторон природы наука теряет способность постигать наиболее существенные черты действительности, более глубоко проникать в сущность фактов, охватываемых научным познанием, чем это можно сделать, изучая отдельные детали предмета. Но если она замыкается сама в себе, превращается в «науку для науки», она теряет связи с той почвой, на которой выросла и окрепла. И в том и в другом случае она хиреет и чахнет. Приобретая звание «испытателя природы», настоящий ученый принимает на себя двойное обязательство: и перед наукой, которую он призван развивать, и перед обществом, которому эта наука должна служить.
Для менделеевского окружения эти истины еще требовали доказательств. Даже много лет спустя Менделеев вынужден был отмечать, что «при том отжившем и классическом отношении к знанию, которое господствует еще в общем сознании и часто даже в литературе, – теория противопоставляется практике; отличают резко и ясно теоретика и практика. Есть практики, которые говорят: мне нужна не теория, а действительность, и есть теоретики, говорящие: практика – дело мамоны, а мы служим богу, в практике надо угождать людям, а не делу. Словом, между теорией и практикой лежит, в уме множества людей, целая бездна».
Что же думает по этому поводу он сам? Его собственные мысли и здесь звучат, как гимн материалистическому познанию мира. «То «теоретическое» представление, – продолжает он, – которое не равно и не соответствует действительности, опыту и наблюдению, – есть просто или умственное упражнение, или даже простой вздор и права на знания не имеет. Знанием, в строгом смысле, можно назвать в настоящее время только то, что представляет согласие «теории» с «практикой», внутреннего человеческого бытия с внешним проявлением действительности в природе; и только с тех пор, как этот образ мышления в человечестве родился, начинаются действительные новые завоевания, людьми произведенные… С этого только времени начинаются и химические знания, даже и те механические, которые не представляют геометрическую или наглядную простоту умственного построения…» Здесь начинает жить любимый образ Менделеева: мост, переброшенный между теорией и практикой, по которому движение идет в обе стороны. Этот образ наполнен у него совершенно конкретным содержанием.
Нет никаких сомнений у Менделеева и относительно того, где именно практически появится арена этого плодотворного взаимодействия науки и практики:
«Только там наука будет любезна народу и станет через него развиваться, где промышленное развитие пустило глубокие корни. Именно поэтому, как служитель науки, ради нее самой, я пламенно желаю промышленного развития страны», – напишет он в 1891 году в своих комментариях к новым таможенным тарифам России, и, зная верность Менделеева однажды принятым убеждениям, мы можем провести прямую черту от этих взглядов к его юношеским воззрениям. Они отличаются друг от друга так же, как предварительный намек от законченного тезиса, – только степенью законченности выражения мысли, но не содержанием ее.
Новое – промышленное – развитие страны должно вылиться в капиталистические формы. Менделеев принимал это как историческую неизбежность, которую, однако, в его окружении пытались отрицать с самых разнообразных позиций. Дворянская реакция сплачивала свои силы для достижения главной цели, единственной, которой может задаваться уходящий класс, – осуществить очередное вынужденное отступление, в данном случае отступление от крепостного права, с наименьшими для себя потерями, сохранив в своих руках власть, основную массу и лучшую часть земель, сословные привилегии. Обостренное классовое чутье, заменяющее иногда ясное понимание законов общественного развития, помогало наиболее «дальновидным» и наиболее реакционным политикам правящего лагеря разглядеть за ростом промышленности оборотную сторону медали-неуклонное возрастание разоренных дотла, предельно обездоленных «свободных» рабов капитала, которым нечего уже терять и которые все могут приобрести, если только осознают свое место в борьбе и почувствуют свою силу. Идеологи помещичьей верхушки были бы совсем непрочь подзадержать «чумазого», а когда с ним удалось столковаться, они все же стремились оградить устои крупного землевладения. С другой стороны, еще ничтожное количество людей в среде демократии способно было понять и разъяснить сущность этого «наемного рабства при капитализме»[29], увидеть в пролетариате новую нарождающуюся общественную силу, которая способна стать творцом нового общества. Большинство ограничивалось тем. что осуждало, проклинало капитализм, а вместе с ним и тех, кто способствовал промышленно-капиталистическому развитию страны, в том числе и Менделеева, призывавшего к развитию заводского дела в России.
Конечно, не по гладкому пути приходилось бежать колеснице капиталистического прогресса в России, да и не колесница это была, а скорее убогий возок. Его нещадно встряхивало на ухабах феодальных пережитков, сохранившихся в стране.
Но это все были «неправильные корявости», – типичное менделеевское словечко!-которые требовали исправления, но ни в коем случае «не слащавого оплакивания минувшего». Способствовать в меру своих сил исправлению этих «неправильных корявостей» – вот в чем видел Менделеев свою задачу.
Для того чтобы отношение его к этому вопросу стало нам более понятным, нам придется вернуться в нашем повествовании несколько назад, к тому времени, когда он, написав «Органическую химию» и подготовив к печати первые томы «Технологии», остановился на большом жизненном распутье.
Потайную дверь в эту лабораторию чувств приоткрывает для нас дневник, который Менделеев недолго вел в 1861 году, в период своего возвращения в родную страну и вступления в большую жизнь. Биографы Менделеева до сих пор проходили мимо этого дневника с непонятным безразличием, и можно только порадоваться, что сейчас он извлечен из пыли забвения и хоть частично опубликован известной исследовательницей менделеевского литературного наследства Т. В. Волковой[30] и проф. С. А. Щукаревым[31].
Некоторые записи в дневнике сочувственно откликаются на события, разыгрывавшиеся в 1861 году в студенческом Петербурге. Дворянская реакция, ожидавшая только повода для наступле-
ния на очаги «крамолы» – университеты, выдвинула на пост министра просвещения одного из тех деятелей, которые, по летучему слову поэта, «хорошо продвигались вперед только потому, что легко шли назад». Первое, что заявил, вступая в должность министра просвещения бравый адмирал граф Путятин, было то, что он «не потерпит бесплатного обучения в университетах». Плата за обучение была круто повышена, с тем чтобы выкинуть за борт множество выходцев из среды разночинцев, многим из которых не на что было даже выехать из Петербурга. Наступал год приостановки «Современника», закрытия воскресных школ, бурных студенческих волнений. Менделеев писал о них в своем дневнике как о начале «истории встающей России». Он обвинял «неспособных представителей правительства»: «Они нагоняют войско, они хотят крови…» Между тем начались массовые изъятия студентов, настолько широкие, что на стенах крепости, куда бросали арестованных, чья-то смелая рука с полным основанием написала: «Петербургский университет»…
Занятия в университете фактически прекратились. Менделеев принял предложение профессора А. К. Рейхеля съездить на несколько недель в местечко Кошели Боровичского уезда, где находился рейхелевский завод сухой перегонки дерева. Отлично оснащенный завод работал из рук вон плохо.
Менделеев приехал на завод и нашел там новенькое оборудование, о котором он отзывался в своем дневнике с нежностью, как бы мысленно лаская его. Небольшие изменения режима работы, которые он тотчас же ввел, неузнаваемо изменили ход технологического процесса. Пришлось установить непрерывность некоторых операций, чтобы устранить тем самым длительные периоды «раскачки». Все это было легко, доступно и просто. Со знанием дела можно было бы любой подобный заводик играючи превратить в превосходное передовое предприятие – образчик для всех других. Менделеева подмывало самому приложить руки к такому же вот, собственному, практическому начинанию. На нем можно всем показать пример! Другие пойдут за ним! А при удаче можно размахнуться куда как широко – силушки достанет…
Это один из возможных путей…
Многие однокашники Менделеева пошли по этому скользкому пути. И одним из первых свернул на него старый друг и сожитель Менделеева по вольной студенческой каморке на «Петербургской стороне за табачной лавочкой» – професор механики и директор Петербургского технологического института Иван Алексеевич Вышнеградский. Это он, впервые в России, читал в Пассаже прогремевшие в конце пятидесятых годов публичные лекции о машинах. Ему довелось, впервые в России, поставить задачу упругости, которая включает в себя как частный случай почти все вопросы сопротивления материалов. Это он был инициатором введения понятия устойчивости в исследование движения машин, и его идеи в этой области развивали впоследствии Жуковский и Ляпунов. Он – строитель Охтенского порохового завода. И он же был азартным биржевым игроком и устроителем акционерных обществ.
В числе учредителей Московского промышленного банка мы встречаем имена профессора минералогии Г. Щуровского, известного зоолога А. Богданова, математика А. Давидова – их всех и многих, многих других затронула волна приобретательства…
Менделеев решительно отказался от этого пути. Об этом свидетельствует примечательная запись в его дневнике под датой нового – 1862 года, который он встречал на заводике Рейхеля:
«Январь, 1 час. Я вышел на улицу, или, вернее, к реке. Полная луна, снежная дорога, кругом лес. тишь, холод. Все это хорошо действует на меня. Мне полегче стало, а то было тяжко одному. Не в том дело, что пришло 12 часов на 1-е января, дело в том, что готовящийся год должен определить и мою судьбу. Времена тяжелые для старого, все трепещешь пожить новым, отовсюду слышатся небывалые, или мне незнакомые голоса, все требует замены. Хочется стать к народу поближе. Это нынче модная фраза, да ведь я не модник. Нет. мне прямо вольно с ним, с этим народом-то, я и говорю как-то свободней и меня понимает тут и ребенок. Мне весело с ним, к ним душа моя лежит. И моя доля должна выясниться в этот год. Ведь написать органическую химию мне стоило своей доли, а теперь хочу еще технологию писать, неорганическую химию – так выскажешься почти весь в отношении к химии – не пора ли тогда и покончить с ней. Не завести ли завод?» [32]
Вопрос поставлен прямо. И дальше – замечательные слова, открывающие все благородство и силу духа, писавшего их человека. Нет, он не продаст дорогую ему науку за чечевичную похлебку! Он пишет:
«Такие мысли приходят часто, но часто и гонишь их прочь. Не то мое назначение. Уже вижу, что могу привлечь к себе… своим знанием и малым интересантством-так бросить это вспаханное поле? Что за грабительство будет тогда в моем душевном хозяйстве».
Он сделал окончательный выбор в ту новогоднюю ночь. Он все сохранил, он все сберег, что ему было дано. Он не разменял заветный «талан» на мелкую монету дешевого успеха, легких достатков.
В этой маленькой новогодней записи отражены все его лучшие чаяния, здесь зародыш многих планов. Здесь он высказался весь. Он выбрал, и от своего решения он не отступил. Вокруг него продолжала бушевать вакханалия темных страстей, но все эти волны прокатывались мимо, не задевая его. Ни одна грязная сплетня не прилипла к этому имени. А ведь Менделеев лучше, чем кто бы то ни было, знал, как зарабатывать деньги, – и какие деньги!
Он был одним из немногих людей в России, точно осведомленных, где именно спрятаны золотые жилы, какие именно потребности хозяйственной жизни вызовут повышенный спрос на те или иные продукты, куда стоит, а куда не стоит вкладывать капитал.
Менделеев в состоянии был бы спроектировать, построить и пустить по первому классу любой завод. Множество людей вокруг него наживало себе на его советах целые состояния. А он сам не использовал ни одной из тысяч подвертывавшихся ему возможностей успешной погони за богатством.
Менделеев охотно принимал в свою лабораторию заказы на химические анализы для промышленности. Но если он и брал за это плату, то она служила лишь обычным возмещением чисто научного, специального труда, причем доставались эти средства главным образом помощникам в виде дополнения к чересчур скромным университетским окладам. Менделеев сам издавал свой новый учебник «Основы химии», и прибыль от его переизданий составляла главный доход семьи – это опять-таки была справедливая и скромная плата за собственный труд. Но продавать свое имя! Нет, об этом не могло быть и речи. Оно принадлежало не ему, а его народу, его родине. Ни одна сомнительная сделка не должна была его запятнать. Он имел полное право написать, на склоне лет, министру финансов в своей просьбе о помощи семье: «…мой голос в свое время слышали в сферах, как административных, так и предпринимательских. Последним я лично помогал не только советом, но и на практике, хотя всегда отказывался от принятия участия в их выгодах, так как знал, что у нас это повело бы к ослаблению возможного влияния… и мои мысли не ограничивались узкими рамками какого-либо отдельного предприятия, хотя бы Кокорева или Губкина, Рагозина или Нобеля, куда меня в свое время старались привлечь…»
Его руки должны были быть свободны для того, чтобы указывать путь другим. Все должны были безоговорочно верить, что им движет не слепая корысть, а стремление расширить поле приложений всемогущей науки. Все могут притти к этому роднику, всем дозволено зачерпнуть из него живительную влагу знания. Пусть никто еще не умеет этим
сокровищем как следует распорядиться. Пусть новые дельцы напоминают старую сказку о цыгане: его сделали королем, а он украл сто рублей и убежал… Ну что же, придут другие, более достойные. Его дело – дело служителя – всюду славить чудесный ключ и поддерживать его чистоту…
Он был неизменно счастлив, когда его звали за советом. Помогать своими знаниями всем, кто в них нуждался, и в первую очередь, с особой ревностью, государству – это его счастливый долг, его почетнейшая обязанность, его священное право. Он никогда не отказывался ни от одного государственного поручения. Любое, даже самое скромное, задание министерства финансов, министерства государственных имуществ, военного он выполнял с такой же обстоятельностью, как и любое свое научное исследование. С этими заданиями были связаны, кстати сказать, его самые интересные поездки по родной стране и по другим государствам.
Советовать – это был его «своеобычный» способ вмешиваться в государственные дела, в хозяйственную жизнь страны. Это была его «третья служба родине»[33].
Вот почему отчет Менделеева о международной выставке в Париже не был, собственно, отчетом о выставке. Это был своеобразный посольский доклад. Никто не давал никаких верительных грамот новоявленному послу, и никто их с него не требовал. Он сам взял на себя полномочия представительствовать несуществующую еще русскую индустрию, и, вернувшись, он рассказал то, что видел и какие выводы из виденного надлежит сделать.
Книга, которую он опубликовал в связи с выставкой, представляла выдающийся интерес, и влияние ее сказывалось долгие годы.
О самой выставке Менделеев высказывался в ней вскользь и отзывался достаточно пренебрежительно. Главным содержанием книги были впечатления его поездок: одной – по французским и немецким заводам, и другой – на нефтяные промыслы Кавказа.
XII. «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» МЕНДЕЛЕЕВА ДОСКАЗАНА
Менделеев так писал свою книгу «О современном развитии некоторых химических производств применительно к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года», чтобы суть изложения мог уловить человек, совершенно не посвященный в секреты химии. Он подбирал для описания различных производств на французских заводах самые простые, обиходные слова, понятные всем. Это было не просто популяризацией знаний,-это было раскрытием секретов ремесла, обычно ревниво скрываемых специалистами под мудреным шифром наукообразных терминов;
Особенно подробно Менделеев останавливался на производстве соды по способу Николая Леблана. Он преследовал этим важную цель. По методу Леблана твердую поваренную соль сначала подвергают действию крепкой серной кислоты. При этом получается сернокислый натрий. Полученный «сульфат» прокаливают с известняком и углем в цилиндрических вращающихся печах – барабанах. Образовавшийся сплав выщелачивают водой. Из раствора, после упаривания, выкристаллизовывается сода.
Менделееву этот процесс казался особенно интересным тем, что объединял ряд важнейших химических производств. Он мог служить, таким образом, отличной школой химической технологии. В самом деле, для получения сульфата нужна серная кислота; для добывания ее требовалась, в свою очередь, азотная кислота. В процессе получения сульфата выделялась соляная кислота. Ее можно перерабатывать в хлор и белильную известь. Обыкновенную кальцинированную соду можно, с помощью извести, частично превращать в каустик (едкий натр). Завод по обжигу известняка для получения извести – еще одно вспомогательное производство, которое, наряду со всеми остальными, может иметь и самостоятельное значение.
Все свои советы заводить новые производства Менделеев подкреплял справками о выгодности этого дела, подсчетами возможных прибылей, указаниями на обилие естественных запасов сырья для новых заводов в родной стране. Разве не горько сознавать, что, владея неограниченными запасами соли, известняка и медных колчеданов для добывания серной кислоты, Россия оставляет все эти богатства лежать без движения, в земле, в то время как для получения того же поташа сводились на корню вековые леса. Лес варварски сжигался на месте, лесные великаны обращались в горсть праха – в золу, из которой вымывали содержащиеся в ней углекислые соли калия, чтобы варить на них мыло.
Тут же Менделеев описывал новый способ производства соды, предложенный в 1861 году бельгийцем Сольвеем.
Он не удовлетворился описанием французских и бельгийских заводов и ненадолго съездил в Германию. Перед ним мелькали знакомые картины: аккуратно разграфленная на квадратики цветущих изгородей плоская Вестфалия, коричневый, мутный Рейн с узкими барками и длинными пароходами, сумрачная громада собора, выплывающая из тумана каменной молитвой к небу… Он стремился в Саксонию, в Страсфуртские копи, где только что начали добывать калийные удобрения: хлористый и сернокислый калий – соли, содержащиеся в минералах каините и шёните. Эти минералы обнаруживались в тонком слое породы, прикрывавшем большие соляные залежи. Пока добывалась одна только поваренная соль, калийные соли сбрасывались в отвал, как отбросы. Только недавно они были признаны «благородным сырьем». Этим залежам Менделеев даже слегка позавидовал: ведь это были единственные известные ему за рубежом запасы сырья, относительно наличия которого в России нельзя было сказать ничего определенного. Мы знаем, что так было только потому, что их еще никто не искал среди несказанного разнообразия русской природы…
Даже известные издавна естественные богатства русской земли, и те в полной мере не осваивались… Тут Менделеев переходил к впечатлениям от своей поездки в Баку.
Следуя вдоль песчаных берегов Каспийского моря, путешественник попадал на маленький Апшеронский полуостров, где еще уцелели среди песков развалины древних храмов огнепоклонников. Здесь когда-то пылали неугасимые светильники, наполненные тяжелой черной нефтью, и другие, в которых неяркое пламя питалось горючими газами, отведенными из трещин в земле. Кое-где нефть проступала наружу, пропитывая пески. Колодцы в этих местах наполнялись соленой водой, поверх которой плавала нефть. Местные жители с незапамятных времен добывали из таких колодцев нефть и соленую воду, вынимая их наружу кожаными мешками. Нефтеносные земли эти принадлежали казне, и она сдавала нефтяные колодцы откупщикам. Предприниматель «откупал» за определенную сумму тот или иной участок на четыре года, потом колодец снова шел с торгов в новую аренду. Откупщики торговали нефтью, как и сотни лет назад. Ее возили к пристаням или вьюками в кожаных мешках – бурдюках, или в бочках, погруженных на тележки с громадными колесами, не увязавшими в песках.
Менделеев побывал на нефтяных промыслах по приглашению московского купца В. А. Кокорева, который завел было в Баку маленький заводик для отгонки из сырой нефти «гарных масел» – масел, используемых для освещения. Одно из таких масел он назвал «фотонафтилем». Вскоре американцы стали ввозить тот же «фотонафтиль» под названием «керосена», или «керосина». Керосин охотно раскупался в больших городах, но дальше не шел, потому что был непомерно дорог. Американский – потому, что облагался высокими пошлинами на месте своего производства, русский – потому, что система сдачи колодцев на откуп душила развитие промыслов. Не имело смысла вводить какие бы то ни было усовершенствования в первобытные способы добычи нефти. На протяжении короткого срока откупа дорогостоящие нововведения не могли бы себя оправдать, а цена аренды на очередных торгах на лучше оборудованный участок, естественно, вздымалась. Поэтому нефть добывали по-старинке и друг перед другом соперничали лишь в утеснении промысловых наймитов. Кокорев попросил Менделеева посмотреть, можно ли найти способ удешевления добычи и перевозки нефти без больших затрат, а буде этого сделать нельзя, он его уполномочивал закрыть невыгодное дело.
Менделеев проехал по нефтеносным землям по следам недавней поездки академика Абиха, обследовавшего Апшеронский полуостров. Абих со скукой описывал скудную растительность пустынной местности, с ее отравленными нефтью песками. Он предрекал этому неприютному краю близкое и окончательное запустение. Очень скоро нефть, сосредоточенная у поверхности земли, будет вычерпана из неглубоких колодцев. Продолжать же их бессмысленно, потому что их производительная сила уменьшается с глубиной.
Возможно, что эти домыслы были плодами добросовестного заблуждения достопочтенного геолога. Однако они были впоследствии уже заведомо недобросовестно использованы в борьбе против менделеевских призывов широко развить нефтяное дело в России.
Менделеев тщательно обследовал состояние бакинских промыслов и деятельность кокоревского заводика в Сураханах. Это был одноэтажный каменный сарай с подслеповатыми оконцами. Посредине сарая стоял перегонный бак, в который загружалась нефть. Под баком находилась топка, в которой, по примеру храмов огнепоклонников, пылал газ, подведенный из ближайшей газоносной трещины. Газ этот образовывался из наиболее летучих составных частей нефти, испарявшихся в недрах земли, и присутствие его указывало, что, вопреки мнению
Абиха, главная масса нефти залегает в глубинах земли. Над пламенем газовой горелки нефть в баке подогревалась, при этом из нее испарялся сначала бензин, который выпускался на воздух, как никому не нужная и даже опасная примесь к фотонафтилю, а пары этого самого фотонафтиля, или керосина, охлаждались, сжижались, и жидкое «горючее масло» собиралось в бочки. Когда испарялся весь заключенный в данной порции нефти фотонафтиль, процесс останавливался, остатки нефти выгребались из бака, и он вновь загружался свежей нефтью. Менделееву сразу бросилось в глаза, что этот процесс можно значительно удешевить, непрерывно подавая в перегонный бак небольшие порции свежей нефти и постепенно удаляя оседающие на дно тяжелые остатки, «погоны».
Но наиболее дорого обходился, конечно, транспорт сырья и готового продукта. На арбах или в бурдюках нефть перевозилась к заводу. Тем же способом готовый фотонафтиль перевозился к морю. Для перевозки его морем и по Волге в центральную Россию нужны были бочки. Дерева для бочек на месте не было, и его приходилось откуда-то издалека привозить. Не проще ли было соединить промыслы и завод нефтепроводом, а заводы и пристани такими же трубами, по которым шел бы уже керосин? А еще более разумно не перерабатывать всю нефть на месте, в Баку, а гнать ее по нефтепроводу к морю и наливать там в наливные железные баржи, которые можно отправлять куда угодно. Нефтеперегонные заводы, в интересах страны, нужно строить в центрах потребления. Нельзя отождествлять переработку нефти с производством одного только фотонафтиля. Кроме него, должны использоваться и другие, более тяжелые, масла, пригодные, скажем, для смазки машин. Здесь они уничтожаются, как загромождающий производство отброс. Там они найдут себе хороший сбыт.
Менделеев убеждал Кокорева не оставлять начатого дела. Наоборот, надо все силы приложить к его улучшению. Но успех требует «многих разных мер и условий», между ними надо избрать «одну, наиболее важную». Так Менделеев объяснял впоследствии в своей брошюре «Где строить нефтяные заводы?», выпущенной во время его серьезнейшей размолвки с нефтяными королями, почему он вначале настаивал в первую очередь на отмене главного тормоза для развития нефтяного дела, – на отмене откупов.
Он отправился к министру финансов Рейтерну и, как лицо незаинтересованное, стал его убеждать в выгодности для казны отмены откупной системы. Рейтерн толковал свое положение главы министерства финансов как должность первого ключаря царствующего дома. Скромный, но устойчивый доход с откупов представлялся ему уже прирученной синицей, а проблематичные сборы с каждого пуда нефти, как это предлагал Менделеев, казались ему журавлем в небе. Менделеев утверждал, что вместо одного-двух миллионов пудов легко довести добычу нефти до сотен миллионов пудов и, вместо того чтобы ввозить американский керосин, вывозить за границу свой собственный. «Это ваши профессорские мечтания», – перебил его Рейтерн, и Менделеев в ярости покинул министерство. Он никогда не мог простить Рейтерну этой реплики и так часто о ней вспоминал, что этим самым прославил ничем иным не замечательного министра.
Против откупов он бурно протестовал в своей лекции, прочитанной в 1866 году в помещении Сельскохозяйственного музея по поручению вновь организованного Русского технического общества. Это было вскоре после того, как А. Н. Новосильцов открыл новые нефтяные месторождения еще и на Кубани.
Резче всего Менделеев обрушился на откупа именно в своем выступлении по поводу Всемирной выставки в 1867 году. «Откуп парализует правильный ход нефтяной разработки, – писал он, – а, следовательно, и все нефтяное дело…» Он предупреждал: «Уничтожив откуп, не должно наложить на нефть тотчас большого акциза. Нужно дать этому делу сперва укорениться… чтобы привлечь к нему, а не оттолкнуть капиталистов».
Откуп на нефть, по призыву Менделеева, был отменен, и нефтеносные участки были распроданы в частные руки лишь в 1872 году. Рейтерн оставался при этом верен самому себе и, на всякий случай, наложил на нефть настолько высокий акциз, что русский керосин по цене с трудом мог соперничать с американским, хотя и значительно превосходил его качеством. Когда сказалось сильное отставание русской нефтяной промышленности от американской, встревоженный отнюдь, конечно, не слабым развитием производительных сил России, а недобором доходов в казну, Рейтерн вынужден был вернуться к советам Менделеева и просить его снова изучить этот вопрос, для чего, в частности, Русское техническое общество послало Менделеева в Соединенные Штаты посмотреть, как там поставлено нефтяное хозяйство.
Призывы Менделеева развивать другие химические производства (мы говорим «другие» потому, что на переработку нефти он смотрел именно как на химическое производство) тоже воспринимались очень туго. Осторожный Рейтерн в 1867 году лишь частично снял акциз с соли, идущей в химическое производство. Полностью этот акциз, тормозивший добычу соды, был снят лишь в 1880 году. И только в 1883 году, в Березниках, на реке Каме, вблизи от соляных промыслов и залежей известняка, промышленник Любимов построил первый в России крупный содовый завод, работавший по способу Сольвея. Менделеев не преминул, на одном из заседаний Русского химического общества, приветствовать инициативу основателя завода и отметить высокое качество производимой им соды. Вместе с тем он снова подчеркивал необходимость создания производства соды и по способу Леблана, открывавшему возможность выпуска и едкого натра, и соляной кислоты, и белильной извести. Он говорил о том, что в России не использованы грандиозные источники природного сульфата натрия – готового сырья для содовых заводов, и один из наиболее мощных – в заливе Кара-Богаз на Каспийском море.
Производство соды по способу Леблана возникло в России только в 1890 году на новом заводе П. К. Ушкова, по реке Каме, близ Елабуги. Завод производил сульфат, соду, едкий натр и белильную известь.
***
Трудно вместить эту кипучую деятельность в рамки короткого по необходимости рассказа. Тут неизбежны некоторые смещения хронологической последовательности биографических фактов. События теснят друг друга, и если мы хотим проследить наиболее важные в их развитии, со всеми их следствиями, мы невольно вынуждены на время отодвигать другие, быть может, не менее значительные.
Поездки Менделеева на нефтяные промыслы, на французские и немецкие химические заводы, его общественные и литературные выступления по этому поводу в сумме занимали меньше времени, чем, скажем, подготовка к докторской диссертации, а о ней мы еще не успели даже упомянуть. Между тем эта диссертация «О соединении спирта с водой», успешная защита которой в 1865 году принесла ему ученую степень доктора химии, явилась важным звеном, соединившим его юношеские работы с целой серией исследований растворов, в полном объеме их значения раскрываемых дальше.
К одной только области химии Менделеев потерял видимый интерес. Это была именно та область, которую у него изучали в университете студенты и в которой он проявил себя блестящим дебютом, написав в 1861 году превосходный курс «Органической химии».
С «Востока», как называли казанскую школу химиков, которую возглавлял ученик Н. Н. Зинина Александр Михайлович Бутлеров, засиял свет новой теории, озаривший путь органической химии на много десятилетий вперед. Бутлеров сделал следующий шаг с того самого места, на котором остановился в своем курсе Менделеев, и когда этот очередной шаг был сделан, оказалось, что все предшествующее развитие органической химии было лишь подготовкой, лишь «глубокой разведкой», а настоящее ее наступление на тайны природы начиналось именно теперь, с вновь завоеванных позиций. Менделеев это прекрасно понимал и готовился на это по-своему отвечать. Поняли это и за рубежом, прежде всего в Германии, чтобы тоже, по-своему, на это ответить…
Бутлеров вступил на научное поприще на пять лет раньше Менделеева. Окончив Казанский университет в 1850 году, он был оставлен «для приготовления к профессорскому званию». Ученую специальность ему предстояло избирать самому. Лекции по математике он слушал у Лобачевского, но выпускную диссертацию защитил на тему «Дневные бабочки Волго-Уральской фауны». Коллекция этих бабочек до сих пор хранится в зоологическом кабинете, а диссертация напечатана в «Ученых записках Казанского университета». Однако уже в магистерской диссертации, которую он защитил в 1851 году, определилось его призвание, внушенное Н. Н. Зининым: он разработал тему «Об окислении органических соединений». С этого времени он должен был учиться, уже обучая других. Это воспитало в нем потребность систематизировать свои знания и всесторонне продумывать экспериментальный опыт. В 1854 году он защитил докторскую диссертацию об эфирных маслах, осенью того же года был утвержден экстраординарным, а в марте 1858 года ординарным профессором химии. 1861 год был отмечен в анналах химической лаборатории Казанского университета синтезом нового вещества гексаметилентетраамина, широко известного под обиходным названием уротропина. Здесь же впервые в мире, в том же году, было искусственно приготовлено сахаристое вещество – метиленэтан. В Европе оба эти синтеза были воспроизведены лишь много лет спустя. Бутлеров говорил об этих результатах с довольной, но небрежной усмешкой. В нем горел юношеский задор: то ли еще будет! Ведь это были побочные, боковые выходы большого исследования, целью которого была проверка универсального ключа к любой самой сложной химической реакции… Ключа, выкованного здесь же!
Бутлерову очень хотелось знать: только ли здесь это удалось? Под этим ключом надо понимать новую теорию химии, а ни одна теория не возникает на пустом месте, она вытекает из фактов, имеющих всеобщее распространение. Он отправился в 1861 году в командировку по университетским центрам Европы. Блестяще образованный, безупречно владеющий многими европейскими языками, молодой русский встретил любезный прием и нимало не смущался покровительственным тоном разъяснений, которые получал в ответ на волнующие его вопросы.
Он посетил во Франции Вюрца и Дюма, в Германии он побывал у Кекуле, Кольбе, у Коппа, ухитрившегося, кстати сказать, в своей четырехтомной «Истории химии» ни разу не упомянуть имен Авогадро и Жерара. Все они единодушно признавали, что молодой химик из неведомой Казани отлично разбирается в сложнейших вопросах. Он спрашивал как раз о том, что очень хотели бы сами знать его знаменитые собеседники: нельзя ли в химической формуле прочитать не только состав молекулы, но и то, как она построена? И не может ли в этом помочь понимание индивидуального «химического влияния», которое оказывают друг на друга атомы различных элементов? Французы отвечали на это решительным «нет». Другие, как Август Кекуле. не проявляли такой решительности в отрицании, но отказывались и утверждать что-либо положительное. Кекуле уже приходилось размышлять над тем, как используют атомы для того, чтобы сцепляться друг с другом, образуя молекулу, свой запас «химического влияния», свою «атомность», как называли в то время силу атомных связей. Но он не придавал этим соображениям большого веса. Во всяком случае, в своих руководствах он не рисковал перейти от теории «типов» к рассмотрению поведения отдельных атомов в сложной молекуле. Бутлеров был поражен. Он вспоминал свое удивление в отчете о заграничной поездке, опубликованном в 1862 году в «Ученых записках Казанского университета».
«Все воззрения, встреченные мною в Западной Европе, представляли для меня мало нового»,-писал он. Далее он сдержанно, но ясно говорил, что казанская лаборатория опередила иностранных химиков. Поразившие их новости «сделались в ней общим ходячим достоянием и частью введены в преподавание».
Он ожидал найти у признанных мастеров химии смелость в постановке научных вопросов, но вместо этого он находил медлительность в выводах, обязанную своим происхождением не столько осторожности, сколько отсутствию воображения. Он порывался высказаться, но всякий раз его останавливало опасение, что возражения, высказанные в частной беседе малоизвестным русским исследователем, прозвучат неубедительно, хотя и приобретут впоследствии присущую им силу убеждения, пересказанные авторитетом. Это не имело бы никакого значения, если бы дело касалось самого Бутлерова. Но Бутлеров не верил, что какой-либо авторитет, из числа тех, с которыми он встречался, пожелал бы утвердить за Казанской химической лабораторией ее первенство в произнесении последнего слова химической науки. Каждое новое слово в науке рождается в определенной стране. Он хотел, чтобы это не было забыто, когда новое станет всеобщим достоянием.
Он собирался было отложить опубликование своих новых идей – таких простых, таких естественных и таких своеобразных, никем еще не сформулированных – до возвращения в Казань. Но обстоятельства ускорили развязку. В Шпейере в это время собрался тридцать шестой съезд немецких врачей и натуралистов. Бутлеров выслушал все доклады по химии, которые были вынесены на съезд, и в заключение попросил поставить и его сообщение «О химическом строении вещества». «Выступление Бутлерова было встречено холодно», – бесстрастно отмечает один из его биографов. На самом деле, Бутлеров очутился в атмосфере всеобщего недоброжелательства. Организаторы съезда готовы были вопить о неблагодарности: тот, к кому они отнеслись снисходительно, осмеливался поучать. Его терпели, а он заставлял с собой считаться!
А не считаться с ним было нельзя. Предложенная молодым русским ученым теория строения химических веществ не только с более широкой, с более объемлющей точки зрения объясняла совокупность существующих фактов. Она, как и всякая другая настоящая теория, предвидела новые факты. Проверка ее предсказаний должна была послужить либо к ее общему признанию, либо к ее отклонению. И факты свидетельствовали о ее неопровержимости…
Построения Бутлерова были холодно-логичны, и тем большую бурю они вызывали… Конспективное их изложение не может, конечно, дать полного
представления о всей красоте и стройности аппарата доказательств, использованного исследователем для развития своих идей. Но мы все-таки попытаемся за некоторыми из этих доказательств проследить, придерживаясь терминологии того времени. Современному химику это изложение представится несколько упрощенным, но нельзя упускать из виду, что и сам Бутлеров стремился к некоторой схематичности своих построений, чтобы иметь возможность резче подчеркнуть основную мысль.
Ход его рассуждений был примерно таков:
Если анализировать воду, хлороводород (или, что то же, соляную кислоту) и болотный газ (метан), у них у всех можно обнаружить одну общую составную часть: водород. Заключенный в каждом из этих соединений, он, тем не менее, относится к действию разных реагентов [34] совсем не одинаково. Для того чтобы вытеснить его из хлороводородной кислоты, на нее достаточно воздействовать цинком или железом. На чистую воду эти элементы почти не действуют; из воды водород может быть вытеснен только очень энергичным, например, щелочным металлом. Тот же водород, находящийся в составе молекулы болотного газа или большинства других углеводородов, вовсе не поддается действию металлов, даже самых энергичных.
Чем объясняется такое различие в поведении одного и того же элементарного вещества в различных соединениях? – спрашивал Бутлеров и отвечал: «натурой элемента, с которым это вещество является связанным, натурой той зависимости, которая существует между составными частями данного соединения…» Два атома водорода в молекуле воды находятся в зависимости от атома кислорода; четыре атома водорода в молекуле болотного газа находятся в зависимости от атома углерода. Как эта зависимость проявляется, легче всего проследить на углеводородных соединениях.
Для «удовлетворения стремления к соединению», для насыщения одного атома водорода нужен один атом хлора. Таким образом, атомы водорода и хлора химически равнозначны, «эквивалентны». Эта эквивалентность находит свое выражение в том, что в молекуле болотного газа водород может быть заменен хлором атом за атом. Соединение четырех атомов хлора с одним атомом углерода повторяет «тип» молекулы болотного газа. Это так называемый четыреххлористый углерод. (В болотном газе на такой же атом углерода приходилось четыре атома водорода.) Между этими двумя веществами – болотным газом и четыреххлористым углеродом – находится ряд промежуточных веществ, в которых с углеродом соединены, в разных долях, и хлор и водород. На атом углерода может приходиться три атома водорода и один атом хлора. Это вещество описывается формулой СНзС1 и называется хлористым метилом. Равное соотношение атомов хлора и водорода – СН2С2 – соответствует хлористому метилену; из сочетания одного атома углерода с одним атомом водорода и тремя атомами хлора – СНСlз – образуется хлороформ.
Во всех этих случаях атомы водорода и атомы хлора находятся в химической зависимости от атома углерода. Этот пример показывает, что совсем не безразличен «порядок химических связей», существующих между атомами в частице. А это и есть химическое строение вещества.
Более сложны случаи, когда в углеродистом соединении присутствуют элементы, химическое значение атомов которых больше, чем значение водорода или хлора, например кислород. Поскольку для насыщения одного атома кислорода нужно два атома водорода, как, например, в молекуле воды (Н20), можно утверждать, что химическое значение атома кислорода вдвое больше, чем значение атома водорода, – кислород «двухэквивалентен» по отношению к водороду. Следовательно, для насыщения атома углерода понадобится кислородных атомов вдвое меньше, чем атомов водорода, то есть не четыре, а два. Такое соединение, в котором углеродный атом насыщен двумя атомами кислорода, всем известно – это обыкновенная углекислота С02. Известно также соединение, которое содержит наполовину менее кислорода, – это «ненасыщенное», «непредельное» соединение углерода – СО, так называемая окись углерода. Молекула окиси углерода способна присоединить к себе еще два атома хлора. В результате такого присоединения по формуле СОСl2 получается хлорокись углерода.
Не всегда можно судить о распределении «химической зависимости» с такой определенностью, как для атома углерода. Атомы могут быть соединены и непосредственно и через другие атомы. Хлор и водород соединены непосредственно в молекуле хлороводорода. Они же могут быть соединены через углеродный атом, как в хлороформе. Насколько важно разобраться до конца в том, как именно они соединены, показывает пример молекулы метилового или древесного спирта. Эта молекула со
стоит из одного атома углерода и четырех атомов водорода и еще одного атома кислорода. Что это может значить? Может быть, углеродный атом в действительности имеет больший «запас химического влияния», чем до сих пор допускалось? Может быть, он способен непосредственно удерживать больше, чем четыре атома водорода?
Опыт опровергает это допущение. Просто и прямо «зафиксировать», закрепить кислород на молекуле водорода (что соответствует составу болотного газа) не удается. Присоединение атома кислорода к такому сочетанию атомов углерода и водорода может быть осуществлено только окольным путем.
Путем остроумных рассуждений Бутлеров подводил своих слушателей к тому, что молекулу метилового спирта можно рассматривать как молекулу болотного газа (СН4), в которой один атом водорода заменен так называемым водным остатком, или гидроксилом, то есть атомом кислорода, наполовину насыщенным водородом и поэтому имеющим такое же химическое значение, как один атом водорода. Тогда формула метилового спирта может быть написана так: СНз (ОН) или, употребляя нашедшее широкое распространение обозначение химических связей атомов черточками:
Опыт блестяще подтверждает это предположение. При действии на воду энергично соединяющихся с ней металлов, как, например, металлического
натрия, происходит выделение водорода и образование едкого натра. Едкий натр есть не что иное, как продукт замещения одного атома водорода в воде одним атомом натрия. Водород в углеводородах обычно вовсе не подчиняется действию щелочных металлов. Для защиты от окисления щелочных металлов их обыкновенно сохраняют под слоем жидких углеводородов, например керосина. Между тем, если действовать натрием на метиловый спирт, раздается шипение, выделяется водород, как из воды, и в результате получается тело состава СНзONа. Это тот же метиловый спирт, но в котором ровно одна четвертая часть водорода замещена натрием. Можно сколько угодно продолжать пытаться действовать на это соединение натрием – остальные три атома водорода замещению не поддадутся. Ясно, заключает отсюда Бутлеров, что в метиловом спирте водный характер присущ только одному из четырех атомов водорода.
Известна реакция образования хлористого метила. Ее можно расшифровать так, что из частицы убирается один атом кислорода и, вместе с ним, удаляется атом водорода. Вместо этих двух атомов, эквивалентных атому водорода, встает один атом хлора. И это означает, что водород примыкал к молекуле только посредством кислорода. Уводя кислород, экспериментатор неизбежно уводит и примыкавший к нему водород.
Бутлеров утверждал, что в частице метилового эфира две метиловые группы соединены между собой не прямо, а посредством кислорода. Это вызывало сомнения? Их можно было разрешить… Он предлагал для этого изящнейший опыт. Пользуясь теорией строения, он предсказывал: если основан-
ное на ней предположение о структуре молекулы метилового эфира справедливо, то можно попытаться удалить предполагаемую связь между двумя метиловыми группами, то есть кислород, и тогда частица должна распасться. Каждая из двух метиловых групп проявится в отдельности.
И такой опыт был Бутлеровым осуществлен: при введении в соединение вместо атома кислорода двух атомов иода ожидаемое распадение совершается. Из одной частицы метилового эфира получается две частицы йодистого метила. Частица была «нецельной, – заключал Бутлеров, – составной, и связью между двумя метиловыми группами служил кислород».
Можно получить «цельную» частицу того же состава, как метиловый эфир, где два атома углерода связаны между собой непосредственно. Это этиловый спирт, или алкоголь.
Но подлинным триумфом теории химического строения Бутлерова явился разбор строения веществ, имеющих совершенно одинаковый химический состав и одинаковую величину частиц и, тем не менее, совершенно различных между собой по свойствам. Различия этих веществ, называемых, как мы знаем, изомерами, коренились в разном их химическом строении.
Но когда этот путь только намечался, немецкий химик Кольбе грубо издевался над идеей выводить возможность существования органических веществ из числа «атомности», или, как ее теперь называют, «валентности» атомов. Смеясь, он начертил на доске шестнадцать фигур, в которые могли складываться атомы, составляющие сложную молекулу циан-угольной кислоты.
В истории химии случайно запечатлелась и эта насмешка и все шестнадцать вариантов строения молекулы циан-угольной кислоты, набросав которые Кольбе хотел наглядно продемонстрировать абсурдность бутлеровской теории. Впоследствии не только были обнаружены реальные изомеры, соответствующие всем этим шестнадцати структурным формулам, но оказалось, что Кольбе даже упустил еще три…
Нельзя предсказывать неудачи науке!
Нельзя было бороться против теории Бутлерова, как нельзя было оспаривать очевидность.
Но ее можно было замолчать… Это и было сделано теми, кто среди создателей современной теории строения на первых местах до сих пор называют Кольбе и Кекуле, а Бутлерова относят к числу «прочих», отдаленно содействовавших ее успеху[35].
Между тем с 1863 года Бутлеров приступил к широкой проверке выдвинутых им теоретических положений. Ряд его классических работ в этом направлении начался с открытия им первого простейшего третичного спирта (триметрокарбинола), изомерного с ранее открытым Вюрцем бутильным алкоголем брожения. Тот же Бутлеров открыл изобутан, изомерный с известным уже диэтилом. Шаг за шагом он доказывал применимость теории строе-
ния к различным классам органических соединений.
Одним из результатов этого было то, что превосходный учебник «Органической химии» Менделеева должен был быть написан заново, с новых точек зрения, властно введенных в науку талантом Бутлерова.
Как же отвечал на это Менделеев?
Он восхищался, он радовался успеху своего русского ученого собрата. Он обратился в совет Петербургского университета с письмом, в котором требовал передачи кафедры органической химии Бутлерову. Он писал:
«А. М. Бутлеров – один из замечательнейших русских ученых. Он русский и по ученому образованию, и по оригинальности трудов. Ученик знаменитого нашего академика Н. Н. Зинина, он сделался химиком не в чужих краях, а в Казани, где и продолжает развивать самостоятельную химическую школу. Направление ученых трудов А. М. не составляет продолжения или развития идей его предшественников, но принадлежит ему самому. В химии существует бутлеровская школа, бутлеровское направление… У Бутлерова все открытия истекали и направлялись одной общей идеей. Она-то и сделала школу, она-то и позволяет утверждать, что его имя навсегда останется в науке… Он вновь стремится, путем изучения превращений, проникнуть в самую глубь связей, скрепляющих разнородные элементы в одно целое, придает каждому из них прирожденную способность вступать в известное число соединений, а различные свойства приписывает различному способу связи элементов».
«Поздравьте Бутлерова блестящим выбором в совете», – вскоре телеграфировал Менделеев в Москву, профессору Марковникову, который был в постоянной переписке с Бутлеровым.
23 января 1869 года Бутлеров читал свою первую лекцию по органической химии в Петербургском университете, с кафедры, которую ранее занимал Менделеев.
XIII. КАК БЫЛА СОЗДАНА ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Менделеев возглавил в университете кафедру общей химии.
Для иного переход с кафедры на кафедру свелся бы к замене одного конспекта лекций другим. Для Менделеева это знаменовало необъятное расширение поставленной им перед собой жизненной задачи. Преподавание в университете не отделялось от остальных его обязанностей. В воспитании молодежи для него воплощалась одна из важнейших сторон призвания ученого. Вот почему педагогические принципы Менделеева можно оценить только на фоне его научной деятельности, так же, как все своеобразие последней становится понятным только в свете его общественных устремлений. Все это отдельные грани исключительно цельной и яркой личности.
Многие стремились сохранить вдохновляющий образ Менделеева-профессора в своих воспоминаниях. Это хорошо удалось ученице и первой женщине – сотруднице Менделеева по Палате мер и весов, Ольге Эрастовне Озаровской. Исследовательница, писательница, артистка, Озаровская была талантливым человеком и сумела талантливо увидеть Менделеева. Ее записки, охватывающие, к сожалению, очень краткий период работы под его руководством, прибавляют к биографии великого химика несколько ярких портретных черт. Она рассказывала:
«С живописной львиной головой, с прекраснейшим лицом, опираясь на вытянутые руки с подогнутыми пальцами, стоит высокий и кряжистый Менделеев на кафедре… Если речь заурядного ученого можно уподобить чистенькому садику, где к чахлым былинкам на подпорочках подвешены этикетки, то речь Менделеева представляла собой чудо: на глазах у слушателя из зерен мыслей вырастали могучие стволы, ветвились, сходились вершинами, буйно цвели, и слушатели заваливались золотыми плодами… Про этих слушателей можно сказать – счастливцы!..»
Ту же «мощную, слегка сутуловатую фигуру, с длинной бородой и длинными вьющимися волосами», описывает в своих воспоминаниях о Менделееве как лекторе другой его ученик, впоследствии известный химик В. А. Яковлев:
«Вот раздается оглушительный, долго длящийся гром рукоплесканий. Из маленькой двери, ведущей из препаровочной на кафедру, появляется могучая, сутуловатая слегка, фигура Дмитрия Ивановича. Он кланяется аудитории, рукоплескания трещат еще сильней. Он машет рукой, давая знак к тишине, и говорит: «Ну, к чему хлопать? Только ладоши отобьете!» Вот, наконец, наступает тишина, и аудитория вся замирает. Дмитрий Иванович начинает говорить.
Первое время, с непривычки, или от сравнения с другими профессорами-говорунами, вами овладевает какое-то чувство неловкости. Лектор растягивает как-то своеобразно фразу, подыскивая слово, тянет некоторое время «э-э-э»… вам даже как будто хочется подсказать не подвертывающееся на язык слово. Но, не беспокойтесь – оно будет найдено, и какое: сильное, меткое и образное. Своеобразный сибирский говор на «о» – все еще сохранивший акцент далекой родины. Речь течет дальше и дальше. Вы уже привыкли к ней, вы уже цените ее русскую меткость, способность вырубить сравнение, как топором, оставить в мало-мальски внимательной памяти след на всю жизнь. Еще немного, и вы, вникая в трудный иногда для неподготовленного ума путь доводов, все более и более поражаетесь глубиной и богатством содержания читаемой вам лекции. Да, это сама наука, более того – философий науки говорит с вами своим строгим, но ясным и убедительным языком. Вы начинаете любоваться мощною, напоминающей Микель-Анджеловского Моисея, сумрачно грозной фигурой. В ней хорошо все: и этот лоб мыслителя, и сосредоточенно сдвинутые брови, и львиная грива падающей на плечи шевелюры, и извивающаяся при покачивании головой борода. И когда этот титан, в сумрачной аудитории, с окнами, затененными липами университетского сада, освещенный красноватым пламенем какой-нибудь стронциевой соли, говорит вам о мостах знания, прокладываемых чрез бездну неизвестного, о спектральном анализе, разлагающем свет, доносящийся с далеких светил, быть может уже потухших за те сотни лет, что этот луч несется к земле, – нервный холодок пробегает по вашей спине от сознания мощи человеческого разума…» [36]
Учить может только знающий, возбуждать – чувствующий. Общение со своей, всегда переполненной, аудиторией неизменно окрыляло Менделеева, потому что здесь, в университетских стенах, которые «потели» на его лекциях, как живописали газеты того времени, он испытывал счастье прямого участия в осуществлении одного из своих заветных чаяний. Он увлекал в науку «новые русские силы»…
О значении, которое он придавал этой стороне своей работы, мы можем судить по его «Заметкам о народном просвещении», опубликованным в 1901 году:
«Надо разрабатывать,- писал он, – дары своей природы своим, научно выработанным способом. Например, железо и сталь на Урале и в Сибири, цементы из своих природных камней, краски из своей нефти, стекло из своей природной глауберовой соли… Конца запасов не видно. На все это надо приготовить многих своих, сильных в науке, реалистов…»
Именно к этому были направлены все его усилия как лектора. Ради этого он, прежде всего, стремился развить в слушателях «ту способность самостоятельного суждения о научных предметах, которая составляет единственный залог правильного понимания выводов науки и возможности содействовать ее дальнейшему развитию».
В творческом восприятии науки он видел спасение от мертвенного застоя метафизических воззрений: «Знание выводов, без сведения о способах их достижения, – писал он, – может легко ввести в заблуждение не только в философской, но и в практической стороне наук, потому что тогда неизбежно необходимо придавать абсолютное значение тому, что нередко относительно и временно». Отсюда возникало требование: «изложить вместе с выводами описание способов их добычи».
Выступая с профессорской кафедры, Менделеев не повторял пройденное, а вновь переживал со своими слушателями пережитое. Он рассказывал об испытанных другими – и им самим! – трудностях в завоевании каждой новой «пяди научной почвы» и звал к тому же продолжателей.
Лекции изливались свободной импровизацией, но эту свободу подготовлял огромный предварительный труд.
Готовясь к изложению своего предмета, Менделееву нужно было создать не курс химии, а настоящую, цельную науку химию, потому что она до этого времени не была объединена общей теорией, не была согласована во всех своих частях. Это предстояло сделать ему самому.
Записанные лекции обрабатывались, дополнялись, изменялись и в таком расширенном виде составили первый том капитального труда «Основы химии». Второй том Менделеев написал заново целиком.
По этой книге училось несколько поколений химиков и у нас и за рубежом (она была переведена на английский и французский языки). Об этой работе, незадолго до смерти, 10 июля 1905 года Менделеев писал:
«Эти «Основы» любимое дитя мое. В них мой образ, мой опыт педагога и мои задушевные научные мысли».
Один из учеников и затем ассистентов Менделеева, Г. Густавсон, на первом Менделеевском съезде вспоминал, как однажды некий составитель руководства по химии, даря Менделееву свою книгу, выставлял, как особенно ценное достоинство ее, что теоретическое содержание книги отделено от фактического и практического. Менделеев, со свойственной ему прямотой, вскричал, что именно это он считает слабой стороной книги. Загружая читателей фактами, вместо того чтобы разъяснить им законы, управляющие фактами, автор рискует напомнить аристотелевского сапожника, снабдившего своего ученика запасом готовых сапог, вместо того чтобы научить его, как нужно делать эти сапоги.
«Основы химии» учили видеть в химии «и средство и цель» – и способ достижения тех или других практических стремлений и орудие познания.
На тысячах примеров Менделеев показывал, как при помощи науки облегчается обладание веществом в разных его видах, какие новые возможности использования сил природы она дает, как с ее помощью отыскиваются новые способы получения множества веществ и изучаются их свойства.
Менделеев недаром писал в предисловии к третьему изданию «Основ химии»:
«Недалеко то время, когда знание физики и химии будет таким же признаком и средством образования, как сто-двести лет тому назад считалось знание классиков, потому что тогда их изучение было задатком возрождения, было средством против укоренившихся суеверий. Так в новое время
изучение физики и химии определило возможность развития естествознания… а оно составляет силу и признак нашего времени. Без него уже не обходится ни изучение истории и правоведения, ни дальнейшее развитие государственной силы, ни накопление народных богатств и, что всего важнее, без него немыслима ныне и сама философия».
Химию, наряду с физикой, он считал основой современного образования. В соответствии с этим убеждением он «Основы химии» излагал как энциклопедию естествознания и техники.
В воображении читателя этой книги под крышками из глины и гипса закипали реторты с чилийской селитрой и серной кислотой и производное вещество – азотная кислота являла свои удивительные свойства; здесь амальгамой подводилось стекло для получения зеркал, здесь взлетали воздушные шары, наполненные водородом, отделенным от других веществ, с которыми он обычно соединен, домны пылали, и чугун переделывался в сталь, растения под действием света поглощали углекислоту и выделяли кислород, аммиак выделялся из аммиачной воды, полученной на газовых заводах при сухой перегонке каменного угля, борная кислота добывалась в тосканских фумаролах [37] и залежи карналита сверкали на побережьях Каспия.
Нельзя пересказать книгу – ее нужно прочитать. И каждый может это сделать и сейчас с пользой для себя.
А ведь это было только начало!
Химия «заключает в себе задатки еще большего, далекого и существенного развития, – писал Менделеев в введении ко всем этим богатствам знания. – Вся прелесть и все особенности юности видны в химии. Ее поле деятельности ясно определилось… а между тем верная дорога еще неизвестна. Еще недостает общего связующего начала, дающего силу, свойственную зрелости. Знания, относящиеся к количественной стороне химических превращений, далеко опередили изучение качественных отношений. Связь этих двух сторон составит нить, долженствующую вывести химиков из лабиринта современного, уже значительного, но отчасти одностороннего запаса данных».
Когда он работал над первым изданием «Основ химии», он очень глубоко сознавал эту односторонность химического знания. Во всем своем неистощимом разнообразии приложений химия все же представляла собой, до этой работы Менделеева, лишь описание многочисленных разрозненных фактов и явлений. Можно ли было с этим мириться? Нет, нельзя! Менделеев писал:
«Одно собрание фактов, даже и очень обширное, одно накопление их, даже и бескорыстное… не дадут еще метода обладания наукой и они не дают еще ни ручательства за дальнейшие успехи, ни даже права на имя науки в высшем смысле этого слова.
Здание науки требует не только материала, но и плана, гармонии; воздвигается трудом, необходимым как для заготовки материала, так и для кладки его, для выработки самого плана, для гармонического сочетания частей, для указания путей, где может быть добыт наиполезнейший материал.
Тут – поле истинным открытиям, которые делаются… усилием массы деятелей, из которых иногда один есть только выразитель того, что принадлежит многим, что есть плод совокупной работы мысли…
Узнать, понять и охватить гармонию научного здания с его недостроенными частями – значит получить такое наслаждение, какое дает только высшая красота и правда…»
Это наслаждение, испытать которое он звал других, рассказывая, «как привольно, свободно и радостно живется в научной области», где «очень часто рабочий, архитектор и творец совпадают», он сам испил полной чашей, работая именно над «Основами химии». Составляя план своего курса, который должен был соответствовать общим закономерностям излагаемой им науки, – еще не открытым закономерностям! – он должен был впервые совершить именно ту работу «архитектора и творца», о которой он с таким воодушевлением говорил и писал.
Для того, кто дал себе труд проследить за ранними исканиями Менделеева-«рабочего», кропотливо собиравшего, наряду с другими, фактический материал своей науки, не покажется неожиданным главное направление его новых теоретических поисков.
«Вся сущность теоретического учения в химии… лежит в отвлеченном понятии об элементах, – писал он в том же предисловии к третьему изданию «Основ химии». – Найти их коренные свойства, определить причину их различия и сходства, потом, на основании этого, предугадать свойства образуемых ими тел, вот тот путь, по которому наша наука твердо пошла… и еще немало остается сделать здесь. Главный интерес химии – в изучении основных качеств элементов. А так как их природа нам еще вовсе не известна и так как для них мы поныне твердо знаем только два измеряемые свойства: способность давать известные формы соединения и их свойство, называемое весом атома, то остается только один путь к основательному с ним ознакомлению – это путь сравнительного изучения элементов на основании этих двух свойств».
Мы уже помним, как после введенного в науку Ломоносовым разграничения понятий атома и молекулы был извлечен из пыли забвения и возвращен химии способ определения относительного веса частиц (будь то атомы или молекулы) путем сравнения равных объемов состоящего из этих частиц газа. Этот способ был успешно применен для определения атомных весов многих элементов, плотность газа которых легко измерима. Были найдены также другие косвенные способы проверки атомных весов (например по теплоемкости элемента). Химики соединяли элементы, атомные веса которых были выяснены, с элементами еще неизвестными, сравнивали анализы разных соединений. Таким образом, они сумели, к описываемому времени, открыть около 64 различных элементов и измерить веса их атомов (не всегда еще, впрочем,
точно).
У большинства ученых, даже признававших существование атомов, в то время существовало твердое убеждение, что атомы разных элементов – это совершенно независимые друг от друга составные части мироздания. Только наиболее пытливые умы искали следы сходства среди их взаимных отличий, черты единства в их разнообразии.
Их постигали неудачи, причины которых были вполне закономерны.
После того как француз Шанкуртуа безуспешно искал признаки закономерности в отношениях элементов, расположенных по винтовой нарезке, нанесенной на цилиндр, англичанин Ньюлендс пытался уловить соотношения между отдельными элементами, которые напоминали бы те, которые существуют между каким-либо музыкальным тоном и его октавой. Как известно, каждый отдельный тон созвучен тому же тону октавой выше или ниже, вследствие связи между числом колебаний струн, порождающих эти тона. Подобие этого явления Ньюлендс находил в совпадении признаков элементов, занимавших одинаковое положение в построенных им «октавах». Ньюлендс вписывал элементы в свои «октавы», размещая их в строчках по семь элементов в каждой.
В первых строчках его «октав» сходство между элементами, занимавшими вторые, третьи, четвертые и т. д. места в разных «октавах», проявлялось довольно отчетливо. Но последующие строчки построений Ньюлендса заключали в себе больше отступлений от «закона октав», чем подтверждений его. Естествоиспытателям не мог прийтись по душе произвол в перестановке элементов, который Ньюлендс допустил, чтобы уложить непокорные элементы в прокрустово ложе своих семизначных строчек. Он искусственно «подгонял» расположение многих элементов под формулировку «закона октав». Кроме того, его «система» охватывала только известные к тому времени элементы и не оставляла места для возможных новых открытий.
Насилие над фактами, которое он, таким образом, учинял, не сопровождалось попытками отыскать дополнительные подтверждения справедливости теории, во имя которой приносились такие жертвы. И, может быть, не так уже несправедливо звучал обращенный к Ньюлендсу насмешливый вопрос председателя британского съезда естествоиспытателей: «Не пробовал ли достопочтенный джентльмен располагать свои элементы в порядке алфавита и не усмотрел ли он и при этом каких-либо закономерностей?»
Менделеев, в отличие от Ньюлендса и Шанкуртуа, наивно подгонявших элементы под свои надуманные схемы, руководствовался в своих поисках твердой уверенностью в необходимости существования какого-то общего закона природы, который был бы связан с массой атома и определял бы все сходства и все различия элементов между собой, а может быть, и правила их сочетания. Это ожидание, как мы знаем, окрепло в нем еще в студенческие годы – во время учения в Главном педагогическом институте – и было подкреплено дальнейшими его исследованиями, руководимыми той же идеей.
Он располагал элементы в порядке возрастания их атомных весов, но, вглядываясь в составленный таким образом перечень и сравнивая между собой различные элементы, он пытался сблизить не только сходные, но и несходные. Он не стремился навязывать природе свои предположения. Он хотел лишь уловить действительную связь, которая, как он ожидал, должна была существовать между атомным весом и другими свойствами элементов, и, прежде всего, их способностью присоединять к себе то или иное количество атомов других элементов.
Он помог успеху своих поисков простым и наглядным приемом. Он воспользовался запасом ненужных визитных карточек – узеньких полосок картона. Из этих картонных карточек он составил нечто вроде подвижной картотеки элементов. На обороте каждой карточки он записал под названием элемента его атомный вес и формулы основных соединений, которые данный элемент образует с другими. Свойства этих соединений он, знал наизусть и главнейшие записал здесь же. Этим главнейшим свойством была «атомность», сыгравшая такую большую роль в предшествующих работах самого Менделеева и Бутлерова.
Разложив перед собой эти карточки, комбинируя их во всевозможных сочетаниях, сопоставляя их между собой по свойствам элементов, он с большой легкостью мог охватить умственным взором всю совокупность элементов со всем сложным переплетением их свойств. Все более отчетливо проявлялись в его сознании признаки системы, которой подчинялось все это пестрое и разнородное собрание земных тел.
Ученики Менделеева, ссылаясь на его собственное признание, рассказывали, будто на него снизошло внезапное откровение. Ему будто бы во сне привиделось, как нужно перетасовать карточки с названиями элементов, чтобы удался химический пасьянс, который не выходил наяву. Если эта история и основана на действительном происшествии, то дело было, конечно, не в чудесном «откровении».
Менделеев действительно не раз вспоминал о том, как он часами переставлял элементы в рядах, вчитываясь в свои заметки до ряби в глазах. Голова у него кружилась от напряжения. Ведь когда с места на место перекладывались легкие карточки с названиями веществ, в сознании исследователя приходили в движение целые эшелоны сведений об этих веществах. Зная изумительную память Менделеева, можно не сомневаться, что он держал в голове наготове материал, которого хватило бы для нескольких справочников. Мельничные жернова перекатывать было бы легче! И даже, когда, утомленный, он засыпал за своими размышлениями, неугомонная, бессонная мысль продолжала биться в мозгу исследователя.
Гениальная, проникновенная мысль!
И весьма возможно, что именно в тот момент, когда более поверхностные, мешающие раздражители были заторможены сном, свободно и до конца оформилось наблюдение, которое было подготовлено годами труда и уже складывалось в сознании.
Вот в чем состояла суть этих наблюдений. Связь между самыми несхожими элементами обнаруживалась! Прежде всего, свойства элементов, расставленных в ряд по весу их атомов, через более или менее правильные промежутки повторялись. Так, например, в строю элементов, расположенных по порядку возрастания атомных весов, на втором месте стоял элемент литий. Литий – это легкий, так называемый щелочной металл. Ближайший, сходный с ним, элемент был отделен от него семью другими, совсем на него не похожими. Восьмым-родственным ему – был тоже довольно легкий, как и литий, горючий металл, жадно соединявшийся с другими элементами, – натрий. Через определенный промежуток, или период, в строю элементов опять обнаруживался легкий горючий металл – калий.
И эти повторения не были случайными!
Если начинать счет с третьего по порядку элемента – бериллия – оказывалось, что в строю элементов встречаются и его явные родственники, и притом на такой же дистанции. Ближайший сосед на него не похож, как не похож и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой, а восьмой – похож! Восьмой – магний – оказался родственником бериллия.
На восьмом месте от фтора оказался сходный с ним хлор и т.д. и т.п.
Важно было еще и другое. В рамках отдельных периодов свойства несходных элементов, в них заключенных, – наблюдение системы в целом позволило Менделееву это понять! – изменяются также строго последовательно и закономерно. За активным в химическом отношении металлом следует металл с меньшей химической активностью, постепенно металлические свойства выявляются все более слабо, происходит переход к неметаллам. В следующем периоде в основных чертах снова воспроизводятся эти чередования.
Таким образом, открытая Менделеевым система сближала разнородные элементы, которые прежде рассматривались каждый сам по себе.
Менделеев не стремился увидеть в расположении элементов ничего, кроме того, что было в действительности, что показывала ему сама природа. Если он руководствовался при построении своей таблицы атомным весом элементов, то к этому его побуждало лишь стремление найти связь между различными химическими свойствами атомов разнообразных элементов и каким-то общим, неизменным их признаком. Таким признаком являлся присущий всем атомам относительный вес. Зная, какое большое значение во времена Менделеева – и им самим! – придавалось этой характеристике атома, можно только поражаться, с какой решительностью он отступил, когда это понадобилось, от хода мысли, который казался наиболее естественным, наиболее прямым, наиболее оправданным. Как часто консервативная традиция в науке создается именно на почве слепого преклонения перед господствующей теорией и как свободен был Менделеев от этих косных пут ординарного мышления, когда ему пришлось выбирать в своей системе место для кобальта и никеля, для теллура и иода, для титана и ванадия.
Итак, Менделееву удалось, не нарушая, в основном, принятой им последовательности расположения элементов по атомному весу (и только иногда исправляя атомные веса, как это подсказывала вновь открытая закономерность правильного чередования сходных свойств элементов), распределить все известные ему элементы по «семействам», то есть по группам элементов-родственников.
Если бы Менделеев связал себя предумышленной концепцией, он должен был бы разместить элементы точно в соответствии с их атомными весами. При этом под алюминием оказался бы не похожий на него титан, под кремнием – не имеющий ничего с ним общего ванадий, под фосфором – совершенно чуждый ему хром и т. д. Никель должен был бы итти впереди кобальта, так как атомы никеля легче атомов кобальта, по этой же причине иод должен был бы в таблице предшествовать теллуру. Но Менделеев настолько ярко ощущал достоверность открытого им закона периодической смены свойств атомов элементов, расположенных в их естественной последовательности, что на него он опирался в первую очередь. Он видел, что естественного, обусловленного системой элементов, перехода от алюминия к титану нет. Здесь должен быть переходный элемент, повидимому, ближайший родственник алюминия. И Менделеев оставил для него пустое место.
Подобных пустых клеток в системе получилось три. Считаясь именно с химическими свойствами элементов, а не только с их атомным весом, Менделеев определил место в таблице для кобальта, который он поставил на 27-е место, а никель на 28-е, хотя атомный вес кобальта больше; далее, он теллур поместил в 52-ю клетку своей таблицы, а иод- в 53-ю, хотя их атомные веса находятся в обратном соотношении.
Чем больше он вглядывался в проясняющиеся очертания обнаруженной им системы элементов, тем большую стройность он в ней находил.
От этого захватывало дух.
Это было подлинное счастье! Первый намек на осуществление нового, неведомого явления природы постепенно становился зримым, весомым фактом… Впрочем, Менделеев не только радовался открытой им закономерности распределения элементов в природе. Пусть великолепной закономерности! Но если бы он ограничился ее восхищенным созерцанием, он не был бы Менделеевым…
Для контраста любопытно отметить, что над классификацией элементов в то время размышлял также известный химик, профессор университета в Бреслау – Лотар Мейер. Он искал наиболее удобную и естественную схему расположения химических элементов, которой он мог бы с достаточным основанием придерживаться, читая университетский курс химии. Своими петербургскими друзьями он был осведомлен о публикациях Менделеева даже раньше, чем они появились в свет (среди осведомителей Мейера, снабдивших его гранками еще не вышедшей в свет статьи о Периодической системе, называли профессора Ф. Ф. Бейльштейна)[38]. 18 марта 1869 года таблица элементов Менделеева в полном виде была доложена Н. А. Меншуткиным на заседании только что организованного Русского химического общества. В следующем, 1870 году появилась статья Л. Мейера, в которой он ссылался на Менделеева и давал таблицу, в основных чертах сходную с той, которую ранее опубликовал Менделеев. Не отрицая существования некоей правильности в переходе от одного элемента системы к другому, Мейер однако, был далек от понимания истинного смысла Периодической системы. Менделеевскую таблицу он готов был рассматривать как подспорье для группировки элементов при изложении курса химии. И не больше! Лотар Мейер корректно осуждал своего петербургского коллегу за излишнюю торопливость. Он писал в химическом журнале «Либиховские анналы»: «Было бы поспешно изменять доныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта».
Это Периодическую систему он считал «непрочным исходным пунктом»!..
Нет! Для Менделеева открытая им закономер-
ность была киркой, пробивавшей окно в стене, загораживавшей Страну Неведомого. Свежий ветер неизвестности бил из этого пролома в лицо смелым разведчикам природы.
Система элементов в нетерпеливых менделеевских руках не могла остаться архивной драгоценностью, музейной реликвией. Для него это было орудие познания. Ничего не выжидая, ничего не боясь, Менделеев решительно двинул ее в дело. Кроме того, он гордился своим открытием, дорожил им и жаждал, чтобы все разделяли его веру.
Он знал единственный надежный способ убедить мир в справедливости своего открытия, единственный действительный способ проверки любой истины – опыт! Он писал:
«Утверждение закона возможно только при помощи вывода из него следствий, без него невозможных и неожидаемых, и оправдания тех следствий в опытной проверке. Поэтому, увидев периодический закон, я, со своей стороны… вывел из него такие логические следствия, которые могли показать – верен он, или нет».
Иными словами, он поставил контрольный, проверочный эксперимент и, тем самым, отдавал свое открытие на суд опыта.
XIV. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОКАЗЫВАЕТСЯ КЛЮЧОМ К СТРОЕНИЮ АТОМА
Взглянем на один из первых вариантов Менделеевской таблицы элементов. Как видно на рисунке, Менделеев поместил цинк (Zn) под кальцием (Са), мышьяк (Аs) под ванадием (V) и т. д. Таким образом, не нарушая последовательности расположения элементов в порядке возрастания их атомных весов, он подчеркивал существование периодической повторяемости их свойств.
Как мы уже говорили, у Менделеева остались в его системе пустые места.
Приглядитесь к этим маленьким пустым клеткам особенно пристально! Они хранят память о замечательнейшем сражении за знание…
Опираясь на открытый им закон, Менделеев дерзко заполнил эти клетки неизвестными элементами. В этом и состояло условие задуманного им опыта. Содержание этого опыта можно передать следующими словами:
Если обнаруженный новый закон распределения элементов по семействам имеет тот глубокий смысл, который в этом расположении увидел Менделеев, если это действительно закон природы, то свойства
каждого элемента обязательно должны определяться его местом в таблице. А если так, то, зная свойства элементов, окружающих пустые места в таблице, можно заранее описать все свойства тех элементов, которые должны будут эти пробелы восполнить. В действительности, конечно, этих пробелов не было. Исследователь просто еще не знал тех элементов, которые в природе соответствуют оставшимся пустым клеткам Периодической системы. Но, понимая систему, зная, например, через какой промежуток повторяются свойства элементов и как, примерно, они меняются в пределах одного семейства от одного элемента к другому, можно было догадаться, что именно представляют собой незнакомцы и как они будут выглядеть, если их когда-нибудь обнаружат в природе.
Таким образом, Менделеев решил воспользоваться открытой им системой элементов для того, чтобы предсказать новые элементы, «запланировать» их открытие.
Великий опыт, который должен был подтвердить его предположения, был начат в 1871 году.
В этом году Менделеев опубликовал в III томе «Журнала Русского химического общества» подробную характеристику веществ, которых не видел еще ни один человек в мире. (Статья так и называлась: «Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств неоткрытых элементов».)
Разберемся подробнее в условиях открытия новых элементов, намеченных Менделеевым. Одно из пустых мест, которые заполнили научное воображение мыслителя, находится между клетками алюминия и индия. Вещество, которое должно было быть на этом месте в системе, Менделеев назвал «экаалюминием». («Эка» по-санскритски значит «один», а все слово означает «алюминий плюс один». Менделеев пользовался санскритскими терминами, так как сильно недолюбливал латынь и греческий, откуда обычно заимствовали термины исследователи.)
Предсказывая свойства неоткрытого элемента, Менделеев рассуждал так: его атомный вес должен лежать где-то посередине между весом алюминия (27) и весом индия (115), то есть будет составлять приблизительно 70. По своим химическим свойствам это вещество должно относиться к той же группе, в какую входит и алюминий, то есть походить на него. Значит, это должен быть тоже легкий, белый металл. Плотность его тоже будет средней между плотностями окружающих его элементов. Свойства всех химических соединений «экаалюминия» будут средними между свойствами таких же соединений его соседей и т. д. и т. п.
Таким образом, из системы элементов Менделеев заимствовал все основания для своих смелых предсказаний. Это предвидение было таким удивительно отчетливым и подробным, что вам надо доставить себе когда-нибудь удовольствие прочитать его в изложении самого Менделеева.
Второе неизвестное вещество Менделеев назвал «экакремнием» (то есть «кремний плюс один»).
По сходству с элементами того же семейства, в которое, повидимому, входил элемент из незаполненной клетки, он должен был быть чем-то средним между цинком и мышьяком («но заметно ближе к мышьяку»,- заключил Менделеев). Вместе с тем он должен был представлять много сходства с кремнием.
Неизвестное вещество, которое должно было занять место на пустой клетке системы элементов под кальцием, Менделеев назвал «экабором» и таким же путем определил и его характеристики.
Итак, начало поискам было положено. Успех этих поисков должен был означать полное торжество Периодической системы. Их неудача означала бы ее крушение. И Менделеев с нетерпением жаждал результатов…
А поиски развернулись!
Отряды искателей были вооружены новым тончайшим орудием исследования, о котором нам уже приходилось упоминать, – спектральным анализом.
После успехов Бунзена, Крукса и других в поисках новых элементов по их неизвестным спектрам французский астроном Жансен и англичанин Локьер нашли в свете солнечной короны спектральную линию неизвестного элемента, названного «солнечным веществом» – гелием.
После всех этих блистательных достижений наступила пора затишья. Углубившись в область спектрального анализа, профессионалы-исследователи тщательно изучали разнообразные спектры и медленно и терпеливо искали, искали, искали.
27 августа 1875 года, через четыре года после опубликования Менделеевым условий Великого Опыта, произошло первое событие, свидетельствовавшее, что опыт идет, что итог близок.
Об этом событии миру стало известно только через месяц – 20 сентября 1875 года. В этот день французский академик Вюрц вскрыл на заседании Парижской Академии наук пакет, полученный им от одного из его учеников, молодого химика, специализировавшегося по спектральному анализу, – Лекока де Буабодрана. В пакете находилось письмо, в котором Лекок писал:
«Позавчера, 27 августа 1875 года, между двумя и четырьмя часами ночи я обнаружил новый элемент в минерале цинковая обманка из рудника Пьерфитт в Пиренеях…»
Вскоре он мог отметить некоторые особенности нового элемента, его отличия от кадмия, индия и других обычных спутников цинка в естественных рудах. Так как он получил в отдельности только несколько долей от сотой части грамма нового элемента, то вначале он мог указать лишь немногие соединения, в которые он вступал. Первое, что ему удалось сообщить,-это то, что окись нового элемента осаждается из солей углебаритовой солью. Точно так же вел себя алюминий…
Менделеев внимательно следил за международной химической литературой. Протоколы Парижской Академии наук, где были упомянуты первые признаки сходства нового элемента с алюминием (Лекок де Буабодран назвал новый элемент галлием, в честь своей родины[39]), не ускользнули от внимания Менделеева. Сухие строки этих протоколов были для него вестником новой огромной радости. У него не было никаких сомнений и колебаний в оценке открытия де Буабодрана: галлий не мог быть не чем иным, как экаалюминием.
Если вы захотите когда-нибудь просмотреть протоколы заседаний Русского физико-химического общества, то вы найдете под датой 6 ноября 1875 года такую запись:
«20. Д. Менделеев обратил внимание на то, что элемент, открытый недавно Лекок де Буабодраном и названный им галлием, как по способу открытия (спектром от искр), так и по свойствам, до сих пор наблюденным, совпадает с долженствующим существовать экаалюминием, свойства которого указаны четыре года тому назад и выведены Менделеевым на основании периодического закона. Если галлий тождественен с экаалюминием, то он будет иметь атомный вес 68, плотность 5,9…»
Продолжение предсказаний походило на волшебство, а на самом деле было победой разума, торжеством научной теории.
Менделеев не ограничился своим выступлением в Русском физико-химическом обществе. Он направил в Парижскую Академию письмо, в котором напоминал о поставленных им несколько лет тому назад и подтвержденных в новом протоколе Русского физико-химического общества условиях Великого Опыта.
А опыт развивался! Когда его неожиданный участник – французский химик – получил в руки уже 1/15 грамма галлия и смог определить его удельный вес, полученная им цифра не сошлась с менделеевской, названной по данным таблицы. Менделеев назвал 5,9. Лекок де Буабодран получил 4,7.
Менделеев – выступавший как теоретик – настаивал на том, что экспериментатор сделал ошибку в своих определениях.
Лекок де Буабодран -в Париже -стоял на своем.
Весь ученый мир следил за своеобразным турниром, происходившим между Петербургом и Парижем.
И Менделеев оказался прав. Более точные измерения подтвердили правильность его цифры.
Это было величайшим триумфом Периодической системы. Но на этом опыт еще не кончился.
В далекой Скандинавии, почти одновременно, Нильсон и Клеве нашли в редком минерале гадолините тот самый элемент, который под именем «экабора» был описан Менделеевым на пустой восемнадцатой клетке его таблицы. Вслед за рутением, который был назван так в честь России, галлием, названным в честь Франции, реальный «экабор» получил в честь Скандинавии название скандия.
И, наконец, последний из описанных Менделеевым неизвестных элементов – экакремний – был обнаружен Винклером в серебряном минерале из рудников Химмельсфюрст и назван германием.
Вскоре после этого, подготовляя к печати одно из очередных переизданий прославленного курса «Основы химии», Менделеев писал:
«Признавая путь опыта единственно верным, я сам проверял, что мог, и дал в руки всем возможность проверять или отвергать закон… По моему… мнению следовало новую точку опоры, представляемую периодическим законом, или утвердить, или отвергнуть, а опыт ее везде оправдал, где ни прилагались к тому усилия».
Когда Леверрье и Адамс «на кончике пера», то есть с помощью теоретического расчета, открыли новую планету – Нептун, астрономия гордилась научным подвигом этих ученых. Энгельс сравнивал с их замечательным достижением торжество предсказаний Менделеева. «Менделеев, – писал Энгельс, – […] совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверрье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты – Нептуна»[40]. Леверрье и Адамс открыли Нептун, опираясь на установленные прямым наблюдением неправильности в движении Урана. Они основывались при этом на всеми признанном законе Ньютона. Менделеев открыл элементы и предсказывал их свойства, ориентируясь на им же самим оставленные пробелы в своей системе элементов, далеко не всеми признанной. Сила научного предвидения Менделеева основывалась на том, что в своем учении о Периодическом законе он стоял не только на материалистической, но стихийно, бессознательно и на диалектической позиции. На это указывал Энгельс. Глубокий философский смысл Периодического закона, имеющего первостепенное значение для обоснования диалектико-материалистического взгляда на природу, отмечал в своей работе «Анархизм или социализм?» тов. Сталин. Он писал: «Менделеевская «периодическая система элементов» ясно показывает, какое большое значение в истории природы имеет возникновение качественных изменений из изменений количественных» [41].
«Писавши в 1871 году,-продолжал Менделеев в тех же «Основах химии»,- статью о приложении периодического закона к определению свойства еще не открытых элементов, я не думал, что доживу до оправдания этого следствия периодического закона, но действительность ответила иначе. Описаны
были мною три элемента… и не прошло 20 лет, как я имел уже величайшую радость видеть все три открытыми и получившими свои имена от тех стран, где найдены редкие минералы, их содержащие, и где сделано их открытие: галлия, скандия и германия. Л. де-Буабодрана, Нильсона и Винклера, их открывших, я, со своей стороны, считаю истинными укрепителями периодического закона».
Незыблемо в веках утвердилась Менделеевская система элементов, навсегда прославившая имя своего творца.
А опыты продолжались…
Прошло много лет с тех пор, как астрономы обнаружили на Солнце присутствие неизвестного элемента, который они назвали по имени Солнца (Ге-
лиос) – гелием, и этот газ был, наконец, открыт на Земле. Атомы гелия неспособны химически соединяться с атомами других веществ. Гелий – это газ-одиночка. Он мог быть открыт только сам по себе, как это, в конце концов, и случилось. Но чтобы найти, надо искать. Специально гелий никто не искал. Даже когда он сам однажды пришел в руки к исследователю, его не признали. Впервые в заметных количествах он достался минералогу Геологического бюро в Вашингтоне Хиллебрандту. Известный путешественник Норденшильд привез ему из Гренландии несколько кусков минерала клевеита, содержащего уран. При нагревании клевеита из него выделялся какой-то газ. Хиллебрандт принял его за азот. Этот минералог сохранил свое имя в науке тем, что добросовестно опубликовал свои наблюдения над кипящим в серной кислоте клевеитом, хотя он их неверно истолковал. Его статья дала повод английскому химику Рамзаю выделить из клевеита тот же самый газ, который описывал американец. С помощью спектроскопа Рамзай опознал в нем то самое «солнечное вещество», которое посредством своего желтого луча некогда сигнализировало о своем присутствии в солнечной короне.
Когда после этого Рамзай вместе с физиком Релеем нашел в воздухе другой инертный газ – аргон, они убедились, что эти газы великолепно укладываются в систему Менделеева, образуя в ней совершенно новый ряд химически бездеятельных элементов. Размещая новые элементы в системе Менделеева, Рамзай обнаружил одно незанятое место между гелием и аргоном и два пустых места после аргона.
«По образцу нашего учителя Менделеева, – писал Рамзай, – я описал, поскольку было возможно, ожидаемые свойства и предполагаемые отношения газообразного элемента, который должен был бы заполнить пробел между гелием и аргоном».
Такие же предсказания, пользуясь методом Менделеева, сделал датский физик Ю. Томсен. Ими было предсказано существование других элементов той же группы и их атомные веса. Эти предсказания также блестяще подтвердились…
Разгадка тайны самой Периодической системы должна была привести исследователей к разоблачению секретов строения атома. Развитие науки в этом направлении обещало грандиозно увеличить могущество созидательного гения человечества.
Остались незамеченными современной ему наукой работы русского ученого Б. Н. Чичерина (1828-1904), опубликовавшего в 1888-1892 годах ряд статей, в которых, математическим путем, на основании данных Периодической системы Менделеева, он создал модель атома, задолго до Резерфорда (1912) и Бора (1913), располагавших громадным количеством опытных данных.
То медленнее, то быстрее, но непрерывно и последовательно разматывалась бесконечная нить познания. Она крепла, она превращалась в стальную цепь знания. И цепь вытягивалась звено за звеном…
В этой бесконечной цепи часто приходится заменять более надежными отдельные звенья, сделанные наспех, из непрочных исходных материалов.
История науки хранит память о многих теориях и многих гипотезах, которые сыграли свою полезную вспомогательную роль, а затем были опровергнуты опытом, или дополнены, или изменены, во всяком случае уступили место более точным представлениям о действительности. И в то же время наука знает мало примеров такого блистательного, победоносного взлета на крыльях опыта, какой испытал на протяжении десятилетий установленный Менделеевым Периодический закон.
Опубликованная Менделеевым система элементов будила новые жгучие вопросы. Система открывала родство между собою всех химических элементов, охватываемых несколькими периодами. На чем это родство основывалось? Это оставалось загадкой. Для разгадки сущности периодизма элементов в системе нужно было открыть строение атома и выяснить отличия в строении атомов разных элементов. Чтобы подойти к выполнению этой исторической миссии, завещанной Менделеевым, науке пришлось совершить много труднейших переходов, на первый взгляд, казалось бы, по очень окольным путям.
Но это только так казалось…
Нужно было, прежде всего, чтобы французский физик Анри Беккерель обратил внимание на удивительным образом зачерненную фотопластинку, пролежавшую некоторое время в шкафу рядом с кусочком одного из соединений урана.
Беккерель искал одно, а нашел другое. Он собирался изучать действие рентгеновских лучей, а нашел их соперника – мощное излучение неизвестного происхождения, исходившее из некоторых веществ.
Невидимые лучи, открытые Рентгеном в конце прошлого века, появляются во время электрического разряда в трубке, из которой выкачан воздух. Открытие их было настолько неожиданным, что не нашлось сразу слова, чтобы его описать.
Рентген назвал новые лучи «икс-лучами» (иксом, как мы знаем даже из школьной алгебры, обычно обозначается неизвестная величина). На самом деле Рентген очень быстро узнал об этих лучах очень многое. Он узнал, например, что они способны заставить некоторые вещества светиться в темноте. Этим пользуются сейчас во всех наших лечебницах. Светящимся под действием лучей Рентгена веществом покрывают экран. Если стать перед этим экраном, можно увидеть тень, которую отбрасывает скелет. Врач видит на таком экране кости, изуродованные при переломе, и может их соединить так, чтобы они правильно срослись.
Но Беккерель сомневался в том, что на фотопластинку действуют именно икс-лучи. Он подозревал, что в этом повинны скорее излучения светящегося экрана. И он решил это проверить, воспользовавшись веществами, которые начинают светиться, побывав не только под рентгеновскими лучами, но и просто под лучами солнца. «Если засиявшее под действием солнечных лучей флюоресцирующее вещество зачернит фотопластинку, недоступную для солнечных лучей, значит прав буду я, а икс-лучи окажутся ни при чем»,-так думал Беккерель, и для опыта он воспользовался сильно светящимся в темноте соединением самого тяжелого элемента менделеевской таблицы – урана, – металла, похожего на потемневшее серебро.
Он был поражен, когда однажды убедился, что фотопластинку испортили излучения того же соединения урана, не успевшего побывать на солнце, а пережидавшего в темном шкафу окончания облачной погоды. Разглядывая следы, оставшиеся на фотопластинке, Беккерель впервые в истории человечества наблюдал реальное действие внутриядерной энергии. Как мы увидим дальше, на фотопластинку действовали осколки самопроизвольно «взрывавшихся», распадавшихся неустойчивых ядер атомов урана.
Он этого, конечно, не подозревал, как не подозревал и того, что этим наблюдением открывается цикл исследований, раскрывших, в конечном счете, глубокий смысл Периодической системы элементов. Для Беккереля рассматриваемые им следы были только загадкой. Как проста может быть в своих внешних очертаниях самая многозначительная загадка!
– Подумайте, какой счастливый случай, что Беккерель взял для своих исследований именно соединения урана, – удивлялись потом некоторые рассказчики этой истории. На самом деле случайной здесь была только дата исследования – сумрачное, пасмурное 1 марта 1896 года. А в том же направлении, что и Беккерель, работали многие ученые. Не он, так другой скоро известил бы мир о том же самом открытии…
Для того чтобы расшифровать сущность периодизма, понадобилось далее, чтобы скромные и самоотверженные супруги Кюри занялись подробным изучением нового свойства вещества, свойства, которому они дали название «радиоактивности».
С помощью своего мужа, крупного французского ученого Пьера Кюри, молодая исследовательница Мария Кюри-Склодовская соорудила прибор, который мог измерять силу урановых лучей. Производя свои измерения, она натолкнулась на необычайный факт: некоторые образцы руды, из которой добывается уран, давали излучение гораздо больше, чем
Сам уран в чистом виде. Объяснить это можно было только тем, что в руде, кроме урана, таился еще какой-то излучающий элемент, несравненно более сильный, чем уран. Никому неизвестный еще элемент!.. Кюри назвали его «радием». Выделение этого элемента, о присутствии которого они только догадывались, в чистом виде представляло подлинный научный подвиг. Даже сейчас для получения одного грамма радия сто пятьдесят квалифицированных химиков, не считая сотни рабочих, должны трудиться больше месяца, переработать за это время 500 ООО килограммов руды, использовать 500 000 килограммов различных реактивов, 1 000 тонн угля и целое озеро – 10 000 кубических метров – воды.
Супруги Кюри вдвоем – только вдвоем – должны были потратить год напряженного труда, чтобы к тому времени, как иссякла добытая ими тонна руды, накопить сначала сотые, затем десятые доли грамма радия, смешанного с барием. Они выяснили, что излучение радия не вдвое, не втрое, не в тысячу раз даже, а в миллион раз сильнее, активнее излучения урана.
Для того чтобы приблизиться к пониманию сущности периодизма, надо было еще в мощном разрушительном излучении радия разглядеть поток осколков взрывающихся атомов, так же как в следах, оставленных ураном на фотопластинке, угадать действие осколков самопроизвольно же распадающихся атомов урана.
Английский физик Резерфорд установил такую природу радиоактивности. Именно он показал, что это явление состоит в самопроизвольном распаде неустойчивых атомов радиоактивных веществ, рас-
паде, при котором самый атом изменяется – и, Следовательно, меняет свое место в Периодической системе, а обломки его вылетают из него с огромной скоростью.
Радиоактивный распад был, таким образом, объяснен с помощью менделеевской Периодической системы. Если физик знает, в результате каких именно превращений получились те или иные вещества из исходного элемента, он может точно указать места вновь образованных атомов в Периодической системе. Менделеевская таблица тем самым сумела выразить отношения элементов не только по их положению, но, так сказать, и по их происхождению.
После тою как перед взором исследователя предстал атом, способный внезапно перестраиваться, выстреливать осколками, летящими с чудовищной скоростью, эта конструкция не могла уже быть признана элементарной.
До главного торжества Периодической системы элементов Менделееву не пришлось дожить. Уже без него подробное изучение атома было продолжено десятками ученых в ряде стран.
Мы знаем сейчас, что важной составной частью каждого атома является крошечное плотное ядро. Оно много меньше самого атома. Для наглядности можно мысленно увеличить размеры атома до объема Большого театра в Москве. При таком увеличении ядро атома будет величиной с муху. Ядро окружено тонким и нежным облачком еще более мелких частичек вещества-электронов.
Сделаем еще одно усилие воображения и попробуем представить себе, как выглядит кусочек любого вещества не в наших привычных масштабах – не под микроскопом даже, а в масштабах атомных размеров. Удивительным показалось бы это воображаемое путешествие в недра вещества! Самый плотный металл представился бы нам в виде тончайшей ажурной сетки. Наш выдающийся физик, академик А. Ф. Иоффе, однажды пошутил по этому поводу, сказав, что если обыкновенная сетка, по ирландской поговорке, не что иное, как множество дыр, связанных между собою кусками веревки, то в сетке из атомов сама веревка оборвана и остались одни дыры и узлы…
Эти маленькие «узелки», маленькие сгустки материи, – электроны – на огромных, сравнительно с их размерами, расстояниях удерживаются около большого «узелка» – атомного ядра – теми же самыми силами, которые заставляют мелко нарезанные бумажки притягиваться к наэлектризованному о волосы гуттаперчевому гребешку. Это силы электрического притяжения. Притягиваются разноименные заряды: положительно заряженное ядро притягивает к себе отрицательно заряженные электроны. В конечном счете заряд ядра и электронов уравнивается. В целом обычный нормальный электрический атом нейтрален.
Чем крупнее ядро, тем больше его заряд и тем большее количество электронов оно может держать вокруг себя. У ядра атома золота иной заряд, чем у ядра атома меди или серы. Уравновешиваются эти различные заряды электронными оболочками разных размеров. Эти разные оболочки в одних и тех же случаях будут вести себя совсем не одинаково. Атомы серы будут, например, легко соединяться с теми атомами, с которыми медь будет соединяться с трудом, и т. д. Таким образом, «индивидуальность» атома, тайну которой нам завещал Менделеев, и закономерность, которую он гениально предвосхитил в своей таблице элементов, в конечном счете определяется зарядом ядра. А когда этот заряд впервые был теоретически определен (это было сделано в 1914 году учеником Резерфорда Мозели), оказалось, что величина электрических зарядов атомных ядер совпадает с номерами клеток, которые Менделеев отвел для отдельных элементов в своей таблице.
Имя великого русского ученого снова было у всех на устах, когда англичанин Мозели специально взялся проверить, насколько прав был Менделеев, перемещая в соответствии с требованиями системы, как он их понимал, места кобальта и никеля, теллура и иода. Мозели измерил заряды ядер атомов этих элементов и показал, что Менделеев безошибочно, сообразуясь со своей системой, определил номера этих элементов, соответствующие, как оказалось, заряду ядер их атомов, вопреки отношению их атомных весов…
Между этими новыми работами физиков и законом Менделеева установилось сложное взаимодействие. Эти работы служили укреплению закона, но в то же время Периодический закон, как мощный прожектор, освещал их замысел в самом начале его формирования.
Его сиянием руководился датский физик Нильс Бор, который в 1913 году построил модель атома. Его исследования явились прямым откликом на задание, вытекающее из основной формулировки Периодического закона. Этот закон требовал объяснения сущности открытого Менделеевым факта периодического повторения одним элементом свойств другого. И, продолжая свое исследование естественной последовательности атомов, при котором проявлялась загадочная периодичность их свойств, Нильс Бор пришел к ее точному физическому истолкованию.
Из сказанного ранее должно быть понятно, что при переходе от одной клетки Периодической системы к другой заряд ядра атома элемента, соответствующего исходной клетке, возрастет на единицу. Соответственно этому к электронной оболочке прибавляется один электрон. К расчету движения электронов в оболочке атома неприменимы законы обычной механики – эти движения описываются особой, так называемой квантовой механикой. Из законов этой механики следует, что электроны, обращаясь вокруг ядра атома по своим орбитам, не могут находиться от ядра на любом расстоянии. Как планеты вокруг Солнца, на строго определенных расстояниях вокруг тяжелого ядра двигаются легкие «планеты»-электроны. Пути, по которым двигаются электроны, имеют предел своей «населенности». Ближайшие к ядру пути, образующие как бы внутренний слой электронной оболочки вокруг ядра, вмещают два электрона, следующий слой – восемь, еще более удаленный слой – восемнадцать, за ним – тридцать два и т. д. Этот порядок заполнения атома электронами и определяет свойства периодической таблицы.
Самый простой атом – водородный. Заряд его ядра равен единице, и вокруг этого ядра на определенном расстоянии обращается один единственный электрон.
В электронной оболочке атома гелия два электрона. Они целиком заполняют самый близкий к ядру, внутренний слой электронной оболочки. Таким образом прибавление числа электронов у последующих элементов может итти только за счет образования новых слоев.
Так происходит у третьего элемента – лития. Два электрона, из трех, которыми он обладает, движутся в первом, внутреннем слое электронной оболочки; третий электрон располагается уже во втором слое.
У четвертого по порядку элемента – бериллия – во втором слое прибавляется еще один электрон, то есть всего там их оказывается два.
У бора с его зарядом ядра, равным пяти единицам, во втором слое будет три электрона;
Углерод будет иметь во втором слое четыре электрона, азот – пять электронов, кислород – шесть, фтор – семь, неон – восемь. Этим достигается предел заполнения второго слоя электронной оболочки.
Таким образом, в атоме неона, как и в атоме гелия, ядро окружено законченными слоями электронной оболочки. Эта замкнутость слоев затрудняет отрыв какою-либо электрона от электронной оболочки и тем самым затрудняет вовлечение атома в какое-либо химическое соединение. И действительно, мы знаем, что и гелий и неон сходны по своей химической инертности.
Дальше, следуя за развитием менделеевских идей, мы переходим к новому периоду системы, который начинается с натрия (заряд ядра равен одиннадцати). Одиннадцатый электрон здесь уже не умещается ни в первом, ни во втором слое. Поэтому он размещается в третьем слое. Таким образом, у натрия и у его ближайшего родственника по Периодической системе – лития – в наружном слое имеется по одному электрону (у лития во втором слое, у натрия – в третьем). Это определяет родство химических свойств этих элементов, жадно соединяющихся с кислородом, и т. д.
Магний, у которого в третьем слое оказывается два электрона, именно поэтому подобен бериллию, алюминий аналогичен бору, кремний – углероду и т. д. и т. п.
В 1922 году снова Периодическая система послужила плацдармом для рывка науки вперед. Вдохновленный примером гениального русского ученого, на основании уточненной закономерности Периодической системы, Нильс Бор предсказал свойства не открытого к тому времени элемента, который должен был занимать 72-ю клетку таблицы.
Его уже давно искали, этот неизвестный элемент. Но искали в лантановых рудах, считая, что он химически близок к лантану.
Бор сравнил строение электронных оболочек атомов лантана и неизвестного 72-го элемента и увидел, что прежние поиски были основаны на ошибке. Расчеты показывали, что 72 электрона в атоме неизвестного элемента должны быть расположены так, что ближе всего будут напоминать расположение электронов в атоме элемента циркона. Следовательно, искать надо неизвестный элемент в минералах, которые содержат в себе циркон. Бор поручил голландскому физику Костеру и венгерскому химику Хевеши, работавшим под его руководством, раздобыть циркониевые минералы и поискать в них элемент 72. По указанию Бора 72-й элемент был отыскан и назван гафнием в честь города Копенгагена, где находится лаборатория Нильса Бора (от латинского названия этого города – Гафния).
Так Периодический закон Менделеева, непрерывно вдохновлявший мысль исследователей, призывавший их к раскрытию сокровенных тайн вещества, еще и еще раз подтвердил свое значение основного, глубочайшего закона природы.
В 1920 году величина заряда ядра была измерена уже прямыми экспериментами, полностью подтвердившими ее совпадение с порядковым номером атома в системе Менделеева. Развитие этих открытий привело к важнейшим событиям в физике атома. Советские физики-теоретики Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон в 1932 году нашли физическое истолкование величины заряда ядра. Оказалось, что она определяется числом протонов в ядре. Крупнейший вклад в развитие теории атома в связи с Периодической системой был сделан советской физикой в 1942 году, когда профессор А. П. Жданов открыл явление полного распада атомного ядра на его составные части под действием космических лучей. Этим экспериментально были подтверждены представления Иваненко и Гапона, так как Жданов получил возможность непосредственно подсчитать число протонов, входящих в ядро (он проделал эти подсчеты на ядрах серебра и брома).
Таким образом, дальнейшее развитие науки, проходившее под знаком Периодического закона, позволило нам понять, что древнейшая проблема, волновавшая еще алхимиков,-проблема превращения одного элемента в другой, сводится всего-навсего к изменению в ядре числа протонов-положительно заряженных элементарных частиц. Точно так же, изменяя число других крепко упакованных в ядре строительных «блоков» – нейтральных простейших частиц, называемых нейтронами, принципиально мы можем получать разновидности атомов одного и того же элемента, отличающиеся друг от друга лишь сбоим весом – так называемые изотопы. Практически эта задача была решена, когда был найден достаточно мощный таран, которым удалось ударить в атомное ядро, разломать его или отбить от него кусочек. С открытием этой возможности родилась новая область физики, которую часто называют «ядерной химией», или «новой алхимией», потому, что она изучает различные взаимные превращения элементов, которые некогда считались «вечными» и «неизменными». И во все уравнения этой ядерной химии (одной из побочных ветвей которой является добывание внутриядерной энергии, освобождающейся при ядерных превращениях) входит решающей важности число, обозначенное в скрижалях науки еще рукой Менделеева. Это «число Менделеева» – порядковый номер элемента в периодической таблице, или, что то же, число, обозначающее величину заряда атомного ядра этого элемента. Все преобразования атомных ядер сводятся к изменению этого числа, к передвижению преобразуемых атомов из одной клетки Периодической системы в другую.
Значение Периодической системы в развитии современной науки об атоме далеко еще не исчерпано. Еще не создана полная теория происхождения и распространения элементов Периодической системы, в разработку которой большой вклад сделала школа советских геохимиков – академиков В. И. Вернадского и А. Е. Ферсмана.
Ученые еще не знают природы сил, связывающих тяжелые частицы (определяющие атомный вес) с зарядом атома, то есть его атомным номером. Мы являемся сейчас свидетелями нового штурма этой крепости знания, который предпринят советскими исследователями, изучающими глубины атома. Можно рассчитывать, что новый свет на эту проблему, поставленную Менделеевым еще в 1869 году, прольют выдающиеся исследования, предпринятые в СССР известными советскими физиками А. И. Алиханяном и А. И. Алихановым и приведшие к открытию варитронов – целой серии элементарных, простейших частиц, «кирпичей мироздания»- своего рода периодической системы частиц. Быть может, в мире ядерных частиц этой «периодической системе» суждено сыграть роль, в некоторой степени аналогичную той, которую сыграла первооснова этой системы в химии.
Так, крупнейшие достижения современного знания оказались следствием гениальных открытий Дмитрия Ивановича Менделеева.
XV. МЕНДЕЛЕЕВ МЕЧТАЕТ ОБ УСТРОЙСТВЕ ВЫСОТНОГО АЭРОСТАТА
Возвращение из лаборатории не занимало много времени. Несколько шагов по коридору – и Менделеев «дома». Впрочем, никакого дома не было. Была большая пустынная квартира, которую сторожила гулкая тишина. Высокие потолки терялись в вечернем сумраке. Дворник топил огромные печи. Дрова потрескивали в темноте. Где-то вдалеке, в глубине университета, еще хлопали двери. Запоздалые ассистенты, сделав последние записи в лабораторных журналах, уходили во-свояси.
В кабинете с тихим шипением зажигалась лампа, изобретенная самим хозяином. Кончился день, работа продолжалась-ей не видно было ни конца, ни края, и это должно было быть именно так. Стены не отделяли этот тихий кабинет от стремительно двигающегося вперед, борющегося мира. Здесь тоже шла борьба: и с неподатливыми формулами и с косными людьми. И это не было уходом от личных невзгод. Жить для Менделеева по- прежнему значило, прежде всего, работать и еще, конечно, любить и быть любимым. Но как раз в те годы, когда одно за другим появлялись неоспоримые подтверждения правильности Периодического закона, разлад в семье Менделеева достиг своего предела. На протяжении всего университетского года Феозва Никитична безвыездно жила в Боблове. Она появлялась в Петербурге только тогда, когда в Боблово приезжал работать и отдыхать Менделеев. Гармония семейной жизни была нарушена. А между тем ему, как никогда, нужна была собранность всех его душевных сил, потому что на горизонте сгущались темные тучи.
Он увлекался в те годы наукой о погоде – метеорологией. В этом состоял его отдых: разрабатывать самые неожиданные и своеобразные приложения его основных работ. Главная их линия оставалась неизменной. Помимо чисто химических исследований, он продолжал изучать условия, при которых проявляются химические связи разных веществ. Временно он перенес свое внимание с жидкостей на газы, с тем чтобы впоследствии снова вернуться к жидкостям и сделать ряд фундаментальных открытий в области растворов.
Он добивался высоких степеней разрежения газов, чтобы посмотреть, как будут вести себя частицы газообразных веществ, когда они предельно разобщены друг от друга и, следовательно, химические связи между ними насколько возможно ослаблены. Одновременно он мечтал о противоположном: исследовать вещество в условиях большого сжатия, когда обычные взаимодействия между молекулами искусственно усилены. Для физика-экспериментатора, – а Менделеев в этих работах выступал попрежнему как физик, – неизменно заманчивы исследования вещества на крайних пределах его обычных состояний. Его влечет к высоким тем-
пературам и по контрасту – в скованное холодом царство абсолютного нуля, он с равным интересом изучает исчезающие слабые электрические токи в пустоте и нагнетает чудовищные напряжения электрических полей. И везде находит что-нибудь новое!
К таким экспедициям в краевые области относятся и классические работы Менделеева «Об упругости газов». Отчитываясь впоследствии в этих своих работах перед Русским техническим обществом, Менделеев говорил: «Не в те части Африки стремятся путешественники, которые посещались и уже известны, а силятся проникнуть туда, где не была еще ничья нога, так и меня привлекали больше всего те области сведений об упругости газов, которых никто еще не знал или знали о них едва- едва. Неизвестных сторон много, но между ними надо было отыскать важнейшие и в то же время доступные». Он тщательно изучал границы применимости обычных законов гидростатики и уточнял их для условий глубокого вакуума. Большая, целеустремленная научная работа в новой области на каждом шагу приводит к попутным находкам. Если заранее не давать зарока оставлять их без внимания, они могут составить немалую дополнительную ношу. Менделеев умел ограничивать только свои потребности, но не свои искания. Он готов был меньше спать, меньше тратить времени на еду, безвыходно сидеть за измерениями и вычислениями, лишь бы только возможно шире охватить взором новые просторы науки, которые открывались с проникновением в необжитые области знания.
Поэтому не приходится удивляться, что сопутствующие работы всегда окружали любой его основной труд, как спутники окружают тело планеты, отрываясь от нее в момент ее образования. Менделеев не разбрасывался – он просто успевал. Оглядываясь под старость на свой жизненный путь, он сам однажды поразился разнообразию своих устремлений и продуктивности своего труда. Он записал, перебирая свой архив: «Сам удивляюсь, чего только я не делывал на своей научной жизни».
Эта запись относилась к первым номерам «Инженерного журнала» за 1876 год, где была напечатана большая статья «О барометрическом нивелировании и применении для него высотомера». Эта работа вышла отдельной книжкой и служила практическим руководством к пользованию высотомерами Менделеева, которые выпустила в продажу некая петербургская фирма. Высотомер – прибор, предназначенный для определения высоты над уровнем моря, был одним из многих боковых «выходов» исследований упругости газов. При работе над этой темой Менделееву постоянно, по нескольку раз в день, приходилось прибегать к точным определениям атмосферного давления. Пользоваться для этого ртутным барометром было утомительно. Поэтому, для сокращения времени наблюдений, он придумал такой барометр, который указывал не абсолютную величину атмосферного давления, а только изменения, которые в нем произошли с того момента, как был заперт кран прибора. Он убедился, что изобретенный им диференциальный барометр необычайно чувствителен. Он мог указывать ничтожные изменения, отличавшие давление столба воздуха между ступеньками лестницы! Это был готовый барометрический уровень, который и был вскоре применен топографами генерального штаба для быстрого изготовления карт незнакомой местности, когда не было времени для определения уровня возвышенностей оптическим путем.
От стеклянной колбы, из которой мерно постукивавшие масляные насосы медленно откачивали биллионы воздушных молекул, Менделеев переносился неугомонным воображением в космическую лабораторию, где условия для опытов в разреженном пространстве были созданы самой природой. Ведь мы живем на дне безбрежного воздушного океана. Как интересно было бы всплыть наверх – туда, где реют легкие перистые облачка, состоящие из ледяных иголок; еще выше, где уже нехватает воздуха для дыхания, где слоится тончайшая космическая пыль, отсвечивающая по ночам таинственным «зодиакальным» светом. Менделеев был не из тех, кто мог тешиться холодной игрой ума в тиши одинокого кабинета. В его мечтах фантастика всегда опиралась на реальность. Если для нее не было места в настоящем, он обращался к будущему. Пусть в будущем, но должна была жить крылатая мечта!
Когда мечту разделяют двое, она уже ближе к осуществлению, чем тогда, когда ее лелеет один. Поэтому на тридцатом заседании Русского физико- химического общества Менделеев внес предложение: для достижения высших слоев атмосферы «прикреплять к аэростату герметически закрытый, оплетенный, упругий прибор для помещения наблюдателя, который тогда будет обеспечен сжатым воздухом и может безопасно для себя делать определения и управлять шаром».
Мы перелистываем страницы протоколов физико- химического общества, и во всех подробностях перед нами из менделеевской мечты возникает знакомый облик аэростата с герметически закрытой стальной гондолой, из которой смелые советские стратонавты недавно наблюдали темнофиолетовое небо стратосферы с ярко пылающим диском солнца на нем.
Переворачиваются слежавшиеся на протяжении десятилетий странички отчетов о первых собраниях русских физиков и химиков, и, вспоминая, что ежедневно со стендов десятков аэрологических лабораторий Союза снимаются и ускользают в высь шары-зонды с автоматическими радиостанциями, передающими сигналы измерений умных приборов, мы говорим себе: вот еще одна осуществленная мечта. Для нас полны жизни сухие строки старых протоколов. Мы читаем:
«Проектированный г. Менделеевым прибор содержит металлические барометр и термометры двойного действия… Устройство такого прибора дает возможность производить наблюдения в атмосфере без участия наблюдателя, а потому в низких слоях атмосферы можно делать наблюдения при помощи легких привязных аэростатов, а в верхних – при помощи пускания таких аэростатов с прибором, которого запись может быть прочтена, если пущенный аэростат будет найден, что предлагал Чебышев».
Для Менделеева и его друзей казалось совершенно естественным, что Чебышев, один из крупнейших математиков XIX века, из своего привычного мира отвлеченнейших и условнейших математических формул обращался к размышлениям о способах зондирования атмосферы, разрабатывал научные приемы кройки одежды. Но разве не были они-
передовые русские ученые – бродильным началом, призванным вздымать, будоражить все области человеческой деятельности, пробуждать в них жизнь, звать к творчеству, к соревнованию со стихией?!
Для них казалось противоестественным только равнодушие к веяниям времени, к нуждам страны. Добрую половину своих писаний на метеорологические темы Менделеев посвятил сражениям с этим равнодушием, с научной робостью, скрывавшейся под личиной академического бесстрастия. Химики и математики – случайные гости в науке о погоде. Но что здесь делают хозяева? Хозяева ворчат. Покой тихого заповедника метеорологии нарушен. Здесь неторопливо и достойно вычерчивали кривые средних температур, средних величин осадков. Это все почтенные занятия, и плодами их будет долго жить наука. Но пришельцы смеют выражать недовольство. Им всего этого мало! Они ссылаются на газеты, публикующие ежедневные бюллетени погоды. Газетные предсказания служат неувядаемой темой для насмешек юмористических еженедельников. И в самом деле, какие только шарлатаны не подвизаются здесь! Погоду предсказывают по луне, по звездам, по случайным приметам. Число пасмурных и ясных дней в году примерно одинаково; если ежедневно предсказывать хорошую погоду, то прогнозы будут оправдываться на 50 процентов, – издеваются острословы. Все это, однако, не очень смешно. Ведь земледельцы, ожидая вёдра или взывая о дожде, попрежнему блуждают в потемках, как и сотни лет назад. Для рыбаков наступление ненастья такая же неожиданность; опытный глаз ловит неуловимые признаки близкого изменения погоды. Но воздушные течения – великаны. Они пробегают тысячи километров по неведомым путям, насыщаясь влагой или, наоборот, теряя ее, дышат арктическим холодом или зноем пустынь. Никто за ними не следит, а это должны делать тысячи людей одновременно. Без этого предсказать изменения погоды удается только тогда, когда они уже произошли. Как может с этим мириться наука?[42]
17*
259
Менделеев публикует целую серию работ, посвященных атмосфере: температурам ее верхних слоев, способам ее исследования. Он объясняет, что его к ним привело. «Занимаясь вопросом о разреженных газах, я невольно вступил в область, близкую к метеорологии верхних слоев атмосферы, – писал он в одной из своих очередных публикаций. – Да и сами по себе вопросы этого предмета еще столь мало разработаны, что казались мне вполне достойными всеобщего внимания по их важности, – продолжает он, – особенно потому, что в слоях атмосферы, удаленных от земли, должно искать то место, где образуется большинство метеорологических явлений земной поверхности». Проницательность этих замечаний должна особенно поразить тех, кто знает, с каким трудом в мировой метеорологии всеобщее признание завоевала ясная уже Менделееву истина, что хотя погода и разыгрывается в нижнем слое атмосферы, но она связана со всей толщей воздушного океана в целом.
Менделеев напоминал, что впервые для сбора метеорологических наблюдений за облака на воздушном шаре поднялся русский ученый Захаров[43].
Свою статью «О температурах атмосферных слоев» Менделеев заканчивает примирительными строками, в которых выражена вместе с тем огромная – дружеская – требовательность и большая, нескрываемая тревога.
«Не мы первые поняли необходимость и пользу такого изучения атмосферы. О нем раньше многих других думал Ломоносов… Необходимо изучать климат разных слоев атмосферы и среди континентов. Россия, с ее обширными пространствами суши, для того пригоднее других стран… Интерес к делу имеется, потребность очевидна, силы найдутся – необходимы средства. Неужели они не найдутся?»
ХVI. МЕНДЕЛЕЕВ СРАЖАЕТСЯ С ДУХАМИ, КОТОРЫХ, НЕ БЕЗ ИЗВЕСТНЫХ ХЛОПОТ, ПОБЕЖДАЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЕДЕТ ЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДКАМИ НОВОГО СВЕТА
Однажды в лабораторию Менделеева зашел его друг Петр Аркадьевич Кочубей, председатель Русского технического общества. Менделеев радушно встретил его, рассказал о своих последних работах и показал приборы, которые он придумал для изучения постепенных изменений упругости газов. Кочубей заметил, что эти исследования могут иметь важное значение для артиллеристов Он тут же предложил помощь в них Русского технического общества, которую Менделеев с радостью согласился принять. Университет не мог включить в свою смету работы по газам, их приходилось вести урывками и за свой счет. Это чрезвычайно затягивало получение результатов, так как Менделеев располагал ограниченным количеством помощников. Небогатое Русское техническое общество не могло обещать ему крупных субсидий, но даже маленькая поддержка позволяла завести дополнительную должность ассистента, хотя бы для обработки результатов измерений. И то легче!
Оставалось добыть средства на осуществление настойчивого желания. Менделеев обращался со своими проектами высоких полетов уже не только к специалистам, но и к широкой публике.
«В верхних слоях воздуха идут токи тропического и полярного ветров, – писал он. – Где и когда они господствуют, как это влияет на климат и на погоду? Знают это мало. Умозаключая – как раз и ошибешься. Надо и наблюдать за облаками и наблюдать среди них, смотреть и рассмотреть, предполагать и проверять на деле. Это сложнее, чем только обсуждать, критиковать, нем анализировать, но это необходимо, если не желаешь довольствоваться недостаточным. Тот, кто утверждает нечто, тот и должен искать опытных доказательств, не должен отступать перед трудностями»[44].
Он развивал свою идею стратостата, «в котором наблюдатель будет оставаться под давлениями, близкими к атмосферному. Тогда он будет в состоянии производить там отчетливые наблюдения не подвергаясь телесным страданиям» [45].
Но средства, средства! Где их на это дело взять?
Нет, их не нашлось и не могло найтись в то время, этих скромных средств, необходимых для первых пионерских обследований высоких слоев атмосферы. На всех печатных изданиях Менделеева, относящихся к этому периоду (а книги свои он издавал по большей части сам), мы встречаем одну и ту же надпись:
«Сумма, которая может быть выручена от продажи этого сочинения, назначается автором на устройство большого аэростата и вообще на изучение метеорологических явлений в верхних слоях атмосферы…»
Надпись эта появлялась на титульном листе работы о барометрическом нивелировании и на переводе «Метеорологии» Мона, в котором примечаний и дополнений Менделеева чуть ли не больше, чем основного текста, и на других книгах.
«Ежегодно предполагаю я публиковать отчет о приходе и расходе сумм, могущих собраться этим путем, то-есть продажею пяти для того назначенных моих книг, – писал Менделеев, – потому, что стану считать себя обязанным перед подписчиками на мои издания. Они, платя за книги, станут участниками моего предприятия. Не смею думать, однако, что путем продажи своих книг выручу те два, три десятка тысяч рублей, которые необходимы для организации дела; рассчитываю только на получение тех, сравнительно небольших средств, которые нужны для начала, для устройства одного аэростата, емкостью, примерно, в две, три тысячи кубических метров, и для нескольких невысоких полетов. Когда первые подъемы совершатся, средства, в том убежден, найдутся; найдутся и у нас люди, которые возьмутся за окончание начатого. Поймут же, наконец, что на дне воздушного океана, на котором мы живем, нельзя получить из метеорологических наблюдений понятия о том, что делается вверху, а без того нельзя точно судить ни о причинах, определяющих климат, ни об отступлениях от средних норм, то-есть о погоде. Для ползающего на дне морском неведомы бури поверхности; так и нам почти неизвестны явления, в верхних слоях атмосферы совершающиеся».
В предисловии к «Материалам для суждения о спиритизме»- одной из пяти книг, предназначенных для достижения поставленной Менделеевым цели, – он полушутливо писал: «Как ни далеки кажутся два таких предмета, как спиритизм и метеорология, однако и между ними существует некоторая связь, правда отдаленная. «Спиритическое учение есть суеверие», как заключила комиссия, рассмотревшая медиумические явления, а метеорология борется и еще долго будет бороться с суевериями, господствующими по отношению к погоде… В этой борьбе, как и во всякой другой, нужны материальные средства. Пусть же одно суеверие послужит хоть чем-нибудь противу другого!»
Некоторое время Менделеев весьма серьезно смотрел на свою затею – извлечь необходимые для полетов средства из продажи специально для этой цели написанных им научно-популярных книг. С любопытной историей одной из них мы сейчас познакомимся.
6 мая 1875 года Менделеев явился на заседание Русского физико-химического общества с предложением составить комиссию для изучения «медиумических» явлений.
Предложение Менделеева было принято с энтузиазмом. Вызов спиритам был брошен. И спириты его приняли…
Противники сошлись для дуэли. Сторону Менделеева представляла группа преподавателей Петербургского университета во главе с любимцем студенчества, блестящим, разносторонне образованным физиком Ф. Ф. Петрушевским и профессором физики в Горном институте К. Д. Краевичем. К врагам относились: А. Н. Аксаков, Н. П. Вагнер-чудаковатый биолог, широко известный не столько своими научными трудами, сколько детскими сказками, которые он печатал под псевдонимом «Кот Мурлыка». Дети университетских служащих хорошо знали его маленькую фигурку в черной шубе до пят и остроконечной барашковой шапке, делавшей его похожим на алхимика. Они окружали его, когда он появлялся по утрам у входа в университетскую галлерею. У него в кармане всегда находились для них лакомства, а когда он их вынимал, из рукава выбегала большая ручная белая крыса с розовым хвостом и, к величайшему восторгу малышей, бегала по воротнику. Третьим противником был… Александр Михайлович Бутлеров. Этим последним обстоятельством отчасти объясняется та настойчивость, которую Менделеев проявил в создании антиспиритической комиссии. Спиритические увлечения Бутлерова он переживал так, как будто бы самый близкий, родной человек вдруг оступился. Временное отступление Бутлерова от науки в область суеверий беспокоило Менделеева и с общественной точки зрения. «Не имей Вагнер и Бутлеров авторитетности, как натуралисты, публика не встрепенулась бы и едва ли наши крупные журналы взяли бы статьи о спиритизме»,- говорил он. Нужно было во что бы то ни стало выступить против Бутлерова ради самого Бутлерова и ради молодежи, которую могло поколебать в сторону суеверий доверие к этому славному имени, ради самой науки, для здоровья которой спиритизм представлял большую угрозу.
Что же это было за мистическое увлечение, которое захватывало даже таких выдающихся людей, как Бутлеров?
Лучше всего рассказать об этом словами самого
Менделеева, для чего достаточно привести отрывок из его публичного чтения о спиритизме, которое было устроено в апреле 1876 года в аудитории Соляного городка в Петербурге. Деньги от продажи билетов на эту лекцию, пользовавшуюся огромным успехом, пошли в пользу нуждающихся литераторов и ученых и школам Русского технического общества.
"- Лет за двадцать тому назад в Америке, а затем и в Европе, стало распространяться то спиритическое учение, которое в наши дни поддержали многие ученые, – говорил Менделеев. – Они связали и словами и мыслями новое с явлениями древней индийской магии, перепутали с суевериями и стремятся сделать из всего учения, выражаясь их словами, «мост для перехода от знания физических явлений к познанию психических». Кому же не лестно быть строителем такого моста? Однако школы, ученые и литераторы, сочувствуя которым вы собрались здесь, не погнались за концессией на этот мост, не приняли учения спиритов, посмотрели на него, как на старые сваи, на которых давно и безуспешно задумана была подобная постройка, не ступили на гнилое дерево. Отвергнутое приютилось в кружках, но недавно выступило смелее… и поколебало не мало умов. Признайте только факты, говорило оно, эти факты реальны и правдивы, а следствия из них явятся сами. Да, эти следствия у всех на памяти, их слышали от нянюшек, – и многие вспомнили и соблазнились. Старые суеверия всплывали. В этой связи давних суеверий с новым учением – весь секрет интереса к спиритизму… Помирили сказку с наукой-это увлекательно, и спириты свое сделали… Их расчет прост, хоть и ошибочен: они надеются найти поддержку в массах, мало знакомых с науками. Они и помнили и забывали, что эти массы имеют свой здравый смысл – верный союзник наук… что наука уже не ветреное дитя, что она – зрелая мудрость времен, что против их оружия можно подействовать подобным же, что научное поле им придется взять с бою…
Начальное физическое явление спиритизма, – продолжал он, – составляют стуки, раздающиеся при наложении рук на стол, и движения самого стола. Весьма скоро убедились опытом, что спиритические стуки могут слагаться условным образом в осмысленную речь, заметили затем, что разговор стуками имеет смысл, какой бы придал речи медиум… Фактическая сторона дела несомненна, то есть стуки в спиритических сеансах происходят. Вопрос состоит в том, кто стучит и обо что. Тут не два первичных вопроса, а один. Всякий стук есть колебание воздуха, следовательно, для произведения звука нужно средство привести воздух в колебательное состояние. Спрашивается поэтому: что же приводит здесь воздух в колебание?
Гипотеза спиритов состоит в том, что души умерших не перестают существовать, хотя и остаются в форме, лишенной материи. Известные лица… могут быть посредниками, «медиумами» между остальными присутствующими и этими духами, повсюду находящимися. В спиритическом сеансе от присутствия медиума духи становятся деятельными и производят разного рода физические явления и, между прочим, стуки, ударяя о тот или другой предмет, близкий к медиуму и отвечая условным образом на вопросы, к ним обращенные…
Гипотеза эта, – продолжал Менделеев с тонкой насмешкой, – не объясняет прямо того – почему в речах духов отражается ум медиума, отчего у интеллигентного медиума речь духа иная, чем у неразвитого. Чтобы помирить это наблюдение с мыслью о духах, допускают глубокое влияние медиума на духов: под влиянием глупого медиума и умный дух тупеет, а глупый, под влиянием интеллигентного медиума, становится гораздо более развитым. Дух ребенка или жителя другой планеты может говорить только то, что знакомо или мыслимо медиумами, словом, по гипотезе спиритов, становится рабом медиума. Вот эта-то идея, столь сходная с идеею гномов и ведьм, чертей и привидений, и послужила главным поводом к распространению и обособлению спиритического учения…
– Не подлежит, однакоже, никакому сомнению,-Менделеев переходил к диагнозу общественной болезни, симптомы которой только что описал, – что в спиритизме многие, не удовлетворенные современным строем идей, современными принципами, видят какой-то исход к лучшему в будущем…»
Чтобы завуалированная, очень осторожно – в обход цензуры – выраженная им мысль была лучше понята, Менделеев ссылался на стихи поэта Полонского, помещенные в журнале «Неделя». Духи, к которым обращаются разочарованные, усталые, слабые люди, задыхающиеся в душной атмосфере реакции, не видящие реального просвета впереди, – эти духи -
невежды иль шуты
Родные дети пустоты, Тоски, неверья, увяданья. Они – фантазия, без крыл
И вот бескрылая фантазия, плод душевной опустошенности, приводящей к вере в загробный мир и во всякую чертовщину, предстала перед суровым и беспристрастным судом науки.
Комиссия Физико-химического общества решила устраивать свои заседания в пустой и свободной квартире Менделеева. Спириты взялись представить на испытание знаменитых медиумов, пользовавшихся признанием самого Крукса. «Сам Крукс» – это был сэр Виллиам Крукс, видный английский естествоиспытатель, открывший таллий и занимавшийся исследованием потоков электронов в пустоте, которые тогда назывались «катодными лучами». Крукс возглавлял группу английских ученых, пытавшихся подвести научные основания под спиритические «явления».
А. Н. Аксаков – большой барин и весьма состоятельный человек – специально съездил в Лондон, чтобы привезти оттуда «медиумов», неких братьев Петти. Они специализировались в области «материализации духов». Это означало, что в их присутствии вызванные на спиритический сеанс духи умерших особенно охотно проявляли свое присутствие, причем способами, вполне доступными для восприятия простых смертных.
Нужно было быть заядлым спиритом – человеком, совершенно потерявшим чувство реальности, чтобы не испытывать глубокой неловкости при виде солидных и серьезных научных деятелей, располагающихся за круглым столом рядом с заведомыми профессиональными обманщиками, рассчитывая через их посредство вступить в сношения с «загробным миром».
Петрушевский признавался, что он приступил к рассмотрению медиумических явлений хотя и неохотно, но довольно равнодушно. «Но я не мог бы приступить еще раз к занятиям такого же рода без чувства отвращения и даже унижения, – говорил он впоследствии, – так как вся требуемая сторонниками спиритизма обстановка этих занятий странна, деспотически подавляет свободную пытливость и вообще бесконечно далека от всего, чего требует точная и гласная наука». Спириты – Аксаков, Вагнер и Бутлеров, – ощущая всеобщее недоброжелательство к своим покровительствуемым, чувствовали себя тоже натянуто. Один только Менделеев был весел и весь захвачен азартом игры. Любопытно все-таки схватить за руку мошенника в тот самый момент, когда он уверен, что ему удалось вас хитро провести! А что он имел дело, с одной стороны, с людьми, ослепленными суеверием, и, с другой стороны, с жуликами – в этом он не сомневался ни на одно мгновение.
«Материалы для суждения о спиритизме», опубликованные Менделеевым, весьма примечательны. Прежде всего там собраны подлинные протоколы «Антиспиритической комиссии», составленные с большой тщательностью. Необходимость особой осторожности при обращении со спиритами была широко известна. В статье «Естествознание в мире духов» Энгельс отмечал как общее явление, что «спириты нисколько не смущаются тем, что сотни мнимых фактов оказываются явным надувательством, а десятки мнимых медиумов разоблачаются как заурядные фокусники. Пока путем разоблачения не покончили с каждым отдельным мнимым чудом, у спиритов еще достаточно почвы под ногами…»[46] Имея в виду эту цепкость спиритов, члены комиссии были исключительно внимательны к точности своих протоколов.
Но что действительно превосходно, так это комментарии к этим протоколам самого публикатора. В книге нет страницы, которая бы обходилась без сносок, заканчивающихся неизменным: «Добавил Д. Менделеев». Есть примечания к примечаниям и еще раз примечания ко вторым примечаниям. Все они полны яда, задора и пленяют своей непосредственностью.
Из этих-то вставок, сносок и примечаний к «Материалам» вырисовываются такие подробные и живые картины работы спиритической комиссии, какие наверняка не могли бы уцелеть в связном рассказе очевидца.
Например, в протоколе написано: «Г. Менделеев сказал, что, вместо заказывания новых столов, можно было бы и старые столы просто оградить таким образом, чтобы к ним нельзя было прикасаться ногами. На это было отвечено г. Аксаковым, что всякие сплошные перегородки мешают медиумическим явлениям».
Примечание Менделеева: «Да никто и не говорил о сплошных. Предлагали рамку обтянуть материей и сравнивали это с сеансом пред занавеской, чтобы доказать, что сила, принимаемая свидетелями, действует через матерчатую преграду. Д. Менделеев».
Аксаков в протоколе протестовал против какого-то упущения в записях. Менделеев тотчас делает сноску: «Наши спириты были чересчур счастливы, видевши невоспроизводимое».
Вагнер высокомерно заявлял, что «тысячи давно убедились в существовании медиумических явлений». «Так что же! – восклицает в примечании Менделеев. – Ведь, еще большее число лиц убедилось в том, что солнце ходит, а земля стоит, что погода в ильинскую пятницу – есть предсказатель верной жатвы и т. д. Ведь, науке до этого убеждения нет дела, у нее выработались веками свои способы убеждения…»
По этим пылким откликам, которые, к сожалению, невозможно цитировать подряд, и чопорным замечаниям «свидетелей» – спиритов-легко представить себе своеобразную обстановку, в которой работала комиссия: вытянутые лица Аксакова и его секундантов, сконфуженных медиумов и Менделеева, зажигающего от нетерпения спички в самый торжественный момент появления «духа». Но попробуем восстановить ход событий по порядку.
По требованию спиритов ученые участники первого сеанса погрузились в полутьму. Наигрывал музыкальный ящик. Тихая музыка, как предполагалось, способствовала наступлению у медиумов особого состояния, называемого «трансом». Это состояние, бессознательное и бесчувственное, как сон, сопровождалось иногда речами, напоминающими бред, и движениями, подобными конвульсиям. Братья Петти, сколотившие себе кругленькое состояние на легковерии столичных мистиков, привычно выполняли ритуал сеанса. Уже послышалисьнечленораздельные всхлипывания семнадцатилетнего Чарльза. Вскоре Аксаков объявил, что начало сеанса ознаменовалось большой удачей. Медиумам удалось материализовать «дух», который проявил себя каплями «потусторонней» жидкости, появившимися на листе бумаги, разостланном на столе.
Но скептически настроенные члены комиссии нашли, что «духу» ничто не должно помешать материализоваться в виде капель на бумаге и в том случае, если рот всхлипывающего Чарльза будет завязан платком. Сказано-сделано. Однако «дух» обиделся на такое непочтительное обращение с медиумом и «материализоваться» больше не пожелал.
Между тем Менделеев тихонько отобрал у Петрушевского лист бумаги с «медиумическими каплями» и отправился с ним прямехонько в лабораторию, благо она была под боком. Когда он вернулся, лист был покрыт красноватыми пятнами. Он прочел над ним маленькую лекцию. Менделеев объяснил, что в человеческой слюне содержатся синеродистые соли. Присутствие их в самых малых количествах обнаруживается раствором солей окиси железа, ибо при взаимодействии этих реактивов образуется новое вещество, весьма ярко окрашенное в красный цвет. И он выразительно потряс перед комиссией листом бумаги с яркокрасными крапинками – следами «духа», обработанными окисью железа…
У комиссии хватило все же терпения и выдержки, чтобы собраться еще раз с братьями Петти, которые должны были побудить «духа» дать новые доказательства подлинности своего существования: на этот раз позвонить в колокольчик и переместить
птичью клетку, спрятанную за занавеской. Для верности, руки старшего брата Петти были привязаны к туловищу полотенцем. Колокольчик, который стоял на столе, под перекрестным огнем бдительных взоров членов комиссии, разумеется, остался неприкосновенным и не зазвонил, а когда старший брат Петти, высвободив руки из-под полотенца, пытался тихонько пролезть за клеткой под занавеску, Менделеев, в этот самый момент, осветил его спичкой. Спириты были возмущены, но, тем не менее, братьев Петти пришлось экстренно доставлять обратно в Англию, как не оправдавших доверия духовидцев.
Их место на сеансах заняла тоже англичанка, некая госпожа Клаир, энергичная дама, которая держала «духов» в полном повиновении. Она заставляла их, по первому требованию, резво подбрасывать столы, на которые все присутствующие должны были возлагать руки. Духи лишились своих способностей управлять движениями стола только тогда, когда Менделеев приспособил к нему резиновые подушечки с трубками, отведенными к манометрам. С помощью этих манометров можно было точно определить, в каком именно месте стола под видом «духа» осуществлялся самый натуральный плотский нажим на столешницу. Но госпожа Клаир объяснила, что манометрический стол не располагает «духов» к общению, а Менделеев соответствующее место протокола снабдил следующим примечанием:
«Когда я сидел еще подле г-жи Клаир и нас всех заставили приблизиться к столу, я обводил своею ногою под столом, желая предупредить возможность подбрасывания стола ногою из-под низу стола, например ударом под столешницу. При этомраз моя нога встретила нечто упругое и длинное, подобное, насколько я могу судить по моментальному впечатлению, кринолинной пружине… Желая убедиться в том, духовный или железный характер носит на себе это впечатление, я тотчас затем посмотрел на пол, и хотя там было темновато, я успел увидеть нечто белое (как бы конец кринолинной пружины), скользнувшее под юбку г-жи Клаир».
После того как это наблюдение было обнародовано, столы, которые, по выражению одного спирита. до тех пор ходили у госпожи Клаир, «как собачки», даже и без манометров оставались неподвижными во все время сеансов.
Аксаков оскорбленно заявил в комиссию протест против вызывающих действий Менделеева. «Когда уселись за стол, – сообщил он. – то вскоре раздались стуки в столешнице со стороны медиума; вслед за ним раздались более сильные стуки в другом месте; я заявил, что стуки эти делались ногою г. Менделеева… г. Менделеев признал, что стучал действительно он. Вскоре затем стол приподнялся с противоположной г. Менделееву стороны; я опять заявил, что это сделано г. Менделеевым носком ноги, и он признал, что стол был действительно приподнят им…» (Здесь к протоколам прилагается сноска Менделеева: «г. Аксаков хорошо следил за мною, а я за медиумом…»)
Аксаков продолжал: «Относительно опыта с маленьким столиком, поставленным на стол… о котором в протоколе сказано, что «он только колебался, а поднятия его не произошло», следует добавить, что покуда этот стол производил под руками медиума различные движения, г. Менделеев постоянно касался пальцами до одной ножки его, то об-хватывая, то придерживая ее». (Примечание Менделеева: «Этого, право слово, я не делал!» и примечание к примечанию: «Сколько мне ни случалось видеть подобные сеансы, я постоянно встречал одно общее явление: как стол двинется, скользнет по полу, один, двое побледнеют, руки у них охолодеют; иногда они и алеют, и видно, что им страшно. В массах не распространено никаких понятий о непроизвольных движениях, и в этом кроется одна из причин успеха спиритизма. Достаточно столу двинуться, чтобы шанс распространения спиритизма возрос. Оттого-то спириты и налегают на опыты в домашних кружках».)
Спириты несколько воспрянули, когда у Бутлерова, во время очередного сеанса, чудесным образом исчез платок. Но тут внезапно появился отсутствовавший Краевич, который присоединил к протоколу комиссии особое мнение, где изложил, что тайно наблюдал за комнатой через круглое окошечко в двери. «Все обстоятельства сеанса произвели на меня такое впечатление, – отметил он, – что чудесное исчезновение платка г-на Бутлерова не могу приписать ничему иному, как проворству рук мисс Клаир».
Взбешенный упрямством оскандалившихся спиритов, Менделеев, не дождавшись окончательного решения комиссии, выступил с разоблачениями спиритизма на организованном специально для этого публичном чтении. Аксаков заявил, что поспешность, с которою было приступлено к этому чтению, не соответствовала беспристрастному и серьезному характеру истинно ученого исследования. Менделеев поместил в своем сборнике «Материалов для суждения о спиритизме» и это заявление Аксакова, которое тотчас сопроводил запальчивой репликой:
«Готов служить мишенью господам спиритам- это меня даже забавляет, мне бы дело делалось… До того же, что мои поступки при этом будут не нравиться кому-либо, право, мне нет никакого дела!»
Сказанного достаточно, чтобы составить себе представление о том, какого накала достигли страсти. Решение комиссии, состоявшей из крупных ученых, произвело огромное впечатление не только на русскую, но и на мировую общественность. Корреспондент парижской газеты «Тан» в своих сообщениях утверждал, что «спиритизм не оправится от нанесенного ему удара».
Не лишне привести здесь полностью это решение, в котором авторство Менделеева выпирает из каждой строки.
Комиссия установила:
«1) Те из явлений, относимых к спиритическим, которые происходят при наложении рук, как, например движения столов, совершаются несомненно под влиянием давления, оказываемого намеренно или ненамеренно присутствующими, то-есть относятся к числу бессознательных или сознательных мускульных движений; для объяснения их нет надобности допускать существование какой-нибудь новой силы или причины, принимаемой спиритами.
2) Такие явления, как поднятия столов и движение предметов за занавеской или в темноте, носят несомненные признаки действий обманных, производимых медиумами преднамеренно. Когда приняты достаточные меры против возможности подлога, подобные явления не происходят, или обман изобличается.
Стуки и звуки, признаваемые спиритами за осмысленные медиумические явления, могущие служить для сношения с духами, суть самоличные действия медиумов и имеют тот же самый смысл и такой же характер случайности или хитрости, как гадание или ворожба.
Разряд явлений, приписываемых влиянию медиумов и называемых спиритами медиумопластическими, как-то: материализация отдельных частей тела и появление целых человеческих фигур, относится к числу явлений подложных, как об этом должно заключать не только по недостатку точных доказательств, но и а) судя по отсутствию пытливости в лицах, признающих подлинность этих явлений и описавших ими виденное, б) судя по тем предосторожностям, какие требуются обыкновенно спиритам и медиумам от лиц, перед глазами которых эти явления должны совершаться, в) судя, наконец, по неоднократным случаям, когда медиумы были прямо изобличены в том, что совершали такие явления самолично, или через посредство лиц, участвовавших в обмане.
В своих манифестациях лица, подобные медиумам, пользуются, с одной стороны, бессознательными, непроизвольными движениями присутствующих, с другой – доверчивостью честных, но легковерных людей, обмана не подозревающих и против него мер не принимающих.
Большинство последователей спиритизма не обладают ни терпимостью к мнениям лиц, не видящих в спиритизме ничего научно-нового, ни критическим отношением к предмету своих верований, ни желанием изучать медиумические явления с помощью обычных в науке приемов исследования.
А между тем спириты с особенной настойчивостью распространяют свои мистические воззрения, выдаваемые ими за новые научные истины. Эти воззрения принимаются многими на веру, потому именно, что соответствуют стародавним суевериям, с которыми наука и правда давно борются. Люди науки, увлекшиеся спиритизмом, относятся к нему почти исключительно как праздные любители зрелищ, а не как пытливые исследователи явлений природы…
На основании всей совокупности узнанного и виденного, члены комиссии единогласно пришли к следующему заключению: «спиритические явления происходят от бессознательных движений или от сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие».
Бутлеров, с самого начала работы комиссии, стал тяготиться своей ролью «научного» спирита. Это заметил проницательный Достоевский, который в очередном «Дневнике писателя» так характеризовал позицию Бутлерова: «Умный и достойный всякого постороннего уважения человек, стоит, хмурит лоб и долго добивается: «Что же это такое?». Наконец махает рукой и уж готов отойти, но в публике хохот пуще, и дело расширяется так, что адепт поневоле остается из самолюбия».
Бутлеров принял урок, который получил от друга…
Спиритизму был нанесен удар. Но тьма российской реакции, под кровом которой разросся этот привозной, ядовитый цветок духовной немощи, продолжала сгущаться.
Смутное настроение владело Менделеевым, когда он посылал в набор последние листы «Материалов для суждения о спиритизме». В заключительных примечаниях, сделанных в последний момент, нет уже ни следа задора, озорства и веселого оживления борьбы. Они похожи на искреннюю и небрежно написанную страничку из дневника, словно ненароком приклеившуюся к рукописи:
«Кончая книгу, я испытываю для меня новое, сложное ощущение, в котором смешались радость, сожаление, печаль, грусть, ожидание, – писал Менделеев. – Кончая другие книги, ничего подобного никогда не происходило во мне. Рад я концу книги, тяжелое бремя сбыл. Сожалею о том, что зачинал дело комиссии; думалось, что… имеешь дело с научным вопросом, оказалось, это вопрос совсем какой-то другой, а только уж никак не научный. Оттого и жаль, что вмешался. Печалюсь и грущу, потому что вижу, как правду хочет оседлать кривда, не мытьем хочет взять, так катаньем. Ожидаю… ожиданий много. Ожидаю и устройства аэростата, и разных сюрпризов от господ спиритов, и от океана, через который собрался плыть, от Америки и даже от самого себя…»
Менделеев отправился в Америку… С этой поездкой связан выход другой его книги «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвании и на Кавказе».
ХVII. МЕНДЕЛЕЕВ ПРИХОДИТ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ЧТО «НОВАЯ ЗАРЯ НЕ ВИДНА ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА»
Нефтеперегонные заводы задыхались, хирели и замирали, будучи не в состоянии соперничать с американским ввозным керосином, потому что установленная правительственными чиновниками система взимания акциза за переработку нефти в корне подрывала развитие нефтяного производства. Акциз взимался по емкости перегонных кубов, имевшихся на заводе, и по времени перегонки. Поэтому тяжелые сорта нефти, которые перегонять приходилось дольше, использовать было невыгодно. Непереработанная нефть стояла озерами в своих земляных амбарах, медленно впитываясь в песок. Если акциз не вносился вперед за неделю, кубы опечатывались и работа завода приостанавливалась. Добывание дозволения на новую гонку было сопряжено с длиннейшей процедурой. Когда некоторые промышленники попытались, следуя совету Менделеева, ввести непрерывную перегонку, они не могли получить разрешение на открытие таких установок. Чиновники не знали, как брать с них акциз.
Русское техническое общество решило найти выход в испытанном уже приеме: заинтересовать в изменении существующего нетерпимого положения казну. Для этого нужно было доказать, что обложение, поощряющее, а не задерживающее развитие промыслов, может принести большой доход казначейству. Материалы к соответствующему докладу должны были собрать Менделеев, командированный для этого на американские нефтепромыслы, и профессор Горного института Лисенко, направленный с той же целью в Баку.
Так Менделеев очутился на пароходе «Лабрадор», совершавшем регулярные рейсы через Атлантический океан. Пароход натравлялся в Нью-Йорк, откуда по железной дороге Менделееву предстояло перебраться в Пенсильванию.
Менделеев взял себе в спутники своего ассистента Гемилиана, в совершенстве владевшего английским языком.
На одиннадцатые сутки в левой стороне от парохода вытянулся низкий песчаный мыс Санди Хук. Вдалеке вырисовывались гористые берега с холмами Нью-Джерсея. С парохода открывалась панорама Нью-Йорка.
Первым американским впечатлением Менделеева было посещение парохода живым сухощавым карантинным доктором с розой в петлице. Ему нужно было удостовериться в отсутствии среди пассажиров заразных болезней. «Он этой обязанности не выполнил», – отметил Менделеев в записях своих путевых впечатлений. Доктор посидел в курительной комнате с корабельным врачом. Они немножко выпили, и доктор, вполне удовлетворенный, отбыл. Менделееву объяснили, что это посещение стоит кораблю каждый раз 50 долларов. Это вполне деловая комбинация, потому что если доктор не будет достаточно любезен, то за время действительного осмотра и вынужденной стоянки пароход сожжет угля на много большую сумму.
Между тем берега сузились, и Менделееву, с любопытством в них всматривавшемуся, стали видны подробности Бруклина, лежащего на правой стороне Гудзона.
Но вот протяжно закричали матросы, кидая причальные канаты. Загремели цепями опускающиеся сходни. Нарядная толпа пассажиров на скрипучих досках набережной, забросанной апельсинными и банановыми корками и обрывками газет, смешалась с потоком встречающих. Черные носильщики с чемоданами пронзительными воплями прокладывали себе дорогу среди сладкоречивых гостиничных агентов, разносчиков сладостей и фруктов. Путники погрузились на извозчика, и коляска закачалась по тряской мостовой. «Я был поражен невзрачным видом улиц знаменитого города, – записал в своих нью- йоркских заметках Менделеев. – Они не широки, вымощены булыжником и чрезвычайно плохи, хуже, чем улицы Петербурга или Москвы. Магазины и лавки напоминают не Петербург, а уездные города России».
Разместившись в гостинице близ Юнион-сквера, Менделеев, в сопровождении Гемилиана, отправился побродить пешком по городу. Его подмывало поскорее познакомиться с его жизнью.
Нью-Йорк был весь заткан паутиной бесчисленных проводов. Электрическое освещение, три года назад впервые в мире заменившее два керосиновых фонаря на одной из окраин Петербурга, возле Преображенского плаца, еще не дошло сюда из маленькой лаборатории А. Н. Лодыгина. Сеть бесчисленных проводов, в несколько этажей перекрывавшая улицы Нью-Йорка, несла лишь слабые токи телеграфной связи. По рельсовым колеям катили «расписанные картинками» дилижансы.
Путешественники вышли на улицу, на которой все нижние этажи домов были заняты магазинами. Менделеев отметил, что улица эта напоминала не Кузнецкий мост, а Никольскую в Москве, или Гороховую в Петербурге, но никак не Невский проспект. Здесь появились другие дилижансы, которые ехали прямо по мостовой. На них было написано «Вroadway».
– Неужели мы находимся на Бродвее? – спросил Менделеев.
Спросили у прохожего. Оказалось, и впрямь Бродвей. «Впечатление от этой улицы было самое неважное, – записал Менделеев в своем отчете о путешествии. – Ожидалось видеть нечто гораздо более благоустроенное, поразительное, красивое, чем оказалось в действительности».
Уличная толпа казалась судорожно торопливой. Все эти мужчины в котелках, просторных сюртуках и клетчатых брюках, плотно обтягивавших икры, женщины в пышных юбках, которые приходилось придерживать на быстром ходу, чтобы они не мели улицы, – все они куда-то спешили, все были поглощены снедающей заботой.
Они торопились-дела приковывали все их помыслы, гнали их вперед и вперед. Но почему повсюду там много объявлений о сдающихся в наем квартирах? Почему за сетчатыми железными воротами на замках открываются мертвые, безлюдные заводские дворы? Почему магазины сплошь затянуты коленкоровыми вывесками, изо всех сил зазывающими покупателей обещаниями «дешевой распродажи»? «Вы попали к нам в неудачное время, – говорили ему американцы в ответ на недоуменные вопросы. – Полоса застоя, наступившая три года назад, еще не миновала. Торговая и промышленная деятельность еще не успела вернуться к жизни после недавнего «страшного краха».
Менделеев возвращался в гостиницу полный раздумий. Он видел скверы, все скамейки на которых были заняты спящими людьми. Бездомные!.. На окраинных улицах он наблюдал пестрые картины нищеты, вытесненной из парадных деловых кварталов. Нищета просила здесь милостыню по-итальянски, по-немецки, по-шведски – на всех языках мира. Она рядилась в лохмотья, привезенные из Ливерпуля или Марселя, из Ливорно или Триеста. И она была еще более безнадежной: истощенные лица, отчаяние во взоре.
Что касается американского нефтяного производства, то вся картина для него была ясна уже в первые недели пребывания в долине реки Аллегани, где были расположены главные нефтяные промыслы. Избрав отправным пунктом станцию Петролия – центр нефтяных богатств Америки, – он не ленился пешком обходить десятки нефтеносных участков, обнесенных некрашенными дощатыми заборами. Самым старым из них не было еще и двадцати лет.
На этом месте, когда жившие здесь индейские племена были уже стерты жестокими пришельцами с лица земли, раскинулся город Раузевилль. Почти до 1858 года здесь горючее масло добывали из ям при помощи шерстяных тряпок. Они вписывали в себя масло охотнее, чем воду. Потом их выжимали. Такова была первая сепарация нефти. Через шесть лет, когда началась «петрольная горячка», земля около первых нефтяных колодцев оценивалась уже в 1-2 миллиона долларов. 1859 год отшумел, как эпоха «первого колодца Дрэка». Дрэк был изобретателем. О нем на промыслах говорили с добродушной усмешкой, пожимая плечами: несерьезный человек! В Тэйтусвилле ему принадлежало 25 акров земли. Когда в этих местах стали добывать нефть, он предложил вставлять в землю железные трубы и в них вести бурение. Выгоды из этого изобретения, в сотни раз ускорявшего и удешевлявшего проходку любых скважин, извлекали другие. Эдвин Дрэк приобрел на этом деле только мифическое звание «полковника», с которым и вошел в историю нефтедобычи[47]. Слух о «капитане», а затем «полковнике» Дрэке был распространен ловкими дельцами, торговавшими его изобретением. До тех пор пока оно не заговорило само за себя, надо было привлечь покупателя авторитетом имени его автора. Между тем, для того чтобы закончить свои опыты, «полковнику» Дрэку пришлось продать свой участок за 10 тысяч долларов. Через год его участок стоил 90 тысяч долларов, а еще через несколько лет оценивался в полмиллиона. Дрэк закончил свои опыты с новыми скважинами, но к этому времени у него отняли все юридические права на его изобретение, он ходил с заплатами на коленях и подстреливал по нескольку центов на пиво у старых друзей. Он еще несколько лет толкался по участкам, оборванный и пьяный, и только в 1873 году, чтобы избавиться от этого призрака, этого живого укора общественной совести, пенсильванское законодательное собрание назначило ему крохотную пенсию…
Зачем Менделеев публиковал в своей книге о путешествии в Америку подобные факты? Они не нужны были для выполнения его поручения. Ему следовало познакомиться с федеральными законами обложения акцизом нефтяного производства. А он изучал законы, определявшие меру добра и зла в поступках людей. По этим законам Дрэку никто не делал зла, общественная совесть могла спать спокойно. Непрактичный чудак! Он сам был виноват в своих злоключениях. Помочь удержаться на поверхности человеку, который умел только творить? Это значило покушаться на его свободу. По неписанному закону капиталистических джунглей никто не должен вмешиваться, если американец хочет подойти слишком близко к пропасти.
Менделеев был неутомим. Не было границ жадности его наблюдений. Ему до всего было дело. Он замечал и жалкие, небрежно сколоченные амбары для хранения инструментов, и приземистые бараки для рабочих, и вышки, кое-как сколоченные из грубого теса. «Дело делается, видимо, настолько, лишь бы пригодно было для торговли», – замечал он. Производить надо ровно столько, сколько можно тотчас сбыть, а там хоть трава не расти! В бурении он не обнаружил никаких следов механизации. Зачем? Кризис еще не кончился, безработица в разгаре, рабочие руки нипочем.
Менделеев писал в своей книге: «В устройстве механизмов, заменяющих ручную работу, нельзя видеть ни стремления избавить людей от тяжелого труда, ни желания получать совершенство в выполнении, потому что на долю большинства людей, приставленных к машинам, выпадает труд громадный, и от них требуется большая внимательность, а где этого последнего не нужно, там работа при машинах поручена детям, в результате же нет никаких признаков совершенно выполненной работы». У кого он искал заботы о человеке? У охотников за прибылью, извлекаемой из детских жизней!..
Керосиновые заводы оказались весьма примитивными. «В перегонке не видно и следа изучения, внимания и стремления к совершенству», – писал Менделеев. Варварски непроизводительные перегонные кубы были настоящими истребителями топлива; Менделеев спрашивал, почему их не заменят более экономичными. Владельцы пожимали плечами. Зачем? Ведь сейчас кризис. Нефть дешева, уголь тоже. А переделка аппаратуры стоит дорого. Но разве у владельцев завода не болит душа за испорченное добро? Американец вежливо переспрашивал. Он не понимал вопроса. Здесь все было рассчитано до последнего цента, что выгодно, что невыгодно, что стоит беречь и чего не стоит беречь. Что ж, собственно, смущало мистера Менделеева?
О, его смущало очень многое… Великолепнейшие леса сводились на корню. На лесопильных заводах обрабатывалось только самое лучшее дерево. В крупных хозяйствах запахивались только самые лучшие участки земли. Менделеев спрашивал, почему это так. Ему отвечали: американец верит в будущее, ему естественные богатства кажутся неисчерпаемыми. Не будем этого называть варварством. Просто американец деловит, и ему свойственно несколько грубоватое отношение к природе…
Менделеев проходил километр за километром вдоль нефтеносных участков, и оказывалось, что все пологие холмы Аллеганской долины, на которых пасутся стада, все неустроенные земли с редко разбросанными фермами, все одинокие нефтяные вышки в степи принадлежат одному и тому же таинственному и безликому «Стандарт Ойл». Это было название нефтяной компании, захватившей почти весь нефтеносный район, контролирующей почти всю нефтяную промышленность. «Стандарт Ойл» – это был псевдоним банкирского дома Рокфеллеров, знак крушения идеала «свободной конкуренции». Можно было без труда установить, как это крушение произошло.
То были последствия разгула стихии «свободного капитализма» – бури очередного промышленного кризиса, пронесшегося над Америкой.
За три года до приезда Менделеева в Америку ударом «страшного краха» закончился период стихийного разлива предпринимательства. В это время закладывались сотни новых заводов, шахт, рудников, вокруг которых вскипала оргия безудержной спекуляции. Менделеев очень проницательно оценил в своей книге, как одну из главных предпосылок кризиса, горячку железнодорожного строительства, которая охватила Америку. Он отмечал «чрезмерное развитие железных дорог, не отвечающее производительности страны». Пример железнодорожного строительства действитель-
но был весьма характерен. Железные дороги в те времена удлинялись на тысячи миль в год. Наспех уложенные пути прокладывались в пустынях, где их не ждали еще никакие грузы. Именно к этому периоду относились описанные Жюль Верном приключения Филеаса Фогга, который «прыгал» на паровозе через рассыпавшийся на глазах мост. Небрежно настланные насыпи, легкие мосты… Компании по эксплоатации новых линий, возникающие, как пузыри после дождя. Строительство дорог обгоняло заселение новых районов. Хлынет ли по ним поток искателей, откроются ли там золотые россыпи, обнаружится ли нефть, – кто мог за это поручиться? Может случиться, что грузы потекут в другие места или их еще долго не будет вовсе. Дорога не понадобится. Но так как в игре принимает участие множество участников, средства на строительство притекают из тысячи рук, пестрые бумажки акций обмениваются на золото на десятках бирж, сотни маклеров собирают жатву доверчивости мелких держателей, то о чем же беспокоиться!..
Наживающиеся на кризисе дельцы самодовольно говорили Менделееву: «Добродушное войско не может рассчитывать на победу». А для него весь вопрос был в том, за что ведется война… Он не видел никаких радостей, никаких высоких идей в жизни, которая завоевывалась ценой отречения человека от всего человеческого, ценой превращения его в волка, грызущего других волков, чтобы не быть растерзанным самому. Он печально подводил в своей книге итог своих американских разочарований: «Нажива стала единственной целью…»
Он ожидал, что в стране «свободного капитала» за наукой будет признано ее значение. Напрасные надежды! «Я обращался ко многим ученым для получения ближайших сведений о научной разработке нефтяных вопросов в Америке, – писал он. – Был немало удивлен, узнав, что ни с химической, ни с геологической стороны нет еще у американцев ответов на самые первые научные вопросы, относящиеся к нефти». И в другом месте: «Научная сторона вопроса о нефти, можно сказать, в последние десять лет не двинулась. …В Америке… заботятся добыть нефть по возможности в больших массах, не беспокоясь о прошлом и будущем, о том, как лучше и рациональнее взяться за дело; судят об интересе минуты, и на основании первичных выводов из узнанного. Такой порядок дела грозит всегда неожиданностями и может много стоить стране. Затраты на науку окупаются тем, что она видит многое заранее, предупреждает, разбирает возможное, отбирает существенное из кучи практических подробностей. В Американских Соединенных Штатах нет еще такого развития науки…»
Побывав в Филадельфии, Менделеев оттуда поехал почти прямо на запад – через Гарисбург в Питтсбург. Там его познакомили с проектом нового нефтепровода, который должен был пересечь материк. Он интересовался экономическими обоснованиями проекта. Ему хотелось узнать, как учитывались интересы развития производительных сил отдаленных районов. Еще один удар! Предприниматель, который ему демонстрировал проект, «главным поводом для проведения труб в Филадельфию… выставлял стремление… отнять по возможности у Нью-
Йорка всю нефтяную торговлю». Бизнес! – ват единственный владыка дум, стремление схватить за горло конкурента – вот единственный двигатель технического развития.
Менделеев присутствовал на торжественном обеде у морского министра, на который были приглашены дипломаты и другие министры с семействами. Во время обеда зашел разговор о суде, который происходил в то время над военным министром, попавшимся во взяточничестве. Когда подали мадеру, хозяйка, по свидетельству самого Менделеева, сказала с улыбкой:
– Вы можете пить спокойно. Это вино куплено еще до того, как мой муж сделался министром…
От приемной министра до конторы партийного «босса», угрозой и подкупом добывавшего нужному кандидату голоса на выборах, вся политическая жизнь также была проникнута «бизнесом». Это слово переводилось в данном случае не только как «продажность». Политика сама была бизнесом и, в то же время, была служанкой бизнеса. Менделеев, со свойственной ему прямотой, называл вещи своими именами. Он написал в своей книге: «Все, что пришлось узнать относительно местных политических партий и способов их действий, чрезвычайно мало говорит в их пользу… Политикой занимаются там, как и всюду, немногие узкие специалисты, называемые в Америке «политиканами». Хотя политикой интересуется всякий, но действуют в ней и руководят массой людей, занимающихся практическими делами, немногие политиканы, которые при помощи политического движения обделывают преимущественно свои дела».
Третий месяц путешествия – июль 1876 года – был на исходе. Пора было думать о возвращении домой. Перед Менделеевым снова открылся безбрежный простор океана. Наступила пора для приведения в порядок всей груды впечатлений, вынесенных из странствий по Штатам, для собственных выводов, для решений…
Новые настроения царили на пароходе. «Вперед все ехали веселые, довольные увидеть страну образец, – писал Менделеев в своих путевых записках, – в которой и места довольно и свободы деятельности довольно… В чем-либо да ошиблись возвращавшиеся».
В чем же?
«Скучали не от того, что оставили Америку, возвращались домой, – продолжал он, – а от того, что оставляли в Америке веру в правдивость некоторых идеалов… В Америке думалось найти их подтверждение, нашлася куча опровержений…»
О каких идеалах он говорил? Это были идеалы, навеянные движением русской демократии, с которой он вырос. Это они делали его способным на сильную и смелую критику американской действительности. Менделеев наблюдал картины буржуазного быта: «отсутствие каких-либо идеальных стремлений», «политические неурядицы», «вражду к неграм», вообще «взаимную вражду национальностей», «стремление политикой, кампанейскими приемами, прессой нажить и нажиться», «пользование трудом тех безответных, которые лишены капитала». Передавая в путевых заметках свои разговоры с возвращавшимися, Менделеев заключал: «Всем было ясно, что в Северо-Американских Штатах выразились и получили развитие не лучшие, а средние и худшие стороны европейской цивилизации. …Новая заря не видна по ту сторону океана».
«Побывать в Америке поучительно, – писал он. – Но оставаться там жить не советую никому из тех, кто ждет от человечества чего-нибудь, кроме того, что уже достигнуто, кто верит в то, что для цивилизации неделимое есть общественный организм, а не отдельное лицо… Им, я думаю, жутко будет в Америке…»
Чего же он хочет, к чему он сам будет стремиться после всех пережитых разочарований? Что ждет его на далекой, до боли любимой родине? Что посоветует он ей? Какой путь для нее он провидит в неясной дали?
Русская действительность была по-своему мрачна. Менделеев и об этом писал в своей книге, пользуясь, во избежание цензурных придирок, распространенным в то время приемом иносказания, благо публика была давно уже приучена к «чтению между строк».
Но как ни худо в России, как ни велико зло «организованного аристократизма», как ни злобно- консервативны высшие сферы, но ни разумом, ни чувством Менделеев не мог примириться с американским путем развития страны, с этим царством «всемогущего доллара», «мещанства, правящего и господствующего». Нет, нет… Только не это! Но тогда что же?
Менделеев не сумел подняться до понимания научно обоснованной Марксом и Энгельсом исторической обусловленности смены одного общественного уклада другим. Он не понимал, что крушение капитализма и смена его социализмом так же неизбежны, как наступление дня после ночи, что только социальная революция в состоянии ликвидировать вековечное противоречие между «государственным» и «частным», «общим» и «личным».
Во время приезда Менделеева в Америку в дымном Питтсбурге вспыхнула первая большая всеобщая забастовка рабочих, прокатившаяся до Сан- Луи. Он не догадался, что первые пикеты забастовщиков, которые он видел, первые очаги сопротивления молодого рабочего класса своим поработителям – это и были провозвестники подлинной свободы и демократии, это и была та заря, которая уже горела во всех уголках мира – и в России ярче, чем где бы то ни было.
XVIII. МЕНДЕЛЕЕВ УВЛЕКАЕТСЯ ИСКУССТВОМ
В августе 1876 года, ко времени возвращения Менделеева из путешествия за океан, к семье Капустиных, прочно осевшей уже в Петербурге, присоединилась подруга Нади Капустиной – донская казачка Анна Ивановна Попова. Дочь отставного казачьего полковника, она привезла в хмурый Петербург из родных степей румянец во всю щеку, русые косы до пят и неистребимую жизнерадостность. В «Воспоминаниях» Надежды Яковлевны Капустиной-Губкиной, с которыми у нас уже был случай встречаться, содержится такое описание внешности ее приятельницы: «Это была высокая, стройная и статная девушка с грациозной походкой, густыми золотистыми косами, которые она носила скромно подвязанными черными лентами у затылка, но они украшали ее красивую голову. Всего же более украшали ее большие светлые глаза, с недетским серьезным выражением на детски округленном лице, с нежным румянцем и густыми красивыми бровями. Голос у нее был тоже нежный и приятный».
Анна Ивановна немножко играла, немножко рисовала, хотела учиться и тому и другому, но когда пришлось выбирать, со всей беспечностью семнадцати лет положилась на свою подругу. Надя решила серьезно учиться живописи. Анна Ивановна последовала за ней.
Девушки поступили в Академию художеств. Ученицы Русской Академии художеств были окружены атмосферой чуткой, дружеской внимательности студенчества. «С какой гордостью вспоминаю я нашу русскую молодежь, – писала впоследствии Анна Ивановна, – когда много лет спустя в Париже в «Школе изящных искусств» ученицы, допущенные в первый раз в эту школу, были встречены свистками, гиканьем, грубыми и взбалмошными выходками тамошних студиозусов…»
Но в преподавании царила рутина. Девушки это в полной мере осознали, конечно, только потом, когда при содействии Дмитрия Ивановича окунулись в поток молодого русского реалистического искусства. Профессора обходили учеников и делали замечания: «У вас, на рисунке, извольте видеть, глаз мал, подбородок длинен, нос не на месте». «Но научить смотреть на натуру не умели». Все художественное воспитание учеников ограничивалось срисовыванием гипсовых слепков классических статуй и исполнением этюдов на сюжеты древней истории. Тема первого самостоятельного этюда, который получила Анна Ивановна, была такова: «Клеопатра, едущая к Антонию по Нилу». В. П. Верещагин, который вел класс этюдов, получив работы Анны Ивановны, начертал поперек Клеопатры: «Сделать еще раз». Ей не посчастливилось: он вошел в копировальную как раз в тот момент, когда Анна Ивановна восседала в профессорском кресле, а ее друзья, в четыре руки, доканчивали за нее этюд.
В семье Капустиных, в разговорах, чаще всего поминалось одно имя: с благодарностью, с восхищением, с преклонением, с гордостью, с надеждой. Это было имя Дмитрия Ивановича Менделеева.
Анна Ивановна впервые увидела его на университетском акте. Он немного опоздал и появился уже тогда, когда все остальные профессора заняли свои места. Он появился среди лысин, тщательно расчесанных бакенбард, орденских лент простой, скромный, одухотворенный и стремительный. «Он шел скоро, всей фигурой вперед, как бы рассекая волны», – вспоминала она потом свое первое впечатление. «Неужели это ваш дядя?»-наивно спросила она Надю Капустину. Надя ответила: «Да». Девушка смотрела на него и удивлялась, как у него могут быть такие обычные племянники – как у всех… Художественное воображение подсказывало ей образ, который остался в ее воспоминаниях: «олень, вбежавший в домашнее стадо».
В апреле 1877 года Капустины переехали в квартиру Дмитрия Ивановича. Она была устроена так, что он мог на семейной половине и не показываться. Из его комнат был ход через кабинет в лабораторию и другие помещения университета.
По воскресеньям Дмитрий Иванович присутствовал на обеде за общим столом. «Я сидела все время молча, испытывая какой-то страх и непреодолимое смущение», – так рассказывала Анна Ивановна про свою вторую встречу с человеком, которого она уже готова была полюбить.
Вечером она обычно играла на рояле. Однажды порывисто отворилась дверь, Дмитрий Иванович остановился на пороге, хотел что-то сказать, не сказал ничего и ушел к себе. Анна Ивановна тихонько закрыла крышку рояля и тоже убежала.
Она не прикасалась к роялю несколько дней. Екатерина Ивановна заметила это и усмехнулась: «Поиграйте, матушка, поиграйте, у него нынче экзамены, может быть, добрее будет…»
Постепенно лед таял. Дмитрий Иванович появлялся по вечерам.
Обычно он приходил с шахматами. Ему составляли партию либо старшие мальчики Капустины, либо Анна Ивановна.
Однажды они остались за шахматами одни. Она задумалась над очередным ходом и унеслась мыслями далеко от клетчатого поля с двухцветными фигурками на нем. Ее вернуло в комнату ощущение воцарившейся глубокой тишины. Она взглянула на Дмитрия Ивановича и окаменела: он сидел, закрыв лицо руками.
Никогда, – сказал он вдруг тихо, как бы про себя, – никогда я так не чувствовал своего одиночества.
Он смотрел на нее широко открытыми глазами, словно впервые что-то поняв или разглядев в ней, и неожиданно, с огромной нежностью, произнес:
Простите, я не должен вас смущать…
И, как всегда быстро, он поднялся, рассыпал шахматы и вышел из комнаты.
Больше он у Капустиных не показывался. Почувствовав тревогу, Екатерина Ивановна переехала на маленькую квартирку, которую сняла неподалеку. Но, рассказывая об этом бегстве в своих воспоминаниях, Анна Ивановна вспоминала изречение Рабиндраната Тагора: «Можно ли бороться с урага- ном? Может ли река противиться морскому приливу?»
Никакое бегство помочь уже не могло.
Тихая менделеевская квартира преобразилась. Раз в неделю – по пятницам, потом по средам – она стала наполняться гулом молодых голосов. Капустины и Анна Ивановна получили приглашение бывать на менделеевских вечерах. Можно ли было от этого отказаться? Менделеев собирал всех, кто был ему дорог в искусстве и в науке. Случилось чудо: затворник вышел в свет – Менделеев стал посещать выставки, мастерские художников. В его натуре была художественная жилка. Нетрудно догадаться, какой повод позволил выявиться его художественным пристрастиям. Но художники над этим не задумывались. Они чистосердечно радовались, что неожиданно на их горизонте появился новый глубокий знаток и ценитель искусства. Они с нетерпением ждали его откликов на каждую новую работу и поражались верности и широте его суждений. В память о той помощи, которую он оказал их творчеству, они впоследствии избрали Дмитрия Ивановича Менделеева действительным членом Академии художеств. А он, в свою очередь, настолько увлекся искусством, что стал покупать картины. Художественные магазины присылали к менделеевским «средам» новые художественные издания. Именно здесь, у одного из друзей Менделеева, известного уже нам по противоспиритической эпопее Ф. Ф. Петрушевского, родился замысел создания книги о красках. Это была первая книга для художников о научном видении мира, о законах сочетания цветов в природе, о математике прекрасного.
У Менделеева постоянно бывали Крамской, Ярошенко, Репин, Мясоедов, Куинджи и другие «передвижники». Когда Куинджи выставил свою известную картину «Ночь на Днепре», выставка не могла вместить всех желавших ее посмотреть. Образовалась очередь, тянувшаяся вдоль всей Морской улицы. Профессионалов живописи поражала новизна художнического приема, которым была написана луна и блеск воды. О свете у Куинджи с восторгом говорил Крамской.
– Мерцание природы под этими лучами – целая симфония, могучая, высокая, настраивающая меня, бедного муравья, на высокий душевный строй. Я могу сделаться на это время лучше, добрее, здоровее…
Менделеевские раздумья над картиной были очень интересны.
«Перед Днепровской ночью А. И. Куинджи, как я думаю, забудется мечтатель, у художника явится невольно своя новая мысль об искусстве, поэт заговорит стихами, в мыслителе же родятся новые понятия – всякому она даст свое».
Он хотел поделиться «своими» мыслями, которые были внушены ему – естествоиспытателю – произведением искусства. Это были отрывочные мысли вслух, наскоро записанные для газетной заметки[48].
Менделеев писал о том, что в древности пейзаж хотя и существовал, но не был в почете. Даже у великанов живописи XVI столетия пейзаж если был, то служил лишь рамкою. Он приводил неожиданную аналогию: венцом науки в те времена служили математика, логика, метафизика – «думаю и пишу, однако, не против математики, метафизики или классической живописи, а за пейзаж, которому в старине не было места. Время сменилось. Люди разуверились… в возможности найти верный путь, лишь углубившись в самих себя… и было понятно, что, направляя изучение на внешнее, попутно станут лучше понимать и себя…»
Мысль Менделеева исключительно интересна: появление пейзажа в живописи он связывал с отказом от субъективного идеализма в познании, с появлением интереса к изучению объективной реальности.
«Стали изучать природу, – продолжал он, – родилось естествознание, которого не знали ни древние века, ни эпоха Возрождения…
Венцом знания стали науки индуктивные, опытные…
Единовременно, если не раньше, с этой переменою в строе познания родился пейзаж. И века наши будут характеризовать появлением естествознания в науке и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы, вне человека… Как естествознанию принадлежит в близком будущем еще высшее развитие, так и пейзажной живописи между предметами художества. Человек не потерян как объект изучения и художества, но он является теперь не как владыка и микрокосм, а как единица в числе».
В этих прекрасных строках заключен целый гимн материалистическому миропознанию.
Но вернемся из менделеевского «салона» к событиям его личной жизни, которые впервые занимали его так глубоко.
Отец Анны Ивановны был встревожен холодностью, которую она проявила при встрече с женихом, терпеливо дожидавшимся в Новочеркасске окончания ею художественного образования. «Вы, вероятно, полюбили кого-нибудь?» – спросил он. Она спокойно отвечала: «Нет, никого». Она не лгала: то, что она испытывала, еще не было любовью, – это было лишь предчувствие любви. Во всяком случае, эта ее встреча с женихом была последней. Отец приехал в Петербург и узнал правду. Дмитрий Иванович получил отказ от Феозвы Никитичны на свою просьбу о разводе. Отец потребовал от Анны Ивановны, чтобы она взяла с Дмитрия Ивановича слово не видеться с нею и победить свое чувство. Дмитрий Иванович такое слово дал…
Анна Ивановна в выпускных классах получила заказ: исполнить в карандаше «Последний день Помпеи» Брюллова. Несколько раз она переделывала копию, стараясь сделать как можно лучше. Самая удачная была приобретена за большие деньги. Случайно она узнала, что этим заказчиком, пожелавшим остаться неизвестным, был Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович не должен был давать слова, которое он был не в силах выполнить…
Его встречали в залах Академии художеств, где он бродил, разглядывая гипсовые слепки Гермесов и Персефон. Ученики и ученицы академии, выходившие после вечерних классов, видели высокую фигуру, закутанную в черный плащ с пряжками из львиных голов, скрывавшуюся в тени портала. В гостиных Петербурга появилась новая тема для сенсационных рассказов.
«Моя жизнь шла обычным порядком»,-рассказывала в своих воспоминаниях Анна Ивановна. В этот порядок входило посещение лекций но философии, истории искусства. Она бывала в театре, слушала музыку, играла сама. «Но ничто не могло заполнить пустоту души, все мне казалось тусклым и бледным».
В пресном мире, плотно окутавшем ее, исчезло движение. Вместе с ним ушли все мысли, которыми она привыкла жить, все краски, формы красоты, которую он научил ее по-новому воспринимать – неотделимо от содержания. Ушло чувство, которое поднимало ее незаметно для нее самой. Она вспоминала его слова: «Я хочу быть ступенькой, по которой вы могли бы подняться к настоящему искусству». Однако отец пристально следил за ее душевным состоянием. Оно было таково, что он настоял на немедленном отъезде за границу. Она готова была заколебаться, уступить чувству. Почему она этого не сделала? «Не оправдать доверия отца было бы бесчеловечно», – писала в своих воспоминаниях Анна Ивановна, оправдывая решение ехать.
Она уехала в декабре 1880 года. Дмитрий Иванович привез на вокзал рекомендательные письма к знакомым художникам, проводившим зиму в Риме. Прощание было молчаливым и простым. Когда поезд тронулся, он стоял без шляпы. Туман окружал его голову тусклым сиянием.
Она еще не умела беречь ни своих, ни чужих чувств, и, во всяком случае, она не допускала и мысли о возможном превращении драмы, в которой она играла приятную роль героини, в трагедию. Анна Ивановна безмятежно наслаждалась переменами. Все ее радовало, даже обвал, который преградил путь через Апеннины. Несколько дней она жила в маленькой гостинице для извозчиков. Содержательница этого постоялого двора поила ее по утрам кофе с ослиным молоком. Не дождавшись поезда, пассажиры целой компанией решили отправиться через горы на лошадях. Красота гор, стада овец и коз на высоких зеленых плато, как комочки белой ваты… «Красота вечно величавая… была передо мной – я радовалась своему бытию».
Себялюбие молодости получило новую пищу по прибытии в Рим. В маленькой колонии русских художников ее приняли, как родную. В нарядных костюмах художники участвовали в традиционном карнавале. В задуманной пантомиме Анне Ивановне была отведена роль Спящей Красавицы, которую должен разбудить вместе со всем королевством прекрасный принц.
Между тем, когда в эти дни к Менделееву зашел Бекетов, он застал его среди беспорядочно раскиданных ворохов бумаг. Менделеев приводил в порядок свои архивы. Спокойно и устало он обратился к другу с просьбой. Он собирался на съезд химиков в Алжир. Путь далек. Во время него все может приключиться. В запечатанном конверте было отобрано самое дорогое: завещание детям, неотправленные письма к Анне Ивановне. Он писал их каждый день и опускал в особый ящик, приделанный им к своему письменному столу. Он не хотел смущать ее душевный покой безумными признаниями, которыми они были наполнены… Если с ним что-нибудь случится, пусть это не пропадет.
Бекетов взял конверт и, спрятав его, отправился прямехонько в Боблово. Он принял на себя последнюю вспышку бесплодного отчаяния Феозвы
Никитичны. Горесть одиночества, мучительная ревность к счастливой избраннице лишали ее способности рассуждать. Но Бекетов приехал к ней не только как личный друг Дмитрия Ивановича. Он говорил, что быть спутницей в жизни человека науки – прекрасный подвиг, на который не все способны. Соединяясь с любимым, принимаешь на себя часть его жизненной ноши. А у людей научного труда она особенно тяжела. Бекетов говорил не о праве на любовь к женщине, а о великой страсти к познанию. Пусть Феозва Никитична вспомнит: разделяла ли она когда-нибудь благородные заботы своего бывшего мужа, участвовала ли в них хотя бы как безмолвно сочувствующий друг? Пыталась ли она когда-нибудь понять, как необходимы для будущего родной страны те пути, которые прокладывают самоотверженные исследовательские искания? Дмитрий Иванович – великий химик, гордость России. Но, при всем том, он только человек, с самой обычной жаждой счастья, душевного устройства. Вправе ли она теперь этому помешать, сама не сумев в свое время занять никакого места около него, не сумев ничем ему помочь?
Она рыдала, прижав к лицу похолодевшие руки. О чем? Быть может, о том, что не нашлось близкого друга, который с этими же словами пришел бы к ней много лет назад, когда еще можно было повернуть жизнь по-иному…
Бекетов явился с согласием Феозвы Никитичны на развод. Он застал Дмитрия Ивановича в последнюю минуту перед отъездом на алжирский научный конгресс. Дмитрий Иванович выслушал новость и весь как-то посветлел. Бекетов провожал его до самого парохода и, стиснув руку на прощанье, с тревогой заглянул в глаза. Менделеев ответил ему открытым взглядом, в котором сияли благодарность и надежда.
В списках участников апрельского съезда химиков в Алжире, состоявшегося в 1881 году, имя Менделеева не появилось. Вместо Алжира он очутился в Риме.
Из Рима счастливая пара умчалась от всех знакомых, и друзей с такой поспешностью, что Анна Ивановна не успела даже с кем-либо проститься.
Они опомнились только в Каире, где им впервые пришло в голову обсудить создавшееся положение. Дело о разводе, в сущности, только начиналось. Консистория, которая этим заведывала, могла наложить на Менделеева, как это в действительности и произошло, длительное церковное покаяние, так называемую епитимью. Пока длился срок епитимьи, а он мог исчисляться годами, вступление в новый брак было невозможно. Горизонт совсем не был так безоблачен, как это могло показаться влюбленным на первый взгляд. Но их счастья не могло уже омрачить ничто. Они решили временно не показываться на любопытные глаза Петербурга. Для этого представлялся отличный повод: крупный нефтяник Рагозин давно уже просил Менделеева помочь ему устроить лабораторию для исследования нефти и разработки новых способов промышленного получения нефтяных продуктов на одном из его поволжских заводов. Сейчас это предложение оказывалось очень кстати, тем более, что Феозва Никитична, в своей печали, не позабыла оговорить право на получение всего университетского жалования Дмитрия Ивановича, главного его достатка.
Из Каира молодые попали в Испанию. Они бродили по старым улочкам Севильи, под зелеными арками из одичавших виноградных лоз. Погонщики быков, темноглазые испанки в пышных, цветистых юбках, покачивающиеся на высоких седлах по дороге к базару, цирюльники с медными тазиками в руках, – она не могла скользить по всему этому богатству красок, орнаментов, характеров поверхностным взглядом равнодушного путешественника. Она жадно вбирала в свою память художника и неправдоподобную лазурь неба, и воздушность каменных кружев арабских мастеров, и гротескные фигуры обедневших, но неизменно надменных идальго в потертых бархатных куртках. Она вздохнула с облегчением, когда во время боя быков в Мадриде Дмитрий Иванович с негодованием отвернулся от торреадора, протыкавшего шпагой шею затравленного зверя, и брезгливо стал пробираться к выходу, среди рычащей и воющей толпы.
Пересадка на пути в Толедо происходила на маленькой станции, где они очутились ночью. Станция стояла одиноко в поле, и в ожидании поезда они сидели на ступеньках перрона, лицом к степи. Земля дышала дневным зноем. «Яркие звезды, теплый ветерок, тишина, нарушавшаяся только треском кузнечиков, и вдруг вспомнилась мне, – рассказывала в своих записках Анна Ивановна, – такая же станция в степи, такой же ласковый ветерок там – далеко, далеко». Они переглянулись и сразу без слов поняли, что ими владело одно и то же стремление: домой, скорей домой, в Россию.
Через несколько дней они уже были на Волге. На верхний плес ходили смешные маленькие пароходики с высокими трубами и хлопающими колесами. Медленно плыли назад заливные луга и смирные стада на них, рыбачьи слободки, выстроившиеся на крутом высоком правом берегу, подплывали и исчезали вдали шумные пристани, пестреющие платочками баб. Негромкий говор грузчиков, слова команды, неторопливые рассказы на открытой палубе о пожарах и неурожаях, родная речь кругом… Завод Рагозина отыскался между Ярославлем и Романово-Борисоглебском. Далеко были видны с реки его невысокие здания, плотно прижавшиеся к холму.
Поселились над Волгой. Вечерние зори купались в тихой воде. У Анны Ивановны было вдоволь времени любоваться рекой. Дмитрий Иванович все время проводил на заводе. «Одиночество меня не томило», – читаем мы в записках Анны Ивановны, относящихся к этим дням. Она вспоминала детскую беспечность и свободу. «Здесь – глубокое сознание, что выполнено то, что надлежало выполнить – покорность высшему…»
В январе 1882 года, после возвращения Менделеева в Петербург, священник Адмиралтейской церкви в Кронштадте нарушил запрет консистории и повенчал Дмитрия Ивановича Менделеева с Анной Ивановной Поповой, вопреки семилетней епитимье. На следующий же день после совершения над «грешником» обряда венчания священник был лишен сана.
В этом же году у Анны Ивановны родилась дочь Люба, будущая жена поэта Александра Блока.
Старший сын Дмитрия Ивановича Володя учился в Морском корпусе. На праздники он приходил домой. К нему присоединялся его друг – Алеша
Крылов, по прозванию «Езоп», будущий академик, кораблестроитель, Герой Социалистического Труда. Специально для Анны Ивановны и мальчиков Дмитрий Иванович составил коротенький курс химии, и одна из комнат квартиры превращалась на время в импровизированную химическую лабораторию. Великий мастер эксперимента показывал и объяснял увлекательнейшие опыты. Кто не позавидует его крохотной школе!
Возобновились прославленные менделеевские «среды». В доме снова появилась студенческая молодежь. Гостей ждало простое угощенье: чай, бутерброды, легкое красное вино. «Все чувствовали себя хорошо и свободно», – вспоминала Анна Ивановна.
Всех привлекал горевший в этом доме ровным пламенем свет дружбы. Вся жизнь Дмитрия Ивановича состояла из могучих порывов. Мыслям, делам, которые его захватывали в данный момент, он отдавался целиком. Он очень хорошо себя знал с этой стороны и боялся размениваться на мелочи. «Когда бывало в деревне, – рассказывала Анна Ивановна, – его просили взглянуть на какие-нибудь производившиеся там работы – рытье колодца, постройку, – если у него в это время было какое-нибудь другое дело, он сердито отказывался, потому что знал, что увлечется и потеряет много времени. Ограничиться только советом он не мог». Семье он тоже успевал отдавать только немногие часы. С утра он сразу же садился работать. Он работал без передышки до пяти с половиной. На полчасика выходил гулять, иногда отправлялся покупать фрукты, игрушки для детей или принадлежности для своих занятий. В шесть все садились за молчаливый обед. Дмитрий Иванович ел мало. Уже погруженный в свои мысли, он никогда не дожидался третьего и уходил в свой кабинет. Иногда работал допоздна и, чтобы никого не будить, остаток ночи проводил на своем жестком диванчике, обитом полосатым тиком, где сам стелил себе постель. Он спал мало, но очень крепко. Анна Ивановна рассказывала, как однажды в поезде, в котором он ехал, возник пожар. Его спутник по купе, англичанин, разбудил его только тогда, когда огонь появился уже в коридоре их вагона. «Почему вы меня не разбудили раньше?»- вскричал Менделеев. «Вы очень хорошо спите», – отвечал англичанин.
Утром он выпивал большую кружку теплого молока и снова садился за работу. И так изо дня в день.
Она героически переносила испытание будней, постоянную разлуку – вблизи. Иногда, особенно когда он сильно уставал, он заходил на минутку в ее большую светлую комнату, где она обычно рисовала. Как всегда, он не умел выразить обуревавшие его чувства, но она так хорошо знала его… Она тихонько гладила большую руку, которая с непривычной лаской опускалась ей на голову, и он быстрыми шагами уходил к себе, к своему бесконечному, неимоверному, титаническому труду.
Однажды Анна Ивановна для костюмированного бала у Репиных оделась в костюм русалки. Именно эту роль соблазнительницы-наяды иные пытались ей приписать и в жизни. Пока она примеряла головной убор из блестящей чешуи к своему славному простодушному румяному русскому лицу, пока бегала в кабинет Дмитрия Ивановича показаться и проститься и в детскую – поцеловать Любу, ее подруга, Екатерина Андреевна Бекетова, успела написать посвященный ей стихотворный экспромт. Стихи не слишком хороши, но содержат несколько живых штрихов портрета:
…Эта пестрота воздушного наряда, Все эти жемчуга, кораллы и цветы, Надетые тобой на праздник маскарада, – Русалочий убор, но не русалка ты. Нет, чистое как снег, беззлобное созданье. Объятия твои на гибель не манят, И не сулят уста холодные лобзанья. Коварством не блестит твой чистый, ясный взгляд. Ни вызова в нем нет, ни хитрого признанья… Наряд тебе к лицу, и в нем ты хороша, Но все ж сердца влечет к тебе неотразимо Не вид волшебницы, а женщины душа И сердце женщины, любившей и любимой…
Текла жизнь, наполненная постоянным ожиданием, большими заботами и маленькими радостями. «Я не думала тогда, что это и было счастье, – писала Анна Ивановна уже в глубокой старости, – я не замечала его, как не замечают чистого воздуха».
Через два года после замужества она снова стала матерью. Родившегося сына назвали Иваном. Еще через два года у Менделеевых родились близнецы: Мария и Василий.
XIX. СПОР С НОБЕЛЕМ
В 1876 году Д. И. Менделеев был избран членом-корреспондентом Российской императорской Академии наук. Он ответил на извещение об его избрании иронической благодарностью «за высокую честь, какая не соответствует моей скромной деятельности на поприще наук».
Оснований для иронического отношения к званию, которым обычно удостоивались молодые ученые, было больше чем достаточно. В составе действительных членов Академии наук числились такие корифеи мировой науки, как Зинин, Бутлеров, математик Чебышев, ботаник Фаминцын. Но там не было выдающихся биологов Мечникова, Сеченова, Ценковского, историка литературы Пыпина, избрание которого в академию было опротестовано и отменено графом Д. А. Толстым.
А он отослал «благодарность» – и забыл. Впору ли обращать внимание на мелкие уколы самолюбия, когда жизнь казалась вдохновенной песней и труд как бы излучал новый свет! В примечаниях к своим работам Менделеев сопроводил книгу «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании», оконченную в 1878 году, пометкой: «Книга вышла полна разного интереса (тогда я уже любил Анну Ивановну)». Какая гармония чувств скрывается за этими сдержанными словами! Страсть и творчество, сплетенные в едином могучем порыве духа.
Книга «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании» закономерно и естественно связана с работами Менделеева по изучению газов. В его собственных высказываниях по этому поводу мы найдем, вместе с тем, указания на судьбу его воздухоплавательных начинаний, с которыми мы уже успели познакомиться.
«Исследования, произведенные мною в 70-х годах, над законами, управляющими разреженными газами, – писал Менделеев в обращении к читателям своего труда, – заставили меня интересоваться верхними слоями атмосферы, где воздух естественным образом находится в том состоянии малой плотности, которое определяется малым давлением. Этот интерес привел меня в область метеорологии верхних слоев воздуха. А отсюда прямой переход к изучению воздухоплавания, дающего единственную возможность познать эти неизведанные края океана, омывающего сушу и воду. Мною овладело желание проверить на особо приспособленном аэростате тот закон перемены температуры с давлением разных слоев атмосферы, который я вывел… из совокупности имеющихся до сих пор наблюдений, произведенных при высоких аэростатических поднятиях, начатых в России Захаровым и выполненных потом французами и англичанами, соперничающими друг перед другом в опытном изучении верхних слоев атмосферы. И мне за облаками хотелось померяться с ними сноровкой и догадкой. Выполнение этого желания, – в приличных делу размерах, необходимых для дальнейшего успеха изучения, требовало, однако, столь больших средств, что я ими не мог располагать. Чтобы их приобрести, я издал две книги: перевод отличного сочинения Мона «Метеорология» – не было еще нигде, ни одной столь полной и современной книги – и «Материалы для суждения о спиритизме», которым тогда много занимались. Конечно, я рассчитывал на спрос этих и еще двух, прибавленных, более специальных – моих сочинений («Об упругости газов» и «О барометрическом нивелировании и высотомере») и назначил могущую оказаться выручку (от 1876 до 1880 г.) на первые расходы для осуществления моего желания. Те книги не пошли, до сих пор еще не окупились, лежат у меня. Но эта неудача не охладила моего интереса к воздухоплаванию, которое теперь привлекло меня само по себе, когда я ближе стал с ним знакомиться».
Дальше Менделеев говорил о том, что близки успехи в попытках «произвольного перемещения в воздухе в желаемом направлении, то есть управления полетом».
Он вновь и вновь подчеркивал, что «Россия приличнее для этого всех других стран. У других много берегов водяного океана. У России их мало, сравнительно с ее пространством, но зато она владеет обширнейшим, против всех других образованных стран, берегом еще свободного воздушного океана. Русским поэтому и сподручнее овладеть сим последним… с устройством доступного для всех и уютного двигательного снаряда… начнется новейшая эра в истории образованности».
Нас не поражает уверенность, с которой Менделеев говорил о наступлении воздухоплавательной эры в 1878 году, когда на попутных струях ветра не вздымались еще даже бамбуковые корзинки первых планеров. Еще не поднимался в воздух А. Ф. Можайский – русский творец самолета, опередивший на двадцать лет братьев Райт. Деятель передовой науки постоянно живет будущим. Предвидение рождается из знания. Тому, кто удивляется проницательности научного предсказания, ученый представляется либо кудесником, либо безудержным мечтателем. А между тем с научной мечты начинается проектирование. Мечтать в науке – это значит додумывать до конца все выводы, вытекающие из современного развития знания. Менделеев обладал необходимыми для этого мужеством, настойчивостью, воображением, а, главное, чувством ответственности перед своей страной и народом в большей мере, чем кто-либо из ученых в его время.
Вместе с тем он отлично сознавал, насколько велики трудности, преодоления которых потребует осуществление мечты о гордом парении механической птицы или воздушного корабля в поднебесье. Представитель высокой, крылатой науки, он не стал заниматься разработкой полуфантастических частностей взволновавшей его проблемы, как это сделал бы ученый-дилетант.
Блистательный новатор и строгий исследователь, Менделеев подавал пример скромности бойца «переднего края» науки, для которого нет в науке непочетных дел, заслуживает приложения усилий все, что двигает науку вперед. Каждая атака за пределы границы известного должна быть подготовлена кропотливым, упорным, повседневным, будничным трудом. Менделеев снова принимал его на свои могучие плечи. Заложенные им основы новых областей исследования окончательно сформировали в России Николай Егорович Жуковский и Алексей Николаевич Крылов – крупнейшие представители двух родственных отраслей знания: аэродинамики и мореплавания. Менделеев ждал их появления, он сознавал, что своей работой он прокладывает путь для других.
«Идя на войну, – писал Менделеев в предисловии к своей работе, – надо предварительно узнать и приготовить многое, чтобы успех был возможен, потому что одного порыва, доброй воли и храбрости для успеха мало, хотя без них вся внешняя подготовка может быть напрасною, так и в каждом научном завоевании: успех возможен только при надлежащей подготовке, соединенной с твердою уверенностью в необходимости, пользе и благе от предпринимаемой борьбы с природными силами слабыми внешними средствами, сильными лишь этой уверенностью. Главную подготовку для овладения воздушным океаном, первое орудие борьбы, – составляет знание сопротивления среды, или изучение той силы, против которой придется бороться, побеждая ее соответствующими средствами, в том же сопротивлении жидкостей берущими свое начало. Вот почему, вникнув в существо задач воздухоплавания, я обратился прежде всего к вопросам сопротивления среды».
Ход рассуждений Менделеева был таков:
Очевидно, что при движении любого тела в воздухе ему приходится преодолевать сопротивление воздуха. На это и затрачивается работа, необходимая для приведения тела в движение. Движущую же силу можно получить только в том случае, если в самом воздухе будет найден упор, подобно тому, как тело, передвигающееся в воде при помощи весел, колес или винтов, находит упор в самой воде. Этой «опорой» для отталкивания при движении в воздухе является то же самое сопротивление воздушной среды, против которой приходится бороться. Законы сопротивления среды позволяют до известных границ объединить изучение сопротивления жидкостей и газов. Изучением различных видов движения жидкостей: в широких и в узких потоках, спокойного течения и разделенного на вихри, изучением вязкости, трения в жидкостях и т. п. занимались со времен Ньютона очень широко. Менделеев ожидал, что ему понадобится лишь перенести найденные при изучении жидкостей закономерности на газы. Но он был разочарован, обнаружив полный разброд во взглядах исследователей по самым элементарным вопросам сопротивления жидкостей.
То, что для различных задач науки о движении жидкостей – гидродинамики- не удавалось находить общих решений, объяснялось их трудностью и своеобразием. Уже после смерти Менделеева, рассказывая на первом Менделеевском съезде по общей и прикладной химии в 1907 году о его гидродинамических исследованиях, крупнейший русский гидродинамик Н. Е. Жуковский подчеркивал, что даже в то время исследователь все еще не мог «без опыта сделать выбора между различными теоретически возможными течениями, которые могут образовываться около рассматриваемого тела». Эти течения могут привести к застою жидкости перед носом и кормой, могут дать струи, сходящие с тела, могут образовать вихревые кольца и т. д.
«Только прямой и твердый опыт укажет теоретику, с какой задачей гидродинамики он имел дело и в каком смысле должен он рассматривать явление».
Разочарование в несовершенствах гидродинамики Менделеев высказывал в своей книге весьма непосредственно: «Надобно было думать, что в применении к кораблестроению и кораблевождению вопрос разработан с полнотою. Оказалось, что корабли строят и до сих пор ощупью, пользуясь многоразличною практикой, а не расчетом, основанным на теории или на опытах сопротивления. В таком деле, как плавание по воде, это и возможно. Опыт веков уже велик, а ощупью, догадкою и наблюдательностью можно улучшить то, что давно существует. Не таково воздухоплавание. Опыты полета, за исключением аэростата, который до сих пор не властелин, а раб ветров, поныне были, как известно, еще мало успешны. А между тем птицы летают, аэростатом уже сумели бороться противу слабого ветра, а потому есть уверенность и в том, что когда-либо достигнут и полной победы над воздухом, станут управлять полетом. Только для этого, очевидно, необходимо точно знать сопротивление воздуха, хотя бы настолько, чтобы им воспользоваться для первых, пока грубых, попыток борьбы с атмосферою… Недостаточность опытных данных о сопротивлении среды для полного решения задачи воздухоплавания, однако, столь очевидна, что я считал невозможным умолчать о неизбежной необходимости новых точных опытов, о их цели, о необходимых приемах и средствах, для выполнения их нужных».
Кстати сказать, ряд «новых точных опытов» Менделеев поставил сам и доложил о них в декабре 1879 года в общем собрании Русского физико-химического общества. И здесь он оставался верен себе. Главная цель его выступления заключалась отнюдь не в том только, чтобы доложить результаты интересного эксперимента, одного из многих в длинном ряду исследований падения тел в жидкостях. Он, заставляя крупные шары и бисер опускаться в спирте, воде и нефти, сделал из своих наблюдений множество ценных выводов. Но вывод, которым он больше всего дорожил, – ото вывод о громадном значении и широчайшей приложимости затронутой им области знания. От кораблестроения и воздухоплавания – до физиологии, изучающей движение соков в сосудах. И здесь Менделеев выступал как пламенный инициатор и вдохновитель новых работ. «Вообще недостаток опытных исследований явлений сопротивления составляет, по мнению Менделеева, – говорит сухая протокольная запись заседания физико-химического общества, – причину недостатка теоретических сведений об этом предмете, почему он не излагался в обычных курсах механики и физики, даже в обширных, а этот недостаток препятствует успехам мореплавания и воздухоплавания, которые, равно как многие теоретические области, выиграют от решения задач сопротивления. Поэтому г. Менделеев обращает внимание физиков и химиков на опыты и измерения, касающиеся сопротивления, так как многие из них легко доступны каждому».
Что касается его книги «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании», то это подлинная энциклопедия метода исследований в этой труднейшей области. Именно поэтому книга эта сохраняет
неувядаемую свежесть вплоть до наших дней. Сейчас уже о ней нельзя сказать, как говорил еще Жуковский, что она «может служить основным руководством для лиц, занимающихся кораблестроением, воздухоплаванием или баллистикой». Наука двигается в наши дни гигантскими шагами. Но до сих пор продолжают жить и развиваться методы исследования, отобранные, критически проанализированные и усовершенствованные Менделеевым в его монографии.
Менделеев внес, например, ряд новшеств в «способ круговращения», то есть метод измерения вязкости жидкостей по скорости раскручивания подвешенного на нити диска. Мы встречаемся ныне с этим методом повсюду – и в лабораториях и на производстве – при измерении вязкости и масел и расплавленных металлов и проч.
«Способ тяги», который Менделеев разработал со всей полнотой, нашел практическое приложение при создании в Петербурге Морского опытового бассейна, построенного по идее Менделеева, на что ссылался в своих воспоминаниях академик А. Н. Крылов. Этот бассейн был устроен так, что над ним двигалась тележка, к которой прикреплялась испытываемая модель судна. В этом опытовом бассейне академик А. Н. Крылов вместе с адмиралом С. О. Макаровым изучали условия непотопляемости судов. Эти опыты составили эпоху в мировом кораблестроении.
Менделеев предложил в своей работе применить для изучения сопротивления воздуха «весовой способ», который до тех пор применялся только для определения скорости течения рек. Этот способ состоит в подвешивании испытываемой модели в потоке газа и жидкости к пружинным весам. «До сих пор прием этот еще мало разработан, и если я упоминаю о нем, то имею в виду главным образом обратить внимание последующих наблюдателей на этот способ», – писал Менделеев. Достаточно взглянуть на гигантские «воздушные весы», с помощью которых в научно-исследовательских институтах определяется сопротивление отдельных частей самолетов и даже целых самолетов в аэродинамических трубах, чтобы с уверенностью сказать, что «последующие наблюдатели» полностью посчитались с менделеевскими указаниями.
Таков был корень, от которого шли столь многие побеги.
А вошедшие в книгу результаты прямых менделеевских опытов измерения трения жидкости о равномерно движущиеся цилиндрические поверхности! Предшественниками скольких проектов форсунок, разбрызгивающих нефть в топках котлов, скоростных турбин и газопроводов стали они! Между тем эти работы упоминаются в списке творений Менделеева самым мелким шрифтом, как выполненные «между делом». В действительности они относились к одному из главных дел его жизни, которое он видел в том, чтобы будить творческую активность русских исследователей во всех областях науки и техники, с которыми только ему удавалось соприкоснуться. Он отводил себе в медленном процессе роста науки и промышленности роль фермента – погонщика, ускорителя, регулятора[49].
На этой почве произошло знаменательное столкновение его с главой крупнейшей нефтяной компании, владетельным нефтяным бароном, родным братом динамитчика мировой известности – Людвигом Эммануиловичем Нобелем.
Прошло совсем немного времени с того дня, когда младший член династии, Роберт Нобель, с благословения Людвига Нобеля, начал развертывать свои первые нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия в Баку. Однако за какие-нибудь пять лет «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» успело выдвинуться в ряды крупнейших нефтяных объединений. Братьям Нобель можно было отказать во многих достоинствах, но только не в чуткости слуха. У нефтяных колодцев – Менделеев был прав – действительно оказалось золотое дно. Менделеев был прав, повидимому, и во всем остальном, чему он учил промышленников. Передовая фирма не скрывала, что к хорошим советам она всегда охотно прислушивается.
В 1909 году а Петербурге на веленевой бумаге, с рисунками известных художников был издан литературный памятник тридцатилетию фирмы – роскошный том, посвященный восхвалению деятельности товарищества и жизнеописанию его основателей. Хорошо оплаченный анонимный обозреватель достижений фирмы, не очень заботясь о том, чтобы связать все концы и начала, сообщал, что «каждое новое изобретение или даже просто удачно поданная мысль в русской или иностранной литературе, касавшаяся обработки или применения нефтяных продуктов, немедленно подвергалась проверочным опытам» в лабораториях фирмы и что в результате «здесь получили свое начало многие самостоятельные идеи, осуществленные затем в заводском производстве».
Среди этих «заимствованно-самостоятельных» идей с нагловатой развязностью упоминается идея использования нефтепровода, нефтеналивного флота, подхваченная, как мог заметить читатель, из первых же выступлений Менделеева «по нефтяным делам». Курьезны и другие сопоставления. В протоколах заседания отдела химии Русского физико-химического общества 3 марта 1883 года, под пунктом шестым, значится, что «Д. Менделеев, указав недостатки обыкновенной дефлегмации [50] при дробной перегонке смесей, подобных бакинской нефти, и признав их зависящими от перегревания паров, описал употребляемый им способ дробной перегонки для извлечения легких частей бакинской нефти». Способ этот давал возможность «выделять такие вещества, которые обычной перегонкой уединять было до сих пор невозможно».
Дальше следовало подробнейшее описание метода, в котором, по свидетельству одного из крупнейших знатоков этого дела, академика С. С. Наметкина, «нельзя не видеть идеи непрерывной перегонки, давшей столь плодотворные результаты». Фирма братьев Нобель безоговорочно присвоила себе и эту идею.
Впрочем, не все идеи, которыми руководствовалась в своей деятельности фирма, были украдены. Ей принадлежало несомненное первенство в изобретении системы бытового закабаления рабочих, служившей для облегчения борьбы с влиянием на массу бесправных тружеников профессиональных и политических организаций рабочего класса. Нобель не уступал ни Генри Форду, ни чехословацкому обувному королю Бате и в учреждении тайной заводской полиции, тесно связанной с охранкой, и в широком использовании всех методов провокации для расправы с вожаками рабочего движения.
Со страниц тома, посвященного тридцатилетию фирмы, из окружения тщательно подстриженных бород подставного чиновного «правления» на вас в упор глядят из-под нависших белесых бровей седые, холодные, решительные глаза конкистадора[51]. Людвиг Нобель изображен здесь в своем деловом кабинете у стола, на котором расставлены образцы его товаров. Высокий, худощавый, затянутый в строгий, пасторского покроя, черный сюртук до колен, он держит в руке свиток, напоминающий карту, с которой по живописной традиции обычно изображали мореплавателей. Капитан «корабля индустрии»… Корабля, плавающего под пиратским флагом.
В сущности говоря, это был именно тот тип предпринимателя, к которому Менделеев обращался в своих писаниях. Холодно-расчетливый и энергичный, ни перед чем не останавливающийся в достижении главной цели – своего обогащения – и в то же время двигающий вперед развитие промышленности, сильный и опасный хищник, впрочем, на первый взгляд готовый сократить свои аппетиты во имя «общих интересов», о которых умел говорить ласково и велеречиво. Чего еще надо?!
Менделееву, с его пошатнувшейся уже, но еще далеко не разбитой верой в добрую волю капитализма, надо было еще, чтобы служение «общим интересам» не звучало пустой фразой. Он хотел, чтобы Нобель всерьез посчитался в своей промышленной и торговой деятельности с интересами страны, ее трудового населения, быть может, даже несколько в ущерб интересам своей собственной мошны. Можно себе представить, насколько искренним было удивление Нобеля, когда Менделеев именно этого у него публично потребовал!
А вышло это так.
Под давлением Русского технического общества, которое полностью поддержало все практические выводы, сделанные Менделеевым из его американской поездки, нелепый акциз на нефть был в 1877 году отменен. Нефтяная промышленность сразу вздохнула свободно.
В мае 1880 года Менделеев снова побывал в Баку. Он поспешил рассказать о виденном через газету «Голос».
Значительность происшедших перемен его поразила. В начале 1876 года в Баку действовало не больше 30-40 буровых колодцев. За три года после снятия акциза на нефть число их достигло 350.
Вместо того чтобы возить нефтепродукты в бочках, для этого уже использовался нефтеналивной флот (первый нефтеналивной пароход «Зороастра» был изготовлен в Стокгольме по заказу фирмы Нобель). Нефть перевозилась уже не на арбах и не в бурдюках, а в цистернах, и перекачивалась по трубам. И этот совет Менделеева впервые восприняли нобелевские предприятия. Нефтяные остатки перерабатывались по рецептам, разработанным Менделеевым в бытность его на Константиновском заводе Рагозина. Кстати, сам Рагозин экспортировал свои первоклассные – менделеевские- масла за границу. Правда, в целом, переработка нефти еще отставала от добычи. Целые нефтяные озера ждали своего потребителя. «Масса нефти есть, – писал Менделеев. – Надо теперь эту массу суметь применить к делу…» Как же это лучше всего осуществить?
Менделеев протестовал против того, чтобы отождествлять нефтяное дело с керосиновым производством. Нефть – драгоценное сырье, которое нуждается в полной, разносторонней, комплексной переработке. В то время как фирма Нобель хвалилась достигнутыми ею успехами в «распространении нефтяного отопления», Менделеев писал, что с народнохозяйственной точки зрения это непроизводительнейшая растрата природных богатств, что использовать «под паровиками надо каменный уголь… а не сбиваться в сторону нефти. Есть, однако, негодные отбросы и низкие сорта нефти, дающие очень мало керосина и масел – их довольно для топки на заводах и под паровиками пароходов и локомотивов… Не противу этих экономически выгодных и неизбежных применений нефти, как топлива, говорю я, а против того учения, – что нефть наша есть истинный и выгодный заместитель каменного угля. Можно топить и ассигнациями».
Не это волновало Нобеля. Он отлично понимал то, что никак не мог взять в толк сам Менделеев, а именно: что предпринимателю принадлежала роль крыловского кота Васьки, а ученому-неблагодарная роль повара-усовещивателя. Васька слушал, да ел.
Но когда Менделеев начинал совсем некстати для фирмы объяснять, какие жертвы несет фирма Нобель, завозившая готовые бочки в Баку, чтобы оттуда отправлять во все концы России дорогой керосин, когда он на счетах, простыми арифметическими выкладками доказывал, насколько целесообразнее перевозить нефть наливом, а заводы для переработки нефти строить в местах потребления нефтепродуктов, в частности по Волге, – тут уже Нобель не мог не встрепенуться. Нобель знал, что и здесь Менделеев прав. Нобель действительно нес большие накладные расходы на перевозке готовых осветительных масел, но он их возмещал за счет потребителя. Превосходный нобелевский керосин ценился высоко. В отличной нобелевской упаковке он достигал самых отдаленных уголков страны.
С каждым днем Нобель все плотнее и плотнее прибирал к рукам и оптовую и розничную торговлю керосином, вытесняя из нее всех конкурентов. Им трудно было перехватить у него инициативу, соперничать с образцовой централизованной организацией сбыта нефтепродуктов, которую он наладил. В этой системе было одно уязвимое место, то самое, которое нащупал Менделеев Если бы действительно свободный капитал конкурентов, не скованный, как у Нобеля, крупными вложениями в бакинские нефтеперерабатывающие заводы, обратился к перевозке нефти наливом и, в противовес Нобелю, образовал ее переработку на местах, керосин сразу подешевел бы и стал бы широко доступным товаром даже для деревни. Нобелевский привозной керосин уже не смог бы конкурировать с дешевым керосином, производимым на месте. Зная эту подоплеку, можно понять ярость Нобеля, с которой тот читал такие, например, прокламаций Менделеева:
«Господа московские и всякие иные русские капиталисты, – продолжал Менделеев свою настойчивую пропаганду нефтяного дела. – Пустите ли вы французов, немцев, шведов, англичан и американцев эксплоатировать и это русское богатство и нажить на нем хорошие барыши или сами догадаетесь взять его, когда вновь вам указывает на большое наживное дело тот, кто давно следит за судьбой русской нефтяной промышленности и ничего больше не хочет, как того, чтобы она развивалась до тех размеров, какие соответствуют природным запасам страны… Покажите миру хоть в этом деле, что можете сами справиться со своим… Вам, господа русские капиталисты, предстоит осветить и смазать и Россию и Европу, разделив свою службу и честь с Америкой, по пути превратив четырехкопеечный продукт в пятирублевый, отчего пристанет кое-что и к вашим рукам и к рукам тысяч рабочих, которые потребуются для того, чтобы поворотить эти миллионы пудов, втуне лежащие под землей».
К «господам капиталистам» обращался голос всеми признанного авторитета. Возникала реальная угроза, что они его послушаются. Ведь он так убедительно заявлял, что здесь «нужны новые русские силы». Эти силы действительно могли появиться, и вместо акций товарищества братьев Нобель распространение могли и впрямь получить акции возможных заводов-конкурентов, хотя бы тех же волжан, за успех которых Менделеев с такой решительностью ручался. Все знали, что это была порука стороннего свидетеля, знающего, бывалого человека. Надо было во что бы то ни стало отвратить нависшую опасность.
Разумеется, первая идея, которая пришла в голову Людвигу Эммануиловичу Нобелю, идея вполне самостоятельная, хотя и не очень оригинальная, – купить молчание Менделеева. Менделеев получил блестящие предложения «консультировать» фирму. Он с гордостью отказался от этого. Тогда в суворинском «Новом времени» (№ 1663 от 14 октября 1880 года) против Менделеева выступил сторонник Нобеля, профессор горного института К. И. Лисенко, незаурядный ученый, специалист по технической химии, также занимавшийся нефтью. Лисенко распространялся о «громадном самомнении» Менделеева, огульно охаивал его «странные, чтобы не сказать более, проекты».
Менделеев выступил с ответом Лисенко. На отповедь он никогда не скупился. «Самомнение предполагает ложь, – писал он, – а это правда». Он крепко стоял на своей позиции независимого общественного деятеля. «Не лица отдельные, не частное зло, не интересы минуты побуждали меня, а я, по крайнему своему разумению, говорил и буду говорить о деле общем. Частности для меня лишь пример». Менделеев настаивал на том, что нефтяное производство тяготеет к центрам потребления. Его децентрализация таит в себе огромные преимущества и для производителя и для потребителя.
Тогда, не на шутку встревоженный, Нобель обратился в газету «Голос», где были помещены столь опасные для него корреспонденции Менделеева, с «открытым письмом профессору Менделееву», в котором содержался подлый выпад:
«Вы, Дмитрий Иванович, стоите на высоте науки. Вся русская печать удостоверяет вас в вашей европейской известности; следовательно, мы должны вам верить…» Дальше он объяснял, почему Менделееву верить не следовало. Он доказывал неправильность менделеевских расчетов выгодности районирования переработки нефти, демагогически оперируя ценами переделки нефти на существовавших в то время немногочисленных полукустарных волжских заводиках.
Менделеев с сердцем восклицал в своем ответе Нобелю: «Да дело не в цене переделки! – А в выгодности заводов, в выгодности сбыта, в учреждении большого народного дела, в развитии дела добычи, в удешевлении продуктов, в улучшении их качества…»
Сам по себе поднятый Менделеевым вопрос был настолько ясен, что редакция газеты «Голос»
решила на этом прекратить полемику. Нобель, однако, нисколько не был этим обескуражен. Последнее слово все равно должно было остаться за капиталом. Редактор «Голоса» А. А. Краевский мог с этим не согласиться, – издатель «Голоса» А. А. Краевский не мог против этого протестовать. Нобель мог бы купить «Голос» целиком, но для данного случая это было бы слишком широким жестом. Он ограничился тем, что откупил страницу объявлений в номере от 14 ноября 1880 года и во весь лист напечатал в игривой рамке следующее:
«Господину редактору газеты «Голос».
Милостивый государь!
Вы изволили найти невозможным напечатать мое письмо г. профессору Менделееву касательно его проекта переноса заводов для перегонки нефти из Баку на Волгу… Заявляю, что желающие познакомиться с расчетами, приведенными мною в последнем моем ненапечатанном письме, могут видеть таковые в агентстве товарищества братьев Нобель у г.г. Смит, Геслин и К0, Литейная улица, № 60, или в моей конторе на заводе».
Весь этот спор, со всеми опубликованными и не опубликованными в газетах документами, Менделеев перенес в изданную им в 1881 году в качестве приложения к «Журналу Русского физико-химического общества» брошюру «Где строить нефтяные заводы».
Эта брошюра, как и все другие выступления Менделеева на эту тему, разумеется, повисла в воздухе. Плеть не могла перешибить обуха. История перенесла разрешение спора в послереволюционную эпоху, когда единый народнохозяйственный план воспринял менделеевскую идею как нечто, само собою разумеющееся. Принцип районированной переработки нефти был положен в основу развития советской нефтепромышленности. К нашему времени оказались обращенными и те строки из брошюры «Где строить нефтяные заводы», которые представляют собою размышления вслух о необходимости приближения химического образования к производству.
«Сколько народа учится у нас химии, – писал Менделеев. – А химическая промышленность, а живое дело химической практики – глядите, в чьих руках. Странна в этом отношении судьба нашей страны… Наша помощь хозяйству и предприятиям уходит из рук образованных людей. Химические заводы учреждаются, размножаются и растут в руках мало знающих, но много понимающих производство людей. Если наша интеллигенция хочет занять подобающее место в среде деятельных русских сил – она обязана встать во главе предстоящих многих дел, касающихся промышленности, разработки природных богатств России… должна сделать их почетными, а не презренными… Время не терпит. Пора показать, что мы годимся для того, чтобы указывать пути к дальнейшему развитию народного благосостояния. Можно во многом начинать с малого… Пора, пора думать, указывать, возбуждать новые предприятия, основанные на эксплоатации природных богатств родной страны, пора жителям ее видеть не один пахотный слой своей земли, а из глубин ее извлекать новые, простолюдину прямо не видные богатства, пора уже показать, что наука не только юношей питает да отраду старцам подает, а дает силу и сокровища – без нее неведомые. Без этого применения к нуждам и запасам страны ни одна страна не достигает ни внутренней силы, ни свободы, ни определяемого ими благосостояния и условий для дальнейшего развития».
В этих словах содержалась программа его собственной деятельности на предстоящее десятилетие. Но как же мало было у него единомышленников, с которыми он мог бы разговаривать на том языке, на котором думал, не переводя свои горячие мечтания о расцвете родной страны на гнусный язык «чистогана»!
Столкновения с логикой этого самого «чистогана» не проходили для него бесследно. Кое-какие иллюзии у него рассеивались. В своей брошюре «Где строить нефтяные заводы» он писал: «Мне не раз внушали убеждение в том, что г. Нобелем, отвергающим мое мнение, руководит узкая боязнь соперничества новых заводов с его обширными учреждениями». Правда, он тут же добавлял: «Но я всегда и теперь отрицаю это толкование возражений г. Нобеля и продолжаю думать, что наши разноречия зависят только от того, что я недостаточно полно и убедительно излагаю доводы своих мыслей, и что Нобель не вникнул в фактические данные».
Однако вряд ли уж настолько был прост Менделеев, чтобы эти его слова можно было принять за чистую монету. Это, конечно, был полемический прием, который правильно воспринимала и оценивала русская интеллигентная публика.
Воспринимала, оценивала и… оставалась безучастной.
Менделеев оставался в одиночестве потому, что он хотел примирить непримиримое: высокие идеалы борьбы за народное благосостояние и служение «Господину Купону».
Наследие шестидесятых годов, которым он жил: вера во всеобщее процветание, которое должно якобы наступить с ликвидацией остатков крепостного права, горячая преданность просвещению, всестороннему развитию производительных сил страны, – все это вступало в жестокое и все более и более углублявшееся противоречие с действительностью. Реальностью же была крепостническая политика, проводимая Победоносцевым «с тупоумной прямолинейностью во всех областях общественной и государственной жизни»[52], с одной стороны, и примитивное хищничество набиравшего силу российского капитализма-с другой. Нобель был немногим лучше других сатрапов промышленности и торговли, вроде подрядчика Овсяникова, который имел, по его собственному выражению, «возле каждой пуговицы по ордену», хотя кормил армию мукой с примесью спорыньи и песку, а в своих публичных выступлениях с завидной откровенностью заявлял, что «подобно тому, как честь полководца заключается в том, чтобы иметь больше выгод над неприятелем, так и честь купца состоит в том, чтобы иметь побольше барышей».
К чему же сводились призывы Менделеева, обращенные к тем же русским химикам? К тому, чтобы разделить с Нобелем и Овсяниковым, которые вполне друг друга стоили, сомнительную «честь» беззаветного служения «Господину Купону»? К тому, чтобы вместе с ним пытаться предписывать промышленникам нормы поведения, убеждая их в том, что они плохо понимают свое назначение? Продолжать сражение с ветряными мельницами?..
Извлекая, в отличие от Рыцаря Печального Образа, некоторые уроки из своих неудачных увлечений, Менделеев поднимался уже к пониманию необходимости организованной борьбы с капиталистическими противоречиями, которые он улавливал, впрочем, лишь в ограниченной сфере развития производительных сил. Как он ни звал капитал воспользоваться наукой, эти призывы имели силу только до тех пор, пока это было выгодно капиталу. А как только широко понимаемая ученым общественная целесообразность вступала в конфликт с неудержимым стремлением к наживе, капитал поднимал оскаленную морду и рычал: «прочь с дороги!». Этого дикого зверя нельзя было приручить.
Почуяв добычу, он лез напролом, сминая все на своем пути. Но, может быть, его можно было заключить в клетку? Менделеев задумывался уже над тем, чтобы найти материал для такой клетки и способы загнать в него зверя. По его мнению, капитализм могло бы обуздать государство, если бы, конечно, оно захотело это сделать… Здесь уже проявлялся мотив из другой крыловской басни, в которой охрана овечьей отары была доверена волкам…
Неугомонный мечтатель шел к новым разочарованиям.
Между тем научная деятельность Менделеева превращалась в знамя борьбы за русскую науку с наступающей на нее реакцией. В этой борьбе его имя было поднято на щит А. М. Бутлеровым.
Друзьям предстояло еще раз встретиться на общественной арене.
XX. МЕНДЕЛЕЕВА ВЫБИРАЕТ В АКАДЕМИЮ НАУК ВСЯ РОССИЯ
Гонение на передовую науку, предпринятое реакцией, сказывалось во всем.
Тимирязев писал о живительном подъеме шестидесятых годов: «Не пробудись наше общество вообще к новой, кипучей деятельности, может быть, Менделеев и Ценковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и Ярославле, правовед Ковалевский был бы прокурором, юнкер Бекетов- эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства».
Наступившая реакция охотно вернула бы Сеченова к рытью траншей – для него не находилось места в научных медицинских учреждениях. Он несколько лет ютился в лаборатории своего друга Менделеева, где безуспешно пытался переключиться на химические исследования. Мечников оказывался вне штата Одесского университета. Тот же Сеченов писал ему: «Я уже слышал… о Вашем намерении оставить университет; нахожу его, конечно, совершенно естественным и естественно же проклинаю те условия, которые делают заштатным такого человека, как Вы». Вытеснение передовых представителей естественных наук отовсюду – совсех кафедр, откуда могло только раздаваться их живое слово, было ближайшей целью реакции. Круглое невежество в области естественных наук в правящих кругах считалось «лучшей защитой от тех злоупотреблений научными данными, из которых вытекает материализм».
Не любя и не ценя отечественную науку, дворянская знать предпочитала опираться на иностранные бездарности, которые беспрепятственно просачивались во все поры русской научной жизни. Пришлые ничтожества, они ненавидели все яркое, самобытное. Преданные своим покровителям, они разделяли их страх перед развитием самостоятельной русской науки.
Если Победоносцев был вдохновителем, а Катков неутомимым публицистом реакции, то у нее был свой надежный исполнитель всех приговоров – граф Дмитрий Толстой, человек «сильной руки», как в средние века называли палача. Этот провинциальный предводитель дворянства был призван Победоносцевым к широкой государственной деятельности и последовательно занимал наиболее важные, ключевые позиции в аппарате правительства. Он побывал министром просвещения, министром внутренних дел, обер-прокурором святейшего синода – органа, руководившего политикой православной церкви, шефом особого корпуса жандармов и – по совместительству – президентом Российской Академии наук… Это звучало шуткой – жандарм в роли попечителя наук! Но это была невеселая шутка: Толстой и здесь с жандармской старательностью выполнял свою жизненную задачу и ограждал Академию от проникновения в нее любых прогрессивных, демократических, творческих сил.
Круги, представителем которых был граф Д. А. Толстой, наиболее непосредственно могли влиять на подбор членов Российской императорской Академии наук. Неудивительно поэтому, что в Академии наук люди, от которых меньше всего можно было ждать стремления сделать русские силы участниками научного движения, составляли большинство.
В 1882 году, при обстоятельствах, о которых речь пойдет дальше, А. М. Бутлеров выступил в широкой печати с протестом против академических порядков. Это выступление подводило итог большой кампании, давно, как можно судить по его собственным высказываниям, задуманной и блестяще осуществленной Бутлеровым. Ее цель сводилась к тому, чтобы на ряде убедительных примеров показать всей России гибельность политики правительства по отношению к науке и ученым и добиться вспышки общественного возмущения, которая побудила бы власть имущих эту политику изменить.
Бутлеров рассказывал[53], что с 1870 года, когда он был избран академиком, он уже имел причины «относиться с некоторой осторожностью к действиям академического большинства». «К этому побудило меня, – писал он, – недовольство состоянием академической среды, которого выражение мне приходилось слышать от некоторых сочленов мне давно известных и искренно уважаемых. Таким был, например, мой покойный учитель академик Н. Н. Зинин. Не располагало к доверчивости и бросающееся в глаза преобладание иностранных имен в среде не только самих двух отделений Академии, но и тех учреждений, которые к ним примыкают. Невольно приходилось спросить: не господствуют ли в Академии те начала, на которые в свое время так горько жаловался Ломоносов?
…Я был далек от каких-либо скороспелых выводов, основанных на внешности, и, лишь опираясь на факты, мог решиться делать заключения об окружающей меня среде. Факты эти представились скоро, и, накопляясь мало-помалу, не только не рассеяли моих первоначальных сомнений, но до такой степени обнаружили непригодность академической атмосферы, что стало трудно, почти невыносимо дышать. Не удивительно, что задыхающийся всеми силами рвется к чистому воздуху и прибегает к героическим средствам, чтобы пробить к нему путь».
Таким «героическим средством» было для Бутлерова печатное слово.
Что же волновало Бутлерова?
«Академия должна была, казалось, соединить в себе, по возможности, все те научные силы, которые первенствуют в России, и она должна была бы… служить зеркалом, отражающим состояние русской науки в ее высшем развитии». Таково было его главное требование к Академии. Оно не исполнялось.
«Лишь недостаток достойных ученых мог бы извинить существование в Академии вакантных мест, а между тем я постоянно видел вакантности незамещенными, а русских натуралистов, имеющих все права на их замещение, остававшимися… в стороне».
Ближайшим примером тому служил академик А. С. Фаминцын, восемь лет дожидавшийся избрания на свободную кафедру ботаники.
«Сначала мне, как одному из младших членов Академии, было трудно выразить перед ней изложенные мысли, – писал Бутлеров, – а потом вскоре пришлось убедиться, что такая откровенность была бы вполне излишней, как не имеющая никаких шансов на сочувствие большинства. Я решил молчать до случая…»
Необходимый повод выступить, представился, и, как мы увидим дальше, он далеко не был «случайным».
Осенью 1874 года академики А. М. Бутлеров и Н. Н. Зинин решили попытаться ввести в Академию профессора Д. И. Менделеева, «право которого на место в русской Академии наук, конечно, никто не решится оспаривать».
Не сразу решились оспорить это и прихлебатели реакции в Академии наук. В 1874 году, чтобы обойти представление Менделеева, они прибегли к дипломатическому ходу. На голосование был поставлен вопрос не о Менделееве, а о целесообразности предоставления одной из имеющихся вакансий для химии. Решили вакансии для химии не открывать, хотя в Академии наук с 1838 года было всегда три или четыре так называемых «адъюнкта» по химии, а с 1870 года лишь два. Непременный секретарь Академии наук, реакционный ученый- статистик и климатолог-К. С. Веселовский, вмешивавшийся в дела всех отделений, в том числе и физико-математического, чуждого ему
по научной специальности, лицемерно выговаривал Бутлерову: «Почему вопрос о месте не был возбужден отдельно от вопроса о лицах? Ведь вы могли привести нас к необходимости забаллотировать достойное лицо». Одновременно, в своих записках, хранящихся в рукописных фондах академического архива, он писал: «Академик Бутлеров, бывший в то же время и профессором университета, вел постоянна открытую войну против Академии и… пытался провести Менделеева в академики… баллотировка Менделеева была устранена помощью предварительного вопроса»[54].
Прошло несколько лет. Все так же полнейшие ничтожества, выписанные из-за границы, просиживали академические кресла, попрежнему для творческой русской науки вход в Академию был закрыт. Зная наверняка, что недоброжелательство к Менделееву и в верхах и в самой Академии наук не только не уменьшилось, но, наоборот, возросло, Бутлеров решил дать бой реакции на этой почве.
К. С. Веселовский в своих неопубликованных записках писал об этом так: «Несколько лет спустя, когда открылось вакантное место ординарного академика по технологии, упрямый и злобствовавший на Академию Бутлеров предложил на него Менделеева, зная очень хорошо, что в пользу этого кандидата не составится необходимого большинства голосов, но злорадостно рассчитывал вызвать неприятный для Академии скандал. Устранить опасность, как прежде, помощью «предварительного вопроса» было нельзя, так как место технолога положено по уставу и было в то время вакантно. Единственным средством устранить скандал забаллотировки было право «veto», предоставленное по Уставу Президенту. Поэтому, по желанию большинства академиков, я отправился к Литке, указал ему на почти полную несомненность отрицательного результата баллотировки, на скандал, какой может от того произойти, в виду враждебности к Академии тех лиц, которые подтолкнули Бутлерова сделать означенное представление, и разъяснил, что только принадлежащим ему правом можно предотвратить опасность. Сколько ни толковал я это непонятливому старику, он никак не соглашался, говоря: «Да на каком же основании могу я не позволить Бутлерову внести в Академию его предложение?» – Как я ни бился с ним, не мог ему втолковать, что право президентского «veto» не значит, что Президент должен входить в оценку ученых заслуг предложенного кандидата; он этого делать не может и не должен; но применение означенного права совершенно уместно и даже обязательно в тех случаях, когда предвидится отрицательный результат баллотировки и нежелательные от того последствия. Ничего не помогло; баллотировка состоялась».
«С согласия Господина Президента, мы имеем честь предложить к избранию члена-корреспондента Академии профессора С.-Петербургского Университета Дмитрия Ивановича Менделеева», – так начиналось представление об избрании Д. И. Менделеева в академики, подписанное А. Бутлеровым, П. Чебышевым, Ф. Овсянниковым, Н. Кокшаровым.
11 ноября 1880 года в собрании физико-математического отделения происходило голосование кандидатуры Менделеева. Кроме президента, графа Ф. П. Литке, на собрании присутствовали: вице- президент В. Я. Буняковский, непременный секретарь академии К. С. Веселовский, академики: Г. П. Гельмерсен, Г. И. Вильд, А. А. Штраух, Ф. Б. Шмидт, Л. И. Шренк, О. В. Струве[55], голосовавшие, как об этом впоследствии объявила печать, против Менделеева, и А. М. Бутлеров, П. Л. Чебышев, А. С. Фаминцын, Ф. В. Овсянников, Н. Н. Алексеев, Н. И. Кокшаров, А. Н. Савич, К. И. Максимович, Н. И. Железнов, которые подали свои голоса за Менделеева. Голосование производилось шарами: белый шар, опущенный в урну, означал голосование «за», черный шар – «против». Президент имел два голоса. «Всего курьезнее было то, – писал в своих записках К. С. Веселовский, – что Литке, не согласившийся отклонить своею властью баллотировку, положил Менделееву при баллотировке свои два черных шара».
В заключительном отчете собрания сказано, что «г. Менделеев соединил в свою пользу 9 избирательных голосов против 10 неизбирательных. Вследствие сего, он признан неизбранным».
Переписывая протокол, Веселовский смягчил эту формулировку, написав «непризнан избранным». Но что значили здесь тонкости выражений?!.
Известие о забаллотировании Менделеева в Российскую Академию наук было встречено гневным протестом научной общественности всей страны. Московские профессора писали Менделееву: «Для людей, следивших за действиями учреждения, которое по своему уставу должно быть «первенствующим ученым сословием России», такое известие не было неожиданным. История многих академических выборов показала, что в среде этого учреждения голос людей науки подавляется противодействием темных сил, которые ревниво затворяют двери академии перед русскими талантами». Все русские авторитеты в области химии в несколько дней снеслись между собой по телеграфу и поднесли Менделееву торжественный аттестат, украшенный многочисленными подписями «самых компетентных ценителей и судей», как сообщала об этом печать, – «представителей всех наших университетов». За ним следовал поток адресов, заявлений, писем, обращений от ученых корпораций и частных лиц и из России и из-за границы. По примеру Киевского университета все русские университеты и множество иностранных университетов и научных обществ, в знак протеста, избрали Менделеева своим почетным членом. Менделеев ответил ректору Киевского университета: «Душевно благодарю вас и совет Киевского университета. Понимаю, что дело идет об имени русском, а не обо мне. Посеянное на поле научном взойдет на пользу народную».
Единодушно, всей научной Россией, Менделеев был избран в состав «первенствующего ученого сословия».
Нельзя не отметить, что в прогрессивной либеральной печати того времени «дело Менделеева» получило широчайшую огласку. Представление академиков Бутлерова, Чебышева и других было опубликовано целиком. Кто они, эти люди науки, посмевшие забаллотировать Менделеева? – спрашивали газеты. – Чем они занимаются? Счетом букв в календарях? Составлением грамматики ашантийского языка, исчезнувшего тысячи лет назад, или решением вопроса: сколько при Сулле назначалось для Рима постоянных судей – 350 или 375?
Академию наук высмеивали, изображая собрание «В святилище наук»[56], где заседают: Георг фон- Клопштосс, ординарный академик по кафедре чистой математики, выдержавший генеральную корректуру полного собрания логарифмов и написавший вступление к ним, а в академию избранный единогласно за кроткий нрав; Ганс Пальменкранц, академик по кафедре механики, придумавший такой замок для несгораемых шкафов, который открывается не по буквам, а по гетевскому стиху из «Ифигении»; Вильгельм Гольцдумм, заслуженный академик по кафедре зоологии, пробовавший скрещивать леща с зайчихой, составивший таблицу степени родства, наблюдаемую в общежитии у рыб Магелланова пролива (в молодости обладавший приятным баритоном и подвизавшийся в качестве домашнего клавикордиста у княгини Маргариты фон-Зимеринген, которая и выхлопотала ему академическое кресло); Карл Миллер, стоящий на линии «обещающих» и занимающийся пока частными банковскими работами; Вольфганг Шмандкухен – экстраординарный академик по дополнительной кафедре искусств и систематизации, брат жены Гольцдумма и товарищ по Аннешуле Карла Миллера, любителя наук и вообще, занимающийся систематизацией, то-есть наклеиванием ярлыков на коллекции, писанием каталогов, заведыванием переплетом книг и содержанием в порядке платяных вешалок и т. д. и т. п. И вся эта теплая компания спрашивала хором: «Однако, ради бога, кто этот Менделеев и чем он вообще известен?»
Еще больше накалилась атмосфера, когда стало известно, что почти одновременно с забаллотированием Менделеева в Академию был избран племянник академика Струве швед Баклунд, не знавший вовсе русского языка и не имевший ни одной русской ученой степени.
«Баклунд! Вы только вдумайтесь: Бак-лунд! – издевалась газета «Молва»1. – Кто же не знает Баклунда?! Кто не читал о Баклунде? Есть имена, которые не требуют объяснений, например: Галилей, Коперник, Гершель, Баклунд. И что же вы думаете? ведь на-днях этого господина Баклунда избрали в академию большинством голосов. Мы, следовательно, не только пользуемся шведскими спичками, шведскими перчатками, шведскими певицами и шведским пуншем, но еще и сиянием незаметно блещущего среди нас шведского гения. А мы и не подозревали этого, носясь с Менделеевым, которого взял и заткнул за пояс первый появившийся приписной адъюнкт… «Сраженный Менделеев и торжествующий Баклунд» – картину эту, ведь, можно было бы скомпановать и поставить только ради самой безжалостной пародии. С одной стороны перед нами Сеченов, Коркин, Пыпин, Менделеев – в качестве «униженных» и отвергнутых, а с другой – «уютная семья с благородной душой» разных Шмандов, Шульцев и Миллеров в ролях главарей и столпов «первенствующего ученого учреждения в России».
«Как же винить ветхую академию, – иронизировала газета «Голос», – за то, что она отвергла Менделеева, человека крайне беспокойного – ему до всего дело – он едет в Баку, читает там лекции, учит, как и что делать, съездив предварительно в Пенсильванию, чтобы узнать, как и что там делается; выставил Куинджи картину – он уже на выставке; любуется художественным произведением, изучает его, задумывается над ним и высказывает новые мысли, пришедшие ему при взгляде на картину. Как же впустить такого беспокойного человека в сонное царство? Да ведь он, пожалуй, всех разбудит и – чего боже упаси – заставит работать на пользу родины».
Наиболее резко прозвучало выступление А. М. Бутлерова, который опубликовал в газете «Русь» статью, отрывки из которой мы и приводили в начале этой главы. В самом названии своем статья эта ставила смелый вопрос: «Русская или только императорская Академия наук?»[57].
В этой статье Бутлеров выступал как поборник большой, принципиальной науки в Академии. С этих позиций он протестовал против избрания на ту самую кафедру химической технологии, на которую Академия не допустила Менделеева, профессора Ф. Ф. Бейльштейна. Дело было даже не в том, что в представлении Бейльштейна «встречается много преувеличений, способных изумить специалиста», что «в списке есть более 50 работ, опубликованных Бейльштейном не одним, а вместе с разными молодыми химиками». Главное то, что Бейльштейн всегда, по преимуществу, разрабатывал детали и его «нельзя считать научным мыслителем, прибавившим какие-то свои оригинальные взгляды в научное сознание». «Люди, обогатившие науку не одними фактами, но и общими принципами, люди, двинувшие вперед научное сознание, то-есть содействовавшие успеху мысли всего человечества, – должны быть поставлены – и ставятся обычно-выше тех, которые занимались исключительно разработкой фактов. Я глубоко убежден в справедливости такого взгляда и в его обязательности для таких учреждений, ученых по преимуществу, какова Академия». «Бейльштейн бесспорно заслуженный трудолюбивый ученый, но отдавать ему в каком-либо отношении первенство перед всеми другими русскими химиками могут только лица, не имеющие ясного понятия о том, как и чем меряются в химии ученые заслуги. Отводя в нашей науке этому Бейльштейну почетное место, вполне им заслуженное, нет надобности понижать для этого ученых, стоящих выше его».
В конце заседания Отделения физико-математических наук, на котором Ф. Ф. Бейльштейн все-таки был принят в число действительных членов Академии, академик А. В. Гадолин прочел письмо, испрошенное у Кекуле, содержавшее весьма лестные отзывы о Бельштейне. «Ему мы верим», – заявил он.
Бутлеров писал по этому поводу в своей статье «Русская или только императорская Академия наук?»[58].
«Итак, Академия не подсудна русским химикам;
но я-русский академик по химии – подсуден боннскому профессору, изрекающему приговор из своего «прекрасного далека». Пусть скажут мне после этого, мог ли я и должен ли был молчать?»
Сильная и принципиальная оппозиция Бутлерова привела к тому, что общее собрание Академии наук на этот раз не утвердило избрания Бейльштейна в академики[59]. Но этот успех был временным, так же как временно было оживление, наступившее в связи с «делом Менделеева» в общественной жизни русской науки.
После того как император Александр II был казнен рукой революционера 1 марта 1881 года, реакция перешла в решительное наступление повсюду. В наступившую «эпоху безвременья» победу праздновали «Московские ведомости», которые всегда утверждали, что Академия с господствующим составом своих членов из иностранцев и с немецким языком в своих мемуарах есть лучший оплот против «вторжения нигилизма в науку» и «как нельзя более, приличествующее русскому государству учреждение».
После смерти академика А. М. Бутлерова, в 1886 году, снова поднялся вопрос об избрании Д. И. Менделеева в академики. Академик А. С. Фаминцын написал ставшему к тому времени президентом Академии графу Д. А. Толстому:
«Произведенное несколько лет тому назад забаллотирована Д. И. Менделеева, вопреки заявлению
как представителя химии в Академии, так и всех остальных русских химиков, произвело на ученых русских удручающее впечатление. Стало ясным, что не оценкой ученых трудов и не научными заслугами кандидата, а какими-то посторонними соображениями руководствовалось большинство академического собрания, забаллотировавшее г. Менделеева. До сих пор русские ученые не могут простить Академии этого проступка… Поэтому единственно правильным путем представляется мне следование голосу нашего покойного сочлена А. М. Бутлерова, который в представлении пр. Менделеева на кресло технической химии, в то же время, со свойственным ему красноречием и силой, выставил в столь ярком свете заслуги Д. И. Менделеева по чистой химии, что для беспристрастного читателя не остается и тени сомнения в том, что по мнению нашего покойного сочлена Д. И. Менделеев занимает первенствующее место среди русских химиков и что ему и никому другому должно бесспорно принадлежать сделавшееся за кончиной А. М. Бутлерова вакантным кресло по чистой химии».
353
Но тот, кому адресовалось это обращение и кто стоял ныне у кормила академического правления – граф Д. А. Толстой,-он-то ведь и был в свое время главным вдохновителем тех самых «посторонних соображений», о которых писал Фаминцын. Послушное большинство академического собрания на этот раз с еще большим рвением выполнило его негласное начальственное предначертание. Выборы Менделеева и на этот раз не состоялись. По кафедре, которая предназначалась Менделееву, в конечном счете все-таки был избран академик Ф. Ф. Бейльштейн. Тот самый Бейльштейн, который
в свое время поторопился отправить Лотару Мейеру не вышедшую еще в свет корректуру сообщения Менделеева о «периодической системе элементов». Будучи русским академиком, Бейльштейн в Петербурге внимательно высматривал все, что могло послужить немецкой науке!..
И все же Бутлеров сражался не зря! «Дело Менделеева» яркой кометой сверкнуло на темном небосклоне эпохи безвременья. В нем нашли свой отсвет яркие зарницы общественного движения шестидесятых годов. Оно оставило свой след в самосознании общества. Оно звало к борьбе за свободную науку, честно и самоотверженно служащую народу. Оно лишний раз показывало, что успех на этом пути может быть достигнут не путем мелких уступок правительства крепостников, а в результате коренной ломки прогнивших устоев царского строя. Этот вывод, однако, могла сделать только революционная демократия.
XXI. ОДНО ИЗ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ МЕНДЕЛЕЕВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, ХОТЯ И С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ.
21 января 1881 года на заседании Русского технического общества происходило прощание Менделеева с его работами по упругости газов. В своем заключительном отчете обществу он рассказывал о том, что им было установлено. В области малых давлений объем газа изменяется не строго пропорционально изменению давления, а несколько меньше. Таков был наиболее существенный теоретический результат работы. Попутные практические достижения ее нам известны – это высокочувствительный диференциальный барометр – «высотомер» – и ряд других приборов для измерения малых давлений.
«Убежден, что и в других частях работы найдется не мало нового и теоретически важного для понимания газообразного состояния материи, – продолжал Менделеев, – но мне нельзя по многим причинам принять на себя продолжение опытов Императорского Русского Технического Общества, и я имею честь передать это дело в руки других членов Общества».
В области исследований газов для Менделеева, как физико-химика, действительно не оставалось больше ничего интересного. В предисловии к следующему своему очередному циклу работ – исследованиям растворов – он объяснял, почему газы мало что могут открыть для понимания механики сцепления атомов в химическом соединении.
«Газы во всех пропорциях между собою смешиваются лишь потому, что частицы их далеки друг от друга, находятся в быстром поступательном движении».
Не давали большого простора для новых заключений и чисто химические наблюдения над соединениями атомов, образующими твердое тело. «Твердые тела смешивают свои частицы только при том или другом виде большого подобия, особенно при изоморфном сходстве».
Внимание Менделеева своими интересными особенностями, привлекли жидкие растворы, занимающие «середину между газами и твердыми телами».
Это не было новой темой в работах Менделеева. Можно напомнить, что профессорское звание он получил в связи с защитой им диссертации о соединениях спирта с водой. Изменился лишь его подход к исследованию растворов и обновилась целевая установка опытов.
Опыты 1865 года заключались в следующем. В длинную трубку наливалась вода, а поверх нее спирт. Отмечался верхний уровень, которого достигали в трубке две еще не смешавшиеся жидкости. Затем спирт и вода перемешивались. Оказывалось, что уровень получившегося водного спиртового раствора не достигал ранее сделанной отметки. Частицы воды и частицы спирта упаковывались в растворе более плотно, чем когда они существовали порознь. В явлениях капиллярности Менделеев, как мы видели, искал меру взаимного притяжения частиц однородной жидкости. В сжатии растворов он хотел найти меру взаимного притяжения частиц двух разнородных жидкостей. Он считал, и вполне справедливо, что в этом притяжении проявляется некий «зачаток» их химического сродства друг к другу. Иначе говоря, он стремился вывести из своих наблюдений некоторые законы взаимодействия молекул.
Менделеев обнаружил, что наибольшее сжатие растворов спирта в воде при всех температурах приходится на раствор, содержащий около 46% спирта. Удельный вес жидкости при этой концентрации был, следовательно, наибольшим. В этом соотношении, в котором участвовало, кстати сказать, целое число молекул той и другой жидкости, раствор, по мнению Менделеева, ближе всего подходил к химическому соединению.
В дальнейших своих исследованиях Менделеев обратил главное внимание на то, что при самом плавном, постепенном изменении состава раствора совсем не так плавно и постепенно изменяются его свойства. Менделеев наблюдал, что при некоторых определенных концентрациях, составляющих раствор веществ, свойства раствора вдруг меняются резким скачком (он изучал, главным образом, изменения удельного веса растворов и их объема). Он строил для наглядности диаграммы этих изменений, так называемые диаграммы «состав-свойства». На одной оси такой диаграммы откладываются постепенно возрастающие концентрации одного из компонентов-составных частей- раствора. На другой оси – величины, характеризующие то или иное изучаемое свойство раствора. Точки, образующиеся на пересечении этих осей, как это делается на любой другой диаграмме, соединяются, причем получается так называемая «кривая», иллюстрирующая зависимость измеряемых величин друг от друга. Менделеев показал, что вначале плавная кривая на его диаграммах неизменно, время от времени (по-разному для разных веществ), переламывалась. Это свидетельствовало о том, что при определенной концентрации раствора его плотность достигала наибольшей величины (точка перелома кривой), затем снова плавно убывала. Это было очень интересное наблюдение. И Менделеев его весьма своеобразно и проницательно истолковал. Менделеевские взгляды на растворы-это еще один пример его стихийно-диалектического подхода к объяснению физико-химических явлений.
«Растворы управляются, – писал Менделеев,- обычными законами химического воздействия… в них сокрыты те же определенные соединения, которыми так сильна химия… здесь, несмотря на кажущуюся последовательность изменения свойств, существуют свои скачки, свои разрывы сплошности».
Возникновение этих «скачков», этих «разрывов сплошности» Менделеев проследил на громадном материале. Он, прежде всего, привел в сравнимый вид данные, полученные по заинтересовавшему его вопросу всеми другими исследователями на протяжении целого столетия. Для этого нужно было проверить все удельные веса и привести их к взвешиванию в пустоте и отнести к воде при наибольшей плотности. Это был огромный вычислительный труд.
Кроме того, работа заключала в себе обширную и весьма оригинальную экспериментальную часть. В своем труде «Исследование водных растворов по удельному весу» Менделеев рассмотрел 283 химических вещества в водных растворах, и все это при различных концентрациях и температурах!
Современная физика объясняет «особые точки», отмеченные Менделеевым на его диаграммах, примерно так же, как это понимал Менделеев, с той только разницей, что в настоящее время уже хорошо изучены и измерены те силы, которые действуют между молекулами, а Менделеев только догадывался об их существовании.
Вот как выглядят менделеевские наблюдения по представлениям современной физики.
Между молекулами растворенного вещества и молекулами растворителя действуют известные силы. Действие этих сил приводит к тому, что определенное число молекул вещества растворителя образует нечто вроде атмосферы, окружающей молекулы растворяемого вещества. Молекулы растворителя как бы обволакивают молекулы растворяемого вещества. При некотором, вполне определенном соотношении в количестве тех и других – и это обстоятельство было отмечено Менделеевым! – получается наиболее плотная «упаковка» молекул обоих веществ. Менделеев говорил, что в этот момент «происходит наиболее индивидуализированное в химическом смысле соединение» молекул обоих веществ, Это язык химии, но, пользуясь химическими терминами, Менделеев правильно описывал физическую сущность явления. В действительности можно говорить о том, что при определенном соотношении между растворяемым веществом и растворителем происходит изменение энергии взаимодействия молекул обоих веществ. При этом меняется число молекул растворителя, которые могут быть связаны с одной молекулой растворяемого вещества. А в зависимости от концентрации раствора число этих молекул растворителя, составляющих ближайшее окружение молекулы растворяемого вещества, может и увеличиваться и уменьшаться[60], причем, поскольку в этих изменениях участвует целое число молекул, изменения происходят скачками, прерывисто. Нечто похожее происходит и при изменении структуры кристалла.
С этими внутренними перегруппировками молекул в растворе тесно связано и изменение его свойств. Если в растворе достигнута наибольшая плотность «упаковки» молекул (растворителя и растворяемого вещества, то раствор будет обладать при этой концентрации растворителя наибольшей плотностью (как это имеет место в приведенном примере из диссертации Менделеева с 46-процентным раствором спирта в воде). Этому будет соответствовать и наибольшая его вязкость, а если это так называемый «твердый раствор», то обычно и наибольшая прочность, и т. д.
Ныне оправдалось менделеевское предсказание, что «впереди химия растворов произведет свое влияние не только на понимание сплавов, изоморфов и тому подобных так называемых неопределенных соединений, но и на понимание обычнейших явлений химической природы…»
Мы знаем теперь (отчасти это стало выясняться и во времена Менделеева), что силы взаимодействия между молекулами растворяемого вещества и растворителя тесно связаны с электронной структурой атомов и молекул. Они определяются или взаимодействием ионов (осколков молекул, обладающих электрическим зарядом), или так называемой координационной связью атомов, которая по современным представлениям обусловливается наличием в одном из компонентов свободной пары электронов. Но сам Менделеев, правильно описывая общую физическую картину процесса растворения, отвергал попытки истолкования химических явлений с точки зрения новых представлений об электрической природе химических взаимодействий атомов. Он это рассматривал как возвращение к электрохимической теории Берцелиуса, против которой, как мы знаем, в молодости решительно выступал. В предисловии к седьмому изданию «Основ химии» он писал: «Возврат к электрохимизму, столь явный у последователей гипотезы об «электролитической диссоциации», и признание распада атомов на «электроны» на мой взгляд только усложняет, и ничуть не выясняет дело». Менделеев здесь вступал в противоречие с собственными великими открытиями. Он продолжал защищать устаревшее понятие о неизменности элементов, а оно рушилось в результате развития его основоположных работ по созданию Периодического закона.
Тем не менее влияние менделеевских работ в области растворов было весьма велико. Наиболее непосредственно оно сказалось в развитии новой главы химической науки-теории физико-химического анализа, созданной в наше время академиком Николаем Семеновичем Курнаковым (1860-1941).
Н. С. Курнаков обобщил учение Менделеева об
«особых точках» растворов. Он создал новый метод изучения процессов, протекающих в различных средах, водных и неводных растворах, металлических сплавах и пр., в основу которого положил менделеевский прием изучения зависимости между составом раствора и его свойствами. На диаграммах «состав-свойства», которыми широко пользуются последователи Менделеева-Курнакова, «особые точки» Менделеева, глубоко истолкованные Курнаковым, занимают важное место.
Созданная Н. С. Курнаковым в Институте неорганической химии Академии наук СССР обширная школа химиков успешно продолжает развивать исследование растворов. Этой школе принадлежит открытие новых способов добывания различных солей из сложных соляных растворов, например из рассолов естественных соленых озер, в таком изобилии встречающихся в Западной Сибири, в заливах Каспийского моря и пр. Но наибольшее значение эти методы приобрели при изготовлении из чистых металлов так называемых «твердых растворов», к которым относится множество технических сплавов металлов, сложных солей и силикатов.
Целые эпохи в технике характеризуются преимущественным употреблением тех или иных твердых растворов металлов: меди и олова, железа и углерода, алюминия, магния и т. д. Закономерности, обнаруженные последователями менделеевских работ в твердых растворах, позволяют сейчас изготовлять из соответствующих чистых металлов твердые растворы заранее известных свойств. Эти сложные вещества, составные части которых могут находиться в разных пропорциях, однородны. В течение сотен и тысяч лет они могут сохраняться без заметного окисления и разрушения. Месяцы и годы работают они в современных машинах под действием кислот и газов, высоких давлений и температур – в условиях, при которых чистые металлы, их образовавшие, разрушились бы через несколько часов. Таковы жароупорные растворы никеля с хромом и железом, так называемые «нихромы», твердые растворы железа с хромом и алюминием и др., используемые для электрических печей, где жар достигает 1 400°; твердые растворы железа, никеля, алюминия и кобальта, в результате сложных превращений в твердом состоянии проявляющие высокие магнитные свойства. Из них изготовляют небольшие, но мощные постоянные магниты для радио и для авиации. Преимущественно в виде твердых растворов находят применение металлы будущего – алюминий и магний. Из этих малопрочных и легких металлов удается получать надежные детали для самолетов и других машин. «Подобно тому, как передовые биологи нашей страны сознательным научным методом создают новые виды растений и улучшают качество ряда сельскохозяйственных культур, – писал недавно один из учеников Н. С. Курнакова – проф. И. И. Корнилов, – современные химики и металлурги, путем научно обоснованного комбинирования различных металлов, в состоянии создавать такие сплавы, такие твердые растворы металлов, которые будут обладать невиданными до сих пор высокими качествами»[61]. И в этом звене великих научных преобразований, которые меняют облик современной жизни и техни-
ки, сверкает менделеевский гений. Мы не можем воздержаться от употребления этого слова, хотя сам Менделеев не любил, когда так говорили о нем. Однажды, когда кто-то из его учеников произнес слово «гений» на одном из чествований учителя, Менделеев, как вспоминал потом академик В. Е. Тищенко, «замахал руками и тонким голосом, выражавшим высшую степень неудовольствия, закричал: «Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и гений…»
Он был и гений и труженик: жизнь шла – один прекрасный трудовой подвиг сменялся другим.
«Дмитрий Иванович всегда был как будто в состоянии душевного горения, – писала в своих воспоминаниях Анна Ивановна Менделеева, – я не видала у него ни одного момента апатии. Это был постоянный поток мыслей, чувств, побуждений, который крушил на своем пути все препятствия».
Он не упускал ни одной возможности содействовать укреплению авторитета науки. Во имя этого он, не колеблясь, если бы это понадобилось, пожертвовал бы собой. Он доказал это при своем полете на воздушном шаре, явившемся последним завершением его работ по газам. Его заветное желание все-таки сбылось, но, конечно, не так, как он об этом мечтал, и с приключениями, которые чуть не стоили ему жизни.
Это произошло 7 августа 1887 года, во время полного солнечного затмения. Около Клина, где летом в своем бобловском уединении проживал Менделеев, полное затмение должно было произой- ти в седьмом часу утра и длиться около двух минут. Менделеев деятельно готовился «наблюсти эту редкость». За восемь дней до затмения он получил телеграмму от товарища председателя Русского технического общества М. Н. Герсеванова с предложением сделать наблюдение полного солнечного затмения с аэростата. Техническое общество снаряжало поднятие шара из Твери. Эта мысль пришла известному русскому изобретателю С. К. Джевецкому, который возглавлял в Русском техническом обществе отдел воздухоплавания. В своем рассказе о полете на воздушном шаре, одном из «примечательных приключений моей жизни», как он его характеризовал, опубликованном в 1887 году в журнале «Северный вестник»[62], Менделеев пояснил, почему именно к нему адресовалось Русское техническое общество со своим почетным предложением.
«Техническое общество, предложив мне произвести наблюдения с аэростата во время полного солнечного затмения, хотело, конечно, служить знанию и видело, что это отвечает тем понятиям о роли аэростатов, какие ранее мною развивались».
Менделеев ответил телеграммой: «Тверской газ может дать неудачу просите военного министра отпустить в Клин команду лучшего водородного шара не медля испытаем тогда поеду глубоко благодарен». Джевецкий, который получил эту телеграмму, сразу догадался, почему Менделеев стремился получить в свое распоряжение отдельный аэростат. Из Твери им пришлось бы вылететь втроем, а так он мог быть вдвоем с пилотом, и выгодность усло- вий для высокого подъема увеличивалась. Джевецкий сам хотел залететь как можно выше!
В ночь на 1 августа от секретаря Технического общества В. И. Срезневского Менделеев получил ответную телеграмму, которая его несказанно обрадовала: «Поднятие военного водородного шара из Клина стараниями Джевецкого… устроено, высылка готовится не позже вторника, шар 700 метров легко поднимает обязательного военного аэронавта Кованько, вас и, если разрешите, Джевецкого от Технического общества». С. К. Джевецкий, со своей стороны, тотчас сообщил, что «для обеспечения успеха драгоценного для науки полета и возможности подняться выше» он предпочитает «подняться в Твери со Зверинцевым на шаре Технического общества».
Менделеев немедленно отправился в Клин встречать аэростат. Клинский уездный воинский начальник изумился, когда к нему, ни свет ни заря, явилась ученая столичная знаменитость требовать какой-то воздушный шар. Он, слава богу, и слыхом не слыхал ни о каких шарах. «Тог же самый ответ дал мне и местный исправник, – рассказывал Менделеев, – а уже почтовый и курьерские поезда из Петербурга пришли. Был момент сомнения…» Как ему не терпелось скорее поласкать шелковую оболочку аэростата, потрогать крученые стропы, подергать выпускной клапанок! Кто ему мог в этом посочувствовать? На всякий случай Менделеев поехал на станцию.
Он чуть не обнял начальника станции, который подтвердил, что насчет шара ему ничего не известно, но что на станцию поступило 500 пудов серной кислоты. Ура! В следующей партии должны были, очевидно, притти железные стружки, из которых, путем воздействия на них серной кислоты, будет добываться водород для наполнения шара. «Это убедило, что полет непременно будет». Но убежденность убежденностью, а телеграмму Кованько Менделеев все-таки тут же послал и, дождавшись ответа, гласившего, что «Кованько не отправлялся еще, но отправится сегодня с почтовым или курьерским поездом», чтобы рассеять скуку ожидания, сам поехал в расположенное невдалеке имение Обольяново, где была штаб-квартира физиков, готовившихся к наблюдению затмения.
«Цель моей поездки в Обольяново,-писал он,- состояла, главным образом, в том, чтобы узнать, не могу ли я во время поднятия сделать еще какие- нибудь из наблюдений, мне не приходивших на ум.
Верст 70 проселочных дорог, которые я проехал в этот день, к моему удивлению, нисколько меня не утомили. Это зависело, конечно, от напряжения и возбуждения, при которых усталость, как известно, не имеет места».
На следующий день, на дороге в Клин, Менделеев встретил своего друга, физика К. Д. Краевича. Рассудительный Краевич уговорил его «в момент усиленных хлопот быстрого наполнения аэростата и устройства всех приспособлений лучше не мешать главным действующим лицам».
Но именно это решение для Менделеева было самым трудным из всех. Он героически придерживался его, получая сведения о ходе подготовки шара к полету и от Краевича, и от другого своего друга-художника И. Е. Репина, и от сына Володи – мичмана, который приехал в отпуск на лечение. Никому из близких он не давал ни минутки покоя,этот неистовый человек. И все-таки не выдержал – прибежал к Кованько пошуметь по поводу того, что слишком рано начали наполнять шар.
«Должен признаться, – писал он в своем очерке «Воздушный полет из Клина во время затмения», – что, сделавши вопрос о причине начала раннего наполнения, я изменил своему первоначальному намерению – не вмешиваться в распоряжения лиц, стоящих у дела, тем больше, что главный распорядитель всего дела А. М. Кованько должен был лететь вместе, следовательно, принимал все необходимые предосторожности, и его не следовало расстраивать никакими излишними вопросами и замечаниями. Изменивши раз своему первоначальному намерению, я затем уже больше не изменял ему ни разу, тем более, что мой друг, К. Д. Краевич, вполне согласившись с такого рода образом действия, был подле меня и лишь только видел, что я хочу вступить в технические расспросы, старался меня воздерживать, то-есть возвратить на правильный и условленный способ отношения к делу».
Нелегкая задача досталась Краевичу!
«Вечером мы убедились в том, что все небо обложено было тучами, моросил дождик и не было никакого следа разъяснения погоды. Условились встать в четыре часа, и я просил к этому времени меня разбудить, но, хотя сплю всегда крепко и меня трудно добудиться, на этот раз проснулся за несколько минут до четырех часов, конечно, вследствие того удивительного явления, которое, вероятно, многие наблюдали над собою: когда нужно к определенному времени встать, организм сам узнает время и просыпается как раз в надлежащий
момент. Очевидно, что мозговая деятельность во сне продолжается, как и другие процессы организма. Улетает лишь сознание».
Когда утром Менделеев подходил к месту наполнения аэростата, воздушный шар, казалось, уже рвался кверху, натягивая удерживавшие его тросы над «стартовой площадкой», наспех сколоченной из досок. Впрочем, как выяснилось из ближайшего рассмотрения, рвался он в высь не очень ретиво. Подъемной силы явно нехватало. Быть может, лучше было бы Менделееву своевременно вмешаться «в распоряжения лиц, стоящих у дела»…
«Кругом аэростата была масса народа и стояло множество экипажей… Проходя к аэростату, я встретил нескольких своих петербургских знакомых, приехавших наблюдать солнечное затмение, и вместо него теперь решившихся, так как нечего было другого делать, наблюдать, по крайней мере, отлет аэростата. При входе в загородку послышались дружеские крики. Из них один лишь, признаюсь, мне памятен. Кто-то кричал: «бис», и я подумал: хорошо бы, в самом деле, повторить и повторять это торжество науки, хорошо потому, что есть масса чрезвычайно интересных задач, которые можно разрешить только при поднятии на аэростатах… Аэростатические восхождения Захарова, Гей-Люссака, Тиссандье и особенно Глешера на его «философском аппарате» (то-есть физическом приборе), как он назвал свой аэростат, внесли уже много данных чрезвычайной важности в область метеорологических сведений. Теперь же здесь, в Клину, это торжество науки должно было совершиться перед этой толпой, и пусть она изъявляет свою радость, как умеет и знает. В лице – она
чтит науку. Теперь надо действовать, и теперь мне следует помнить, что во мне случайно пред этой толпою и пред множеством тех лиц, которым известно о предполагающемся поднятии, соединились те или другие ожидания большего или меньшего успеха наблюдений.
Не помню кто, при моем проходе, остановил меня и сказал мне на ухо: «Дмитрий Иванович, у аэростата нет подъемной силы. Я вижу, я знаю дело, лететь нельзя, уверяю вас, нельзя».
Этим «кем-то» был ассистент Менделеева В. Е. Тищенко, который в своих воспоминаниях привел и это свое предупреждение и замечательный ответ Менделеева: «Аэростат – это тоже физический прибор. Вы видите, сколько людей следит за полетом, как за научным опытом. Я не могу подорвать у них веру в науку…»
И когда Кованько вместе с ним влез в корзину и стало очевидно, что двоих аэростат не поднимет, Менделеев заявил, что летит один.
«Не помню, – писал он в «Северном вестнике», – распоряжался ли я, или распорядился кто другой, но аэростат отпустили, и я тотчас же увидел, что подъемная сила при двух мешках балласта мала, потому что аэростат очень медленно начал подниматься от земли… Мешки с песком лежали на дне корзинки… нужно было поднять весь мешок, наклонить его край к борту корзинки и высыпать песок. Я сделал это, но песок не сыпался, потому, что он представлял сплошной комок, мокрый и совсем неспособный сыпаться. Прижимая телом мешок к краю корзинки, я увидел, что не могу и этим способом высыпать песок, бросать же весь мешок сразу я опасался, чтобы не получить слишком быстрого поднятия, грозящего различными случайностями. Поэтому пришлось опустить мешок опять на дно корзины и обеими руками горстями черпать песок и выкидывать его для того, чтобы подняться по возможности скорее выше».
Далее в своих записках о полете Менделеев подробно разбирал, как сделать, чтобы такой превосходный аэростат, как «Русский», на котором он летал, даже в ненастную погоду поднимал двоих людей при достаточном балласте.
«Переходя от моего отступления к рассказу, – продолжал Менделеев, – я должен, однако, объяснить, почему во мне моментально явилась решимость отправиться одному, когда оказалось, что нас двоих аэростат поднять не может… Немалую роль в моем решении играло… то соображение, что о нас, профессорах, и вообще ученых, обыкновенно думают повсюду, что мы говорим, советуем, но практическим делом владеть не умеем, что и нам, как щедринским генералам, всегда нужен мужик, для того, чтобы делать дело, а иначе у нас все из рук валится. Мне хотелось демонстрировать, что это мнение, быть может справедливое в каких-нибудь других отношениях, несправедливо в отношении к естествоиспытателям, которые свою жизнь проводят в лаборатории, на экскурсиях и вообще в исследованиях природы. Мы непременно должны уметь владеть практикой, и мне казалось, что это полезно демонстрировать так, чтобы всем стала когда-нибудь известна правда, вместо предрассудка. Здесь же для этого представлялся отличный случай».
Подъем стал возрастать, но все же вокруг аэростата был один туман или облако: с боков, вверху,
внизу. Менделеев выбросил весь песок. «Шар стал, очевидно, быстро подниматься, но и относительная темнота стала наступать, так что я не знал: зависит ли это от того, что я нахожусь в очень густом облаке, или же -от начала полной фазы затмения».
Скорей, скорей наверх!
«В то время, как глаза мои хотели искать других предметов, которые бы можно бросить за борт, шар вышел из облака и очутился в чистом пространстве».
Менделеев осмотрелся еще раз кругом, и вдруг из верхних слоев облаков проглянуло солнце уже в полной фазе затемнения.
Драгоценный миг!
«В заботах и хлопотах – скорее, чем во сне, – теряешь потребность знать время. Однако, судя по тому, что успело произойти… думаю, что увидел солнце спустя лишь несколько секунд после наступления полной фазы затемнения.
Темноты совсем не было. Были сумерки и притом сумерки ясные, не поздние, а так сказать ранние. Общее освещение облаков, виденное тогда мною, представляется совершенно подобным тому освещению, которое мне не раз приходилось видеть в горах после заката солнца, спустя, может быть, четверть или пол-часа, там, где зари не видно и следа. Весь вид был свинцово-тяжелый, гнетущий. Думаю, что при бывшем освещении можно было бы еще читать, но я этого не пробовал – не до того было. Увидев солнце с «короною», я, прежде всего, был поражен им и обратился к нему… Кругом солнца я увидел светлый ореол, или светлое кольцо чистого серебристого цвета… Насколько успел заметить и припомнить, внизу мне видно было утолщение «короны» или большая ее ширина, сравнительно со всеми другими частями. Здесь внизу, если мои глаза не ошиблись, виден был красный оттенок, должно быть выступов или протуберанций, которые характеризуют ближайшие части солнечной атмосферы и состоят из раскаленного водорода, извержение которого есть уже возможность наблюдать помимо полных солнечных затмений…»
Аэростат продолжал подниматься, и проходящее облачко закрыло солнце. В записной книжке по- явились следующие заметки: «Пахнет газом. Сверху облака. Ясно кругом. Облако скрыло солнце. Подожду самоопускания».
Потом он полез по оплеткам, на которых висела корзина аэростата, распутать веревку, управлявшую клапаном аэростата. Через этот клапан пилот постепенно выпускает газ и таким образом «сажает» воздушный шар. Вылезши из корзинки и пробыв в таком положении некоторое время, он увидел, что никакого головокружения у него нет. Бродя прежде по Альпам, он знал это, но думал, что с течением времени и в особых условиях у него не сохранилось это свойство. Вися над многокилометровой пропастью, Менделеев сильными встряхиваниями распутал клапанную веревку и благополучно вернулся в корзину. «Дело устроилось, – записал он, – благодаря лишь превосходным свойствам веревки. Вообще вся материальная часть аэростата «Русский» достойна больших похвал; видно, что сооружали дело знатоки и что средств не жалели. На таком аэростате летать можно».
После этого Менделеев разобрал все узлы – «запутки», как он их называл, – гайдропа [63] и опустил канат за борт. Только тогда решился сесть на оставшийся мешок с песком и отдохнуть. «Сильно обрадовался, увидев булку и бутылочку с чаем, еще теперь чуть теплым. Мои друзья положили мне это в корзинку, так что я даже не заметил при отлете».
Интересны мысли, которые мелькнули у него в
момент отдыха на дне глубокой корзины, откуда ничего окружающего не видно, только сбоку и снизу камышевые прутья, да сверху веревки, да внутренность шара до клапана.
Из настоящего, как бы ни было оно насыщено переживаниями, неутомимый искатель тотчас переносился в будущее. Он уже размышлял о том, как бы это ему «самому все мелочи сильного большого аэростата так надежно устроить, чтобы о них не думать при полете… В запасе надо иметь много, много балласта. Взять с собой такие самопишущие приборы, которые бы все, что хотелось бы наблюдать и узнать, сами бы записали: время, давление, температуру, влажность, плотность газа и окружающего воздуха, облачность, скорость движения и его направление. Пришлось бы только по временам делать, так сказать, поверочные наблюдения да распоряжаться ходом шара. Заставил бы его подниматься понемногу до таких высот, где еще возможно безопасно оставаться, или лететь так далеко и долго, как возможно, и, быть может, этим путем скоро бы решилась одна из задач науки об атмосфере, достиглось бы понимание той среды, которой все живут и которую классики[64] нисколько не понимали. Ею и теперь еще не владеют, потому что ее значение не понимают, ее боятся, и напрасно на ее изучение средств жалеют… Всякие подробности промелькнули в уме, вспомнилось многое, что когда-то обдумывал и должен был оставить, затушевать другим. Прошли немногие минуты, а в них
уместилось внутри многое, ведь ничто не развлекало, не задерживало, среда была открытая, вольная, и никто не мешал. И назойливые вопросы приходили: отчего науки не имеют достаточных средств для выполнения своих мирных целей? Отчего даже в мирное время все средства имеются для войны? Отчего недостает их хотя бы на то и на другое?.. Мелькали и ответы, а в них выступали опять неотвязчивые классики и настоятельная необходимость терпеливо искать верного пути…
И ясно помню, что эти-то ответы заставили вновь обратить мысль к спуску, вспомнить действительность ближе, и в результате явилось одно – не то желание, не то решение – спуститься как можно правильнее, во всех отношениях, для того, чтобы стало ясным, что практическое управление аэростатом может быть, при известной подготовке к опытному изучению природы, делом, достижимым даже для новичка, если все приведено в должный порядок и надлежащее присутствие духа будет сохранено в момент спуска, как оно сохранилось до сих пор».
А внизу уже видна была земля. Змеились знакомые речки Сестра и Лутосня. Пашни пролегали, как разноцветные полосы, «вышитые по канве и притом с разными оттенками очень мягких цветов». Фиолетово отливала свежевспаханная земля. На высоте до трех верст Менделеев ясно слышал мычание коров, пение петухов. Опечалился, не приметив нигде железной дороги. Вот уже река Дубна, маленькое озеро Золотая вешка. Аэростат летел прямо на север. Жителям встречной деревни прокричал, чтобы приготовили лошадей. «А куда тебе?» Отвечал: «В Клин!» Аэростат продолжал нестись на север. В другой деревне Менделеева позвали есть свежую рыбу. Кричали: «Спущайся, уха есть!»
Между тем Менделеева с большим беспокойством искали. Поиски шли в направлении нижнего потока ветра – на северо-западе. На специальном локомотиве, который дал начальник станции, поехали Срезневский, Кованько, Владимир Менделеев, начальник ремонта пути Онуфрович. На телегах и верхом они изъездили окрестности Завидова и Решетникова, около Волги, кружили по болотам около железной дороги – все искали следы шара. А шар летел на север.
«С высоты примерно четверти версты было видно, что, пролетев над селом и еще одной деревней, аэростат опустится примерно в лесок, лежащий за деревней. За этим леском шла открытая поляна без хлебов и изгородей. За ней начиналась другая деревня… Лучше всего было опуститься перед этой деревней, перелетев лесок. Тут даже хлебов не повредишь, потому, что это было место луговое или покосное. Только так нужно было сделать, чтобы не спуститься в лесок, находившийся после первой деревни, а перелететь его. Все мое внимание направлялось именно сюда. Мне говорят теперь часто и много о счастливых случайностях, меня сопровождавших в аэростате и при спуске. И я невольно припоминаю ответ Суворова: «Счастье, помилуй бог, счастье, да надо что-то и кроме него». Мне кажется, что всего важнее, кроме орудий спуска… спокойное и сознательное отношение к делу. Как красота отвечает, если не всегда, то чаще всего высокой мере целесообразности, так удача – спокой- ному и до конца рассудительному отношению к цели и средствам».
Спуск совершился благополучно между деревнями Ольгино и Малиновец Калязинского уезда Тверской губернии. Менделеев охотно отвечал на расспросы собравшихся сельчан. Явившийся сельский староста заверил, что «за пузырем-то мы посмотрим, будь покоен», и угрожающе добавил: «Да и за тобой присмотрим и тебя побережем». «Ты кто такой?» – закричал он, уже входя в раж, но крестьяне не дали Менделеева в обиду расходившемуся «блюстителю». Тут подъехала тележка на одной лошади с тремя седоками, и Менделеев услышал такой разговор: «Ведь я говорил, что летит комета, и на ней человек сидит. Вот ты не верил, видишь теперь: вот комета и вот человек. Ну что, поверишь мне теперь?»
«Эти речи, – рассказывал Менделеев, – говорил добродушнейшим образом крестьянин Андрей Прохорович Мушкин Прокофию Ивановичу Погодину, владельцу трактира, расположенного около села Спаса на Углу. Они пригласили меня в тележку, взялись довезти, и целую дорогу рассказывали мне про то, что видели, как я лечу и спускаюсь, и что «эдакая комета в первый раз к ним прилетела», и они хоть и выражаются таким простым языком и не знают, как назвать машину, на которой я прилетел, но понимают, в чем дело, знают, что это должно быть для затмения полетели из Москвы, слышали даже об этом, всем объяснят, и в кармане у них даже есть книжка о затмении, которая им многое объяснила… Чрезвычайно картинно описывал все дело именно Андрей Прохорович. Он называл аэростат не иначе, как кометою, и описал подробно.
какую быструю смену ощущений произвело в нем все виденное. Он даже говорил, что необыкновенно счастлив тем, что сразу разобрал, в чем дело, и во всю жизнь свою никогда этого не позабудет. Потребовал даже, чтобы я у него на книжке о солнечном затмении написал свою фамилию, день и число, а также просил, чтобы я дал ему свою фотографическую карточку».
Может быть, где-нибудь у потомков Андрея Прохоровича Мушкина, среди которых, весьма возможно, есть уже и ученые и смелые пилоты, – все пути открыты перед крестьянскими сынами в Советской стране, – хранится автограф Дмитрия Ивановича Менделеева и его портрет, как память о спокойном мужестве русского исследователя, которое продолжает жить в его наследниках.
А Дмитрия Ивановича Менделеева, когда он в серый денек ранней осени 1887 года опустился на землю из облаков, к которым так стремился, снова плотно обступали «назойливые вопросы» жизни, его дальше и дальше звала «настоятельная необходимость искать верного пути».
XXII. МЕНДЕЛЕЕВ УХОДИТ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
Менделеев прилагал все силы к умножению и сплочению «научной дружины», как он называл естествоиспытателей. В 1869 году вновь созданное Русское физико-химическое общество насчитывало 35 членов. Через десять лет, в 1879 году, их стало 119.
В 1889 году их было 233, а в 1899 – 293; в 1913 – 514. В наше время в химической промышленности СССР работают десятки тысяч химиков с высшим образованием.
Говоря о науке, обыкновенно спрашивали, чего наука достигла и что она дала для жизни. Менделеев хотел, чтобы это был один и тот же вопрос. Поэтому он хотел видеть участие своей «дружины» во всех делах родной страны. На съезде русских естествоиспытателей и врачей в декабре 1879 года он выступил с программным заявлением о служебной роли естествознания[65]. Съезд встретил оратора овацией, но решительно не знал, как поступить с его
заявлением. Оно было передано в секции, где, казалось, и было погребено. Но на самом деле слова Менделеева не терялись. Они расходились, как круги по воде, и возбуждали ответную взволнованность в самых далеких уголках России. То вдохновленный ими земский врач предпринимал на свои скудные средства исследование источников пресных вод в засушливой степи, то провинциальная кафедра университета собирала на лето экспедицию в поисках новых месторождений минерального сырья. В «Ученых записках», издававшихся далеким окраинным университетом, появлялся вдруг научный отчет, над которым много десятков лет спустя застывал в восторге кто-либо из новых искателей, раскапывавших старину ради настоящего и будущего, слитых уже нераздельно. Этих новых искателей нашего времени томит та же неутолимая жажда свершений, они также живут бескорыстной радостью поисков и находок, но их стремления уже совпадают с помыслами и задачами всего государства. Это высшее счастье. Ими руководит, их направляет, их торопит государственный народнохозяйственный план. А в те далекие времена каждый искатель сам для себя придумывал план разведок. Кому пригодятся добытые им результаты? Когда ими воспользуются добрые люди? Этого он не знал. И только у самых смелых и мужественных хватало силы пронести в будущее свой труд, свою мечту – сквозь заслоны могущественных врагов в стране, с трудом освобождающейся от остатков крепостнического уклада.
Менделеев, заглядывая в будущее, говорил на съезде естествоиспытателей:
«Естествознание в России, еще столь недавнее,-
мы видим – мужает. Юноше прилично помышлять только об интересах головы и сердца, а муж должен помнить и о живых возможных практических потребностях. А потому нам пора подумать о том, чтобы послужить нуждам той страны, где мы живем и растем. Работая на пользу всемирной науки, мы, конечно, вносим свою дань родине. Но, ведь, у нее есть нужды личные, местные. К числу таких относятся те, которые восполнить и удовлетворить мы можем легче и удобнее, чем кто-либо другой, нам они виднее и доступнее. Будем же их сознавать, чтобы не сказали когда-нибудь: «они собирались, обсуждали всемирные интересы науки, а близкого, знакомого, в чем могли оказать прямую пользу стране, – того не видели».
У него наготове было практическое предложение:
«Естествоиспытатели! Опишем возможно простым языком, сравнительно с разными полосами России, условия климата, почвы, растительности, животных и народонаселения, укажем горы и реки, леса и пустыни, всю совокупность условий, имеющих значение для экономического быта, в тех окраинах России, где возможны еще новые обширные поселения – если не теперь, то в будущее время».
Такая работа, считал он, под силу только большому коллективу исследователей.
«Выбор из готового – необходимого и сравнительное изложение выбранного – не по силам одного лица, потому что здесь иная строка должна стоить целых лет подготовки и месяцев труда… То труд приличный и доступный только обширному съезду любящих родину знатоков природы, естествоиспытателей со всех концов России. Обдумав и разделив труд, вы его сделаете легко».
Такая работа, по мнению Менделеева, должна подчиняться единому плану.
«Если же прибавить за тем настоятельную потребность в личном ознакомлении с условиями некоторых, еще не хорошо обследованных местностей, для чего необходимы новые туда поездки, которые, конечно, дадут и новую дань науке, то окажется, что без общего содействия русских естествоиспытателей, без строгого обсуждения плана и подготовки необходимых для его выполнения средств- подобная работа немыслима».
Но – увы! – еще не ко времени были предложения Менделеева о создании коллективного исследовательского органа, в котором нам легко угадать первые наброски контуров современного нам Совета по изучению производительных сил Академии наук СССР, с его многообразными комплексными экспедициями, с его умелым сочетанием труда минералогов и озероведов, ботаников и ирригаторов, лесоводов и архитекторов, и множества других специалистов.
Съезд естествоиспытателей и врачей в 1879 году разъехался, не приняв никаких решений. Лишь разрозненные отряды энтузиастов продолжали исследовать страну. Б. И. Дыбовский и В. Годлевский путешествовали в бассейне Амура, А. Л. Чекановский – в Прибайкалье, Н. А. Северцов и И. В. Мушкетов – в Туркестане… Они составляли первые географические обзоры неизвестных и необжитых краев[66]. Что касается изучения экономики важнейших центральных районов России, то со-
ответствующее отделение Российского географического общества пришло в те годы к заключению, что ни собирание таких материалов, ми обработка их «не под силу добровольному обществу». Эпоха «казачества», как именовал Менделеев изолированные партизанские действия разрозненных отрядов искателей, и в этой области еще не миновала. Но сам-то Менделеев отдавался им со все большим увлечением, со все большей страстью. Частичный успех его советов, относившихся к «нефтяным делам», его вдохновлял чрезвычайно. Правда, он не мог притти к сердечному согласию с заправилами этих дел, убедить их в необходимости разумного их ведения. Но эти огорчения не умеряли его настойчивости. Нобеля, например, он считал просто человеком «злой воли», хотя это был самый обычный делец, поступавший по законам и обычаям своего класса.
В 1888 году, по предложению министерства государственных имуществ, Менделеев объездил Донецкую область, обследуя возможности развития отечественной каменноугольной промышленности. Ведь в то время и заводы и транспорт центральных областей работали еще на привозном, английском, угле. Менделеев не только связался с геологами, не только изучил край, но исследовал всю его экономику – собирал, например, копии соглашений между крестьянами – добывателями и скупщиками угля на кустарных разработках в Зайцевской волости и пр. Свой отчет о поездке он опубликовал в журнале «Северный вестник» (1888, №№ 8-12) под названием: «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца». Он начинался поэтическим музыкальным аккордом:
«Много, много веков в земле пластом лежат, не шевелясь, могучие, черные каменные великаны. Они шутя двигают корабли, молча день и ночь вертят затейливые машины, все выделывают на сложных заводах и фабриках, катят, где велят, целые поезда с людьми ли, с товарами, куют, прядут…
Не из сказки это, – у всех на глазах. Это поднятые великаны, носители силы и работы – каменные угли».
Он звал сюда – на Донец – русских людей с такой же пламенной верой в будущее края, как некогда приглашал их на нефтеносные земли Прикаспия.
«И нет куска земли, в которую вдунуть дыхание промышленной жизни было бы легче, чем в земли, столь богато одаренные спрятанным в них углем, как донецкие», – писал он.
От менделеевских работ неизменно излучалась та же влюбленность в жизнеутверждающий труд, те же настроения, с какими молодой Горький начинал недописанную им до конца былину «Васька Буслаев». Он читал ее в рукописи Чехову, и тот радовался замыслу показать богатырскую мощь созидания:
Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я – снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил – города городил…
«Если бы воля моя была, – писал Менделеев в своей статье о Донецком бассейне, – приставил бы я к Донцу молодежь, под руководством аккуратного исследователя, чтобы изучать эту реку с возможною точностью и продолжительно, как следует для того, чтобы дело окончательного регулирования шло не наугад.
Да призвал бы лучших знатоков этого дела, чтобы у них узнать, как лучше, дешевле и вернее можно устроить Донец и Дон для наших русских надобностей. А за это же время распорядился бы… карчи[67] или затонувшие деревья вытаскивать, а где нельзя вытащить – взрывать, балки или боковые овраги, сносящие в реку целые косы гравию и камней, загораживать плетнями, где сильные излучины – испрямлять течение реки и где сыпучие берега – засаживать их ивняком или отводить от них реку».
В стилевом сходстве этих отрывков нельзя видеть случайного совпадения. Здесь выражается именно общий склад и направление мышления. И в других работах Менделеева нет-нет да и вспыхнет все тот же «буслаевский» мотив:
«Будь у меня какая-либо на то возможность, в центральной России, в Москве даже, я бы повел такую глубокую разведку вертикальной шахтой и бурением, о какой доныне и помину нет, и, полагаю, что от глубокого проникновения внутрь недр разлилось бы не мало света в подземной тьме».
Это уже из книги «К познанию России».
И в другом месте:
«Если бы введено было орошение, во многих жарких частях России, даже на южном берегу Волги, можно было бы отвоевать целые области» и т. д. и т. п.
В менделеевской работе «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца» мы находим не только подготовку к началу капиталистического освоения каменноугольных богатств Донецкого бассейна. Менделеев не просто чутко и своевременно отзывался на потребности своего времени. Он, как естествоиспытатель, выдающийся технолог, передовой химик, стоя на почве объективной науки, стихийно вырывался в своих научных мечтаниях за пределы практических возможностей своей эпохи, за рамки капиталистических форм хозяйствования.
Чего стоят, например, его изумительные предвидения грядущей газификации промышленности!
«Думаю, что время выгодности устройства общих заводов для переделки топлива в горючие газы недалеко, потому что города сильно растут, заводы и фабрики скопляются около них и топливо здесь идет в громадных размерах, а сокращение хлопот и расходов с развозкою топлива, с истопниками, с заботою об экономии топлива и с необходимостью во многих случаях высокой температуры – должны дать значительные сбережения при употреблении газового топлива. Открыл кран – и топливо потечет само собой, количество его измерить легко, ими легко управлять. При постоянной топке стоит раз урегулировать приток газа – дальше и присматривать не надобно. А температуры дает газовое топливо наивысшие, большие, чем сам уголь, отчего уже и ныне нередко прибегают к полному превращению угля в горючие газы… при помощи простых снарядов, называемых генераторами… Вот сюда должна направляться изобретательность людей».
Мысль летела вперед и в конкретных очертаниях впервые в мире формировала идею подземной
газификации углей, которой суждено было именно здесь – в донецких степях – уже в наши дни найти первое же промышленное осуществление:
«Настанет, вероятно, со временем даже такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там в земле сумеют превращать в горючие газы и их по трубам будут распределять на далекие расстояния».
Идея подземной газификации, развитая Менделеевым подробнее в книге «Уральская железная промышленность в 1899 году» (Спб., 1900), была впоследствии подхвачена английским химиком Вильямом Рамсеем. Ленин писал по поводу нее в 1913 году в статье «Одна из великих побед техники», что она «означает гигантскую техническую революцию»[68].
В этой же работе, посвященной донецким углям, Менделеев мечтал о межотраслевой организации единого хозяйства.
«К делу постепенного улучшения Донца и ему подобных рек, – писал Менделеев, – следует призвать не только ведомство путей сообщения, инженерам которого и книги в руки следует отдать, не только горных чинов, которые свяжут реку с недрами земными, но и местных выборных лиц, чтобы они внесли в такие дела возможно большую массу местных сведений; главное – чтобы не существовало в подобных делах канцелярской тайны, при которой обделывают часто в далеких наших углах хорошие делишки, но редко делаются порядочные дела…»
Но он тут же сам с горечью обрывал свои меч-ты. Все чаще звучат в его трудах нотки разочарования в капитализме:
«Сказав про Донец, что знаю и как думаю, я боюсь больше всего именно того, что при таком способе действия, какой здесь предполагается, интерес к нему будет мал. Вот если бы затеять и здесь проектец с миллионными расходами, да особенно с концессиями, тогда бы стали одни уличать в том, что хочу примазаться к этим миллионам, другие стали бы сами лакомиться на них, завязался бы разговор крупный, полемика, интерес. А то разве одни гидротехники, специальные инженеры вступятся, да скажут, что не за свою специальность берусь…»
Он бы и этому был рад.
«Хоть бы они, право, зачали, я же готов нести ответ – лишь бы дело сделалось, лишь бы интерес возбудился. Хуже всего, однако, если опять отправят собирать сведения, а дела не начнут…»
От соображений о том, как хорошо было бы для содействия развитию донецкого горно-промышленного района устроить каналы по реке Донцу и его притокам, чтобы соединить район производства угля и железа с морем дешевым водным путем, от мыслей о необходимости тщательно продумать сеть подъездных дорог к новым шахтам для бесперебойной вывозки угля, Менделеев, естественно, переходил к мечте о разумном устройстве транспорта в масштабе всей страны. Он тут же рассказывал о том, как совсем недавно все хлеба и товары для заграничной отправки хлынули через один порт – Севастополь. А у севастопольской дороги испортились паровозы. Чинить их не поспевали, и на передаточных станциях вагоны скоплялись тысячами. Почему бы не прислать на время паровозы с тех дорог, где грузов нехватало? – спрашивал он. – Почему бы заранее не прикинуть размеры перевозок и не подготовиться к ним? Менделеев подходил к задаче чисто логически, решал ее принципиально, с точки зрения здравого смысла науки. Но кто же стал бы в капиталистической действительности считаться с его благими пожеланиями? Тысячи соперничающих между собой мелких скупщиков зерна? Враждуюшие железнодорожные компании?
От железных дорог его мысль переносилась к необходимости зачинать судостроение на русском юге. Ведь все звенья сцеплены друг с другом, образуют единую цепь хозяйства. Но кому же хлопотать об этом возбуждении судостроения?.. «Тут и уголь и руды с добычею железа и стали – они в министерстве государственных имуществ, оно хлопочет развить эти дела, кораблестроение же потребляет этого добра больше, чем железные дороги. Тут и порты и речное судоходство вмешались ясно, а они у министра путей сообщения. Тут интересы торговли и промышленности, а они в министерстве финансов. Тут и морское дело, а оно в морском министерстве. Вот и боишься – начинать некому, в чужое ведомство зайдет каждый, а своего у нашей промышленности еще нет».
Хозяев много – хозяина нет!
Казалось бы, еще шаг, еще один – и действительность подскажет исследователю единственно правильный вывод из противоречий, в которых мечется его мысль, как птица, которая разбивает грудь о прутья клетки… Но нет!
Видя столько противоречий в окружающем его обществе, Менделеев в то же время верил в возможность единения в рамках этого же общества науки, промышленности и труда.
Пожалуй, наиболее ярко и сильные и слабые стороны Менделеева – зоркого провозвестника промышленного расцвета России и ограниченного социолога – воплотились в его работе «Толковый тариф»[69].
Какое странное название! Какая неожиданная тема для литературной работы ученого химика – таможенный тариф, то есть перечень пошлин, которыми облагаются ввозимые из-за границы товары!
«Но не технические подробности отдельных производств, а экономические условия их развития в России и связь их с новым таможенным тарифом составляют главное содержание этой книги», – писал сам Менделеев в своем предисловии к тому, занимавшему около пятисот страниц плотной печати. Он продолжал: «Мне желательно, по мере сил, истолковать, разъяснить новый русский тариф, потому и назвал свою книгу «Толковым тарифом». Правильно ли я понял тот смысл, который заключается в новом нашем тарифе, об этом судить бесстрастно будут только через десяток лет, то-есть уже в предстоящее столетие».
С тех пор миновал не один десяток лет, и чтобы сейчас наш современный читатель, – кстати сказать, совсем не бесстрастный судья прошлого своей страны, – мог по достоинству оценить смысл менделеевской работы, нужно хотя бы кратко остановиться на ее содержании.
К тому времени, когда друг Менделеева, профессор Петербургского технологического института Вышнеградский, сделался министром финансов, а это произошло в 1887 году, он уже перебрался из Технологического института в собственный особняк на Английской набережной и дважды в год задавал роскошные балы, впрочем исключительно для представительства, потому что сам к подобным развлечениям был совершенно равнодушен. Он работал по шестнадцати часов в день и ухитрялся пребывать в двух ипостасях: профессора института и ловкого биржевого дельца. Чтение технологам механики, преподавание которой он поднял на исключительную высоту, не было для него повинностью. Когда один из его деловых знакомых однажды спросил его, почему он не оставляет своей должности в университете, за которую он получает всего три тысячи рублей в год, тогда как за одно только составление устава нового акционерного общества брал сорок тысяч, он вполне серьезно отвечал: «Эх, батенька, здесь мое нравственное удовлетворение, чтение лекций доставляет мне удовольствие, поэтому по возможности занятия профессурой я не брошу».
Занявшись государственными финансами, Вышнеградский обнаружил, что курс русского рубля, который был относительно хорошо обеспечен, испытывал наибольшие колебания на иностранных биржах. Он вскоре раскусил цели игры, объектом которой была русская валюта. Предложение рубля на биржах уменьшалось к тому моменту, когда начиналась кампания хлебного вывоза. Рубль дорожал, и, следовательно, хлеб уходил из России по более дешевой цене. Затем, к тому моменту, когда начинались закупки русских экспортеров за границей, предложение рублей на бирже, по мановению чьей-то дирижерской палочки, возрастало, рубль падал в цене, и экспортеры должны были переплачивать на иностранных товарах. Вышнеградскому вначале было неясно только одно: каким образом и в каком количестве проникают на иностранные биржи миллионные куши русской валюты. Чтобы проконтролировать эту утечку, он ввел пошлину в 0,1 копейки с каждого вывозимого рубля. Фискального [70] значения эта пошлина не имела, но зато она позволила точно установить, что помещики, знать, веселящиеся купчики ежегодно вывозили в виде наличности на фешенебельные курорты и в другие злачные места Европы до 50 миллионов рублей. От «прожигателей жизни» эти деньги попадали в руки биржевых маклеров.
Конечно, Вышнеградский не собирался посягнуть на столь дорогие заграничные увеселения богачей. Вместо этого он сам включился в биржевую игру на русском рубле. Через посредство банкирского рода Ротшильдов Вышнеградский стал скупать кредитные рубли, когда предложение их на биржах возрастало, и, наоборот, продавал, когда на биржах обнаруживалась покупательная тенденция. Он выиграл эту игру и дополнительно обогатил этим крупных хлебных спекулянтов. Во всяком случае, это было дополнительным стимулом для развития хлебной торговли, и золотистая русская пшеница текла на международный рынок все более широкой струей. Это облегчалось еще и тем, что Вышнеград- ский добился снижения железнодорожных тарифов на хлебные грузы. «Сами не будем есть-будем вывозить», – говорил он, имея в виду, конечно, не себя и не своих подопечных. Прижатое налогами крестьянство вынуждено было отдавать скупщикам весь свой хлеб, едва успев его убрать. Сами с рождества питались лепешками из лебеды и соломенной сечки. Неурожай 1891 года, который был бы тяжелым при всех условиях, в результате непосильных поборов и вывозной горячки оказался положительно погромом деревни. Даже официозные бюллетени министерства государственных имуществ, и те сообщали, что уже с июля толпы нищих потянулись по скорбным проселкам России. Скот распродавали по цене кожи. Поголовное разорение нависло над деревней.
Но резервуар казны наполнялся. Ему угрожало течью лишь данничество загранице. Поэтому, наряду с укреплением курса рубля, Вышнеградский произвел конверсию иностранных займов, то есть переложил уплату дани по ним на следующие поколения. Доход от долговых обязательств был понижен с тем, чтобы свободные капиталы более охотно устремлялись в промышленность. Но прилив иностранного капитала в промышленные вложения – это тот же заем. Вышнеградский надеялся лишь на то, что рост богатства в стране опередит рост задолженности. Все, чего он реально добился в конечном счете, – это некоторой отсрочки иностранных платежей. Очередной глоток воздуха, который делает утопающий!
Разоренная деревня представляет собой слабый рынок для промышленных товаров. Чтобы искусственно поддержать развитие промышленности,
Вышнеградский решил ввести новый оградительный таможенный тариф. Обложение высокими ставками ввозных товаров позволяло поднять цены на такие же товары внутреннего производства. Пробовал повышать тариф предшественник Вышнеградского Бунге, но огульное повышение ставок привело к ряду несообразностей. Например, ввоз серной кислоты облагался пошлиной, а суперфосфат, в котором треть веса составляет та же серная кислота, не облагался, и т. д. и т. п. Поэтому Вышнеградский и пригласил Менделеева, как специалиста-химика, помочь в составлении нового тарифа.
Менделеев с величайшим энтузиазмом отдался новой работе. Результатом увлечения его и явился толстый том комментариев к тарифу под названием «Толковый тариф». В этой книге, в соответствии со своим замыслом, он не только истолковывал отдельные статьи обложения, но и объяснял, какие отрасли промышленности они призваны защищать, где, опять-таки, русские предприниматели могут с наибольшим успехом приложить свои капиталы.
Снова и снова возвращался он в своей книге к истории пробуждения нефтяной промышленности, глашатаем и свидетелем которой был. Русская нефть – это была его гордость.
«И если я выставляю, быть может, чересчур уж часто на показ тот пышный промышленный цвет, который быстро дал дождь мероприятий в отношении к росту разработки русской нефти, – писал он, – то только потому, что это дело ближе всяких других знаю с самого его зародыша, который не уставал показывать. И тогда мне говорили, когда я уверял в быстром росте этих дел, если будут предприняты необходимые для него меры, что я кабинетный мечтатель и профессор, практической жизни не понимающий… что лучше дело предоставить собственному течению…»
С торжеством он обрушивал факты капитализации России на народников, которых называл утопистами «самого кичливейшего строя». «Восставая противу капитализма, – писал он, – они требуют мер, подавляющих самое его зарождение, и косвенно приглашают проедать остатки… и в то же время заводить алюминиевые крыши; не указывая, однако, откуда взять алюминий и где его провальцевать в листы»[71].
А его собственная программа формулировалась в самых радужных тонах.
«Теперь, посетив донецкий край и видев его богатства на месте, – писал он, – я говорю то же про каменный уголь, про железо, про сталь, про соду, а изучив положение производства многих других товаров, говорю то же самое про марганцевистый чугун, про канифоль и уксусную кислоту, про хлопок, про множество продуктов животного царства и про многое другое – для чего и назначается эта книга; ибо исстари была «земля наша велика и обильна». Приложится к этому обилию труд, и от обилия произойдет перепроизводство, а от него дешевизна и заграничный вывоз. Он, этот вывоз «не хлеба», растет за последние годы и абсолютно и относительно, как показано далее числами, и этот рост его идет без скачков, какие всегда имеет хлебный вывоз… Купят, как покупают керосин, наш уголь, потому, что он дешевле английского; купят наше железо, потому, что покупают уже и наши железные руды; купят и соду, так как есть условия дешевейшего ее производства у нас – как нигде в мире; купят и все другое, что произведут и перепроизведут в избытке. А если многое разовьется – рабочие на тех делах спросят много хлеба и много разных товаров. Свое внутреннее потребление возродится, возрастет и отпуск, потому, что труд увеличится… Словом, пополненное этими промышленностями целое хозяйство России уравняется, бедствия уменьшатся и богатство, с трудолюбием связанное, возрастет. Пойти все это может лишь исподволь, понемногу, ломки тут никакой не надо, надо только немного в должной степени тарифом и всякими иными способами вызывать и помогать должному. Лет в двадцать настойчивых усилий Россия может достичь того, что не отправит ни зерна своего хлеба – оставит этот заработок неграм Африки, вывозить хлебный товар будет разве в виде муки лучших сортов, крахмала, макарон и тому подобных товаров, имеющих много большую ценность, чем зерно, а главную отправку будет получать от своих заводов и фабрик. Вывоз будет не меньше, а пожалуй и больше современного, да и ввоз также, потому, что разживутся люди, спросят всякой новинки и себе, и жене, и детям. Будущее столетие, с помощью нового тарифа и мер, ему долженствующих отвечать, увидит Россию в новом виде – страной нормальной комбинации сельского труда с заводско-фабричным. Мне не дожить до этого, но слова эти рано или поздно оправдаться должны».
В этой идиллической картинке ближайшего бу-
дущего России отсутствовали только такие подробности, как возрастание иностранного долга, как кризисы, ближайший из которых наступил не позже чем в 1896 году и положил начало широкому развитию монополистического капитала в России. Отсутствовала здесь связанная с неравномерностью капиталистического развития нищета деревни, упадок внутреннего рынка. Через двадцать лет капиталистического развития России, за которыми Менделеев видел наступление всеобщего благоденствия, а именно в 1913 году, В. И. Ленин, за подписью В. Фрей, писал в газете «Северная правда» о некоем статистике, подсчитавшем, что если китайцы удлинят свою национальную одежду только на ширину пальца, это обеспечит работой все бумаго-ткацкие фабрики Англии на целый год.
«Что же необходимо для того, – спрашивал Ленин, – чтобы десятки миллионов русских крестьян «удлинили свою национальную одежду», то-есть, говоря без метафор, увеличили свое потребление, перестали быть нищими, стали, наконец, хоть сколько-нибудь людьми?
Сатрапы нашей промышленности отвечают пустой фразой: «общее культурное развитие страны», рост промышленности, городов, и пр., «подъем производительности крестьянского труда» и т. п.
Пустое фразерство, жалкие отговорки! Более полвека происходит в России такое развитие, такой «подъем», происходит несомненно. За «куль- туру» распинаются все классы. На почву капитализма становятся даже черносотенцы и народники. Вопрос стоит давно иначе: почему это развитие капитализма и культуры идет у нас с черепашьею медленностью? почему мы отстаем всебольше и больше? почему эта увеличивающаяся отсталость делает необходимою экстренную быстроту и «стачки»?
На этот вопрос, вполне ясный каждому сознательному рабочему, сатрапы нашей промышленности боятся ответить именно потому, что они – сатрапы»[72].
Менделеев мечтал о непрерывно, без пауз и передышек, без спадов и кризисов, по развертывающейся спирали нарастающем общественном производстве. Этой мечте нехватало только одного. Этим «только» было осуществление социалистического строя, при котором такое развитие единственно возможно. Но Менделеев не задумывался даже над тем, почему к разработке нового таможенного тарифа с таким подъемом устремились крупнейшие капиталистические воротилы: Мальцев, Бахрушин, Гужон, Кольчугин, Морозов, Прянишников, Четвериков, Торнтон, Крестовников, Мензелинцев и другие.
В реальных условиях России защитительный тариф не содействовал, а задерживал экономическое развитие страны, так как, по меткому замечанию Ленина, служил не всем слоям буржуазии, а «лишь кучке олигархов-тузов»[73]. Им обеспечивались чудовищные сверхприбыли без всяких дополнительных хлопот. Но Менделеев видел в покровительственном тарифе не то, что из него на практике делали капиталистические монополии, то есть средство дополнительного ограбления российского потребителя, а то, что он сам хотел бы в нем видеть, – один из регуляторов, нечто вроде рычага, способного, во имя общих интересов, поворотить «дикую» предприимчивость к тем отраслям промышленности, которые в его глазах требовали особого поощрения.
Промышленникам же он как ученый был нужен ровно постольку, поскольку они сами не понимали, какая доля серной кислоты заключена в суперфосфате. Ведь среди них только 7 человек из 100 имело хоть какое-нибудь специальное образование. А как только дело было сделано, он со своими благими пожеланиями представлял лишь досадную помеху на пути к их беспрепятственному обогащению.
Академик В. Е. Тищенко, в своих рассказах о встречах с Менделеевым[74] приводил историю еще одного столкновения Менделеева с воинствующими монополистами.
Недавний еще приятель Менделеева Рагозин объединился с Нобелем на почве общей конкурентной борьбы с мелкими нефтезаводчиками. Чтобы убить окончательно их сопротивление, Нобель и Рагозин во время нефтяного кризиса 1887 года обратились в правительство с докладной запиской, в которой доказывали необходимость поднять цену на нефть, обложив ее налогом по 15 копеек с пуда. Мелкие промышленники телеграфно просили Менделеева поддержать их интересы в правительственной комиссии. Менделеев выступил с резким возражением против налога. Он составил алгебраические формулы, с помощью которых математически доказал, что введение налога невыгодно отразится на интересах потребителя. И тогда, на заседании комиссии, Рагозин, который разбогател на рецептах смазочных масел, подаренных ему Менделеевым, рявкнул с перекошенным от ненависти лицом:
– Бросьте вы свои «альфа» и «фи»! Если к каждому аппарату поставить по профессору, то этого никакая промышленность не выдержит…
Им не нужен был Менделеев! Их вполне устраивал предупредительный Лисенко. Но Менделеев был нужен России. И для России он писал свою книгу «Толковый тариф». Из ее строчек вырастал во весь рост великий ученый. Во весь голос он говорил о том, что «чем больше одарен природою человек, тем он больше обязан служить общему», о будущем, где труд станет «делом чистым и желанным, а не достоянием рабов или злою обязанностью бедняков».
Не было в царской России ни одного научного публициста из числа немарксистов, который бы с такой глубиной, как Менделеев, понимал и с такой силой прославлял великую преобразующую роль труда. Он безустали говорил: «Грядущее – труду». И еще: «Небывшее, действительно новое – делает лишь труд; его нет в природе, он в вольном, духовном сознании людей, живущих в обществе, и отдельное лицо труда может выдать неизмеримо много на целые поколения разработки, на беспредельную пользу», и т. д. и т. п.
Но он останавливался на полдороге. Буржуазная ограниченность его сознания попрежнему мешала ему постичь, что единственным условием освобождения этой великой преобразующей силы, единственным залогом действительного возрастания ее могущества является выдвижение на историческую арену общественных сил, способных сокрушить самодержавие, разбить твердыни капитализма и стать творцами нового общества.
Менделеев мысленно корчевал устье Донца, планировал перевозки, создавал общественное межотраслевое управление промышленностью. Это делал Менделеев естествоиспытатель, технолог, химик, экономист, стоявший на твердой почве объективной науки, подчинявшийся логике ее требований. От научного анализа техники он приходил к пониманию того положения, которое впоследствии было выражено Лениным в простых словах: «Куда ни кинь – на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно» .
Но за этим у Ленина следовала коротенькая фраза, которая являлась ключом ко всему дальнейшему прогрессу человечества: «Мешает капитализм».
Этого Менделеев повторить бы не мог. Он был еще далек от того, чтобы ступить на почву научного социализма.
Бесспорно, самый тяжелый момент в биографии Менделеева – его расставание со студентами университета в 1890 году.
Попав однажды на одну из студенческих сходок, Менделеев убеждал студентов разойтись. Но волнение не утихало. Тогда он предложил собравшимся изложить их требования письменно, передать ему,-
он обещал вручить петицию самому министру народного просвещения, – а самим спокойно приступить к занятиям. Студенты послушались.
Менделеев надел вицмундир, что делал в исключительных случаях, и поехал к министру просвещения, графу Делянову, ознаменовавшему свой министерский путь обещанием отдавать «бунтовавших» студентов в солдаты и отказом Ульянову-Ленину в обратном приеме в Казанский университет. Деляно-
ва не оказалось дома, и Менделеев оставил ему конверт с обращением студентов и своей запиской.
Через несколько дней он получил обратно конверт с препроводительным отношением, в котором было написано:
«По приказанию министра народного просвещения, прилагаемая бумага возвращается Действительному Статскому Советнику профессору Менделееву, так как ни министр и никто из состоящих на службе Его Императорского Величества лиц не имеет права принимать подобные бумаги».
Это было прямое указание «Действительному Статскому Советнику Менделееву» на несовместимость его «поступка» с государственной службой в университете.
Ректор не хотел принимать у Менделеева прошения об отставке, но тот насильно, на глазах у студентов, всунул ему в карман эту бумагу.
Под давлением Делянова отставка была принята.
Свой курс Менделеев дочитал до конца. И вот наступил день последней лекции. К ней не только особенно торжественно готовились студенты, но готовилась даже полиция!
Менделеев вошел в переполненную аудиторию, встреченный громовыми аплодисментами – великий ученый, опальный профессор, друг студенчества.
Менделеев занял место на кафедре, огляделся, пошутил над большим количеством собравшихся слушать химию. Смех разнесся по амфитеатру: кто сегодня пришел слушать химию! Сюда пришли студенты всех факультетов проститься с гордостью университета.
Менделеев вложил в эту прощальную лекцию все лучшие свои мысли. Он говорил о фонаре науки, который должен осветить недра земли, о том, что по-настоящему независима только экономически самостоятельная страна, о том, что промышленное дело есть важнейшее практическое дело русской образованности, как он называл интеллигенцию.
Кончил он так: «Покорнейше прошу не сопровождать мой уход аплодисментами по множеству различных причин…»
Одной из причин была та, что аудитория начала заполняться полицейскими, и, увидев это, Менделеев опустил голову на сложенные руки и заплакал над таким поруганием храма науки, каким всегда был для него университет.
XXIII. МЕНДЕЛЕЕВ ВЫДУМЫВАЕТ ПОРОХ
Так случилось, что в пятьдесят шесть лет Менделееву приходилось строить жизнь заново. В прошлое ушел университет, не стало любимой лаборатории. Дмитрий Иванович поселился на новой квартире, которую снял на Васильевском острове. В несвойственном ему состоянии бездеятельности он пребывал, однако, недолго, и выйти из него ему помогла, помимо занятий над «Толковым тарифом», предпринятая, по предложению морского и военного министерства, работа по созданию отечественного типа бездымного пороха для вооружения армии и флота.
Менделеев чувствовал себя до глубины души оскорбленным пренебрежительным отношением властей к нему как к рядовому служилому человеку, «действительному статскому советнику Менделееву». Но речь шла о вопросах обороны страны, и никакие личные обиды не могли поколебать его решения согласиться на предложение военного министерства.
В архивных фондах библиотек хранятся экземпляры докладной записки Д. И. Менделеева:
«Его Высокопревосходительству Господину Военному министру Петру Семеновичу Ванновскому
«Об экономических условиях приготовления принятого для перевооружения армии бездымного пороха». Докладная записка совещательного члена Артиллерийского комитета профессора Д. Менделеева. Спб., 1891».
Уязвленность самолюбия выразилась только в подписи. Никогда не употреблявший никаких знаков отличия, Менделеев счел необходимым на этот раз привести весь свой научный титул: совещательного члена Артиллерийского комитета и доктора и заслуженного профессора химии С.-Петербургского университета, почетного члена Совета торговли и мануфактур, Юго-славянской, Копенгагенской, Дублинской академий, Русского физико-химического общества, Императорского русского технического общества, Лондонского химического общества, доктора прав Эдинбургского университета, доктора философии Геттингенского университета и проч. и проч.
Менделеев пытался своей докладной запиской внушить военному министру, что «снабжение русской армии бездымным порохом есть одно из крупнейших в мире промышленных предприятий». Он пытался втолковать военному министерству, что отечественное вооружение должно изготовляться целиком из отечественных материалов и самоубийственно основывать производство русского пороха на сицилианской сере. Концессии на производство новых типов пороха, – требовал он, – должны сдаваться лишь при условии, чтобы «серная кислота получалась при помощи русских колчеданов». С обычной своей осведомленностью и обстоятельностью он перечислял русские месторождения серы, которые ему самому довелось, в свое время, посетить, называл наиболее подходящие места для закладки соответствующих «крупных предприятий, которые могли бы организовать побочные предприятия, например, разработку колчеданов, переработку остатков, устройство испытательных лабораторий и т. д.». Он призывал к развитию собственной исследовательской базы. «Лаборатории взрывчатых веществ должны быть рассматриваемы как дальнозоркие орудия войны, – писал он, – только они произвели современный переворот в вооруженных силах всех стран. Россия должна и здесь встать твердою ногой».
Менделеев рассказывал, что вместо этого производство пироксилина на первом казенном – Охтенском – заводе было передано на ответственность приглашенного французского офицера и вмешательства в его указания и требования признавались неуместными. Француз перенес на Охтенский завод всю рецептуру французской заводской кухни целиком, со всеми ее техническими погрешностями, легко обнаруженными русскими химиками. Но всякая попытка видоизменить условия производства вела к недоразумениям с приглашенным французом. Таким образом, все пути к дальнейшему усовершенствованию производства были закрыты.
Менделеев тщательно экономически обосновывал свои предложения. Из записки видно было, что он уже успел убедить владельца Камских химических заводов П. К. Ушкова строить собственные гончарные заводы для производства посуды под серную кислоту. До тех пор и горшки закупались за границей! Он успел также выяснить у Саввы Морозова, почем тот может поставлять со своих текстильных фабрик так называемые «концы» для производства пироксилина, и т. д. и т. п. Словом, в ав-
торе записки легко было узнать уже хорошо известного нам Менделеева – вдумчивого практика-технолога, блистательного экономгеографа, пламенного патриота своей отчизны. Но в жизненно-важном для обороны вопросе о бездымном порохе он должен был выступить еще и как крупнейший химик своего времени, каким он в первую очередь и был.
Дело в том, что бездымный порох, производство которого налаживал на Охтенском заводе заезжий француз, не мог удовлетворить армию не только по качеству изготовления, но и по своему составу. Здесь нужно несколько остановиться на том, что вообще представляет собой бездымный порох.
Если погрузить бумагу в азотную кислоту, оставить ее там на несколько времени, чтобы она пропиталась, и потом промыть большим количеством воды, то получается непромокаемый в воде пергамент, чрезвычайно легко воспламеняющийся. Этот пергамент представляет собой особый вид пороха, названного пироксилином. В обыкновенном черном порохе, который и до сих пор употребляется для охотничьих ружей, крупинки угля и серы смешаны с селитрой. Селитра наполовину состоит из кислорода. В момент вспышки этот твердый концентрированный кислород освобождается, и уголь в нем сгорает. Давление образующихся при этом газов выбрасывает пулю. Однако черный порох сгорает не целиком – мельчайшие твердые частицы несгоревших его остатков разлетаются из ружья при выстреле в виде дыма. Поэтому такой порох называется дымным. При изготовлении пироксилина кислород, находящийся в кислоте, которой обрабатывается клетчатка, присоединяется к молекулам этой горючей основы. Таким образом, каждая частица пироксилина представляет собой готовый заряд. Пироксилин сгорает тоже за счет своего собственного кислорода, причем быстрее черного пороха и почти нацело. Дыма он не дает. Не нужно пояснять, насколько это важно на войне.
Но первые же попытки замены пироксилином дымного пороха, предпринятые в 1846 году, показали, что с изобретением пироксилина задача создания бездымного пороха не решена, а только поставлена. Пироксилин сгорал слишком быстро. Если заряд был слишком плотен, при выстреле мгновенно развивались такие высокие давления, которые иногда разрывали ружье раньше, чем успевала вылететь пуля. Кроме того, молекулы пироксилина, сами по себе, представляли не очень стойкие химические образования. После того как множество пороховых складов в разных странах взорвалось от самовозгорания пироксилина, непригодность его для военных нужд была признана повсеместно.
Судьба пироксилина изменилась совсем незадолго до описываемых событий, когда в 1885 году удалось замедлить вспышку пироксилина в заряде. Главное неудобство пироксилина состояло в его рыхлости: весь его заряд воспламенялся сразу потому, что при поджигании его накаленные газы мгновенно проходили между слоями заряда. Пироксилин удалось уплотнить с помощью простого приема: его сначала растворили в смеси спирта с эфиром, а затем выпрессовали в виде плотной прозрачной плитки. Теперь уже было легко регулировать горение бездымного пороха: толстые плитки горели медленнее, тонкие – быстрее. В дальнейшем в пороховую массу стали добавлять нитроглицерин. Но получить химически однородные студенистые растворы обработанной кислотой клетчатки в нитроглицерине оказалось трудно разрешимой технологической задачей. К тому времени, когда Менделеев взялся за разработку русского бездымного пороха, ни в одной армии мира не было настолько однообразно действующего пороха, чтобы его можно было уверенно и безопасно употреблять для тяжелых, особенно морских, орудий.
Широкое распространение получила легенда о том, что главной заслугой Менделеева в этой области было остроумное разоблачение им секретного состава одного из лучших европейских порохов того времени – французского.
Эта история обычно излагается так:
В результате поездки во Францию Дмитрию Ивановичу и его помощнику проф. Чельцову удалось с величайшим трудом достать несколько иностранных образцов. Но и образцы эти мало устроили исследователей: при самых тщательных анализах не удалось окончательно установить пропорции составных частей. Тогда Дмитрий Иванович нашел остроумный и простой выход. Он обложился статистическими таблицами французского железнодорожного транспорта и учел все те грузы, которые поступали по ветке, ведущей к пороховому заводу французского военного министерства. Откинув явно не идущие к цели, он получил составные элементы бездымного пороха. Оставался уже чисто технический вопрос о пропорциях, способе изготовления и т. д. Дмитрий Иванович нашел нитроклетчатку с содержанием азота в 12,5%, растворимую в спирте с эфиром, и назвал ее «пироколлодием». В высушенном состоянии это и был бездымный порох.
По сравнению с действительностью подобныерассказы выглядят бедно, как и всякая полуправда
Менделееву не нужно было ездить во Францию получать составные элементы бездымного пороха по той простой причине, что он их отлично знал задолго до своей поездки. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к первоисточнику, правда, несколько неожиданному: замечательно интересные менделеевские сообщения о его работах по бездымному пороху появились между известиями о плавании русских судов за границей и пожалованием иностранных орденов в № 7 «Морского сборника» за 1895 год. Адмирал Н. М. Чихачев, управлявший морским министерством, разрешил к этому времени опубликовать основные результаты работы по порохам (без описания технологии их изготовления). Менделеев воспользовался этим разрешением и рассказал, как он пришел к своему открытию.
До начала лабораторных работ он проделал исключительно изящное теоретическое исследование вопроса. Он искал исчерпывающее принципиальное решение, да и мог ли иначе подойти к своей задаче Менделеев?!
«Когда был открыт бездымный порох, – писал он, – явилось столь много предложений для удовлетворения народившемуся спросу, что и до сих пор остается открытым вопрос о том, какой бездымный порох предпочесть и не явится ли еще новый, превосходящий современный».
Таким образом Менделеев показывал пример борьбы со «слепой подражательностью», которую бичевал в своей записке военному министру.
Он решал проблему заново.
«Для того, чтобы ответить на эти вопросы, -
продолжал он, – мы разберем состав материалов, возможных для производства бездымного пороха, имея в виду, что они должны: а) сгорая, не оставлять твердого остатка и не давать газов, действующих на металлы (сталь, бронзу), принятые для орудий, б) при хранении не изменяться и не улетучиваться и в) при изготовлении требовать веществ и способов настолько доступных, чтобы производство было возможно в больших массах.
Не многие элементы способны давать газы, не действующие на металлы, и вообще помимо водорода, азота и соединений их между собою с углеродом и кислородом нельзя найти иных веществ, дающих газы и пары, не действующие на стенки орудий при температурах, горение пороха сопровождающих».
Он перечислял еще ряд условий, которые сильно ограничивают круг веществ, возможных для превращения в бездымный порох, и таким образом приходил к простейшим химическим соединениям, от которых можно было ждать распада с выделением тепла.
Круг этих соединений еще более сжимался после того, как он отсеивал те, которые «разлагаются не постепенным или последовательным горением, а сразу всей массой, то-есть детонируя», и, следовательно, «пригодны для мин и разрывных снарядов, но не для стрельбы».
Он разбирал условия типического бездымного горения, «когда кислорода ровно столько, сколько достаточно для превращения всего углерода в окись углерода и всего водорода в воду». Затем он перечислил все возможные комбинации простейших производных, отвечающие этому требованию.
Этот разбор стоящей перед ним задачи, являющийся великолепным образцом применения индуктивного метода, Менделеев заканчивал обсуждением способов практического приближения к типу идеального бездымного пороха, состав которого им теоретически был выведен.
Таким образом были точно обозначены условия нового открытия. Оставалось сделать тот шаг, который и является, собственно, изобретением, то есть выбрать наиболее простой и удобный путь для достижения выявившейся цели. Один из сотрудников Менделеева по работе над бездымным порохом, С. П. Вуколов, на юбилейном менделеевском съезде в 1934 году справедливо подчеркивал, что рядовой исследователь «готовил бы по имеющимся рецептам различные нитроклетчатки, превращал бы их в порох, чтобы выбрать давшую наилучшие результаты при стрельбе». Это потребовало бы и длительных экспериментов и лаборатории с большим персоналом. Между тем у Менделеева было всего- навсего шесть помощников! Да и тем осталось лишь перенести готовое решение в производственные условия. А найдено было это решение Менделеевым сравнительно быстро именно потому, что он знал, что искать: ему было заранее принципиально известно, сколько в искомой нитроклетчатке должно быть кислорода, сколько углерода и сколько водорода, чтобы на единицу веса она выделяла при горении наибольшее количество газообразных продуктов.
С. П. Вуколов вспоминал, как Дмитрий Иванович, радостный, возбужденный, показывал ему и проф. В. Е. Тищенко пробирку с кусочками нитрованной бумаги в смеси спирта с эфиром и говорил:
Смотрите, смотрите, растворяется, как сахар!..
«Этот вид коллодия, – писал Менделеев о результатах второй – экспериментальной – части своей работы, – должно считать новою, до сих пор в практике неизвестною формою нитроклетчатки, среднею между обычным пироксилином, содержащим около 13% азота, и аптечным коллодием, которым заливают небольшие порезы, содержащим около 11% азота». Поэтому он и назвал эту нитроклетчатку «пироколлодием», а изготовляемый из нее порох – «пироколлодийным».
В Европу он поехал для того, чтобы проверить свои выводы и убедиться в том, что западноевропейские исследователи не ведут работ в каком-нибудь уж совершенно новом, не предусмотренном им направлении, хотя это было маловероятно.
Тогда-то Менделеев и прибегнул к анализу статистики перевозок французских железных дорог. Отсюда он действительно получил сведения о характере грузов, поступавших на линию, обслуживающую крупнейший пороховой завод военного ведомства. Его интересовали не столько количество этих грузов, сколько их наименования. Он не обнаружил среди них ничего неожиданного.
В Англии заведующий Вульвичским арсеналом сэр Фредерик Абель радушно встретил Менделеева в своем кабинете, вынул из ящика и показал ему донесение контрразведки о цели его приезда в Англию и сообщил о его предшествующем пребывании во Франции.
– Для такого химика, как Менделеев, – сказал он, – задача легко разрешима, как бы ему в этом ни препятствовали.
Англии действительно нечего было скрывать от Менделеева в области производства пороха. До самого последнего времени, как это уже во время второй мировой войны отметил покойный академик А. Н. Крылов в своей статье по поводу гибели английского линкора «Ройяль-Ок», английские порохи отличались очень невысокими качествами.
В 1891 году в Петербурге была образована морская научно-техническая лаборатория, куда Менделеев перенес все свои работы в области пороха. «Работа была огромная, – вспоминал это время С. П. Вуколов, – нужно было ближе изучить условия, необходимые для приготовления пироколлодия и превращения его в порох для орудий. Дмитрий Иванович сам работал в лаборатории, и присутствие его действовало на нас – его сотрудников. Я помню, нужно было приготовить первую пробу пироколлодийного пороха для испытания. Помню, как мы нитровали концы в лабораторной посуде. Вместо измельчения в голландере[76] мы, молодежь, глубокой ночью сидели около кадки с водой и резали пироколлодий ножницами. Помню, как сушили приготовленный порох у выходных каналов калориферов. Трудность, опасность работы нас не смущали. У нас был Дмитрий Иванович!»
Вскоре лаборатория наладила производство пироколлодийного пороха в количествах, достаточных для больших флотских испытаний. Ими заведывал инспектор морской артиллерии адмирал Степан Осипович Макаров. Он с радостью сообщил Менделееву, что оправдались самые смелые его ожидания. Пироколлодийный порох не отказался при шестипудовых зарядах действовать так же правильно и равномерно, как и при зарядах в золотники весом. Опыты показали, что пироколлодийным порохом можно владеть, достигать желательных скоростей его сгорания, не рискуя при этом никакими неприятностями.
Сразу же после испытаний менделеевского бездымного пороха любимому ученику Менделеева, заведывавшему морской научно-технической лабораторией и преподававшему химию в минном классе, проф. И. М. Чельцову, представителями дружественной Франции было почти открыто предложено за 1 миллион франков сообщить секрет нового пороха. Обычное дело! Чельцов, разумеется, рассказал об этом Дмитрию Ивановичу,..
Менделеев понимал, что действия иностранных разведок заслуживали самого серьезного к себе отношения. Но что он мог сделать? Он писал в морское министерство в 1893 году: «Мне кажется особо печальной та возможность, что пироколлодийный порох… так или иначе проникнет на Запад и его ученые проведут этот совершеннейший порох в жизнь, прибавляя новую славу к своим именам, и заставят нас принять то, что делается теперь в самой России. Страшусь такой возможности не за себя лично… а за судьбу того приложения науки к успеху русской практической жизни, которому отдаю остаток своей практической деятельности…»
По воспоминаниям С. П. Вуколова, Менделеев в 1894 году был вынужден уйти из морского ведомства «из-за несочувственного, я бы сказал, враждебного отношения к его идеям некоторых крупных деятелей морской артиллерии». Вуколов находил этому объяснение «до крайности простое»: «В глазах тогдашних деятелей порохового дела, сухопутных артиллеристов, у Д. И. имелся крупный недостаток: он был штатский человек, не военный, не имевший штампа высшей артиллерийской школы. Они не могли переварить, когда этот чуждый их среде человек со всей горячностью своей пылкой натуры говорил о горении пороха в канале орудия, о причинах ненормальных явлений при стрельбе, приводящих к разрыву орудий, когда он говорил, ничем не стесняясь, о недостатках их пороха, пороха французов, к которым они ездили на поклонение». Все это играло свою роль – и кастовость офицерства и постыдное преклонение перед Западом («как у французов» – была высшая похвала!), но нет никакого сомнения, что судьба пироколлодийного пороха была связана, в конечном счете, с оставшимся неизвестным прямым предательством в руководящих военных кругах. Иначе нельзя объяснить того факта, что в конце девяностых годов, при огромном росте русского флота, морское ведомство, вместо того чтобы расширить свой завод, отдало заказ на порох частному обществу, связанному с крупными германскими фирмами. Внимательный и умный враг использовал все: и продажность чиновников, и кастовость офицерства, и пресмыкательство правящих кругов перед иностранщиной, и презрение их к русской науке. Чья-то сильная рука сумела свернуть производство пироколлодийного пороха в России. Это был меткий и коварный удар!
Во время войны с Германией в 1914 году русское военное ведомство вынуждено было спешно заказывать в Америке несколько тысяч тонн бездымною… пироколлодийного пороха. Американцы не скрывали, кому принадлежал приоритет в изобретении этого пороха, который у них покупали русские. В американских официальных изданиях о пироколлодийном порохе говорилось как о «специальной форме нитроцеллюлозы, отвечающей содержанию азота в 12,44% и впервые разработанной в России знаменитым химиком проф. Д. Менделеевым»…
Случилось то, чего так боялся Менделеев!
XXIV. МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЭРА В МЕТРОЛОГИИ
В ноябре 1892 года Дмитрий Иванович Менделеев принял предложенную ему должность ученого хранителя Депо образцовых мер и весов.
В 1892 году Депо праздновало пятидесятилетие своего существования. Первоначально оно помещалось на территории Петропавловской крепости, в Монетном дворе. Заведывал им академик А. Я. Купфер, после смерти которого обязанности ученого хранителя мер исполнял профессор В. С. Глухов. С 1878 года Депо было переведено в новое здание, выстроенное на Забалканском, ныне Международном, проспекте и приспособленное для лабораторных работ. Это здание и по сей день занимает Всесоюзный институт метрологии, который советские метрологи называют «старшим внуком Депо образцовых мер и весов». В Депо были изготовлены первые образцовые меры длины, в частности отечественный эталон длины – «железная сажень Купфера», меры массы и сыпучих тел. Депо было приспособлено, однако, главным образом к поверке торговых железных саженей, аршинов, футов и различных чугунных гирь. Вступление Менделеева на пост ученого хранителя Депо мер и весов рассматривалось, как его уход от жизни. Но кто так думал, плохо знал Менделеева.
На самом деле он согласился посвятить последние годы своей научной активности такому прозаическому делу, как поверка торговых мер, именно потому, что он был Менделеевым и умел смотреть поверх интересов и потребностей сегодняшнего дня.
Он, как никто, понимал огромное значение порученной ему работы для будущего русской науки. Впрочем, ту работу, которую он нашел для себя в Депо образцовых мер и весов, ему и не поручали. Он сам ее -вызвал к жизни, сам возглавил и направил, руководствуясь высказанным в статье «О приемах точных или метрологических взвешиваний» убеждением, что «в природе мера и вес суть главное орудие познания и нет столь малого, от которого не зависело бы крупнейшее».
Прежде всего, этот бесконечно деятельный и живой ум не мог примириться со званием «хранителя мер и весов». Это звание вызывало мысли о неподвижности, о неизменности хранимого. «Управляющий» – вот это другое дело! И управляющий не «Депо образцовых мер и весов», а «Главной палатой мер и весов». Дату 1 (13) июля 1893 года, когда было утверждено подготовленное Менделеевым «Положение о Главной палате мер и весов», советские метрологи считают началом новой эры в истории русской науки об измерениях – метрологии. Менделееву очень хотелось, чтобы одновременно с утверждением положения о Палате правительство приняло решение хотя бы о подготовке к введению в России метрической системы мер. Но царское правительство не решилось на такой «революционный» шаг, и Менделеев решил действовать в этом направлении по собственному «крайнему разумению».
О введении метрической системы в России он мечтал давно, еще с тех пор, как сделал на первом съезде русских естествоиспытателей в Петербурге, в начале 1868 года, свое знаменитое «Заявление о метрической системе»[77].
«Объединение народов останется мечтою мира и прогресса, пока не подготовлены к тому пути, – с такой высокой ноты начинал свое заявление молодой Менделеев. – До сих пор, кроме стихий, только печатное слово, торговля и науки скрепляют интересы народов. Это крепкие связи, но не всесильные. Подготовлять же связь крепчайшую обязан каждый, кто понимает, что настанет, наконец, желанная пора теснейшего сближения народов… Воздухоплавание, попытки отыскать мировой язык и всеобщие письмена, международные выставки, даже самые стачки – маяки на этом долгом пути.
Есть между этими попытками одна, не стоящая ни миллионов, как выставки, ни громадных усилий опыта и ума, как воздухоплавание, – это попытка склонить народы к единству мер, весов и монет.
Число, выраженное десятичным знаком, прочтет и немец, и русский, и араб, и янки одинаково, но живое значение цифр для них чересчур разнообразно, даже одно слово часто имеет неодинаковое значение у разных народов. Так, фунт неодинаков – английский, валахский, русский, испанский, китайский, даже рижский, ревельский, курляндский.
Давно стремятся установить однообразие в этом отношении. Побуждает к тому польза, очевидная для каждого.
Система, пригодная для этой цели, должна быть, прежде всего, десятичная, потом все меры в ней должны одна от другой происходить…
Такова метрическая система…
Облегчим же и на нашем скромном поприще возможность всеобщего распространения метрической системы и через то посодействуем в этом отношении общей пользе и будущему желанному сближению народов. Не скоро, понемногу, но оно придет. Пойдем ему навстречу».
Через год после этого выступления Менделеева академик Б. С. Якоби от имени Российской Академии наук представил в Парижскую Академию наук доклад о необходимости введения международной рациональной системы мер. Этот доклад признается историками науки окончательным и решающим фактором в установлении единых международных мер длины и массы. 20 мая 1875 года семнадцать государств, в том числе и Россия, подписали метрическую конвенцию, к которой постепенно присоединились почти все государства мира.
И вот теперь от Менделеева зависело воплотить в действие почин русской науки на родной почве.
Менделеев прекрасно понимал, с чего нужно было начинать эту большую работу.
«Назначенный быть хранителем образцовых мер России, я считаю своим первым долгом заявить о том, что основные прототипы меры и веса империи требуют немедленного возобновления или приведения их в состояние возможно более прочной неизменности», – этой декларацией он открыл свою деятельность в Палате.
Будучи первоклассным исследователем-экспериментатором, Менделеев мог по-настоящему глубоко оценить значение этих работ и для науки, где измерительный процесс повсюду является основным элементом любого опыта. Сам он был абсолютным авторитетом в этой области. Его докторская диссертация 1865 года «О соединении спирта с водой» опиралась на добытые им на опыте данные касательно плотности растворов спирта, которые, по общему признанию метрологов всего мира, до сих пор являются точнейшими в мировой литературе.
А удостоиться такой похвалы метрологов далеко не просто! Эти данные легли в основу принятых и у нас и в ряде других стран спиртометрических таблиц, то есть таблиц, позволяющих по удельному весу раствора спирта с водой определять его крепость. Работы по исследованию упругости газов Менделеев начал с устройства и изучения новых измерительных приборов, которые должны были быть более точны, чем старые. Ему недостаточной казалась точность, которой удовлетворялись до него такие крупные исследователи, как Реньо, Румфорд и другие. А точность и воспроизводимость научных измерений зависят от правильного выбора меры и точного ее соблюдения.
Главной научной заслугой Менделеева в области метрологии обычно считается установление приемов метрологического взвешивания. Метрологического – это значит образцово точного. В Палате мер и весов, всем на удивление, изготовление прототипов мер веса продолжалось всего шесть лет, включая сюда и принципиальную разработку вопросов, тогда как в метрологических институтах других стран такая работа занимала 15-20 лет! Между тем для того, чтобы вывести точный вес прототипа фунта и его подразделений и снять с этих прототипов копии, понадобилось произвести свыше 20 тысяч отдельных наблюдений. На этом примере можно пояснить, насколько важна была эта работа.
Что, казалось бы, проще, чем взвешивать на обыкновенных весах? Но для этого необходимо, чтобы вся страна пользовалась одинаковыми гирями, а еще лучше, чтобы одинаковыми гирями пользовались все страны. Для этого нужно «рабочие» гири сличать с «образцовыми», то есть иметь для этою какой-то нерушимый образец – эталон массы.
Основной эталон должен храниться в неприкосновенности, иначе он износится и перестанет быть эталоном. Можно позволить себе лишь изредка сравнивать с ним несколько менее точные вторичные эталоны.
Масса эталона фунта была определена Менделеевым с точностью до 0,000072 грамма. Необходимость такой точности доказывается простым расчетом.
Если допустить, что обыденные, ходовые гири могут отклоняться от правильного веса не больше чем на 2 грамма на 1 килограмм, то образцовые гири, по которым они проверяются, нужно сделать в десять раз точнее. Этот запас точности необходим для того, чтобы поглотить одну неизбежную ошибку весов, на которых производится сравнительное взвешивание, и другую ошибку, получающуюся из-за износа образцовых гирь. При изготовлении образцовых гирь первого разряда масса 1 килограмма должна выдерживаться уже с точностью до 0,02 грамма. С еще более высокой степенью точности должны изготовляться рабочие эталоны, с которыми сравниваются образцовые гири, затем первичные эталоны, с которыми сравниваются рабочие эталоны, и, наконец, прототип, с которым сравниваются первичные эталоны. Это целая лестница точности, и она должна быть построена со всем тщанием.
Менделеев добился в 100 раз большей точности взвешивания против той, которую достигали его предшественники. И он все еще не был этим удовлетворен! В речи на общем собрании десятого съезда русских естествоиспытателей в Киеве, В 1898 году (она была прочитана ввиду болезни Менделеева его учеником проф. Д. П. Коноваловым), великий естествоиспытатель говорил, что «так как все естествознание внушает мысль – искать истинные и важнейшие законы в мельчайших долях – от дифференциальных частей и атомов до микроорганизмов, весящих обыкновенно менее одной миллионной доли миллиграмма, то впереди остается еще много для достижения желаемой точности, как во всем океане точных знаний».
В самой Палате мер и весов Менделеев подготовлял ряд опытов для проверки с помощью тончайших взвешиваний как закона сохранения вещества, так и постоянства силы тяготения. Его неизменно влекли к себе крупнейшие мировые загадки. В Палате мер и весов от его незавершенных опытов остались запаянные стеклянные баллоны с приспособлениями, позволяющими внутри их производить химические реакции. Менделеев собирался провести в таком баллоне химическую реакцию, происходящую с выделением тепла, и взвесить баллон до реакции и после того, как реакция произошла, а выделившееся тепло отведено, то есть вся система охлаждена до первоначальной температуры. Если бы могла быть достигнута достаточная чувствительность весов и точность взвешивания, Менделеев мог бы, принципиально говоря, обнаружить, что, потеряв определенное количество энергии, прореагировавшие тела потеряли в весе на величину порядка стотысячной доли миллиграмма на килограмм, то есть что энергия весома, точнее говоря, что, излучая тепло или свет, тела становятся легче…
Требовательность Менделеева-метролога вошла в Палате мер и весов в пословицу. «Менделеевская точность» стала синонимом наиболее тонких измерений. И это влияние распространялось на метрологические лаборатории других стран. Ведь это Менделеев уличил сотрудников Парижского метрологического института в том, что при измерении веса вытесненной воды они не обеспечивали достаточной верности своих измерений, потому что вычерчивали на гирях, опускаемых в воду, надписи и черты резцом. В этих надрезах, едва уловимых глазом, должны были, как он объяснил, задержи-
ваться уже вовсе невидимые простым глазом пузырьки воздуха. А они должны увеличивать вес вытесненной воды! На золотом прототипе менделеевского фунта была выгравирована надпись «Н-1894». Чтобы не портить поверхность следами пыли, надпись эта не вырезалась. Она изготовлялась полировкой – из ряда мелких кружков, нанесенных быстро вращающимся стерженьком из твердого дерева.
Менделеев учел, что теплота, распространяемая наблюдателем, может действовать на весы на расстоянии уже в четыре метра и это может повлиять на точность взвешивания. Поэтому при особо точных работах в Палате мер и весов наблюдатель отделялся от прибора особой перегородкой, состоящей из деревянной доски, толщиной около 12 миллиметров, обитой с обеих сторон листовой жестью и еще оклеенной станиолем.
Все эти и множество других остроумных способов соблюдения высочайшей точности измерений, которые здесь невозможно перечислить, обеспечили то, что Менделеев мог с гордостью заявить: "Достигнутая Главной палатой точность взвешивания превосходит точность, достигнутую при других возобновлениях в Англии и Франции».
В 1899 году, когда были успешно закончены работы по восстановлению прототипов русских мер и весов, Менделеев добился разрешения на факультативное, то есть необязательное, введение в России метрической системы.
Метрическая система была твердо введена в нашей стране 14 сентября 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР.
Страна была готова к этому, так как еще
с 1900 года повсюду, по инициативе Менделеева, стали учреждаться метрологические лаборатории (официально они назывались «поверочными палатками»), которые, под руководством Главной палаты мер и весов, начали проводить в жизнь однообразные и верные измерения. Самым же ценным наследством метрологических работ Менделеева явилась воспитанная им высочайшая культура метрологической работы. Помимо выполненных им самим капитальных работ по взвешиванию литра воздуха и определенного объема воды, по разработке приемов точных взвешиваний, по изучению колебаний весов и пр., под его руководством в Палате мер и весов были выполнены исследования термометров, барометров и пр.
Главная палата мер и весов, таким образом, постепенно превращалась в передовой научно-исследовательский институт измерений. Имя главы этого учреждения с самого начала было порукой тому, что именно так пойдет его развитие. Но для создания обширного научно-исследовательского института, с большим количеством лабораторий, оборудованных дорогими приборами, для постройки домов сотрудников института, – а Менделеев создавал для них образцовые условия работы и жизни, – на все это требовались большие деньги. Менделеев пробовал объяснять важное значение нового направления Палаты тем, от кого зависел приток средств. Но он скоро убедился, что это пустая трата времени. Невежественные правители не могли оценить по достоинству подлинное научное значение предпринятой Менделеевым последней своей жизненной работы.
И Менделеев, кажется впервые в жизни, изменил своему обычаю итти напрямик в достижении своих целей и стал применять обходные пути.
***
Одна из ближайших сотрудниц Менделеева по Палате мер и весов О. Э. Озаровская посвятила борьбе Менделеева с царской бюрократией несколько страничек своих воспоминаний, освещенных свойственным ей мягким юмором, но тягостно грустных по существу.
Она рассказывала о том, как утомляли Менделеева обращения за ассигновками, за сметами, за разрешениями на строительство и разные приобретения в департамент торговли и мануфактур министерства финансов, в ведении которого находилась менделеевская «пробирная палатка». В департаменте бумаги застревали неделями, и вначале Менделеев то и дело ездил «пушить», как он сам выражался, департаментских служащих. Но так как этой встряски хватало только на один раз, он счел за благо пригласить на работу в Палату одного из делопроизводителей департамента – на два часа в день и на полное жалованье. Делопроизводитель составлял нужные бумаги, уносил их с собой, проводил в департаменте по всем инстанциям и на другой день возвращал обратно в Палату. Менделеев вздохнул с облегчением.
А когда понадобились крупные ассигнования на расширение здания, в котором Менделеев задумал, кстати сказать, построить специальную башню для тончайших измерений силы тяжести с помощью золотого маятника на длинном подвесе, ему и в голо-
ву не приходило уже ссылаться в своих просьбах на выдающееся перспективное значение предпринятых им научных работ. О. Э. Озаровская сохранила в своей памяти живописную сценку, изображающую наивные хитрости, к которым приходилось прибегать Менделееву, чтобы распропагандировать по части ассигнований председателя Государственного Совета, наследника царя – великого князя Михаила Александровича.
«Дмитрий Иванович замыслил посещение Палаты великим князем, – рассказывает Озаровская, – для «высочайшего обозрения» и убеждения, как тесно Палате с ее многообразными задачами в ее помещении. И затеял Дмитрий Иванович инсценировку тесноты. В течение двух дней вытаскивались из подвальных помещений различные тяжелые древности – остатки неосуществленных грандиозных и неуклюжих сооружений для опытов прежних хранителей.
Слышно было, как грохотал и стонал Дмитрий Иванович:
– Да не в уголок, а на дорогу! Балду-то, балду-то сюда в коридор! Под ноги, под ноги! Чтобы переступать надо было! Ведь не поймут, что тесно, надо, чтобы спотыкались, тогда поймут!
Просторные коридоры стали неузнаваемы. Всюду торчал научный хлам, а Дмитрию Ивановичу все казалось мало: ведь втолковать надо!
Наконец наступил день августейшего посещения. В Палате стало известно, что его «императорское высочество изволил выехать из дворца», и все выстроились в вестибюле. Дмитрий Иванович очень походил на льва, готовящегося к нападению.
Прибыл великий князь, и начался осмотр.
Дмитрий Иванович, памятуя этикет, следовал сзади наследника с его свитой и властно покрикивал:
Не туда-с! Налево-с! Не извольте оступиться: тесно у нас… Направо-с!
Когда дело дошло до жидкого воздуха, который в России был получен впервые именно в Палате, наследник осведомился, сколько выйдет жидкого воздуха из количества, заключенного в данной комнате.
Это сейчас можно рассчитать – десятью десять… э… пять… э… э…
Сто! – подсказал гость.
Дмитрий Иванович сердито тряхнул головой и настойчиво продолжал:
Десятью десять…
Сто, – снова не выдержал председатель Государственного Совета.
Десятью десять… – во весь голос, тряся головой, закричал Дмитрий Иванович, и вдруг спокойно закончил: – Триста пятьдесят килограммов!
При дальнейшем обходе Дмитрий Иванович забыл этикет, шел впереди, властным тоном, полуоборачиваясь назад, на ходу бросал замечания, а наследник, отставая на поворотах, вполголоса покрикивал на свитских: «Не туда-с! Налево-с!»-стараясь изобразить Менделеева. Видно было, что посещение Палаты доставляло ему большое и редкое удовольствие из-за чудака-ученого, и дело с ассигнованием нужных денег разрешилось блестяще».
Но начинание «чудака-ученого», как в лучшем случае принимали Менделеева в царском окружении, положило начало той огромной лабораторной работе, которая уже в наше время привела к разработке в Главной палате мер и весов абсолютной технической системы механических единиц, единицы времени и частоты, световой единицы, акустической единицы, тепловой единицы, магнитных единиц, единиц радиоактивности и рентгеновского излучения. Для каждой единицы измерения Всесоюзный научно- исследовательский институт метрологии, созданный на основе менделеевской Главной палаты мер и весов, создает особые эталоны. Он хранит драгоценнейший государственный фонд этих эталонов и разрабатывает наивыгоднейшие по точности и экономии методы передачи верного значения единицы от эталона до рабочей меры-в тысячи исследовательских лабораторий Союза, где приборы должны работать все, как один!
В этих лабораториях осуществляется та теснейшая связь науки с жизнью, к которой постоянно стремился Менделеев. Нет такой области науки и техники, где бы не применялись точные измерения: плавка высококачественных сталей невозможна без пирометров, с помощью которых измеряются высокие температуры, действие радиостанций невозможно без постоянного измерения частоты тока, напряжения, сопротивлений и пр. Измерению подвергаются новые сорта каучука и предельные скорости турбин, уличные шумы и расстояния до планет.
Менделеев должен был бы, конечно, руководить развитием науки на более высоком посту, но несомненно одно: когда он закладывал основы современной измерительной техники в скромной Палате мер и весов, он и здесь оставался Менделеевым. Только Менделеев мог бы поднять эту проблему
так высоко, как он это сделал в последний – «палатский» – период своей творческой жизни.
К этому же периоду относится и большое путешествие Менделеева на Урал, предпринятое им в 1899 году. После этого он совершал уже лишь мысленные путешествия «по карте родины», как, например, при исследовании данных очередной всероссийской переписи. Результатом этого изучения была книга «К познанию России».
Почему отстает Урал? – вот вопрос, ответить на который просило Менделеева в 1899 году министерство финансов. Что следует предпринять для возможно более полного использования его неисчерпаемых богатств? Как обеспечить расцвет Урала, этой важнейшей части России? Его сразу увлекла «обширность задач». Прежних сил уже не было и в помине. Во время самой поездки, в ночь после выезда из Кыштыма, к нему вернулось его старое недомогание (кровь горлом). Но, тем не менее, он от поручения не отказался и с ухудшением здоровья поездки не прервал. Его неудержимо тянуло во все уголки Урала – этой колыбели русской тяжелой индустрии, о развитии которой он так пламенно мечтал, – для исполнения поручения «разыскать на месте, где должно искать коренные причины малой подвижности уральской железной промышленности».
Со своим обычным умением выбирать людей Менделеев привлек к участию в своей экспедиции профессора минералогии Петербургского университета Петра Андреевича Земятченского и помощника
начальника морской научно-технической лаборатории, донского казака по происхождению, Семена Петровича Вуколова. Тот рвался в пустынные и дикие места, каких вдоволь открывалось на пути экспедиции.
В сводном труде экспедиции, вышедшем в 1900 году под названием «Уральская железная промышленность в 1899 году» и охарактеризованном В. В. Данилевским в его книжке «Д. И. Менделеев и Урал» (Свердловск, 1944) как «обширная и строго научная энциклопедия по Уралу», Вуколов поместил описание и своей поездки по пустынному в те годы Чердынскому краю, по верховьям Камы, откуда он проехал в Богословский округ, и по Тавде и Тоболу в Тобольск. Третьим спутником Менделеева был его сотрудник по Палате мер и весов технолог Константин Николаевич Егоров, которому на долю выпало изучение угольных месторождений Урала.
И порознь и вместе объезжали они край неслыханных сокровищ и диких противоречий. Край, где «руда есть на всю возможную в России потребу», но где «берут только то, что доступно кайлу». Край, богатый собственным топливом и всеми полезными ископаемыми, какие только знает геологическая наука, и который принадлежал наследникам Яковлева, графине Стенбок-Фермор, Бергу, наследникам Демидова, княгине Абамелек-Лазаревой, Меллеру-Закомельскому, князю Белосельскому-Белозерскому, фон-Дервизу, Шувалову, Пашкову, Всеволожскому и другим. У одного графа Строганова только в Пермской губернии имелось во владении 1 559 908 десятин, то есть, как отмечал Менделеев, почти в два раза больше Черногории. То был
край, где никто не знал границ лесных урочищ и где, в то же время, местами попадались лишь «разбросанные вековые сосны с засыхающими вершинами» да валяющиеся там и сям полуистлевшие стволы- живое свидетельство расхищения вековых лесов промышленниками. То был край старейшей промышленности, родина паровой машины, литого булата, новых типов шахтных печей, многотонных механических молотов и многих других новинок техники. И в то же время край, где почти все перевозки совершались на лошадях. Гужом возили все – «от руды и топлива до полосового железа и локомобилей». «Какая тут быстрота, если все тянется медленно, коли одно можно поднимать и подвозить только зимой», – писал Менделеев. Лишь 19 процентов заводов пользовались выгодами железнодорожного сообщения!
Екатеринбург (нынешний Свердловск) – «столица» Урала – произвел на Менделеева и его товарищей впечатление унылого, сонного города. «Как будто бы он и обстраивается, – писал Земятченский в менделеевском сборнике «Уральская железная промышленность в 1899 году», – и как будто разрушается… В городе довольно много больших хороших построек, но нет жизни, движения. Возьмите театр, например. Он имеет вид заброшенной конюшни. Его фундамент бурьяном порос, между тем он находится на главной улице… Спит Урал, спит и его столица».
Совершив изрядный крюк, побывал Менделеев и б Тобольске – попрощался с родными местами. Каким странным советскому человеку покажется это прощание… Мы привыкли к тому, что после короткой разлуки, вернувшись с фронта, даже с учения, в родные края, человек не узнает их, – настолько быстро меняется все кругом, так быстро расцветает земля наша.
Менделеев не был в Тобольске пятьдесят лет. Он нашел город захудавшим. Дом, в котором жила семья, сгорел, и на его месте остался заросший бурьяном пустырь. Кругом на улице, «на горе» и на «бугре», где на виду всего города «жгли латынь», торжествуя окончание гимназического курса, «кругом все то же, – писал Менделеев, – начиная от досчатых тротуаров и уличной слякоти». «Тут в сотый раз подтвердилось то, что сказано про «дым отечества», и не хотелось отрываться от полупустынной улицы».
Побывал он и на «стеклянном заводе», где «получились первые впечатления от природы, от людей и от промышленных дел».
Менделеев ответил на все вопросы об Урале, которые были ему поставлены, со свойственной ему глубиной и искренностью. Трудно быть начинателем на Урале! «Многие бы хотели не «медлить», да спешить-то ничто не позволяет, говорят – подожди»,- писал он. Старые порядки сковывают Урал. Мертвый держит живого. «Земли главной части Урала еще находятся и поныне в том положении, в какое была поставлена Россия в самом почине освобождения крестьян», – писал Менделеев.
Менделеев констатировал:
«Старые заводы идут, действуют – но «медленно» уже по простой причине, что никто и ничто не толкает и соперникам тут рядом – устраняются все дороги, им говорится ясно: идите в другое место, без вас спокойнее, и покровительственная система нам только обеспечивает доход и при нашей «медленности».
Новые нотки появились в высказываниях автора «Толкового тарифа», недавнего пламенного проповедника покровительственной системы! Капиталистическая действительность продолжала рассеивать иллюзии. Истина понемногу открывалась перед глазами ученого.
Менделеев начинал понимать, чьим интересам соответствовала задержка в развитии Урала. Это интересы «богатых, вне Урала живших» хозяев-монополистов, всегда готовых затеять, как выражался Менделеев, «стачку», то есть сговориться, «стакнуться» на почве общей борьбы за сверхприбыли.
В целях противодействия их желанию «затеять монополийку» Менделеев советовал казне по твердой цене отпускать руду всем желающим из казенных резервов, чтобы таким образом держать цены на сырье на среднем уровне.
Но кто возьмется за это? Правящие в России круги, так широко представленные среди владельцев Урала? Менделеев отчетливо представлял себе, насколько трудно апеллировать к «правительственным мероприятиям», которые должны итти вразрез с могучими персональными влияниями в тех же самых правительственных кругах. В тех разделах книги «Уральская железная промышленность в 1899 году», которые публиковались от его имени, Менделеев отмечал, что ответы на самые животрепещущие вопросы организации уральской промышленности «поневоле коснутся дорогих для многих – личных интересов и устоявшихся отношений, вмешиваться в которые жутко, и только прямая необходимость вынуждает меня не молчать и говорить все, как бог на душу положил и посильный разум одобрил».
Менделеев прекрасно отдавал себе отчет и в том, что полумерами в деле подъема уральской промышленности не обойтись. По его мысли, «все мероприятия… сливаются в такое гармоническое целое, что, выкинув из него что-либо одно, можно, кажется, все испортить, то-есть не достичь ожидаемого». «Вот эта-то условная совокупность многих мероприятий меня и смущает»,-с подкупающей искренностью признавался Менделеев. Для смущения у него были все основания.
Соприкосновение с жизнью заводского Урала рождало у великого ученого великие планы. Он ясно видел неисчерпаемые возможности края. Понимал, что этот гигантский организм надо поднимать сразу, со всех концов. Надо завести порядок в использовании лесов. Надо разведывать рудную базу Урала (для этого, кстати сказать, сам Менделеев во время своей поездки впервые на Урале применил магнитный метод разведки). Он предсказывал, что «наоткрывают громадные массы железных и всяких иных руд на Урале». Надо искать минеральное топливо. Надо объединять разрозненные заводики, создавать единые мощные металлургические комбинаты. А этого одним хотением не достигнешь!
«Когда разговор наш в Кизеле коснулся этой стороны дела, – рассказывал в своей книге Менделеев, – мои любезные хозяева – местные старожилы – выяснили мне истинную причину, по которой часто существует на Урале такая несообразность, как отделение на далекие расстояния переделочного производства от доменного. Причина лежит, прежде всего, в незаконченности обязательных отношений между хозяевами земель и заводов, с одной стороны, и крестьянством – с другой. Крестьяне, наделенные только усадебною землею и «починками», считаются «заводскими», и хозяин может закрыть завод, ранее существовавший, не иначе, как закончив полный надел крестьян и выдавая им в течение года содержание. Первое не так страшит, боятся неопределенности второго условия».
Одна проблема тянет за собой другую, и все они не по плечу хозяевам Урала. Менделеева, трезвого исследователя, не могла не «смущать» широта его технических мечтаний о Большом Урале. Мечтаний реалистических в той мере, в какой они опирались на глубокое понимание технических и экономических перспектив края, мечтаний фантастических – в той мере, в какой они покоились на фундаменте капиталистических отношений и не выходили за рамки царского строя.
Подлинную глубину социального анализа картины дореволюционного Урала нужно искать, конечно, не у Менделеева, а у Ленина. Ко времени поездки Менделеева по Уралу Ленин опубликовал сбой классический труд «Развитие капитализма в России», где отмечалось: «… самые непосредственные остатки дореформенных порядков, сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени – такова общая картина Урала»[78]. Техническую отсталость Урала Ленин ставил в самую прямую и непосредственную связь «с низкой заработной платой и с кабальным положением уральского рабочего» [79].
Лишь тогда, когда были сбиты оковы прошлого, когда революционный взрыв снес преграды, которые ставили на пути развития производственных сил Урала противоречия слабого и хищного русского капитализма, – тогда только начался действительный расцвет этого могучего края. С прозорливостью крупнейшего ученого Менделеев видел потенциальные возможности развития производительных сил Урала. Эти его прозрения приближают его к нам, придают современное звучание его прогнозам и практическим предложениям. В конечном счете он покидал тихий, заглохший Урал, сумев все-таки увидеть за скудной оболочкой богатейшее содержание.
Он возвращался с окрепшей верой в славное будущее Урала, в его грядущий расцвет. «Отправляясь на Урал, я знал, конечно, что еду в край, богатый железом и могущий снабжать им Россию. Поездивши же по Уралу и увидевши его железные, древесные и каменноугольные богатства глазами не только своими, но и троих моих деятельных спутников, я выношу убеждение, неожиданное для меня: Урал – после выполнения немногих, не особо дорогостоящих и во всяком случае казне выгодных мер – будет снабжать Европу и Азию большими количествами своего железа и стали и может спустить на них цену так, как в Западной Европе это
просто немыслимо. Такое убеждение сторицей вознаграждает меня за труды поездки и позволяет спокойно приняться за другие дела, стоящие на моем череду. Вера в будущее России, всегда жившая во мне – прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом, так как будущее определяется экономическими условиями, а они – энергиею, знаниями, землею, хлебом, топливом и железом, больше, чем какими бы то ни было средствами классического свойства». Подписаны эти строки Д. Менделеевым 27 октября 1899 года, и они венчают его книгу об Урале.
Патриотические высказывания Менделеева вызывали бешенство в кругах правящего лагеря. Достаточно назвать один пример. Видный публицист официозной прессы, в прошлом значительный чиновник горного ведомства, К. А. Скальковский писал о книге «Уральская железная промышленность в 1899 году»: «…курьезов не перечтешь… г. Менделеев уверяет, например, что богаче, лучше и дешевле руд уральских нет в Западной Европе. Он забыл только руды испанские, шведские, штирийские и с острова Эльбы». Подонки общества, стоящие у кормила правления, в своем пресмыкательстве перед заграницей, готовы были затоптать все свое, родное, русское, самобытное… Слова Скальковского объективно отражали взгляды царских сатрапов, душивших развитие великой страны.
***
Среди большого менделеевского литературного наследства внимание исследователя, несомненно, привлечет и томик его «Заветных мыслей». Полуслепой старик Менделеев незадолго до смерти диктовал их своему секретарю.
В предисловии к этой книге он писал:
«Всегда мне нравился и верным казался чисто русский завет Тютчева:
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои! Пускай в душевной глубине И всходят и зайдут оне, Как звезды ясные в ночи: Любуйся ими и молчи…
Но когда кончается седьмой десяток, когда мечтательность молодости и казавшаяся определенною решимость зрелых годов переварились в котле жизненного опыта, когда слышишь кругом или только нерешительный шопот, или открытый призыв к мистическому личному успокоению, от которого будут лишь гибельные потрясения, и когда в сознании выступает неизбежная необходимость и полная естественность прошлых и предстоящих постепенных, но решительных перемен, тогда стараешься забыть, что:
«Мысль изреченная есть ложь», тогда накипевшее рвется наружу, боишься согрешить замалчиванием и требуется писать «Заветные мысли». Успею ли и сумею ли только их выразить?..»
По свидетельству всех своих близких, Менделеев часто обращался к строкам «Silentium», но никогда им не следовал. Он повторял себе тютчевское «Молчи» под влиянием житейских разочарований, и не мог молчать.
Его «Заветные мысли» читаются сейчас, как читались бы записки потерпевшего крушение мореплавателя, приплывшие в запечатанной бутылке из далекого и чуждого мира. Одни строки стерлись от времени, иные потеряли ясное звучание. К отдельным страницам чуткий исследователь должен еще будет подобрать объяснительный ключ. Ведь Менделеев «Заветных мыслей» нисколько не отошел от злобы дня своего времени. Здесь тот же самый Менделеев, которого мы уже немного знаем по «Толковому тарифу», по столкновениям с Нобелем, по путешествию в Америку и в Донецкий бассейн. Здесь Менделеев, который усматривал в революции лишь разрушение и не видел, что с ломки старого начинается созидание нового. Капитал для него и здесь не средство эксплоатации человека человеком, не форма присвоения прибавочной стоимости, а «форма сбережения народного труда». Словом, в «Заветных мыслях» нисколько не ослабело напряжение противоречий между ограниченностью мировоззрения ученого и стихийным стремлением его вырваться за рамки того общественного устройства, которое казалось ему незыблемым.
Среди любимых менделеевских уж подлинно «заветных» мыслей, разбросанных по разным его сочинениям, повторяющихся в пересказах то здесь, то там, больше всего запоминаются спорные и противоречивые его высказывания о труде. Из «Писем о заводах» набросок его рассуждений о труде и работе перешел в «Толковый тариф» и был пересказан в книгах «К познанию России» и «Заветные мысли». Первое впечатление от этого своеобразного социологического этюда, которым он, повторяя его неоднократно, видимо, дорожил,-словно из нагромождения чуждых звуков донесшейся издалека музыки неожиданно выделилась бесконечно родная, знакомая с детства мелодия, – но нет, это не она, это лишь напоминание о ней… Это тема труда.
Самого Менделеева постоянно переполняла радость труда и творчества. Ему всегда мучительно хотелось высказать ее, передать ее ощущение другим. Но лишь немногие могли ее разделить. Жизнь сковывала его намерения. Тогда он отделил свою мечту о труде от действительности капитализма, и мечта вдруг преобразилась, заиграла невиданными красками. Он придумал назвать подневольный, унылый, тягостный, бескрылый труд в капиталистическом мире – труд как проклятие жизни – «работой». А любимое им слово «труд» оставить за тем трудом, которым жил сам, мечтой прорываясь в будущее, – трудом свободным, творческим, окрыленным служением народу. Вот некоторые из его изречений на эту тему, смысл которых понятен только при таком разделении понятий:
«Работа утомляет – труд возбуждает».
«Главное в труде – отсутствие неизбежной необходимости… к работе можно принудить, к труду же люди приучаются только по мере развития самосознания, разумности и воли».
«Постепенно, хотя и неуклонно… труд становится полной общей необходимостью, и для меня несомненно, что придет время, когда нетрудящиеся не будут в состоянии прожить, хотя до этого, конечно, ныне очень далеко».
«Работа труда не понимает, его результаты берет, но кичится материальным своим достоинством; труд… определяет то, этикой проповедуемое, смирение, которое даже при мене говорит: «бери, если хочешь и нравится тебе, взамен своего мое, я ничего от тебя не требую».
«Все яснее и яснее будет надобность в обществе именно труда, и все менее и менее будет доставать для прожития одной работы».
«Работа может быть страдою, труд же есть наслаждение, полнота жизни…»
Но о каком труде говорил здесь Менделеев?
О труде морозовских ткачих или тартальщиков на нобелевских нефтяных промыслах, о мартенщиках Гужона или о доменщиках Юза, или, может быть, о труде оглохших клепальщиков на верфях Путилова? Нет, об этом подъяремном, мучительном, калечащем душу и тело труде Менделеев говорил как о «работе». А то, что он называл «трудом», при капитализме было мечтой, осуществимой разве только для одиночек. Только мы знаем труд подлинно свободный. Это – труд социализма, труд коммунизма, вдохновенный творческий труд, плоды которого принадлежат народу. Это тот труд осуществленной мечты, который, как сказал величайший человек нашего времени, вождь трудящихся И. В. Сталин, в первой социалистической стране – Советском Союзе – превратился в «дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства».
О том, какое впечатление произвело на Менделеева «Кровавое воскресенье» – 9 января 1905 года, так рассказывает его жена:
«Когда началось шествие во главе с Гапоном к Зимнему дворцу, несметные толпы наводнили не только те улицы, по которым проходило шествие, но и все соседние. Все ходили бледнее и тревожные. У нас в Палате было то же, что
и везде,-ожидание и тревога. Дети сидели дома. Вдруг Дмитрий Иванович, который в последние годы буквально никуда не ездил, зовет служителя Михайлу и посылает его за каретой. Он был в таком состоянии, что спрашивать его ни о чем нельзя было. Карету подали. Дмитрий Иванович простился с нами и уехал с Михайлой «куда-то». Только через шесть часов они возвратились – шесть часов наших мучений. Михайла рассказывал, как их нигде не пропускали, и они кружили по разным глухим местам, чтобы пробраться к дому Витте на Каменноостровском проспекте. Витте был дома и принял Дмитрия Ивановича. Возвратясь домой, бледный, молчаливый, он снял в кабинете портрет Витте и поставил его на пол к стенке (с тем, чтобы убрать его совсем) и сказал: «Никогда не говорите мне больше об этом человеке»[80]. Разочарования множились…
В первой половине января 1907 года Менделеев принимал в Палате мер и весов нового министра торговли и промышленности Философова. Дмитрий Иванович сам показывал ему все в Палате и при этом простудился.
Н. Я. Капустина-Губкина рассказывала в своих воспоминаниях о последних часах жизни Дмитрия Ивановича со слов его сестры Марии Ивановны Поповой, которая приехала навестить великого ученого, узнав о его болезни.
«Я вошла к нему, – рассказывала она,-он сидит у себя в кабинете бледный, страшный. Перо в руке.
Ну что, Митенька, хвораешь? Лег бы ты, – сказала она.
Ничего, ничего… Кури, Машенька, – и он протянул ей папиросы.
Боюсь я курить у тебя, вредно тебе.
Я и сам покурю…-и закурил. А перо в руке…
Она зашла потом к нему еще раз и опять видит:
едва сидит, и перо в руке».
Это перо в руке – точно ружье у солдата, смертельно раненного, но остающегося на своем посту до смены.
К вечеру жена Дмитрия Ивановича едва уговорила его лечь на диван сначала, а потом в постель, с которой он уже не встал.
Последние слова, написанные им в неоконченной им рукописи «К познанию России», были: «В заключение считаю необходимым, хоть в самых общих чертах высказать…»
Приехавший в понедельник поздно вечером профессор Яновский нашел у Дмитрия Ивановича воспаление легких…
Скончался он от паралича сердца. Он дышал сначала очень тяжело, а потом все реже и тише, и в 5 часов утра его не стало:
…старец великий смежил Орлиные очи в покое…
XXV. ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕЧТЫ
Размышляя над сложной и противоречивой судьбой Менделеева – одного из замечательных людей нашего народа, славного естествоиспытателя и «своеобычного», как он сам себя называл, человека, – особенно ярко ощущаешь, что короткая человеческая жизнь находит свое продолжение в том, над чем он трудился, что он сделал, что любил, чему служил.
Открытия Менделеева в области химии бессмертны. За них наш народ и вместе с ним все передовое человечество чтут Менделеева как одного из величайших гениев. Периодическая система элементов во всем мире называется Менделеевской. Еще до того, как созданием своей системы Менделеев заложил основы современной химии, он сделал уже несколько открытий в физике, на одном из которых (мы имеем в виду «абсолютную температуру кипения») основана вся наша техника глубокого холода. Он испытал радости новатора опытника-полевода. Набросанная им, в самом начале его творческой деятельности, программа научных работ в области химизации земледелия представляла собой взлет мысли, с которым можно сопоставить только отчеты нынешних, советских почвенных и агротехнических институтов. Только теперь, через пятьдесят с лишним лет после того, как эта программа была высказана, она выполняется в полной мере, как, впрочем, и многие другие предвидения этого научного колосса. Вдобавок ко всему этому он успел выпустить отличную книгу по воздухоплаванию, связал свое имя с рядом попутно придуманных приборов для измерения плотности газа на разных высотах и не мог не утерпеть, чтобы самому не полетать на воздушном шаре. Мы знаем, как он перекраивал таможенные тарифы в России, как боролся с «духами», как объездил Европу и Америку, чтобы подкрепить свои предложения о развитии нефтяного дела на родине, и вместо этого убеждался, что эти идеи оригинальны и встречаются всюду как новость.
Он подготовил введение в своей стране метрической системы. И это лишь часть всех его дел! Он разрабатывал своеобразный отечественный способ приготовления бездымного пороха для флота. Он выдвинул и обосновал идею подземной газификации углей.
Во всех этих и во многих других славных деяниях Менделеев открывается как могучий энциклопедист, как ученый необычайной разносторонности и всеохватного ума. Люди, которым довелось беседовать с ним даже в его преклонные годы, бывали изумлены удивительной свежестью и глубиной его памяти. Его блистательная эрудиция, о масштабах которой нам дают представление его многочисленные труды, никогда не ощущалась как самоцель, его научная любознательность, представляющаяся безграничной, никогда не была созерцательной. Знание, которым он владел, было действенным по самой своей природе. Как это мы видели на протяжении всей его жизни, движущей пружиной каждой работы ученого был патриотический порыв – пламенное стремление принести пользу своей стране. Менделеев в предисловии к своим знаменитым «Основам химии» пророчески писал:
«Посев научный взойдет для жатвы народной». Он повторял в своей речи на съезде русских естествоиспытателей и врачей:
«Естественники не схоластики, и отдают свой долг родине на том самом поприще, где они действуют».
Он радовался тому, что прежде «целая бездна лежала между пользой и истиной, как между личным и общим, а ныне мосты уже перекинуты и по ним уже движутся в обе стороны с головокружительной быстротой».
Мы знаем уже, как ясно сознавал Менделеев свою ответственность – ответственность крупнейшего ученого своего времени – и за судьбы русской науки в целом, во всех ее областях, и за развитие производительных сил родной страны, пути которого он видел с предельной отчетливостью.
Много раз на страницах книги упоминалось Русское физико-химическое общество. Знаменательно то, что Менделеев был председателем первого его заседания. Как в создании, так и в развитии деятельности этого общества на протяжении всей своей жизни он играл ведущую роль. Это был подлинный центр отечественной химии. Именно здесь 18 марта 1869 года было заслушано первое сообщение Менделеева о Периодическом законе. На его заседаниях было доложено и в его журнале напечатано большинство работ самого Менделеева, его
соратников и учеников – Н. Н. Зинина, А. М. Бутлерова, Н. Н. Бекетова, В. В. Марковникова, Н. А. Меншуткина, Н. С. Курнакова, В. Е. Тищенко, А. Е. Фаворского, Н. Д. Зелинского, И. А. Каблукова, А. А. Байкова, Л.. А. Чугаева и многих других крупных русских химиков. Ни одно выдающееся событие в области химических наук не прошло мимо общества. Русское физико-химическое общество оказало сильнейшее влияние на развитие всех отраслей химической науки не только в самой России, но и за ее пределами. Не зря президент Английского химического общества Уинни еще в 1912 году советовал молодым английским химикам изучать русский язык, чтобы иметь возможность в подлинниках читать труды русских химиков.
Всегда объединявшее передовых химиков, боровшихся за подъем отечественной науки, Русское, а ныне Всесоюзное химическое общество имени Д. И. Менделеева имеет сейчас 34 отделения в разных городах Союза и включает в свой состав свыше 5 тысяч членов. Члены общества работают над выявлением новых сырьевых ресурсов, помогают промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, участвуют в подготовке молодых кадров советских химиков. Эта подлинно менделеевская общественная «химическая дружина» – один из передовых отрядов советских ученых.
Мы знаем уже, как Менделеев – крупнейший знаток химической технологии – мечтал о развитии производительных сил родной страны. Он сам делал для этого все, что мог, но капиталистическая действительность постоянно подрезала крылья его мечте. В книге «Толковый тариф», являющейся своеобразной сводкой его политико-экономических
идей, он отказывал капитализму, как таковому, в каких бы то ни было своих душевных симпатиях. Он писал, ссылаясь при этом на «мнение большинства русского народа», что видит и сознает «зло капитализма», но не усматривает «возможности обойтись без него» и принимает его «не как цель, а как неизбежное историческое средство, придуманное людьми подобно многому, многому другому, для того, чтобы через него… достигать основных национальных целей и общечеловеческих». «Сюда, – продолжал он, – не без колебаний в прошлом примкнула и моя мысль. А потому она непременно мирится с капитализмом и только стремится найти пути освобождения от его всесильного влияния и способы к обузданию его подчас неумеренных аппетитов».
Мы знаем истинное название подобного строя мыслей. Это – либеральная утопия, которая «состоит в том, что будто можно было бы миром и ладом, никого не обижая, […] без ожесточенной и до конца доведенной классовой борьбы, добиться сколько-нибудь серьезных улучшений в России…» [81]
Во время путешествия в Америку Менделееву представилась возможность наблюдать в кризисном обнажении «весь механизм современного, капиталистического уклада, всю «анархию производства», всю раздробленность производителей, всю войну каждого против всех и всех против каждого»[82]. Честный наблюдатель, он не мог не подметить в капитализме органически свойственные ему черты «цивилизованного варварства». Но он не сделал отсюда неизбежных выводов. «Кризис показывает,- писал Ленин в 1901 году,-что современное общество могло бы производить несравненно больше продуктов, идущих на улучшение жизни всего трудящегося народа, если бы земля, фабрики, машины и проч. не были захвачены кучкой частных собственников, извлекающих миллионы из народной нищеты»[83]. К подобному революционному анализу явления капиталистических кризисов Менделеев не был готов во время поездки по Америке, не пришел он к нему и позже. Вместе с тем мы отмечаем величие духа русского гения, так ярко проявившееся в его органическом неприятии неприглядной действительности капиталистической Америки. Его переживания близки нам – свидетелям окончательного распада и разложения капиталистического общества, первые признаки которого внушили великому русскому ученому содержащиеся в его путевых заметках строки возмущения и разочарования.
В решении вопросов естествознания Менделеев был материалистом и стихийным диалектиком. Основной вопрос философии Менделеев решал на деле в пользу материализма. Он не сомневался в том, что природа существует вне и независимо от нашего сознания, что объективно существующая материя не возникла из ничего и не может превратиться в ничто и, следовательно, является вечной. Правда, когда он выдвигал в некоторых своих сочинениях три исходных понятия, составляющих якобы в сумме природу, а именно: материю, или вещество, силу, или энергию, и дух, он отступал от последовательного материалистического мировоззрения. Но в своих исследованиях и в главной своей работе «Основы химии» Менделеев почти всегда на деле проводил и защищал материалистический взгляд на вещи.
Мы берем все лучшее из менделеевского наследства. Труд Менделеева продолжают наши исследователи, проникающие в недра атома, чтобы освободить таящиеся там неисчерпаемые источники энергии. Частица этого труда заложена в холодильных машинах, отбирающих из воздушного океана кислород – чудесный ускоритель основных технологических процессов промышленности. Этот труд участвует и в разработке способов извлечения сульфата из рапы прикаспийских озер, и в восстановлении плодородия земли, и в работе лекальщика, пользующегося тончайшими измерительными инструментами.
Осуществились мечты Менделеева о пробуждении великанов – русских каменных углей. До революции Донецкий каменноугольный бассейн был единственным крупным углепромышленным районом страны. Уже сейчас один только Кузнецкий бассейн дает больше угля, чем давала его перед войной 1914 года вся царская Россия. Новые угольные районы растут в Заполярье, на Кавказе, на Урале, под Москвой… В шахтах Донбасса к концу пятилетки будет добыто столько угля, сколько добывалось бы в десяти дореволюционных Донбассах!
Сталинский Урал стал прочной опорой социалистического строительства и обороны великой Советской страны. Свой металл получила Сибирь. Неузнаваемо изменился и продолжает меняться на наших глазах облик этих краев. Самые смелые мечты такого передового ученого, каким был Менделеев, давно превзойдены социалистической действительностью, оправдавшей горячую менделеевскую веру в свой народ, в свою родину.
Имя Менделеева носят в Советской стране химические втузы с тысячами студентов, исследовательские институты, научные общества, экспериментальные заводы, опытные сельскохозяйственные станции. Их создал свободный счастливый труд советских людей.
И за какой бы работой ни застала тебя эта книга, мой товарищ, – за штурвалом ли комбайна, за исследованиями в лаборатории, за токарным станком или на лесах новостройки, – сохрани на память о Менделееве, великом труженике на пользу человеческой культуры, замечательном сыне русского народа, его главную «заветную мысль», получившую в Советской стране новый смысл: труд есть радость, полнота жизни
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
1834 – 27 января (8 февраля) – В семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделеева родился сын Дмитрий.
1841 – Поступление в гимназию.
1847 – Смерть отца Менделеева
1849 – Окончание гимназии.
1850- 1855 – Годы учения в Петербургском главном педагогическом институте. Менделеев живо интересуется лекциями известного химика А. А. Воскресенского Первые научные работы – анализы минералов – «ортит» и «пироксен», студенческая диссертация «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу».
1855- 1856 – Преподавание в 1-й Одесской гимназии. Возвращение в Петербург. Защита магистерской диссертации «Об удельных объемах».
1857 – 1858 – Утверждение в звании доцента Петербургского университета. Менделеев читает курсы теоретической и органической химии. Статьи о газовом топливе и о металлургии.
1859 – Научная командировка в Германию. Менделеев организует в Гейдельберге собственную лабораторию и производит ряд выдающихся исследований по физической химии (изучение сил сцепления, расширения жидкостей и др.). Открытие температуры абсолютного кипения.
1860 -Первый международный съезд химиков в Карлсруэ Менделеев принимает деятельное участие в работе съезда
– Прибытие в Петербург. Чтение в университете лекций по органической химии. Менделеев составляет для студентов обширный курс «Органическая химия», удостоенный Демидовской премии. Преподавание во 2-м кадетском корпусе, в корпусе инженеров путей сообщения, в Военно-инженерном училище и в Военно- инженерной академии. Работы по вопросам заводской, промышленной России.
1863 – 1864 – Избрание профессором Петербургского университета по кафедре технической химии и профессором Петербургского технологического института. Поездка в Баку для ознакомления с условиями эксплоатации нефти.
1865 – Министерство народного просвещения утверждает Менделеева профессором университета по кафедре технической химии. Защита докторской диссертации «О соединениях спирта с водой», в которой Менделеев изложил свою теорию растворов. Ряд сельскохозяйственных опытов в Боблове.
1867 – Менделеев получает при институте кафедру неорганической (общей) химии, которую он занимает затем в продолжение 23 лет. Поездка в Париж, на Всемирную выставку. Посещение ряда французских промышленных предприятий. Работа «О современном развитии некоторых химических производств в применении к России и по поводу Всемирной выставки 1867 года».
1869 – Первая формулировка Периодического закона: 6 (18) марта на заседании Русского физико-химического общества проф. Н. А. Меншуткин читает доклад Менделеева «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сродстве».
1869 – 1871 – Выход в свет классического труда Менделеева «Основы химии», построенного на основе Периодического закона.
1872- 1878 – Работы по вопросу сжимаемости газов; изучение высших слоев атмосферы; интерес к проблеме воздухоплавания; исследование растворов. Труды. «Об упругости газов», «О барометрическом нивелировании и применении для него высотомера». Борьба против спиритизма.
1875 – Первое блестящее подтверждение Периодического ва гона: французский ученый Лекок де Буабодран открывает новый элемент галлий, существование которого было предсказано Менделеевым.
– Поездка в Америку для ознакомления с американской
нефтяной промышленностью.
– Труд «Нефтяная промышленность в Северо-Американском штате Пенсильвании и на Кавказе».
– Работа «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании».
– Академия наук забаллотировала Менделеева. Резкий
протест русского общества против решения Академии
– Преподавание курса химии на Высших женских курсах.
– Выступление на Промышленном съезде в Москве с
речью «Мысли об условиях развития заводского дела в России».
– Полет на воздушном шаре во время солнечного за
тмения для наблюдения высших слое® атмосферы Труд «Исследование водных растворов по удельному весу».
– Изучение каменноугольной промышленности Донбасса.
Статья «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца», в которой Менделеев высказывает идею о подземной газификации каменного угля.
– Менделеев принимает участие в комиссии по пересмот
ру таможенного тарифа. Работа «Толковый тариф или исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом». 1889 – В результате конфликта с министром народного просвещения Менделеев подает в отставку и покидает университет.
1891 – Работы по бездымному пороху по поручению морского и военного министерств.
– Назначение управляющим Главной палаты мер и весов
Работы по метрологии.
– Основание журнала «Временник Главной палаты мер
и весов».
1899 – 1905 – Поездка на Урал для изучения железной промышленности. Труд «Уральская железная промышленность в 1899 году». Статья «Попытка химического понимания мирового эфира». Опубликование «Заветных мыслей».
1907 – 20 января (2 февраля) – Смерть Д. И Менделеева.
1
До второй половины прошлого века «геогнозией» называли науку, изучающую земную кору и исследующую ее минералогический состав. Геологией в то время называлось учение о происхождении и истории нашей планеты. С течением времени теоретические воззрения все теснее сливались с фактическим содержанием науки, и старый термин "геогнозия" потерял свое значение.
(обратно)2
На склоне лет, вспоминая своих учителей в годы учения, Менделеев писал: «Не тот профессор должен получать… одобрение, который только сообщает юношеству Признанные истины, но тот, который сверх того, личным примером, дает образцы того, для чего назначаются высшие учебные заведения, то-есть тот, который наиболее вносит в науку самостоятельного, нового. Профессоров, к этому неспособных, то-есть способных лишь повторять зады и их излагать, надо мало для высших учебных заведений, хотя без них дело обойтись не может, и хотя в управлении высшим учебным заведением и им надо дать известное место, однако преобладающее значение во всех отношениях должны получить лишь те профессора, которые продолжают итти вперед и заражают своими стремлениями массу потомства!»
(обратно)3
«Атомос» – по-гречески означает «неделимый».
(обратно)4
В дальнейшем науке удалось раскрыть сложное строение самого атома. Но это было уже областью физики. Атом не могут разрушить те скромные средства воздействия на вещество, которые находятся в руках химиков и самые могучие из которых – высокое давление и высокая температура. Не зная сложного строения атома, некоторые химики считали, что лучше, по возможности, совсем не упоминать об атоме…
(обратно)5
Можно понять нетерпение, с которым Берцелиус, ученый, соединивший свое имя с открытием нескольких новых химических элементов, стучался в глухо запертые двери, ведущие в область строения атома. Как выяснилось уже в наше время, целый ряд его смелых догадок подтвердился. Атом действительно оказался системой электрически заряженных частиц. Прочность гранита, твердость стали, способность фосфора светиться в темноте, также и превращение химических соединений, действительно обусловлены силами электрического взаимодействия между отдельными частицами вещества. Но сложный и тонкий механизм действия этих сил мог быть выяснен лишь значительно позже. Только открытие радиоактивности, породившее химию радиоактивных веществ и новейшую физику атомного ядра, позволило по характеру разлетающихся гари разрушении атома обломков и по его излучениям узнать, как построен атом, Замок таинственной двери, за которую стремился проникнуть Берцелиус, был сломан лишь в 1896 году Беккерелем, обнаружившим самопроизвольное свечение урановой руды, связанное с радиоактивным распадом урана. А за полвека до этого шведский химик, конечно, совершенно не был подготовлен к тому, чтобы суметь до конца разобрать наблюдавшиеся им смутные и противоречивые сигналы атомов.
(обратно)6
Цит. по книге: А. Ладенбург. Лекции по истории развития химии. Одесса, 1917, стр. 82.
(обратно)7
Попытки выделения фтора долгое время не имели успеха.
(обратно)8
«Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу», 1856.
(обратно)9
Письма Менделеева цитируются по книге: М. Н. Младенцев и В. Е. Тищенко. Д. И. Менделеев. Т. I, ч. 1 и
2. Изд. Академии наук СССР. М.-Л., 1938.
(обратно)10
Из неопубликованных «Воспоминаний об отце Д. И. Менделееве», цитируемых по статье проф. С. А. Погодина «Открытие периодического закона Д. И. Менделеевым и его борьба за первенство русской науки». «Наука и жизнь», 1949, №3.
(обратно)11
См. акад. А. Е. Арбузов. Жизнь и научная деятельность Н. Н. Зинина. «Успехи химии», 1943, т. XII, вып. 2, стр. 91.
(обратно)12
«30 лет товарищества фирмы братьев Нобель» Спб , 1900.
(обратно)13
К 1870 году относится прямое утверждение Менделеева, непосредственно вытекавшее из его гейдельбергских работ, что «несжижаемость известных газов, как-то: кислорода, азота, водорода, зависит, по всей вероятности, от того, что опыты производились с температурами, более высокими, чем абсолютные температуры кипения; все более глубоким охлаждением предназначаемых к ожижению газов можно надеяться достичь их ожижения».
(обратно)14
Дурак.
(обратно)15
Иллюстрацию к сказанному здесь мы находим в воспоминаниях К. А. Тимирязева, который проходил у Менделеева курс органической химии. Тимирязеву выпало, в качестве темы лабораторной работы продолжение известного исследования Зинина по получению анилина. Материал – бензойную кислоту – пришлось купить на свои гроши, так как этот расход был не под силу лаборатории с ее трехсотрублевым бюджетом. Здесь понадобилась едкая известь, в то время как на складе была известь только углекислая. Лаборант дал благой совет: затопить горн и прокалить известь самому. Но здесь встретилось новое препятствие – сырые дрова шипели, свистели, капали, но толком не разгорались. На выручку пришел сторож: «Эх, барин, чего захотели, казенными дровами горн растопить!» Он посоветовал сперва взять «не то жаровенку, не то плиту, положить на нее вязаночку дров и протопить, дрова-те и просохнут».
«Сушка казенных дров, как первый шаг к реакции Зинина, – вот что подлинно называется начинать сначала!» – восклицал Тимирязев.
(обратно)16
И. М. Сеченов. Автобиографические записки. Изд. Академии наук СССР, 1945, стр. 102.
(обратно)17
В. В. Стасов. А. П. Бородин. Спб., 1887, стр. 9.
(обратно)18
«С.-Петербургские ведомости», 2 ноября 1860 №238.
(обратно)19
Под понятием «эквивалентных» разумелись насыщающие друг друга порции веществ.
(обратно)20
Труды первого Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, состоявшегося в С.-Петербурге 20-30 декабря 1907. Спб., 1909, стр. 50.
(обратно)21
Разрядка моя. – О. П.
(обратно)22
Один из персонажей «Фауста» Гёте – самодовольный, ограниченный ученый, находящий полное удовлетворение в мелочах науки. – О. Я.
(обратно)23
Н. Я. Капустина-Губкина. Семейная хроника в письмах, матери, отца, брата, сестер, дяди Д. И. Менделеева. Воспоминания о Д. И. Менделееве. Спб., 1908.
(обратно)24
«Труды Имп. Вольного Экономического Общества», 1867, т. IV, вып. III, стр. 175-182.
(обратно)25
В его честь одна из республик Южной Америки названа Боливией.
(обратно)26
Слово «азот» обычно производится от греческих слов «а» (частица отрицания) и «зоос» (живой). По другим данным, слово «азот» заимствовано из терминологии алхимиков, обозначавших им «меркурия мудрых», из которого они стремились получить «философский камень».
(обратно)27
На этом участке в наши дни продолжает работать Менделеевская опытная сельскохозяйственная станция.
(обратно)28
«Мысли о развитии сельско-хозяйственной промышленности». Спб., 1899, стр. 35 – 36.
(обратно)29
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. XVI, стр. 352.
(обратно)30
Т. В. Волкова. Молодой Менделеев и отечественная промышленность. «Журнал прикладной химии», т. XX, 1947, № 6.
(обратно)31
С. А. Щукарев. Д. И. Менделеев и Ленинградский Государственный университет. «Вестник Ленинградского университета», 1947, № 6.
(обратно)32
Разрядка всюду моя. – О. П.
(обратно)33
Первая «служба» – «в научной известности, составляющей гордость не одну мою личную, но и общерусскую, – писал он в уже цитированном письме министру финансов,- так как вое главнейшие научные академии, начиная с Лондонской, Римской, Парижской, Берлинской, Бостонской, избрали меня своим сочленом, как и многие ученые общества России, Западной Европы и Америки, всего более 50 обществ и учреждений». Вторая «служба»-«преподавательство», которое взяло «лучшее время жизни и главную ее силу». И все три «службы» связаны между собой неразрывными узами. Каждой из них нам придется по разным поводам касаться особо.
(обратно)34
Веществ, легко вступающих в соединение.
(обратно)35
Обидно, что хотя приведенные здесь факты должны были быть общеизвестны химикам, «заговор молчания, которым окружено имя Бутлерова за рубежом, распространяется и на многие советские руководства по химии.
(обратно)36
Цитируется по биографическому очерку акад. В. Е. Тищенко в книге: Д. И. Менделеев. «Основы химии», девятое (посмертное) издание, т. I, М.-Л., 1927, стр. XXI.
(обратно)37
Фумаролы – выделения различных веществ в трещинах на склонах вулканов. Иногда они имеют сходство со столбами дыма, вырывающимися из-под земли.
(обратно)38
См., например, К. Бенинг. Д. И. Менделеев и Л Мейер. Казань, 1911, стр. 1 – 11.
(обратно)39
Галлия – старое латинское название Франции.
(обратно)40
Ф. Энгельс. Диалектика природы. 1948, стр. 45.
(обратно)41
И. В. Сталин. Соч., т. 1, стр. 301.
(обратно)42
Для несения службы погоды только в 1876 году при Главной геофизической обсерватории был создан Отдел морской метеорологии и штормовых оповещений. Прогнозы приближения метелей стали даваться на (железные дороги, лишь с зимы 1891/1892 года (ом. А. X. Xргиан. История метеорологии в России. «Труды Института истории естествознания». Т. II. М.-Л., 1948).
(обратно)43
Первый в мире полет о метеорологическими целями на воздушном шаре был совершен русским ученым, академиком Я. Д. Захаровым, в Петербурге в 1804 году.
(обратно)44
«Материалы для суждения о спиритизме». Спб.. 1876. стр. VII.
(обратно)45
Там же, стр VIII
(обратно)46
Ф. Энгельс. Диалектика природы 1948. стр. 38-39.
(обратно)47
Первая в мире нефтяная скважина была пробурена на берегу Каспийского моря Семеновым в 1848 году.
(обратно)48
«Голос», № 314, 13 ноября 1880 года.
(обратно)49
Комментируя эти свои работы, сам Менделеев писал: «Если мне не под силу было дать дальнейшее движение таким важным вопросам, как все вышеуказанное, то я по крайней мере стараюсь облегчить путь дальнейшим деятелям, собрав здесь все, что я считаю важным, и указав те способы опытного исследования, какие, по моему мнению, могли двинуть дело далее, чем при современном состоянии знания о сопротивлении среды».
(обратно)50
Дефлегматоры представляют собой цилиндры, обычно железные, в которых внутри вставлены различные насадки. Назначение дефлегматоров – возможно лучше разделить отдельные части перерабатываемых жидких смесей. Пары наиболее легких частей свободно проходят через дефлегматоры, более тяжелые конденсируются на них, образуя так называемую флегму. Весь процесс разгонки называется дефлегмацией.
(обратно)51
Конкистадоры (исп.) – испанские и португальские завоеватели, захватившие Среднюю и часть Южной Америки (в конце XV и в XVI веках) и о неслыханной жестокостью обращавшиеся с коренным населением; здесь – в переносном смысле: грабитель, захватчик.
(обратно)52
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. XVI, стр. 449.
(обратно)53
В своей статье «Русская или только императорская Академия наук?», опубликованной в 1882 году в газете «Русь». Подробности об этом выступлении дальше.
(обратно)54
Из «Записок и воспоминаний» К. С. Веселовского, цит. по: Г. А. Князев. Д. И. Менделеев и царская Академия наук. «Архив истории науки и техники», вып. 6, Л., 1935, стр. 324-325.
(обратно)55
По другим сведениям О. В. Струве голосовал за Менделеева.
(обратно)56
«Молва», № 317, 16 ноября 1880 года.
(обратно)57
«Молва», № 331, 30 ноября 1880 года.
(обратно)58
«Русь», № 7, 13 февраля 1882 года.
(обратно)59
19 января 1882 года Ф. Ф. Бейльштейн был выбран отделением, но после нового протеста неугомонного Бутлерова 5 марта 1882 года на общем собрании Академии наук забаллотирован.
(обратно)60
Это так называемое «координационное число».
(обратно)61
И. И. Корнилов. Твердые растворы металлов и современная техника. «Наука и жизнь», 1945, № 1, стр. 38.
(обратно)62
№11, по которому цитируются все дальнейшие отрывки.
(обратно)63
Гайдроп – длинный канат, прикрепляемый к гондоле аэростата для торможения и смягчения спуска на землю
(обратно)64
Под «классиками» Менделеев в данном «случае имеет в виду ученых древности, для которых основным методом науки являлось созерцание, а не экспериментальное исследование природы
(обратно)65
Речи и протоколы 6-го съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20 по 30 декабря 1879 года. Спб., 1880.
(обратно)66
Л. С. Берг. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М. – Л., 1946.
(обратно)67
Карчи – затянутые песком стволы потонувших деревьев.
(обратно)68
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. XVI, стр. 368.
(обратно)69
Д. Менделеев. Толковый тариф или исследование о развитии (промышленности в России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года. Спб., 1891 – 1892.
(обратно)70
Фискальный – относящийся к интересам фиска – государственной казны.
(обратно)71
В упоминаниях об алюминии сказывается очевидный намек на эпигонствующих последователей «Что делать?» Чернышевского, где всевозможные постройки из алюминия (см. четвертый сон Веры Павловны) приурочиваются к картинам утопического будущего.
(обратно)72
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. XVI, стр. 543-544.
(обратно)73
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. I. стр. 305.
(обратно)74
Акад. В. Е. Тищенко. Воспоминания о Менделееве. «Природа», 1937, №3.
(обратно)75
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. XVI, стр. 622-623.
(обратно)76
Голландер – машина для «размалывания и расщепления бумажной массы.
(обратно)77
Труды первого съезда русских естествоиспытателей в С.-Петербурге 28 декабря – 4 января 1867-1868 г. Спб., 1868.
(обратно)78
В. И. Ленин Соч., изд. 3, т. III, стр. 379.
(обратно)79
Там же.
(обратно)80
А. И. Менделеева Менделеев в жизни М., 1928, стр. 128 – 129.
(обратно)81
В. И. Ленин. Соч.., изд 3, т. XVI, стр. 163.
(обратно)82
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. XV, стр. 184.
(обратно)83
В. И. Ленин. Соч., изд. 3, т. IV, стр. 166.
(обратно)
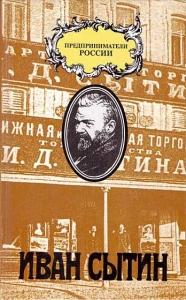

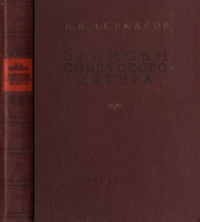
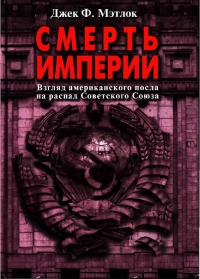


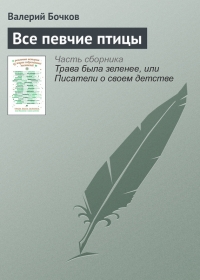


Комментарии к книге «Дмитрий Иванович Менделеев», Олег Николаевич Писаржевский
Всего 0 комментариев