ГРЕНЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК
Перевод с английского: В. К. Житомирский
Издательство и год опубликования исходного источника, использованного для перевода, в книжной версии представлены не были. Указанные выше результат поиска в Интернете (первое издание).
Данная книга Восточно-Сибирского книжного издательства увидела свет во времена "перестройки и ускорения", о которых редакция не преминула порассуждать, открывая трудами Расмуссена и Кента свою серию "Под полярными созвездиями" (сомнительно, что вышли остальные книги этой серии). Издание, аутентичное более ранним переводам (Расмуссена 1958 г. и Кента 1969 г.), выполнено не всегда удовлетворительно. Некоторые фрагменты исходных переводов почему-то опущены (отмечены редакцией (…)), что нередко приводит к неясностям. Поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с другой, более ранней книгой Р. Кента на ту же тему — «Саламина» (есть электронная версия), и только потом переходить к "Гренландскому дневнику".
Настоящая работа Р. Кента ("Гренландский дневник") была иллюстрирована штриховыми зарисовками автора (более 60-ти рисунков; многие шаржированы), однако сканировать их не показалось целесообразным из-за плохого качества печати и негомогенности грязной желтой бумаги «перестроечного» издания. Наверное, полезно сканировать иллюстрации с первого издания (М.: Мысль. 1969); там они должны быть лучше.
Подстрочные примечания и комментарии после текста (автор почти всех Н. А. Лопуленко; несколько примечаний введено выполнившим OCR) идут теперь единым списком (номера представлены в тексте цифрами в квадратных скобках) и вынесены в файл Comments.rtf.
В электронную версию включены краткие сведения об авторе (About_author.rtf), его фото (!Kent.jpg) и карта Гренландии из Сети (!Greenland.gif).
Место событий, описанных в дневнике Р. Кента, — поселок Игдлорссуит (или Игдлорсуит в другом переводе) — не нанесено ни на одну доступную карту (нет даже в Большом англоязычном электронном атласе мира). Автор, однако, указывает, что это — западная часть Гренландии; большой остров у устья залива Уманак. Одноименный населенный пункт (Уманак) виден на карте! Greenland.gif. В другой работе Р. Кента ("Саламина") упоминаются координаты Игдлорссуита: 71°15 северной широты и 53°20 западной долготы.
Встречающееся в тексте название «Упернивик» также отсутствует на всех доступных картах; есть только «Упернавик». Однако упоминания об Упернивике (наравне с Упернавиком) были в обеих книгах Р. Кента о Гренландии — в «Саламине» и в "Гренландском дневнике". Сочетание Upernavik + Upernivik имеется на скандинавских и англоязычных сайтах. На карте из презентации первого издания «Саламины» (1935), которая есть в Интернете, видно, что Упернивик — это остров в Западной Гренландии.
В издании имелось предисловие Н. А. Лопуленко (общее к двум разным книгам), которое легко можно разделить на три фрагмента: о Кнуде Расмуссене, о Рокуэлле Кенте и об эскимосах. Второй фрагмент помещен в файл About_author.rtf, а сведения об эскимосах представлены в начале основного текста книги (несколько имеющихся там примечаний просто включены в текст).
Как предисловие, так и примечания с комментариями, выполненные Н.А. Лопуленко, кажутся весьма ценными.
Настоящая книга Р. Кента на русском языке издавалась, по-видимому, два раза.
На основе своего чернового "Гренландского дневника" Р. Кент еще в середине 1930-х гг. (первое издание в 1935 г.) написал вполне исчерпывающий труд «Саламина». Малопонятно, зачем ему было много позже (первое издание в 1962 г.) публиковать еще и «дневник» (практически аналогичный, но гораздо более аморфный, чем "Саламина"). И зачем «дневник» перевели на русский язык, раз уже имелся перевод «Саламины», в то время как многие другие работы Кента (см. About_author.rtf) остались без перевода.
Так получилось, что сначала было выполнено OCR "Гренландского дневника", и только потом выполнивший, обнаружив в Интернете «Саламину», впервые ознакомился с нею.
И последнее. Когда читаешь взаимоисключающие философствования Кента о гренландцах, об их морали, малоприятных иждивенческих повадках и образе жизни вкупе с рассуждениями о современной художнику цивилизации и культуре, о капитализме и социализме (причем тут вечно полудикие эскимосы?), то с сокрушением вспоминается следующий эпизод из "Похождений бравого солдата Швейка" Я. Гашека:
"В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал: "Боже мой, ведь я сам часто несу такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу"".
АННОТАЦИЯ РЕДАКЦИИ
Книга известного американского художника, писателя и общественного деятеля Рокуэлла Кента посвящена его жизни в Гренландии (1931–1932 гг.).
С глубоким уважением рассказывается о самобытной культуре малоизвестного народа, с неизбежностью поглощаемого новыми капиталистическими отношениями.
ВМЕСТО ЭПИГРАФОВ
"Из всех датчан, которых знает народ Западной Гренландии, только один занимает такое высокое место в их чувствах, что его называют некоронованным королем… Им восхищаются, его любят повсюду от севера до юга. Его везде хвалят. За что? За его изумительную щедрость в угощении шнапсом".
"Некоторые из танцующих бросались на пол, продолжая танец телодвижениями, как при соитии. Эти танцы так пронизаны интенсивным чувством, что становятся настоящим искусством".
Р. Кент. "Гренландский дневник"
СОДЕРЖАНИЕ
Н. А. Лопуленко. Эскимосы (из предисловия)
Предисловие автора к советскому изданию
У Стьернебо
Удстедские трудности
Бурные воды
Заключение
Примечания и комментарии (Comments.rtf).
Н. А. Лопуленко. ЭСКИМОСЫ (из предисловия)
Кто же такие эскимосы? Это один из малочисленных народов мира, который освоил самые труднодоступные земли северных широт по берегам Ледовитого океана и его морей — Берингова, Чукотского, Бофорта. В Гренландии они заселили области, свободные от ледников, на юго-западе и северо-западе острова. В Канаде эскимосы занимают в основном прибрежные материковые районы. На Аляске зона их расселения протянулась от прибрежных районов вдоль Северного Ледовитого океана и Берингова моря, доходя на юге до северного побережья залива Аляска и острова Кодьяк. Наиболее плотно заселена эскимосами земля в междуречье рек Юкон и Кускоквим. Небольшая группа эскимосов живет и в СССР на восточном побережье Чукотки. Самый северный поселок эскимосов — Туле в Гренландии — находится на 80-й параллели, самый южный — на Лабрадоре в Канаде (Гамильтон) — на 55-й параллели.
Казалось бы, ни одному из малочисленных народов мира не было посвящено столько научной и художественной литературы, сколько было написано об этом удивительном народе. Удивительном не только потому, что его культура полностью приспособлена к суровым климатическим условиям Крайнего Севера. Нам известны такие культуры у ненцев и саами Северной Европы, нганасан и чукчей в Северной Азии и другие. Этот народ удивляет тем, что еще в 1960-е годы значительная часть его сохранила основы традиционного образа жизни в большей степени, чем любой другой народ в Северной Америке. Расселившись на такой огромной территории, он настолько сохранил общность языка, что эскимос из Гренландии может понять эскимоса с Чукотки. К тому же язык этот ученые не могут отнести ни к одной известной на земле языковой семье, он стоит особняком. Удивительность его и в том, что и антропологический тип эскимосов отличает их от соседей — чукчей и индейцев. Выделяются они также своей многочисленностью среди других малочисленных народов Севера. Кроме того, долгое время для ученых оставалось загадкой время и место зарождения и развития их культуры. И хотя сейчас большинство ученых пришло к решению, но оно, по всей вероятности, не окончательное.
Сами эскимосы называют себя инуитами, что на их языке означает человек. Название эскимосы (едящие сырое мясо) им дали индейцы. Оно распространилось в XIX в. в научной и художественной литературе, перешло в языки разных народов мира. В настоящее время это название осталось за аляскинской и азиатской группами этого народа, канадские же эскимосы называют себя инуитами, а гренландские — гренландцами.
Издревле основным занятием большинства групп эскимосов являлся морской зверобойный промысел в сочетании с сухопутной охотой. Вся культура и образ их жизни были подчинены этому виду трудовой деятельности.
Весной охотились на моржей на плавучих льдах, убивая спящих животных длинным копьем или гарпуном. Когда море освобождалось от льда, охота велась с каяков. Самые большие надежды связывались с добычей кита. Мясо его составляло значительную часть рациона эскимосов. На них охотились с больших байдар (умиаков), бросая гарпуны с привязанными к ним огромными пузырями-поплавками. Поворотный гарпун, которым пользовались эскимосы, очень остроумное изобретение. При попадании в цель его наконечник вонзался в туловище, поворачивался поперек раны и отделялся от древка. Прикрепленный к наконечнику тонким ремнем поплавок не давал раненому животному уйти под волу. Во время охоты на моржа к гарпунному ружью прикреплялся один поплавок, а чтобы удержать на плаву кита — три, четыре.
Охота на дикого оленя и других сухопутных животных у большинства эскимосов имела подсобное значение. Хотя существовали некоторые группы, жившие в глубине материка, для которых охота на оленя-карибу* была основой хозяйства. Эскимосы охотились также на птиц и занимались рыбной ловлей.
[Карибу — общее название североамериканских форм дикого северного оленя. (Прим. выполнившего OCR.)]
Мясо животных заготавливали впрок: квасили, сушили или вялили. Любимым лакомством было китовое сало со слоем хрящевидной кожи (матак), которое употреблялось только в сыром виде без приправ. Рыбу вялили и сушили, а зимой ели в свежезамороженном виде.
Жизнь людей в таких трудных природно-климатических условиях, какие представляют собой арктические и субарктические районы Северного полушария, возможна лишь благодаря совместному самоотверженному труду как мужчин, так и женщин. Добытчиками пищи были мужчины, но без хорошо сшитой, теплой, удобной одежды они не могли бы охотиться и добывать пропитание для своих семей. Шитье одежды входило в обязанности женщин. У гренландских эскимосов существовала поговорка: "Суди о девушке по ее одежде, суди о женщине по одежде ее мужа".
Одежду эскимосы носили глухую, без продольного разреза и застежек. Изготавливалась она из оленьих и тюленьих шкур, иногда из птичьих шкурок, обувь шилась из камуса* оленя. Нерпичьи и тюленьи шкуры для специальной непромокаемой обуви женщины размягчали зубами. Закрытый тип одежды как нельзя лучше был приспособлен к особенностям климата Арктики, он предохранял от морозных ветров и снега. Летом, для того, чтобы уберечь одежду от сырости, поверх нее надевали матерчатую камлею* или плащ-дождевик с капюшоном, сшитый из моржовых кишок. На один год требовалось несколько комплектов одежды для одного охотника.
[Камусы (саамск.) — куски шкуры с ног оленя, зайца, песца и пр. Используются для подбивки лыж, изготовления и украшения меховой обуви, рукавиц и одежды у многих народов Севера и Сибири. (Прим. выполнившего OCR.)
Матерчатая камлея — верхняя одежда с капюшоном, шьется из ткани. (Прим. Н.А. Лопуленко.)]
Кроме того, женщины готовили пищу, ухаживали за детьми, обрабатывали шкуры, изготавливали жильные нитки и собирали растения — источник витаминов и приправ. Они же должны были разбирать и устанавливать жилища, изготавливать утварь, заготавливать мясо и рыбу впрок.
Морской зверобойный промысел, являвшийся основой хозяйства, обусловил и тип поселений эскимосов. Это были относительно крупные поселки, располагавшиеся на высоких местах, откуда было удобно наблюдать за передвижением морского зверя. По мнению ученых, жители поселка ко времени прихода европейцев составляли материнскую родовую общину, которая дробилась на малые семьи. До XX в. у них еще встречались пережитки материнского рода в виде многомужества, счета родства по женской линии, особых прав дядей по матери на племянников и другие.
Семья обычно состояла из мужа, жены, детей и одиноких или престарелых родственников. В зажиточных семьях встречалось многоженство. Существовали обычаи отработки за жену, сватанья детей, женитьбы мальчика на взрослой девушке. Широко был распространен обычай обмена женами между "товарищами по браку". Социальные и производственные отношения в поселке тесно переплетались. Мужчины обычно составляли байдарную артель, и в древности в артель собирались только родственники.
Религиозные воззрения эскимосов были проникнуты анимистическими представлениями, то есть верой в существование души у животных и даже предметов, а также в родственную связь человека с ними. На этих взглядах основывались магические обряды и церемонии. Так же, как у других охотничьих народов, у них был сильно развит культ промысловых животных, в который входили обряды по умилостивлению добытого зверя и его проводы с просьбами, чтобы он не сердился и возвращался к ним "во множестве".
Вера в духов, загробную жизнь, одушевление предметов и животных лежали в основе шаманизма. Люди верили, что шаман посредством общения с духами может изгнать болезнь, помочь вернуться пропавшим в тундре или унесенным на льдине, установить хорошую погоду и вызвать промысловых зверей. Шаманом мог стать только тот, кто услышит во сне или наяву призыв своего «двойника» или «помощника».
Наряду с фантастическими объяснениями природы и жизни, одухотворением неодушевленного мира, наделением животных человеческим разумом в душой у эскимосов была развита система народных знаний о природе. Эскимос превосходно знал окружающую местность, умел предугадать погоду, определить направление пути во время пурги, знал строение человека и животного. Он умел различить зверя на расстоянии по признакам, известным ему одному, лечить болезни, раны, и многое другое. Их знания основывались на многовековом опыте и наблюдениях. И если эскимос не всегда правильно мог объяснить, почему произошло то или иное явление, то он почти всегда правильно использовал это знание в практической деятельности.
…и Рокуэлл Кент описывали эскимосов одного времени. Но читатель, несомненно, заметил большую разницу между эскимосами Гренландии, Канады и Аляски. Это различие вызвано многими причинами. Одна из них та, что пути колонизации этих северных территорий шли по-разному. Гренландское население раньше столкнулось с европейцами, поэтому европейская колонизация сильнее всего сказалась именно на нем. Причем формы ее существенно отличались от тех, которые применялись на Аляске и в Канаде.
Впервые европейцы появились в Гренландии в Х в. Это были норманны-викинги, прибывшие из Ирландии под предводительством Эрика Рыжего. Долгое время считалось, что первые норманнские поселения, возникшие в 986 году на юго-западном побережье острова, существовали изолированно от коренного населения. Но раскопки утверждают, что между пришлым и коренным населением были развиты торгово-обменные отношения. У эскимосов появились и европейские товары и новые черты в культуре, заимствованные у европейцев. Норманнский период освоения европейцами Гренландии внезапно кончился в XV в. Связь с Европой прервалась, а колонисты вымерли или смешались с эскимосами.
С начала XVII в. наступил новый период в колонизации острова. Европейцев притягивали богатые возможности добычи китового уса и жира в водах Гренландии и получения мехов от торговли с эскимосами. Первая христианская миссия в Гренландии была организована норвежским пастором Гансом Эгеде в 1721 г. В 1851 г. один из миссионеров создал эскимосскую письменность, а с 1861 г. стала издаваться газета на эскимосском языке.
Активная колонизация острова Данией началась во второй половине XVIII в. К XIX столетию уже были основаны почти все современные населенные пункты западного побережья острова. Своеобразие датской колонизации Гренландии в XVIII–XIX вв. заключалось в том, что остров был закрыт для свободной торговли и частного предпринимательства. Этим единолично занималась датская Королевская монополия — своеобразная государственно-монополистическая система торговли. По отношению к коренному населению проводилась политика консервации. Датские власти старались сохранить основу традиционного хозяйства эскимосов — морской зверобойный промысел и основные элементы их национальной культуры. При минимальном вкладе в развитие экономики это был единственный выход для сохранения эскимосов, а значит, и получения прибыли от покупки у них меха. Государственная монополия на торговлю поддерживала также, в какой-то степени, жизнь эскимосов. Существовал запрет на торговлю спиртным, были установлены твердые цены на те немногие товары, которые можно было купить. Выбор товаров был ограничен, чтобы затормозить у эскимосов привыкание к европейской пище и стимулировать у них традиционную охоту.
Несмотря на все усилия правительства, разложение общества эскимосов шло быстрыми темпами. Интенсификация европейского зверобойного промысла в Гренландии, распространение огнестрельного оружия, климатические изменения привели в начале XX в. к резкому сокращению числа морских животных, все еще необходимых для существования эскимосов. Несмотря на все запреты, к ним с большой легкостью приникали спиртные напитки, пищевые продукты. Население умирало от туберкулеза и других заболеваний, занесенных белыми. Невозможность добычи промысловых животных повлекла за собой изменения в хозяйстве коренных жителей. Большинство населения было вынуждено перейти к промышленному лову рыбы, что фактически и спасло его от вымирания.
Эскимосы Аляски столкнулись с европейцами в начале XVIII в., когда началось систематическое освоение Аляски русскими. Был организован ряд постов, велась оживленная торговля. В первые десятилетия XIX в. коренное население Аляски еще входило в зону экономического влияния России, и это очень отличало его от эскимосов Канады.
Экономическое влияние США на Аляску также началось с развития китобойного промысла. Ко времени продажи Россией Аляски в 1867 г. множество американских судов бороздило ее прибрежные воды. В конце XIX в. были открыты китобойные станции для промысла китов у побережья. Эскимосы работали на них, обслуживая китобоев, их брали гребцами на китобойные вельботы, нанимали и на китобойные суда. Они поставляли мясо, а их женщины шили американцам одежду. Поэтому контакт между американскими китобоями и береговыми эскимосами был очень тесен, Что сильно повлияло на культуру последних. Общение с китобоями, а позже с золотоискателями, валом хлынувшими на Аляску на рубеже XIX и XX вв., привело к спаиванию коренного населения, распространению туберкулеза и эпидемий других заболеваний. Высокая смертность от болезней, а также голодовок вели к сокращению численности населения.
Упадок китобойного промысла в первое десятилетие XX в. и последовавшее вскоре за ним окончание золотой лихорадки на Аляске повлекли за собой не только отток пришлого населения; эскимосам стало гораздо труднее найти работу. Денежные доходы поступали в основном от промысла пушных зверей. Этот промысел ставил охотника в зависимость от скупщика, от цен на меха и на продовольствие. У него не оставалось времени для охоты на тех животных, которые были необходимы для питания. Традиционная охота — коллективная, пушная — индивидуальная, поэтому последняя влекла за собой разрушение родственных и соседских связей. Изменился и рацион питания, эскимосы все более привыкали к покупной пище. Привозные товары: оружие и орудия труда, средства передвижения и продукты питания, — все это стало в начале XX в. уже необходимостью для эскимосов Аляски. Охотники находились в экономической кабале у торговцев из-за широко использованной ими системы кредитования. Цены на продукты росли быстрее, чем на пушнину.
В отличие от гренландских и аляскинских эскимосы арктического побережья Канады к началу XX в. были мало затронуты европейским влиянием, за исключением лабрадорских. Проникновение белых с целью скупки пушнины и развитие китобойного промысла началось здесь позже — в 80-е годы XIX в. До этого торговый обмен и встречи с европейцами были редки. Английская торговая компания Гудзонова залива начала расширять свое влияние с конца XIX в. Ею были открыты посты на Спенс-Бэй, в заливе Батерст, на острове Кинг-Вильям, на юге острова Виктория, в низовьях реки Коппермайн.
В первые десятилетия XX в. на севере Канады также расцвело трапперство — охота на пушных зверей. Коренное население находилось полностью во власти торговцев и миссионеров, поскольку канадское правительство совершенно не интересовалось его проблемами. До 1940 г., несмотря на то что добыча пушнины возросла в несколько раз, уровень жизни коренного населения неуклонно снижался, поскольку цены на привозные товары росли неимоверно. Ухудшалось положение эскимосов из-за сокращения добычи морских животных и непостоянства доходов от пушного промысла. Коренное население и здесь умирало от голода и туберкулеза. Советский ученый Л.А. Файнберг так характеризует этот период: "Существенные изменения в культуре имели место лишь вначале, при переходе к трапперству, а затем наступил застой. Эскимосская культура, особенно материальная, включила в себя некоторые европейские элементы, но они существовали в рамках традиционной культуры" [Файнберг Л.А. Очерки этнической истории зарубежного севера. М. 1971. С. 118.].
20-30-е годы XX в., когда эскимосов наблюдали… и Рокуэлл Кент, были преддверием экономического и культурного спада у эскимосов, который особенно сильно проявился в 50-е гг. Интенсивное разрушение эскимосской культуры было стимулировано и мировым экономическим кризисом 1930-х гг., который углубил этот процесс. К середине XX в. эскимосы, особенно в Канаде, в наименьшей степени в Гренландии, оказались в очень тяжелом экономическом положении; некоторые группы находились на стадии вымирания.
В наше время зарубежный Север давно уже не тот, что был во времена… и Кента. Вместо каяка и нарт, запряженных собаками, широко распространены моторные лодки и мотонарты. Живут эскимосы в деревянных домах. Бульшая часть их работает на производстве или в сфере обслуживания — нефтяных промыслах, в промышленном рыболовстве, на туристических комплексах, военных базах или метеостанциях; чаще всего в роли подсобной рабочей силы. Охота там, где она не запрещена, — носит чаще всего вспомогательный характер. До 1970-х гг. в школах Канады и Аляски эскимосский язык не преподавался, обучение велось на английском или французском языках. Было приложено много сил, чтобы заменить их культуру на псевдоевропейскую. Из-за бедности и трудностей обучения на чужом языке мало кто из эскимосов получал среднее образование, не говоря уже о высшем. Это, в свою очередь, обрекало их на безработицу, которая в несколько раз выше на севере, чем в южных районах США и Канады. Те же, кто находил работу, получали в несколько раз меньше, чем белые, из-за отсутствия квалификации.
60-70-е гг. XX в. отмечены подъемом национального движения у эскимосов американского Севера. Оно явилось частью национально-освободительного антиколониального движения, развернувшегося в 1960-е гг. В Гренландии были созданы национальные профсоюзы и политические организации. Профсоюзы борются за равную с белыми оплату, за равный труд, политические организации — за предоставление Гренландии автономии, за сохранение эскимосского культурного наследия, охрану природной среды. В результате этой борьбы в 1979 г. Гренландии было предоставлено внутреннее самоуправление в рамках единого с Данией государства.
На Аляске росту политической активности коренного населения способствовало открытие и освоение крупных месторождений нефти. Нефтяные компании стали отнимать земли, использовавшиеся эскимосами как охотничьи угодья. Коренное население — эскимосы и индейцы — объединилось в политическую организацию "Федерация туземцев Аляски", которая добилась принятия Конгрессом США в 1971 г. Закона о правах на земли. Этот Закон предоставлял права на определенные участки земель общинам коренного населения, а также предусматривал выплату компенсаций за утраченные угодья.
Однако деньги до сих пор полностью не выплачены, а региональные корпорации коренного населения, пытавшиеся поначалу самостоятельно участвовать в большом бизнесе, постепенно разоряются. Они не выдерживают конкуренции с более сильными компаниями белых, поскольку у них недостаточно ни денег, ни опыта ведения дел, а правительственной поддержки у них нет. Это положение напоминает эксперимент по разведению домашних оленей на Аляске в 1920-е гг. Тогда он также не удался именно из-за конкуренции белых предпринимателей и отсутствия поддержки правительства. Акции оленеводческих компаний были быстро скуплены белыми; эскимосы лишились стад, а затем и само оленеводство почти перестало существовать, не выдержав конкуренции в производстве мяса с более южными штатами. Правда, в настоящее время правительство запретило до 1991 г. продавать акции эскимосских и индейских компаний корпорациям белых. Но скоро наступит этот год, и уже ясно, что большинство корпораций прекратят свое существование как независимые предприятия коренных жителей.
Борьба эскимосов Канады за земли, на которых они живут и охотятся, отличается от ситуации, сложившейся на Аляске. Там борьба началась позже, к тому же в Канаде эскимосы и индейцы больше разъединены. У них различные политические организации, различные требования, зачастую эти организации конфликтуют между собой. Это затрудняет совместные действия, сказывается на их результатах. У эскимосов Канады есть своя собственная организация "Инуит Тапирисат", которая была создана в 1971 г. Эскимосы добились некоторых уступок со стороны правительства. Самая важная из них — это соглашение между правительством и эскимосами западного сектора канадской Арктики, подписанное в 1984 г. По нему эскимосы этого района должны получить компенсации за земли, отобранные горнорудными компаниями, некоторое количество земли в собственность эскимосских общин и права на недра части этих земель, а главное — преимущественные права на охоту в своем регионе.
Произведения… и Рокуэлла Кента, которые предлагаются в этом сборнике с некоторыми сокращениями, не существенными для формирования представлений об эскимосах, настойчиво напоминают о том, что суровые края, освоение которых идет сейчас ускоренными темпами, уже были населены много сотен лет назад людьми без машин и индустриальной технологии. Заселены без ущерба для окружающей природы, освоены посредством приспособления к ней, посредством выработки особой культуры ее использования и восприятия. Новый этап научно-технической революции требует от современных людей более полного использования ресурсов, которые приготовила для человечества природа, что, конечно, невозможно без развития промышленности на Севере. Однако мы всегда должны помнить о тех многочисленных поколениях людей, которые жили там до нас, чьим домом была, а для их потомков и остается, эта суровая и прекрасная земля.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ
Летом 1929 года я потерпел кораблекрушение у берегов Гренландии (об этом рассказано в моей книге "Курс N by E" [1]) и с тех пор полюбил эту страну и ее народ. Через два года я возвратился в Гренландию, построил себе дом, обосновался там и стал работать. Все эти события и описываются в моем дневнике.
Игдлорссуит — небольшой поселок в северо-западной части Гренландии, в котором я решил построить дом, расположен, как показано на карте, на большом острове у устья залива Уманак. Этот гористый остров оказался настоящей страной чудес, страной горных пиков и ледников.
Население Игдлорссуита составляло всего какую-нибудь сотню душ, включая и торговца-датчанина — бестирера [2], хотя позднее я стал сомневаться, имеет ли бестирер душу? В его доме я получил приют на две-три недели, пока не построил собственный дом. Дом бестирера описан на нескольких первых страницах моего дневника.
Но позвольте мне, дорогой советский читатель, в этом месте представить своего хозяина, хозяйку и их маленькое семейство.
Бестирер получил при крещении имя Иоргенсен. Под прозвищем Троллеман, данном ему гренландцами, он известен читателям по моей книге "Саламина [3]. В дневнике же он фигурирует под именем, придуманным им самим, — Стьернебо.
Стьернебо — слово датское и в буквальном переводе означает "звездный дом", что может быть истолковано как отражение своеобразного тщеславия владельца этого имени [4].
Его жена — молодая, привлекательная гренландка. В книге «Саламина» она названа Региной, а в дневнике носит свое настоящее имя — Анина. Их детей звали: дочку — Амелия и сына — Альгот, или Брёр, то есть братик, — так прозвали его родители. В семье Стьернебо жили еще две сестры Анины — Елена и Лия.
Ну, пора ввести в повествование молодую женщину, по имени Анна, к которой я очень скоро привязался. Среди гренландцев того времени большинство было смешанной крови — от брака эскимосок с европейцами. Анна типичная эскимоска, и, хотя она отличалась нежным цветом лица, все же она была смуглолицей и имела безукоризненно белые зубы. Руки ее, маленькие, изящной формы, свидетельствовали о малой занятости физической работой. Грациозные движения Анны несколько контрастировали с видом других мужеподобных, крепко сложенных женщин поселка. Анна была женой хорошего охотника Иоханна Зееба. Детей у них не было.
Следующим за Стьернебо по местному табелю о рангах шел его помощник, или старший рабочий, гренландец, по имени Рудольф Квист. Рудольф, молодой, высокий, красивый, умный и физически ловкий, пользовался уважением всего поселка, и моя дружба с ним крепла с каждым днем. Рудольф и его добродушная, статная жена Маргрета, женщина с большим сердцем, стали самыми близкими друзьями — моими и Саламины (Флейшер), преданной и многострадальной участницы моей жизни и моих приключений. Дальше о Саламине будет сказано так много, что нет необходимости представлять ее. Упомянем лишь, что ей было двадцать шесть лет и она была вдовой.
А теперь, с позволения читателя, несколько слов о самом дневнике.
Писал я этот дневник в Гренландии много лет назад (оригинал его находится сейчас в Москве) [5], и по его страницам можно судить, что писал я его как путник, который идет по трудной дороге, не оглядываясь по сторонам. Подготавливая дневник к печати, я не пытался «улучшить» его текст и стремился сохранить в нем все в неприкосновенности, за исключением пунктуации и орфографии, и устранил только возможные неясности.
Вина с годами становятся лучше от выдержки, но не все. Так и мой дневник. Что бы в "процессе выдержки" он ни потерял или ни выиграл в смысле качества, время преобразовало его из рассказа о современном образе жизни в записки о прошлом, интимные и достоверные, в записки об образе жизни, безвозвратно исчезнувшем, о народе, остатки древней своеобразной культуры которого быстро тонут в волнах «прогресса».
В этом рассказе о днях моей жизни в Гренландии мои советские друзья не найдут героя. Они признают достойную героиню в лице Саламины, о которой я всегда вспоминаю с уважением и любовью.
Памяти Саламины и посвящается этот дневник.
Рокуэлл Кент
Январь, 1966 г.
Озэбль Форкс,
Нью-Йорк, США
Трудно писать, когда кругом столько событий. Трехлетняя Амелия и двадцатидвухмесячный Альгот преспокойно стоят, опираясь на макушки голов и на ноги. Анина катает белье с помощью деревянной скалки и рубеля. Елена гладит. Лия, которой всего четырнадцать, кончает печь хлеб, и дом наполнен вкусным запахом горячих булок. Стьернебо расхаживает по комнате, с гордостью поглядывая на двух своих акробатов.
— Я слишком стар, — говорит он, — чтобы быть отцом. Слишком стар, чтобы играть с детьми.
Он по очереди поднимает «мосты», раскачивает их за ноги, держит на весу за штаны на мягком месте, потом ставит детей на ноги, чтобы они занялись другим делом.
Когда Стьернебо закатывает рукава, он превращается в художественную галерею. Его руки с голубыми венами изукрашены, будто чемодан, наклейками отелей, русалками, якорями, кораблями в бурном море, маяком, орлом, голубем мира, пронзенным сердцем, Адамом и Евой. И то, что этот чемодан, сундук, порт-манто, саквояж, рюкзак и все, с чем можно сейчас сравнить Стьернебо, так мало износилось — хотя на нем наклейки за сорок семь лет странствований, — доказывает, что человечек этот, несмотря на лаковую блестящую кожу лица, обладает прочными ребрами, крепкой шкурой и хорошо развитыми мускулами.
(…).
У СТЬЕРНЕБО
Подо мной перина, на мне перина, и только нос и глаза выглядывают из-под нее в залитую солнцем комнатку. Светлая, удобная, уютная комната, переполненная вещами: безделушками, цветами, коробками с табаком, трубками, книгами, мебелью, разумеется обитой плюшем и украшенной бахромой. Здесь есть матросский сундук, высокая печка, зеркала и ужасные картины, изображающие буковые леса Дании. А одна стена целиком покрыта цветными фотографиями в овальных позолоченных рамках, — очевидно, портретами членов одной семьи. В центре этого ассортимента вылитый Иисус из мистерии в Обераммергау [6]. Он смотрит на меня из-под затеняющей лицо старой фетровой шляпы большими голубыми невинно-кукольными глазами. Это — Стьернебо, хозяин дома, где я гощу.
Есть еще другая фотография Стьернебо, сделанная сразу после того, как с него были удалены заросли волос. Он в костюме с платком в карманчике, с булавкой в галстуке, в высоком белом воротничке; усы элегантно закручены. Восковой манекен. Висит также портрет Стьернебо-отца с мужественным лицом и портрет матушки Стьернебо. Но лицо и фигуру другой женщины я вижу на трех фотографиях. Так и должно быть, потому что она не только жена Стьернебо и мать семейства, как показано на одной из фотографий, но и снятая во весь рост гренландка в национальном костюме. Она — такое очаровательное, мило улыбающееся молодое существо, что должна радовать сердце всякого, кто посмотрит на нее.
Я укладываюсь спать в два часа, уютно укрывшись периной. Теплое утреннее солнце светит в открытое окно. За окном — синее море, айсберги, ближние горы и дальние, со снеговыми шапками, сверкающими в утреннем свете, — великолепный северный мир. А тут — домашний уют. Я думаю: вот это, значит, Гренландия, и, глубоко удовлетворенный тем, что это именно она, поворачиваюсь на бок и засыпаю.
УДСТЕДСКИЕ ТРУДНОСТИ
Удстеды, то есть форпосты колонии, — это поселки охотников и их семей. Здесь добываются богатства Гренландии — жир и шкуры. Настоящий гренландец охотник. Его занятие и порождаемые этим занятием характер и жизненный уклад на протяжении веков способствовали созданию тех общественных и культурных особенностей, которые свойственны лишь гренландцам.
Колонии — административные центры Датской Гренландии, играют как бы роль расчетных контор по скупке продукции, добываемой в удстедах. За исключением рыболовства, начавшего развиваться в последние годы в некоторых районах Гренландии, жители административных центров совершенно лишены возможности производительно трудиться. Они поддерживают свое существование лишь черной работой, ремеслом и прислуживанием в домах.
Естественно (пожалуй, это даже неизбежно), что административные центры все более приобретают облик, свойственный датской культуре. Внешне это находит выражение в размерах жилищ чиновников, в административных зданиях, складах, больницах и тому подобном и в той чистоте и свежей покраске, которой отличаются все эти постройки. Что ж, великолепно! Порядок и чистота, пожалуй, самый лучший вклад, который может внести в Гренландию датская культура. Во многих таких центрах в качестве примера, подаваемого датчанами, могут служить дома гренландцев улучшенной постройки и находящиеся в лучшем состоянии, а также то, что образ и уровень жизни гренландцев приближается к датскому[7] (конечно, там, где жители могут себе это позволить). Влияние европейских требований сказывается и в одежде. К счастью, не в отказе от национальной одежды, а в использовании ярких материй, которые нравятся гренландцам.
В культурном отношении жизнь в административных центрах имеет несомненные преимущества. Школы сравнительно хороши. Их цель — дать приличное общее начальное образование; в них учат и датскому языку. Стоит упомянуть и о том, что церкви производят большее впечатление, нежели школы; священник колонии — датчанин или гренландец — обладает выдающимися личными качествами. Однако церковь здесь, хотя и имеет небольшое общественное значение, в сущности-то величина, которой пренебрегают.
Поговорим об удстеде. Датские чиновники редко посещают его. Раз или два раза в год сюда приезжают губернатор и бестирер административного центра; дважды в год — доктор и священник. Бестирер удстеда (управляющий, он же торговец) часто гренландец. Датчане — служители церкви, как правило, люди простого стойкого склада и больше, чем чиновники колоний, способны внушить уважение гренландцам. Есть еще одно официальное лицо — помощник священника — гренландец. Он отправляет церковные службы и преподает в школе. Датского языка он, как правило, не знает.
Школа в Игдлорссуите, если верить Стьернебо, никуда не годится. Помощник священника появляется в ней по утрам, когда ему захочется, всегда с опозданием. С его приходом дети, играющие уже несколько часов во дворе, гуськом заходят в школу. Помощник учит их немного арифметике и библии. Главным образом библии. Книги религиозного содержания — единственные, какие можно достать на острове. Покупают их немногие, и никто не читает. Вообще обучение в Игдлорссуите — сплошная комедия.
Бестирер заведует лавкой. В начале летнего сезона запас товаров в лавке ничтожен. Собственно говоря, большинство товаров израсходовано. Эту запись я делаю 24 июля. Главные товары на лето и на весь год вот уже несколько недель лежат в Уманаке, но их еще не перевезли сюда. Некоторое количество прошлогоднего запаса муки доставили около 1 июля. Часть муки оказалась затхлой, и гренландцы отказались ее употреблять. Есть только один, скучный с виду, сорт материала для анораков (анорак — мужская рубашка с капюшоном). Материи более веселых расцветок в Игдлорссуит не завозят. Два года назад один игдлорссуитский гренландец получил ссуду на постройку приличного дома. Он немедленно заказал строевой лес, но до сих пор лес так и не поступил. На острове нет гвоздей, нет красок и вообще мало что можно достать.
Бестирер очень строго ограничен в расходах на благоустройство поселка. Он не имеет права истратить и цента на улучшение или ремонт дома без специального разрешения из административного центра, а такое разрешение не легко и не скоро дается. Вот почему в удстедах не заметно, чтобы гренландцы брали с датчан пример по уходу за домом: некому подражать.
Наблюдается тенденция улучшать положение гренландцев, живущих в административных центрах, и пренебрегать интересами жителей удстедов. Это со временем должно привести к социальным различиям между жителями городов и поселков — скверное дело для Гренландии. В удстеде нет никаких инструментов, абсолютно никаких, кроме принадлежащих частным лицам.
* * *
13 июля 1931 года. Солнце светит в мое окно всю ночь. Лучше всего мне спится около семи, когда лучи передвигающегося на восток солнца отходят от моей кровати. А в семь часов обычно меня будят легкие шаги Лии, проходящей через мою комнату, чтобы разбудить Стьернебо. Затем я засыпаю и сплю еще десять минут.
Но сегодня утром я не спал. Лия только что успела пройти в комнату хозяина, как оттуда львиным рыком разнесся голос взбешенного Стьернебо. Лия бегом промчалась назад. Я услышал ее шаги на лестнице, затем над головой, на чердаке. Там она задержалась немного в том конце, где стоит ее кровать, а потом торопливо прошла назад, вниз, и — через мою комнату. Минута тишины, затем бешеный львиный рев. Рев и звуки ударов. И тихое всхлипывание Лии. Поток исковерканных эскимосских слов и удары. Стьернебо в исступлении. Лия выходит от него. За ней быстро захлопывается дверь. Одеваясь, я слышу, как где-то в доме она рыдает.
* * *
18 июля. Вчера в Игдлорссуите праздновались два дня рождения; по этому поводу состоялись кафемики (угощение кофе). Первое празднество — день рождения пожилой женщины. Она полуинвалид, туберкулезная, ее редко можно видеть вне дома. Волосы она причесывает на старинный манер — туго стягивает их в узел на макушке — и поэтому лысеет с боков. Домик у нее маленький, однокомнатный; он сложен из дерна и обшит досками. Доски пола лежат прямо на земле, балок нет. На стенах наклеены газеты и дешевые цветные газетные приложения. Не знаю, кто выбрал картинку хорошенькой девушки — муж этой женщины или она сама. Обстановка дома невелика: маленький стол и спальные нары.
На праздновании было шесть или восемь гостей: две старухи, остальные мужчины и женщины — помоложе. Кофе нам подавали по очереди, так как чашек было только три. Их наливали до краев. Сахар брали и клали в рот по куску. Кофе из чашки наливали в блюдце и потягивали сквозь сахар. Гости не очень-то много разговаривали, зато много и добродушно смеялись по пустякам, — например, над тем, как одна старуха уронила трубку. Мужчины не курили. Курили только старухи, пользуясь обыкновенными трубками из вереска, но без чубуков. Трубку зажигали и прикрывали крышечкой из тюленьей кожи. Курильщицы энергично пускали клубы дыма и сплевывали. (…)
Второе празднество — день рождения красивого молодого человека. Это семейство позажиточнее. Дом состоит из просторной передней и большой чистой спальни. Мебель такая же, как и в первом доме, и, кроме того, письменный стол и ящик. Жена хозяина на сносях. Кофе — как в первом доме.
Какие ужасные, резкие голоса у гренландок! У них нет никакого понятия о необходимости менять голос в разных случаях. Они кричат и бранятся беззлобно, тем не менее ужасно, лопаются барабанные перепонки. «Е-де», кричит все время Анина. По ее мнению, это слово больше всего походит на имя «Елена». Елена должна бы убить сестрицу за то, что она, обращаясь к ней, непрерывно орет. Но по-видимому, Елену это ничуть не беспокоит. «Е-де» испорченное «Е-ле», а «Е-ле» в свою очередь испорченное «Е-лен» (Елена). «Е-де» удобнее, когда кричишь.
Стьернебо хороший, добрый, разумный, великолепный человек, но, боже мой, он сводит меня с ума своими разговорами. С трудом ухитряюсь остаться наедине, достаю ручку или карандаш, чтобы работать, но он входит, усаживается и начинает говорить. Рассказы его бесконечны, они все время разветвляются на побочные истории, которым не суждено когда-либо соединиться. "Если бы я только мог написать историю своей жизни, — говорит Стьернебо, — это было бы ужасно!.."
* * *
19 июля, воскресенье. Поздним утром мы — Стьернебо, Анина, Елена и я отправились в поход, чтобы взобраться на гору, расположенную позади поселка. Утро было сияющее, солнечное, и высокий гребень горы над нами казался не очень далеким. Взобравшись на возвышенность у подножия гребня, мы как будто бы выбрали подходящее место для подъема — неглубокий каньон, шедший прямо к вершине. Но вскоре обнаружилось, что здесь был оползень или же произошел обвал. Да и подъем оказался более крутым, нежели на других склонах, тоже покрытых каменными осыпями, которые подпирали гору со всех сторон, словно контрфорсы [8]. Даже в самых легких местах нам приходилось карабкаться на четвереньках. Сланец сыпался при первом же прикосновении. Мы хватались за каждый камень, на который, казалось, можно было надежно опереться, и он крошился у нас в руках. Подъем становился все круче и труднее. Пришлось прибегнуть к длинному ремню для бича, который мы взяли, чтобы помогать друг другу.
Женщины сначала взбирались хорошо, но потом испугались. Они карабкались впереди, не обращая внимания на камни, которые сталкивали на нас. Елена, подымавшаяся немного в стороне, забралась на такое место, откуда не могла двинуться ни назад, ни вперед. Она не скрывала, что ей страшно. Стьернебо приказал жене стоять и не шевелиться. А когда каменная лавина, которую обрушила на нас Анина, перестала сыпаться, мы все смогли добраться до Елены. Дальше нам пришлось двигаться так: шедший впереди нащупывал место для опоры ног и, найдя его, спускал вниз ремень, подтягивая на нем остальных. Таким способом мы достигли гребня, но оказалось, что вершина не здесь. Однако, преодолев главную трудность, мы потеряли интерес к вершине — к ней надо было еще ползти по острому, как нож, хребту.
Наверху не нашлось места для отдыха, и мы стали спускаться по длинной осыпи все ниже и ниже, тюка не достигли широкой зеленой долины. Здесь протекал ручей, питаемый талыми снегами, но вода в ручье была теплой от горячих камней и песка, по которым она бежала.
Мы быстро сварили кофе и уселись любоваться здешней дикой красотой. Теплое солнце Гренландии светило нам, горы и долины были ярко освещены и великолепны, а далекое море было таким синим-синим!
— Стоит ли удивляться, — сказал Стьернебо, — что человек хочет прожить в Гренландии всю свою жизнь?
* * *
23 июля. Тихий, мягкий, солнечный день. Днем Стьернебо, мальчик и я отправились на гребной лодке ловить акул. Лодку нам одолжил один гренландец. Мы бросили якорь в миле от берега на глубине в тысячу двести футов. Вокруг нас стояли на якоре лодки гренландских рыбаков. Их лески на акул были спущены в воду, а сами рыбаки крепко спали. Мы сидели, раскорячившись в своем вонючем судне, кое-как спасая ноги от наваленной грязной наживки для акул и мутной воды на дне. Мы то засыпали, а то лениво посматривали на окружающий нас очаровательный вид, на сияющий, освещенный солнцем покой, на близкие высокие горы Игдлорссуита и крутой скат береговой полосы. Изредка кому-нибудь — не нам — попадалась на крючок акула, и тогда начинался долгий подъем инертной туши с глубины в двести футов. Тяжелая работа.
Наконец акула появляется на поверхности. Она вяло шевелит хвостом. Ей несколько раз вонзают в голову копье. Акула слабо протестует и умирает. Люди на лодках перекликаются, смеются какой-то шутке и снова засыпают.
Уже седьмой час. Внезапно поднимается крик: "Ная!" ("Ная" — моторная лодка, предоставленная мне гренландской администрацией.) Но «Ная» проходит мимо, и, пока она становится на якорь, мы гребем к берегу и присоединяемся к нетерпеливо ожидающей ее толпе.
"Ная" привезла пассажиров из Уманака.
* * *
25 июля. «Авангнамиок» (лодка окружного совета — ландсрода) отчалила в 8 часов 30 минут — отход был назначен на 6 часов. На ней отправилась домой Лия со своим имуществом, уместившимся в деревянном ящике и бумажном пакете. Я дал Лии пятнадцать крон — целое состояние. Девочка была ошеломлена и долго не могла понять, почему и от кого оно ей досталось. Анина распаковала ящик и вытащила всю одежду, чтобы спрятать на дне конверт с пятнадцатью кронами. Когда мы кончили пить кофе, Стьернебо вызвал Дукаяка — гренландца, прибывшего с ним сюда из Агто.
Дукаяк — типичный гренландец, приземистый и темнолицый. У него щетинистые усы, вызывавшие желание сосчитать отдельные, похожие на проволоку волоски; нос у него мокрый. Началось совещание. Стьернебо в самой твердой и внушительной манере, свойственной обычно старшим помощникам капитана, обратился к гренландцу с речью. Исковерканный гренландский язык, которым он пользовался, очень ограничивал его речь. Но что он говорил — это было одно, а что он хочет сказать и в какой-то степени это сделал своей манерой стучать кулаком — совсем другое, и оно относилось к делу. Вот что он сказал:
— Ты, Дукаяк, нужен м-ру Кенту как товарищ, моторист, матрос, слуга и горничная, кок, работник, раб на суше и на море днем и ночью. Ты должен работать на него, выполняя любую работу, которую он тебе поручит, работать усердно, быть ему верным и быть чистоплотным. Ты поедешь с ним на его лодке, куда бы он ни отправился. Ты будешь работать на него, когда он будет строить свой дом. Короче говоря, ты будешь принадлежать ему душой и телом за столько-то в месяц.
— Аюнгилак (хорошо), — сказал Дукаяк.
— Сколько, по-твоему, тебе следует платить? — продолжал Стьернебо.
— Это, — сказал Дукаяк, — пусть решает он.
Стьернебо и я начали обсуждать этот вопрос. Немцы платили Дукаяку три кроны в день. Было бы хорошо, чтобы я платил ему немного больше, скажем, сто крон в месяц, если я в состоянии столько дать.
— Хорошо, — говорю я.
Когда Дукаяку сообщают об этом, когда он слышит, что говорят о сумме в сто крон разом, он кажется безгранично смущенным и счастливым. И если глаза его не наполняются слезами счастья, то нечто подобное происходит с его мокрым носом.
— Аюнгилак, — говорит он и весь сияет.
И вот несколько часов спустя Дукаяк работает вовсю на борту лодки. Прежде всего он чистит каюту. Матрацы, занавеси и прочее проветриваются на палубе, каждый уголок и закоулок моется с мылом. Что касается ночного горшка и переносного трона уборной, принадлежавших последнему владельцу судна, то они уже переправлены на берег, на хранение.
* * *
Около 24 августа. Я сижу и пишу в доме, в котором сейчас еще некоторый беспорядок, но отныне и навсегда, если я захочу, это мой дом. Саламина домоправительница, кухарка, быть может, жена — короче говоря, «кифак» ушла со своими двумя детьми (я уже называю их нашими). Она вернется, как я полагаю, с провизией — чайками, рыбой или тюленьим мясом. Она приготовит еду для нас, уберет в доме, и так, постепенно, мы станем жить по заведенному распорядку гренландского домоводства.
Шаги в передней. Кто-то вытирает ноги о подстилку из мешковины. Саламина? Дверь открывается. Это Анна Зееб!
Но расскажу о Саламине и о последних трех или четырех днях. Сегодня вторник. Вернемся к прошлой пятнице.
Полдень. Анна и я упаковываем вещи для моей поездки в Уманак. Анна по моим указаниям аккуратно заворачивает провизию, укладывает ее в коробку для продуктов. Хлеб, масло, бекон, кофе, чай, молоко, сахар, соль, картошка, лук, шоколад и мясо чайки. Ровно в двенадцать мы должны выехать — Стьернебо и я. Анна поспешно снаряжает меня. Мы стоя едим бобы из одной миски.
— Вот это Анна и Кент, — говорю я и перемешиваю бобы ложкой.
— А это за здоровье Анны и Кента, — и мы пьем шнапс за наше здоровье.
Затем мы идем вместе вниз, на берег, и несем мои вещи. Там меня ждет ялик. Я сажусь в лодку, и мы отчаливаем. Так, провожаемый Анной, которая машет мне рукой из дверей нашего дома, я отплываю, чтобы найти себе другую кифак.
День был облачный. Временами шел дождь, но было тихо. Мотор работал превосходно, и через восемь с половиной часов мы прибыли в Уманак. Бестирер принял нас очень любезно, и за кофе мы стали обсуждать вопрос о моей кифак.
Я приехал, чтобы заполучить Саламину, о красоте и высоких качествах которой мне рассказывали. Но у Саламины трое детей, и она собиралась на зиму в Увкусигссат, чтобы жить там с семьей покойного мужа. Все считали, что при стольких детях толку не будет. Но подходящих женщин было очень мало — та, что работает у доктора, и еще одна. Эту вторую я увидел вечером. Маленькая старушка, сплетница. Бестирер назвал ее вечерней газетой.
Для меня, сказал я, вопрос не в том, чтобы кифак была опытной, я могу обучить ее. Прежде всего мне хочется, чтобы это была женщина, которая мне нравится, которую приятно видеть подле себя, когда она изо дня в день работает рядом с тобой. Это почти то же, что выбрать себе жену. И я не найму женщину, пока не буду уверен, что она мне нравится. Итак, посмотрим Саламину и ту, что работает у доктора. А после я приму решение. Но здесь, в Уманаке, есть одна женщина, которую я видел, когда был тут в прошлый раз. Она красавица! К тому же чистенькая и смышленая. Пойдем, отыщем ее.
И мы вышли из дому в сумерки. Тут и там прохаживались женщины, по двое, по трое. Взад, вперед, в гору и обратно вниз кружились они. Вскоре мы нашли мою красавицу.
— Вот эта? — воскликнул Стьернебо. — Конечно, она красавица. Но я ее знаю. Она была любовницей, или кифак, плотника, жившего здесь примерно год назад. Я встречался с ними, когда они жили в одной палатке. У нее отвратительный характер, она страшно избалована и к тому же больна туберкулезом. Плотник собирался на ней жениться, но дело кончилось ничем. Она не годится.
— В таком случае, — сказал я, думая больше о туберкулезе, чем о характере женщины, — она отпадает. Завтра мы посмотрим Саламину.
Я прошел с сиделкой на кухню больницы. Там, почти в углу, стояла гренландка.
— Вот Саламина, — сказала сиделка.
В этот момент вошел доктор. Он должен был служить нам переводчиком.
— Пожалуйста, скажите ей, — начал я, — что я слышал от многих о высоких качествах и красоте Саламины; мне говорили, что во всей Северной Гренландии я не найду себе кифак лучше ее. Скажите Саламине, что я хочу, чтобы она отправилась со мной в Игдлорссуит — она и ее дети. Я не знаю, где они будут жить, но как-нибудь мы это устроим. И обо всех них я позабочусь.
Доктор повторил Саламине мою речь. Она, как и следовало ожидать, смутилась, и очень мило, а затем воскликнула:
— Я поеду в Игдлорссуит. И если мне, когда я туда приеду, там понравится, то я останусь с ним, что бы потом ни случилось.
Мы протянули друг другу руки, и я вышел, зная, что моя жизнь в Гренландии отныне устроена и что я сразу обрел семью. (Впрочем, оказалось, что у нас будет только двое детей; один ребенок остался на попечении родственников.)
БУРНЫЕ ВОДЫ
Мы намеревались выехать рано утром в Сатут, чтобы взять там моих собак и сани, а затем немедленно возвратиться в Уманак, забрать мою новую семью и Анину, которая провела там несколько дней, и к вечеру быть в Игдлорссуите. Но утром подул крепкий встречный ветер, и наш отъезд в Сатут был отложен до вечера. Ветер утих, и в 9 часов мы выехали изУманака и через два с половиной часа достигли Сатута.
Бестирера Ланге, у которого я купил собак, мы подняли с постели. Он угостил нас ромом и кофе и на следующее утро, в 7 часов, доставил на нашу лодку собак. Мы тотчас же отплыли в Уманак. Задул сильный ветер, и, хотя мы благополучно достигли Уманака, было решено не отправляться оттуда дальше. Однако к трем часам ветер стал умеренным. Мы собрали своих людей и подняли якорь. Из Уманака направились прямо к северному берегу в надежде найти укрытие от ветра во внутренних проливах близ острова. Но раньше чем мы достигли берега, нам пришлось столкнуться с плохой погодой и бурным морем.
Пассажиры внизу представляли собой грустное зрелище. Анина страдала от морской болезни, детей тошнило, и все поочередно бегали то к ведру для угля, то к горшку Саламины. Самой Саламине было плохо, но она бодрилась, проявив тем самым свой недюжинный характер. Каюта была довольно основательно забита, к счастью, надежно уложенными вещами Саламины и Анины. Собаки на палубе чувствовали себя неважно, качка колотила их об окружающие предметы, но они терпели.
С подветренной стороны, у берега, было потише, и все немного повеселели. Я решил устроить чаепитие и только стал мыть посуду, как в дверь каюты заглянул Стьернебо.
— Поднимитесь, поглядите, — сказал он.
— Немного погодя, — ответил я.
— Нет, нет, идите сейчас, не то вы потеряете возможность увидеть…
Я бросил посуду и поднялся на палубу. Волнение внезапно усилилось.
— Смотрите, — Стьернебо указал вперед.
Там, где узкий пролив, по которому мы шли, сходился с более широким фьордом, бушевало море — темно-зеленое, кипящее белой пеной. Ух, какая буря бороздила его!
— Мы здесь не пройдем, — сказал Стьернебо. Я тоже подумал, что пройти мы не сможем.
— Сразу же за этими островами есть удобная маленькая бухта и небольшой поселок, там мы можем стать на якорь. Это единственное подходящее место. Как, направимся туда? — спросил Стьернебо.
— Конечно!
Так мы и сделали.
Мы плыли по бурному морю, черному от ветра, черному от свинцового льда на воде, и вдруг вошли в длинный узкий проход между невысокими скалистыми берегами. Ветер налетал свирепыми шквалами, от которых вода покрывалась черными пятнами, но море оставалось спокойным. Женщины, заметив перемену, "почуяв жилье", как сказал Стьернебо, выглянули из каюты. Все были довольны. Мы приближались к поселку. Жители, завидя нас, собрались кучкой на вершине небольшого холма. Они образовали яркое цветное пятно на мрачном пейзаже. Когда мы прошли мимо холма, все побежали вдоль берега. В глубине залива показался поселок. Нам стали сигналить, указывая, где бросить якорь. Шлеп! Мы вытравили цепь, закрепили ее. Налетевший шквал отогнал нас назад на всю длину цепи, но якорь выдержал.
Мы стояли на якоре в уютнейшей маленькой бухте. Буря превратилась в легкие порывы ветра, дувшие на нас сверху, со склона горы.
В поселке было около десяти домов. В больших домах жило по два-три семейства. Все дома добротно построены из камня и дерна. Здесь же церковь и маленькая палатка. (…)
Меня беспокоила необходимость тратить время на пристройку к дому помещения для Саламины. Они вполне могли бы продолжать жить со мной в одной комнате. Я попросил Саламину присесть и выслушать меня. Сначала я нарисовал дом. Саламина узнала его. Затем нарисовал пристройку, и это Саламина тоже сейчас же поняла. Мой план состоял в следующем: положить дом с пристройкой на одну руку Саламины, а сто крон — надпись на бумажке — на другую и сказать Саламине, что она может получить или одно, или другое, но не то и другое вместе. Но раньше чем я добрался до того, вернее, как только Саламина увидела рисунок пристройки, она воскликнула:
— А это зачем? Это нам не нужно. Достаточно вот этой комнаты.
И я мог бы тут же сэкономить сто крон, если бы от радости мне не захотелось заменить их двумя сотнями. Я объяснил все Саламине, она с трудом могла этому поверить и была в восторге.
Вечером нас посетили Рудо и Маргрета. Они приоделись — на них были синие анораки — и, как бы прогуливаясь, прошлись под окном у нас на виду. Я зазвал их в дом. Мы как раз кончили пить чай, и они смогли выпить с нами по чашке.
Маргрета — живая, немного застенчивая женщина. Она — существо основательное, умная, хорошая хозяйка, невероятно чистоплотная. Рудо видный мужчина, с негроидными чертами лица. Он привык хранить глубокое терпеливое молчание и охотно нарушает его только дружелюбной, смущенной улыбкой, одобряя что-нибудь сказанное ему или происходящее при нем. Рудо фастман (получающий жалованье служащий) в поселке, он трудолюбивый, ответственный и достойный работник.
Женщины захотели потанцевать и, получив на то разрешение, сбегали вниз, принесли граммофон Рудо. Граммофон с сипением исполнял старые фокстроты, польки и вальсы или комические хриплые диалоги. Мы танцевали, разговаривали, а то сидели просто так. Я налил всем портвейна, женщины развеселились и стали смеяться. Потом я достал свой англо-гренландский словарь, и мы позабавились, беседуя с его помощью. В словаре я отыскал гренландские слова, означающие «любовница», «адюльтер», "незаконнорожденные дети" и тому подобное. Все дружно смеялись над Саламиной и мной. Саламина нежно поглядывала на меня и время от времени робко ластилась ко мне. (…)
* * *
Суббота, 29 августа 1931 года. Саламина решила устроить вчера вечером небольшой прием и пригласила от моего имени Стьернебо, Анину и Елену. К моему полному изумлению, так как я не совсем представлял себе, что они придут, все они явились разодетые. Саламина вымыла и прибрала в доме, повесила занавески, постелила на стол новую клеенку, начистила и залила тюленьим жиром элегантную медную настольную лампу. Пол, конечно, был вымыт, кастрюли надраены до блеска — словом, все сделано так, чтобы дом был и полном порядке.
Наконец гости явились. Анина в новом (подержанном) костюме, который к ней шел, так как, слава богу, свои кривые ноги она спрятала в камики (эскимосские сапоги). Елена была очаровательна в гренландской одежде, в которой преобладал красный цвет. Круглые щеки Елены блестели, как яблоки. На маленьком носу, как всегда, сверкали капельки пота. Темный пушок на верхней губе оттенял ее изогнутые красные губы, делая их еще более соблазнительными. Невинные черные круглые глаза блестели в оправе из темных ресниц. А черные волосы свисали двумя толстыми косами до талии. Особенно все стало красиво, когда в первый раз зажгли лампу. Наконец-то дом был убран и ярко освещен, разодетые гости пили кофе за празднично накрытым столом. И Саламина, как хозяйка всего этого великолепия, сидела на председательском месте!
Я сказал Стьернебо, Стьернебо — Анине, Анина — Саламине, что она должна взять на себя целиком все закупки провизии и шкур у гренландцев. Оценивать все, решать, что нам нужно, расплачиваться. Действовать во всех отношениях так, как если бы она была моей женой и в ее интересах было покупать выгодно. Ей также сказали, что дети должны регулярно и хорошо питаться. Она может брать для них любую провизию, какая ей понадобится. Но в промежутках между трапезами дети не должны есть ни хлеба, ни конфет, ничего вообще. Это Саламина поняла так хорошо, что сегодня утром, после завтрака, накормила обоих ребят сластями.
Поздно вечером дети пришли в дом, чтобы лечь спать. Раздевались они как попало. Елена, сидя на кровати, обрывала на ногах кусочки отвердевшей кожи. Фредерик заснул на полу и лежал там целый час. (…)
Сегодня идет дождь, но тихо. Вечером отплываем в Уманак.
* * *
Воскресенье, 6 сентября. Неделю назад около 12 часов 30 минут дня мы отбыли в Уманак. Шел легкий дождь, над водой висел туман. Когда мы вышли и направились к югу вдоль берегов Игдлорссуита, дул самый слабый ветер. Вскоре нам стал попадаться лед. Его нелегко было заметить в сером свете приближающегося рассвета, и я в качестве наблюдателя стоял на носу. Когда мы приблизились к Уманак-фьорду, ветер усилился. Через два часа мы уже шли против крепкого встречного ветра при сильном волнении. «Ная» очень мало продвинулась вперед: у нее неважные мореходные качества. В этот вечер на зыби она испытывала сильную килевую качку, зарывалась носом в самые высокие волны. Мы отказались от попытки продвигаться вперед и повернули обратно. Когда мы бросили якорь в Игдлорссуите, наступил день.
Воскресенье было унылое; дождь лил непрерывно. К полудню ветер настолько утих, что после поспешного второго завтрака мы снова снялись с якоря. Однако было совершенно очевидно, что в Уманак-фьорде встретится штормовой ветер. Чтобы избежать этого, мы взяли курс на Кангердлуарссук-фьорд, выбрав значительно более длинный, но лучше защищенный от ветра путь в Уманак. К сожалению, туман и дождь скрывали от нас окрестности. Узкий фьорд до самых вершин был зажат между отвесными стенами гор. В одном месте их строение походило на структуру южной стороны острова Агпат и в какой-то степени на Сторэн со стороны Уманака. В фьорде дул свежий бриз, порывы которого отражались от горных стен. Было холодно. К счастью, когда после тяжелой и довольно продолжительной работы мотор вдруг заглох, у нас было достаточно простора на воде. Почти час пришлось дрейфовать. В чем именно была неполадка, сказать трудно. Что-то перегрелось, вероятно гребной вал, потому что вечером, как раз, когда мы становились на якорь, он вышел из строя.
Начинало темнеть. Якорная стоянка — открытая пещера у основания ледниковой морены [9] — была защищена очень слабо. Здесь было так глубоко, что мы подтянулись к самому берегу с помощью кормового каната. Кругом лед. Улеглись спать, не очень-то уверенные в своей безопасности. На рассвете пошел дождь. Подняли якорь и направились на юг вдоль фьорда. Он то расширялся, то сужался, и на воду ложились темные тени грандиозных мысов.
У входа в Уманак-фьорд мы прошли мимо маленького поселка, но спустя полчаса вернулись к нему и стали на якорь. Дул крепкий ветер, волнение было сильное. Поселок состоял всего из шести домов, построенных на каменистом месте, и, как памятниками, был окружен скалами. А позади домов, под горой, на могилах гренландцев стояли многочисленные деревянные кресты.
Через три часа мы снова отплыли. В фьорде море было спокойнее, но дул ветер. Чтобы лучше держать курс, подняли парус. От брызг все промокли. Прошли мимо больших айсбергов. Вблизи Кекертака, с подветренной стороны айсберга, поверх него и обтекая его, на нас налетал свирепыми шквалами ветер. И как раз, когда двигатель был особенно нужен, он отказал. Минут десять, пока мы вновь не запустили двигатель, нас швыряло волнами. Мы пришли в Уманак, когда уже смеркалось. Почта! Как мы на нее набросились! В Уманаке стоял "Ганс Эгеде" [10] (датский пароход), но он должен был отойти на следующий день.
* * *
10 сентября. Сильный северо-восточный ветер, крупная зыбь в гавани, прибой захлестывает берег. Все небольшие лодки сорвало с якорей и выбросило на берег. Повреждений нет. Люди заняты оттаскиванием лодок за черту прибоя. Якорь «Наи» выдержал, но я все время беспокоился о судне. День ясный. Сегодня вечером, в 7 часов, отплываем в Нугатсиак и на места лососевой ловли — в Умивик. Там со мной на берег сойдут Иоханн, Анна и еще три человека. «Ная» со Стьернебо уйдет обратно.
* * *
17 сентября. Игдлорссуит. Как было намечено, 10 сентября в 7 часов вечера мы отплыли. На борту было в общей сложности десять человек. Был прекрасный вечер — холодный и ясный. Закат окрасил близкие горы Упернавика в интенсивные светящиеся красноватые и оранжево-коричневые цвета. Небо было мрачное, синее. Снег на вершинах гор и ледников на этом фоне казался розовым.
В нашей партии самый сильный человек на острове — Кнуд Нильсен. Он высок, колени его почти соприкасаются на ходу, как у урода; лицо удлиненное, женственно-красивое, большие темные глаза, полные губы, правильный нос, черные курчавые волосы. Он носит золотые серьги. Петер, сын Ганса Нильсена, играет на гармонии и танцует. У него поразительно доброе, мягкое и красивое лицо; сложение хрупкое, но он не хилый человек, хорошо владеет каяком, хороший охотник, настоящий мужчина. Мартин, брат Иоханна Хееба: толстый, крепкий, круглолицый, веселый — олицетворение добродушия. Все молодые люди — родственники — родные или двоюродные братья. Все это близкие любящие друзья. Они — молодежь клана Нильсена, быть может, самые лучшие из молодых охотников острова. Это могучая группа.
Около полуночи мы достигли Нугатсиака. Там простояли час, пока Стьернебо грузил триста килограммов сушеного акульего мяса для поста Тартуссак (это пост для путешествующих), куда он направится на обратном пути, оставив нас в Умивик-фьорде. Погода по-прежнему стояла хорошая — ночь была ясная, звездная. Я все время топил печь в каюте. Бульшую часть пути в каюте спали Анна, Анина, Павиа из Нугатсиака и Иоханн (все они пассажиры). Иоханн Зееб — ловкий парень. Он полностью использует все преимущества, какие ему дает моя симпатия к Анне [11].
Следуя вдоль берега острова Кекертассуак, мы прошли мимо лагеря игдлорссуитцев; на темном берегу светились от горевших внутри огней две-три палатки.
Один из наших гренландцев утверждал, будто бы нас окликнули с берега. Мы остановились. Дукаяк и я отправились на шлюпке на берег и высадились на каменистой полосе. Вниз сбежали собаки и принялись бешено лаять на нас. В палатках никто не шевелился. Тогда мы взобрались на крутой склон и подошли к освещенной палатке. Через щель в низкой верхушке мы увидели сбившихся в кучу спящих людей и горящую масляную лампу. Дукаяк крикнул им, потом еще раз, но добудиться не смог. Немного погодя появился старик — гротескная фигура! — в темноте были видны только его белые трусы. Затем вышла молодая женщина. Мы попросили у них оленьего мяса. Хотя охота на оленей была не особенно удачной, все же немного мяса они нам уделили. Я одарил их сигаретами и табаком. И вдруг старик, прыгая и припадая к земле (во всяком случае так вели себя трусы), исчез. То ли он посчитал себя моим должником, то ли из чувства благодарности, но он так же внезапно появился снова с большим мешком здешней черники — для меня!
Мы направились к шлюпке и отыскали «Наю», крейсировавшую у берега в ожидании нас. В Умивик пришли на рассвете, но перед этим заходили в Канглусак, чтобы еще раз спросить оленьего мяса. Снова съезжали на берег, будили спящих, однако на этот раз ничего не получили.
Остающиеся в лагере (Иоханн и Анна, брат Иоханна Мартин, их двоюродные братья Нильс и Петер и я) быстро высадились в Умивике. Самыми громоздкими вещами в нашем багаже были мои полотна, фотоаппараты и тому подобное. В последний момент мои спутники попросили меня захватить примус и чайник, затем еще что-либо, в чем можно сварить кофе. Они наверняка рассчитывали на мою посуду, так как сами ничего не привезли. Я взял с собой каравай хлеба, банку сгущенного молока и чашку сливочного масла. Дома я дал Иоханну две кроны в качестве моей доли в расходах на экспедиционный запас провизии. Он привез немножко сахару и немножко кофе. Только и всего.
Немногим больше чем в двухстах ярдах от места высадки мы отыскали холмик, возвышавшийся над окружающей местностью, на котором было достаточно сухо. Кругом же болото, насыщенная водой и поросшая мхом земля. Быстро поставили свою маленькую палатку — легкое, простое, самодельное сооружение. Высоты ее хватало как раз на то, чтобы стоять, но только у входа. В середине же палатки боковые веревки оттягивали ребро верха, придавая ему форму обращенной вниз арки. Мы вытащили камни из-под мха, свалили их в кучи или разложили вокруг палатки, придавив ими боковые полотнища. Затем привязали растяжки и натянули их, как тетивы.
Окончив это дело, быстро сложили очаг и начали приготовления к кофе. Вытащили небольшое количество сырых кофейных зерен. Я разжег примус. Кофе с подмешанным к нему ячменем насыпали в мой чайник и держали его над огнем, помешивая зерна до тех пор, пока они наконец не задымились и не почернели. Затем Мартин уселся на землю, поместив кастрюльку между ногами, и растолок кофе камнем. Вскипятили воду. Размолотый кофе заварили с большим количеством цикория.
Когда напились кофе, съев при этом половину взятого с собой хлеба, распаковали вещи, побросали их в палатку и, устроившись поудобнее, разлеглись. Так пролежали час или больше. А потом на огне из мха сварили тюленье мясо. Куски его вылавливали из кастрюли руками. (Тарелок не было. Была одна чашка, и мы еще использовали порожнюю консервную банку.) Было четыре чайных ложки, привезенные Анной; они были тщательно завернуты в розовую папиросную бумагу, как фамильное серебро. Когда мы пили кофе, эти ложки придавали сервировке приличный вид (в честь меня). Вилок и ножей у нас не было. Были только карманные складные ножи. Есть мясо тоже надо уметь. Обычно держишь всю порцию в левой руке, захватываешь зубами громадный кусок и отрезаешь его карманным ножом снизу вверх, как можно ближе к кончику носа.
Кончили есть; позднее утро. Мужчины, проболтав несколько часов и, как бы между прочим, приведя в порядок крючки на лосося, отправились на плоскодонке далеко на другую сторону фьорда — я думаю, на несколько часов, а может быть, на весь день. Я беру краски и отправляюсь писать.
День тихий, небо облачное, холодно. В спокойной воде фьорда и дальше, в море, отражаются бесчисленные айсберги. Напротив нашего лагеря, на той стороне фьорда, — низкие горы и долина, уходящая в глубь острова. Позади нас — обширная безлесная местность: коричневая и красная, покрытая мхом и карликовым кустарником земля. Там осень. Засохшие листья ползучих растений ярко-желтые; на стеблях черники они блестящие, светло-красные. Мрачно и сочно.
Поздно днем. Анна ходила собирать ягоды. Они разложены на куске материи перед палаткой. На фоне этого пейзажа на Анну приятно смотреть: так она гибка и грациозна, так славно и чисто одета. Здесь, где очень трудно быть чистым, это выглядит необычно. Мы варим кофе. Когда вернутся наши мужчины — в семь или в восемь? Она показывает время на моих часах. Уже около семи. Скоро, по-видимому, мы будем есть. Я помогаю Анне собрать мох, чтобы развести огонь. Какой жалкий очаг получился у нас! Я разрушил его и, собрав без большого труда подходящие отборные камни, сложил новый: теперь в случае надобности можно отодвинуть один камень и приоткрыть в очаге отверстие, обращенное на север или на юг; этого достаточно, чтобы приспособиться к различным ветрам. Мы налили в чайник морской воды и сварили тюленье мясо. Тюлень старый, мясо жесткое, с сильным характерным привкусом. Но я так голоден, что не обращаю на это внимания и лишь удивляюсь, почему мы не ждем мужчин. И тут узнаю, что их не будет до завтра. Они уехали без палатки, спальных мешков, без кастрюли — взяли только рыболовные снасти и ружья. (…)
Анна и я проснулись поздно; я встал позже нее. Шел дождь, ничего нельзя было делать. Кроме того, у Анны продолжались боли. Позже, когда немного прояснилось, я сел писать. Но я все больше и больше думал об Анне. Вот она рядом, во всей своей прелести, только не тогда, когда больна. Но сейчас она снова такая гибкая, складная, так приспособлена к этому образу жизни, который для нее не приключение в примитивных условиях, а сама жизнь, какой она живет несколько недель в году. (…)
Когда я записывал все это в дневнике, произошли, как будет видно из дальнейшего описания, события — незначительные и важные, и, как бы мне ни хотелось продолжать дальше историю пребывания в лагере, они все же заставили меня на время забыть даже плачущую Анну.
Услышав, что Саламина возится у печки, я проснулся, открыл глаза и увидел, что комната полна густого дыма. Опять эта проклятая труба! Полуодетые, замерзающие, мы потратили целый час на то, чтобы заставить ее тянуть. Бамбуковой палкой прочищали верхнюю часть то в ту, то в другую сторону, зажигали снаружи в очистной дверце огонь. Конечно, я ругался, и весь мой взбешенный вид свидетельствовал, что в конце концов я только варвар-европеец. Саламина, которая могла бы беситься, вела себя совершенно иначе. Быстро, чтобы спасти детей от дыма, она подняла их с постели, одела и выставила из дому. Она терпеливо переносила дым и задолго до того, как печь удалось заставить тянуть, ухитрилась сварить и подать кофе.
Во избежание нежелательных последствий я сказал Саламине, чтобы Фредерик не пил воду из ковшика [12]. Я пытался объяснить ей, что такое бациллы, и для пояснений пользовался увеличительным стеклом. Она поняла и заплакала. Конечно, для нее это было обидно.
До второго завтрака работал с бесчисленными перерывами над изготовлением второй наружной двери. Ели гороховый суп, который готовил я, чтобы показать Саламине, как его варят. Потом возился с печной трубой…
— Умиатсиак! — этот крик разнесся по всему поселку. Пришел «Хвитфискен».
Теперь, как бы воспользовавшись всеобщим возбуждением в связи с прибытием шхуны, отложим в сторону все прочие происшествия и вернемся к Анне, грустно плачущей в палатке в Умивике. (…)
В течение дня боли в животе у Анны утихли [13]; приближался час возвращения мужчин с лососиной к ужину, и у нас обоих на душе становилось все лучше и лучше. Наконец в сумерки приплыли рыбаки. Мы встретили их пылающим огнем в очаге и веселыми улыбками. Иоханн сейчас же пошел в палатку к Анне; он, несомненно, посочувствовал ей и рассказал о том, как они ловили рыбу. И они сидели, лаская друг друга, в палатке.
Мужчины привезли лососей. Каждый из них пришел с берега с тяжелой ношей и, сбрасывая ее, как бы говорил: "Смотрите! Ну, как?" И каждый развязывал мешок или анорак — у кого в чем была рыба — и показывал улов. В общей сложности у них было около сорока рыб, больших и малых. Лососи красные, розовые и белые. Мы отрезали ломти сырой рыбы и ели их. Это было очень вкусно. Вскоре вода в чайнике закипела, и туда положили рыбу. Когда она сварилась, отборные куски были отложены на камни для меня. Остальное вытряхнули на большой плоский камень, и мужчины набросились на еду, как голодные звери. Они глотали рыбу, обсасывали и выплевывали кости. Раньше чем я как следует принялся за свою рыбу, они со своей уже расправились и сидели в ожидании, пока в чайнике сварится новая порция.
Все мы смертельно устали, поэтому спать легли рано.
Палатка занимала площадь примерно 10х11 футов и стояла, несомненно, на одном из самых сухих и ровных мест. Только от бога зависела степень удобства для усталых тел пола в палатке, рука же человеческая ни в чем не улучшила его. Привезенный мною палаточный пол мы расстелили в глубине поперек палатки. Там, на небольшом расстоянии от бокового полотнища, положили маленькую перину Анны. Я начал готовить себе логово у противоположной стенки, но Иоханн настоял, чтобы я лег рядом с Анной. Он расположился по другую сторону от нее, стараясь примоститься на ее перине. Но когда другие мужчины улеглись рядом со мной — ближе всего лег толстый Мартин, — меня спихнули к Анне, а Иоханн оказался затиснутым в самый угол палатки, на землю. (…)
Были этой ночью и другие звуки. В фьорд занесло много айсбергов, больших и малых. Иногда какой-нибудь из них раскалывался с гулким треском и громовым грохотом, или на большой высоте обламывалась и с шумом сваливалась в море массивная ледяная глыба. Возникшие волны ударялись о другие айсберги и вызывали новые разрушения. Удары льдин были громче и повторялись чаще, чем отдаленные раскаты грома. Поднялся ветер, со свистом обдувавший стенки палатки. Потом пошел дождь, и тяжелые капли забарабанили по парусине, образуя как бы оркестровый аккомпанемент всему остальному. (…)
Встали поздно. Когда настал день, Анна и я отодвинулись в более пристойное положение, хотя теснота, в которой мы все лежали, могла бы оправдать любую позу. Кроме того, наши нежные отношения были вполне очевидны, и они даже не столько интересовали Иоханна, сколько забавляли, главное — ему понравилась моя вересковая трубка.
— Если ты дашь мне эту трубку, то можешь увести Анну в горы и быть там с ней.
— Нет, — сказал я, — это подарок от жены.
— Но у тебя дома есть другая.
— И другую мне подарила жена, — сказал я.
— Ну, ладно! — Но Иоханн, очевидно, серьезно отнесся к своему предложению и время от времени возвращался к разговору об обмене.
Мы встали. Дождь прошел, но земля была пропитана водой. Все наши вещи, лежавшие с края палатки, у самых полотнищ, промокли. Ночью распахнулось входное полотнище. Я встал и, притащив еще камней, закрепил его снаружи. Рано утром, когда только стало светать, одну сторону палатки целиком оторвало ветром от земли. Все проснулись, вышли и закрепили полотнище. И при этом только смеялись.
Главное, что занимало меня, это желание остаться наедине с Анной так, как только это возможно в диком пустынном краю. Чтобы это осуществилось, мужчины должны были вернуться к рыбной ловле. Но, напившись кофе, они сначала внесли в палатку ружья, которые, конечно, пролежали всю ночь под дождем, и, разобрав затворы, тщательно вычистили их, смазали лососевым жиром. Когда они кончили это занятие, я подумал: "Собираются поохотиться на оленей!" Но ружья снова были положены на мокрую землю. Так они и пролежали все время, если не считать, что их владельцы немного поупражнялись в стрельбе в цель. На солидном расстоянии была поставлена консервная коробка.
— Попробуй, — сказали мне. Через ржавый прицел старого ружья казалось, что до коробки целая миля; я промахнулся.
— Стреляй, Анна! — Анна робко взяла ружье, не зная, что с ним делать. Мужчины показали ей. Анна прицелилась, выстрелила и попала в цель.
Мое писание прервано. Стьернебо! Боже мой, как долго он говорит! Эти бесконечные отступления! Но он славный парень. И он остается — дело было после ужина (ужин тоже помешал писать) — остается просто так, побеседовать вечерком и выпить виски. Внезапно врывается Дукаяк, глаза его выпучены.
— Кругом «Наи» лед! — Ну что ж, оставайся на борту на ночь. — Один? Нет, если хочешь, возьми себе еще человека. — Но у меня нет еды на ночь. На борту есть кофе, сахар, сухари. Вот тебе еще четыре сигары, виски. Если лед будет напирать на лодку, вытрави кормовой канат до предела. Если лед займет все это пространство, отдай конец. Как только отойдешь ото льда на чистую воду, греби к берегу и возьми снова на борт конец кормового каната. — Хорошо. Спокойной ночи.
На следующий вечер в соседнем доме устроили танцы. Саламина там. Стьернебо и я отправляемся туда. Великолепно! Уютно и весело, жарко, накурено и пахнет потом. Потанцевав немного, возвращаюсь домой, чтобы сделать вот эти записи. А. была на танцах. Мы условились встретиться в воскресенье вечером. Саламина только что вернулась домой. Полураздетая, она наклоняется над столом, смотрит, как я пишу. Поэтому-то я и обозначил имя А. сокращенно, одной буквой.
Ночь похожа на летнюю. Маленькие скоропреходящие дожди проносятся над нами, а в промежутках ярко светят звезды. Море тихое, близ берега свободно ото льда. «Ная» спокойно покачивается на якоре. Свет в каюте показывает, что Дукаяк с товарищем за приятным занятием — они пьют кофе. Прекрасная жизнь! Покойной ночи!
Итак, вернемся в Умивик. Анна попала в цель. Затем, после непродолжительной стрельбы по далеким дрейфующим льдинам, ружья опять уложены на траву, где они снова вымокли и заржавели. Целый день никто ничего путного не делал. Время от времени мы прогуливались и собирали ягоды. Анна и Иоханн насобирали их большой мешок, который потом взяли домой. Кроме ягод другим нашим блюдом были выловленные лососи. Их мы ели до тех пор, пока от улова осталась небольшая часть. Чтобы сберечь для дома хоть немного лососины, через день-два мои спутники стали выходить в море на часок перед обедом. Они вылавливали ровно столько рыбы (трески), сколько нужно было на обед.
Вторая ночь, проведенная в палатке, располагала больше к отдыху, нежели к любовным интрижкам. Я мог бы рискнуть перекатиться на постель Анны, но уже такой тесноты, какой можно было бы оправдать сталкивание с перины Иоханна, не наблюдалось. Кроме того, топография местности, на которой мы лежали, представлялась мне миниатюрной копией предгорий Скалистых гор. Причем в области, смежной с боком Анны, проходила гряда высоких пиков. Хотя мы с Анной могли бы протянуть через эти пики руки и держаться друг за друга, мы все же предпочли сон.
Этим большим, крепким парням, думал я на следующее утро, должно быть, надоело бездействие. Сегодня, во всяком случае, они будут охотиться или ловить рыбу — ведь это наш последний день. Но к моему отчаянию, они провели этот день совершенно так же, как и предыдущий.
Вечера проходили у нас довольно приятно. Мы собирались в палатке и располагались на моем палаточном полу, спальном мешке и постели Анны. Чтобы согреться, мы некоторое время держали примус зажженным, но затем наши тела, трубки и свеча создавали достаточный уют.
Мы рассчитывали, что наступила наша последняя ночь в лагере: в полночь должен прибыть Стьернебо. Хотя ночь была холодной, почти все вещи мы упаковали. Только я один оставил кое-что-теплое, чтобы накинуть на себя. Мы сидели и дрожали. Иоханну захотелось получить мою консервную банку из-под молока. Он предложил сделку. Я даю ему банку, а за это Анна переменит место и сядет рядом со мной. Договорились. Анна и я тесно прижались друг к другу. Иоханн посмеялся наравне со всеми, проявляя к дальнейшему полное равнодушие.
Но вот полночь наступила, потом миновала. Устав ждать сидя, мы разлеглись под гуанаковой шкурой. Когда храп и почесывание были в разгаре, Анна и я обнялись и так уснули.
Было уже совершенно светло, когда мы проснулись. «Ная» не пришла. Мы сидели без керосина, без кофе, хлеба, масла — без всего. Остались лишь лососи и рыба, которую при желании можно выловить. И все-таки мы смеялись. Утром поели ягод и продолжали их есть весь день. Мы с Анной отправились в одно место, где я видел много крупных ягод. Но черника — не яблоки, а в безлесных просторах нельзя найти такое укромное место, где можно было бы оказаться вне поля зрения бродящих вокруг, а то и наблюдающих за нами четырех мужчин.
Снова наступила ночь. «Ная» не пришла. Но кажется, об этом никто не беспокоился. Мы поели рыбы в сумерках при свете огня в очаге. Огонь слишком быстро погас, и остались лишь тлеющие угли. Затем все вернулись в палатку и улеглись, покуривая, болтая, распевая песни. Гренландцы пели часто [14]. У мужчин были хорошие голоса, и они хорошо знали свои партии, а Анна вела свою партию приятным чистым сопрано. Некоторые из этих песен я знал: "Ближе к тебе, о господи", "Встретимся ли мы за рекой?" и еще одну-две из популярных песен прошлого столетия.
Иоханн, заметив, что я заинтересовался могилой около нашего лагеря, повел меня и Анну на каменистую гору и показал погребальные сооружения, воздвигнутые между скал. Мы вскрыли один склеп. Внутри были два скелета в скорченном положении. Я спустился в склеп (глубина его была около четырех футов) и попытался отыскать какие-нибудь предметы, но их не нашлось. Около костей валялись лишь клочки шерсти — остатки одежды. Всего в этом месте было шесть могил, находившихся вровень с землей. Видимо, они были устроены в ямах среди камней, которые обвалились со скал и образовали пригорок. Мы вскрыли еще две могилы. Там лежали мужские и женские скелеты в согнутых позах и остатки одежды из шкур. Орудий или утвари, которые, как я где-то читал, будто бы помещали в могилах, там не было.
Анна, подобно нам усиленно рывшаяся в земле, вдруг позвала:
— Смотрите!
Внизу в щели между камнями блестело что-то белое. Запустив туда руку, я вытащил разбитую чашку, по-моему, из дельфтского фаянса. Затем, снова засунув руку и ощупав дно щели, вытащил замшелое маленькое деревянное блюдо, украшенное по краю костью. Нашел я еще обломок другого, совершенно такого же блюда. Место, где лежали эти предметы, конечно, не могло быть могилой: недостаточно велика щель. Углубление казалось естественным, хотя возможно, что туда насыпались земля и камни. Дальнейшие исследования в этом месте пришлось прекратить: мешал крупный валун, оказавшийся нам не под силу. Этот тайничок дал нам повод предполагать, что отыщутся и другие маленькие склепы. И мы, действительно, нашли их. Все эти тайнички находились в непосредственном соседстве с могилами, но отделялись от места погребения каменными перегородками. В большинстве из них были захоронены различные скромные предметы вроде грубо вытесанного деревянного каяка дюймов в пять длиной, куска древка стрелы, женского ножа, кружка из кости или толстой шкуры диаметром около пяти дюймов и палки вместо дров для согревания замерзающей души мертвеца [15].
На этом описание истории с Анной в дневнике заканчивается. «Ная» в конце концов пришла. Теперь же, по истечении многих дней, вернемся к событиям, которые предшествовали уже отмеченному прибытию «Хвитфискена».
* * *
18 сентября. Утро. Идет снег. Зима спустилась к нам с гор или кажется, что вершины гор наклонились подоткнуть вокруг ног свои одеяла и натянули эти одеяла на пояс. Дрейфующий лед стал толще. Я должен убрать «Наю» из этих вод.
Вчера вечером был на двух вечеринках. Сначала в доме Кнуда, сына Ганса Нильсена. День рождения одной из его дочерей.
Дом маленький — одна небольшая комната. В ней восемь или десять человек. Конечно, тут Кнуд, который забавляется тем, что потихоньку щекочет мужчин между ног. Затем следует отметить Шарлотту — она вроде Цецилии (матери Олаби) — старая исполнительница еще более старинных песен. Зная, как я люблю ее пение, она сразу же запевает. "Ия, ия, ия" — это припев большинства ее песен, песен настоящих с мелодией и ритмом, со словами, имеющими смысл. Она заставила меня петь вместе с ней и танцевать. Шарлотта пела много. Все смеялись. Сморщенная, беззубая карга, но ее дикое, воодушевленное пение поразительно.
От Нильсенов — в дом помощника пастора. После дома бестирера это лучший дом в поселке, но в нем не очень чисто. Две комнаты и передняя, или летняя кухня, и, конечно, входной тамбур. Картины религиозного содержания. Накрытый стол. Три чашки с блюдцами и блюдо с пирогом. Помощник пастора, Саламина и я (в обществе мы с Саламиной появляемся вместе, за исключением дома Стьернебо). Узкоглазый помощник пастора с неодухотворенным, но умным лицом, довольно славный парень, только малоприметный. Семеро детей. Сегодня день рождения маленькой девочки: повод для кофе. Подарки девочке разложены на тарелке: куски мыла, не новый, но выстиранный носовой платок, коробка с картинками, салфетка, красивые бусы — это от Рудо и Маргреты и жалкая, жестяная брошка — от меня. Помощник пастора — человек преуспевающий, его сыновья уже зарабатывают. Жена его — старая карга со страшными зубами, ух, что за видная женщина!
(На следующий день, в субботу, 19 сентября, пришла шхуна «Хвитфискен», и я отправился на ней в Нугатсиак.)
Снова (я пишу это в Нугатсиаке, сидя в каюте на "Хвитфискене") после отличного перехода в великолепный день — солнце, синее море, золотые, покрытые снегом горы, резкий, холодный, чистый северо-восточный ветер. Мне кажется, что Гренландия — самая прекрасная страна в мире.
[В этот день Павиа раскрыл подлинную сущность моего друга Стьернебо. Может быть, Стьернебо и не заслужил всех эпитетов, которыми наградил его капитан Ольсен: "бродяга, хвастун, трус, вор и лгун", но два последних он заслужил. Только в Нугатсиаке я должен был заниматься более важными делами, чем поступками этого прохвоста. Дневник в дальнейшем расскажет об этом.]
7 часов вечера. Мы закончили погрузку жира, выпили в последний раз кофе у бестирера Павии, попрощались с ним и стояли на пристани в ожидании лодки, чтобы переправиться на борт шхуны. Мне подали письмо, привезенное человеком на каяке. Я с удивлением прочел:
"Рокуэллу Кенту, эсквайру
Передать в собственные руки".
Открыв письмо, я прочитал следующее:
"Игдлорссуит, воскресенье, 20-е
11 ч. утра
Дорогой Кент!
Вашу лодку прибило к берегу вчера вечером, и я думаю, что в ней есть пробоина, но мы пока не можем сказать, где и какой величины.
Мы останемся здесь и попытаемся во время прилива вытащить ее на берег. Вам следовало бы договориться с уманакской шхуной, чтобы она зашла сюда и доставила лодку в Уманак, так как лодка, может быть, долго не продержится на плаву, а у нас мало времени для того, чтобы еще оставаться здесь.
Ваш Дж. О.Б. Петерсен".
[Петерсен — канадец, которого законтрактовала гренландская администрация для поисков золота на западном побережье острова.]
Мне было известно, что Петерсен там. В субботу вечером, когда мы отплывали из Игдлорссуита, я видел, как его лодка подходила с юго-востока. Опасаясь за целость «Наи», я собрался увести ее из Игдлорссуита в Уманак.
[В дневнике ничего не говорится о нашем возвращении в Игдлорссуит для спасения «Наи» — как оказалось, она не получила серьезных повреждений — и о том, как мы отбуксировали лодку в Уманак. Мы вытащили ее на сушу, оставили там. Я же, когда вернулся в Игдлорссуит, занялся делами, которые слишком долго откладывал. Наступление зимы требовало их немедленного выполнения.]
Как только ушла «Хвитфискен», я занялся сооружением пристройки к своему дому. И вот сегодня, 3 октября, работа закончена. Сделаны кладовая для собачьего корма, шкур, дров; сени, в которых предусмотрено место для хранения моих полотен; площадка сбоку от них, на которой можно поместить все наше имущество; хороший, большой наружный сарай для угля и уборная. Уборная в этих краях — исключительная роскошь. Еще одна есть только у бестирера. Когда работа над моей уборной заканчивалась, вокруг стояла и глазела целая толпа — как будто надеялась увидеть немедленное испытание ее достоинств. Зрители глядели на уборную с одобрением. Особенное восхищение вызвала тщательность, с какой я вырубил долотом овальное отверстие в сидении и загладил края наждачной бумагой.
Главная пристройка к дому своими размерами, великолепием и отделкой превзошла все мои намерения. Я хорошо знаю легкую строительную работу вроде этой. Несмотря на сырые доски, которые пришлось использовать, постройка как-то приобрела самостоятельную жизнь. Раз начавшись, она подобно живому растущему существу должна была продолжаться до воплощения своей внутренней сущности. И вот она готова, выкрашена, как и жилой дом, в красный цвет с белым карнизом.
* * *
4 октября. "Килалувак катортак! Килалувак катортак!" (Белый кит! Белый кит!) — этот крик поднялся и разнесся по всему поселку. Отовсюду бежали мужчины, женщины и дети, бежали вниз, к морю, где в нескольких десятках футов от берега группа гренландцев, стоявших в лодке, тянула из воды сеть.
Серое воскресное утро, холодно. Сеть, переходя из рук в руки, медленно вытягивается из воды. Вот появляется хвост небольшого белого кита-белухи. Хвост обвязывают веревкой, и, по мере того как белуха высвобождается из петель сети, ее вытаскивают наружу и подтягивают к корме лодки. Наконец, сеть освобождена, ее бросают в воду. С минуту люди растирают окоченевшие пальцы, затем гребут к берегу. Толпа вытаскивает лодку на сушу, потом тащит кита — далеко вверх, почти к дому Стьернебо, — и тут вдруг веревка лопается. Кит лежит неподвижно. Четыре человека принимаются за его разделку. Сперва срезают шкуру и сало и укладывают их в лохань. Пока тушу продолжают разделывать на части, толпа отрезает от шкуры куски и поедает их. У сырой шкуры белухи приятный вкус, но она жестче самой жесткой резины.
Разделка туши — кровавая работа. Кровь, черная кровь течет рекой. Женщины тащат домой большие куски мяса. Извлекают печень — ради жира. Остальное развешивают на сушильной раме: это мясо на корм собакам.
Тем временем вылезает из постели и выходит наружу Стьернебо. Он похож на замерзшую брюкву — серо-розовый. Это его кит, из его сети.
— Как вы делите добычу со своей артелью? — спрашиваю я.
— Артель? — кричит он возбужденно, с удивлением. — Никакой артели нет. Я ничего с ней не делю!
— Но ведь они работают на вас.
— Нет! Не работают! Работаю я. Они просто выходят помогать. Им это нравится. Я поручил Томасу смотреть за сетью. Он охотнее работает на меня, чем на какого-нибудь гренландца. Я заплачу Томасу.
Если я когда-нибудь утром увижу Стьернебо за вытаскиванием его собственной сети, я подниму белый флаг! Сегодня 4 октября.
Вечером 1 октября Стьернебо удостоил меня своим посещением. Он принес счет. В нем, как я заметил, проставлена стоимость фотоматериалов (экспонометр и порошок для вспышек) — их Стьернебо нечаянно отправил обратно в Данию. Но особенно хотелось Стьернебо обсудить со мной вопрос о складе, который он в последние несколько месяцев собирается построить, чтобы хранить в нем нечестно добытое мясо для корма собак (по существу украденное у меня.)
Замыслы Стьернебо теперь уже не вызывают во мне энтузиазма. Однако дело постройки склада может меня касаться, и я сразу охотно соглашаюсь, заведомо зная, что планы Стьернебо никогда не осуществятся. Итак, он хочет сейчас же приняться за склад. Ему нравится, как я построил свой, не истратив ни одного бруска на раму, а все сделал из одних досок. Просто, дешево и быстро. Я дал совет.
— Хорошо, м-р Кент, отлично! Я начну завтра с утра.
Но утром он не начал. В этот день, 2 октября, было холодно. Ясно, красиво — и страшно холодно. Моя работа подходила к концу. Я развил такую скорость, бегая с одного места на другое, что туповатый сын Дукаяка стоял как растерянный — растерянный и замерзший. Поэтому-то, и, может быть, с достаточным основанием, он бульшую часть дня держал руки в карманах и смотрел, как я работаю. Дукаяка я поставил красить. Он пожаловался на холод. Я отправил его домой, чтобы он оделся получше и взял варежки. Дул крепкий северный ветер. Настоящая зима. Я навесил двери к новому крылу дома, заколотил досками и проконопатил окно погреба. Вытащил оттуда всю провизию, какая могла бы пострадать от мороза, за исключением небольшого количества овощей. Их я уложил в солому. Закончив все, очистил двор от досок и брусьев, выскреб его лопатой. Шесть часов! Пришла зима, моя работа закончена! Окончание работ шло вихрем; глазевшая толпа, небось, думала: "Хорошая мысль. Мы тоже подготовим свое жилье к зиме". Но они этого не сделают.
Превосходное сухое лето они провели в праздности. Дерн, который нужно было нарезать тогда, они режут сейчас, — мокрый и замерзший, как камень, тяжелая работа.
Толь на крыше дома помощника пастора наполовину ободран. Несколько дней назад я дал ему кусок рулона, но толь так и лежит неиспользованный.
Несомненно, будут дни потеплее, но что из этого?
А сейчас идет снег и дует ветер, сыро, холодно.
Вчера вечером я сидел и писал. И вдруг услышал звуки оркестра. Это было так изумительно! Я выбежал из дому, чтобы лучше разобраться, откуда доносится музыка. Звуки привели меня к дому Стьернебо. Там у переднего крыльца собралась толпа. Музыка теперь уже громко и чисто лилась из репродуктора, помещенного на штакете палисадника. С чистого неба ярко светила ущербная луна. Дорожка от нее блестела на поверхности моря, обдуваемого ветром, а глыбы айсбергов отбрасывали длинные тени. В лунном свете сверкали льдины у берега и на пляже. Чтобы было теплее, люди стояли, сбившись в кучу, натянув на головы капюшоны анораков. Стоя на холоде, они молча слушали музыку, исполненную в Америке, посланную за границу на пластинках, привезенную в Исландию, там проигранную на граммофоне на радиостанции и переданную в эфир, в Гренландию! Передавали танцевальную музыку. Я нырнул в толпу, на ощупь в темноте схватил какую-то девушку и потащил свою сопротивлявшуюся партнершу танцевать. И как она танцевала! Нам, крепко обнявшим друг друга, стало так тепло! Мы танцевали снова и снова, а толпа смотрела на нас и смеялась.
Затем появилось северное сияние, посылавшее белые пучки света вверх, в звездное небо. Звезды и северное сияние; беспокойное, освещенное луной море, лед, лед; а вдалеке, в туманном свете, снежные вершины высоких гор.
* * *
Понедельник, 5 октября. Вчера вечером Стьернебо праздновал поимку своего первого в этом сезоне кита. Вот история его китового промысла. Здесь существует такой обычай. Владельцы сетей ежегодно ставят их в одном и том же выбранном ими месте. Считается, что это место принадлежит им. Предшественник нынешнего бестирера, гренландец Иоханн Ланге, покидая пост, передал свое место Стьернебо. Когда начался сезон ловли белухи, Стьернебо, разумеется, опоздал занять это место, и, хотя его право было всем известно и всеми соблюдалось, помощник пастора все же поставил там свою сеть. Узнав об этом, Стьернебо отправился на каяке посмотреть, что там делается. Сеть была поставлена в южном конце залива, непосредственно у подножия мыса. В этот день там по обыкновению собралось много народу. Одни пришли сюда поглядеть сверху на воды пролива и погадать, какая будет погода, другие посмотреть вокруг, не появится ли какое-нибудь судно, а третьи вообще без всякой цели. И конечно, все они смотрели на Стьернебо, гребущего к мысу на неуклюжем каяке собственной конструкции.
Стьернебо подъехал к сети, отмеченной рядом подлавков из тюленьей кожи. Он подгребал к каждому поплавку по очереди, останавливался, внимательно рассматривал его несколько секунд, затем переходил к следующему. Проделав это, Стьернебо возвратился домой. В тот же день он поставил собственную сеть, но не вблизи сети помощника пастора, а в месте, которым, видимо, все пренебрегли, — как раз около поселка. Наутро три превосходных белухи запутались в сети Стьернебо, на следующий день — еще две. Всего за несколько дней было поймано десять белух. За это время ни один кит, видимо, даже и не понюхал сети помощника пастора. По поселку прошел слух, что Стьернебо осматривал чужую сеть с какой-то тайной целью.
— Что ты сделал с сетью помощника пастора? — спрашивали у него.
— Я только поплевал на каждый ее поплавок, — отвечал он. — В нее не идет ни один кит.
После этого все говорили: он ангакок (колдун).
Помощник пастора вытащил свою сеть и перенес ее подальше, в северную сторону залива. Стьернебо не знал о том, что сеть перенесена, и по-настоящему удивился, увидев бледное, пораженное ужасом лицо помощника пастора, когда, случайно отправившись по делу на северную сторону залива, встретил его.
— Ой, теперь я не поймаю рыбы, — заикаясь, выговорил помощник пастора.
— Поймаешь, — ответил Стьернебо, — теперь через три-четыре дня ты поймаешь кита.
— Может быть, — сказал помощник пастора.
— Не может быть, а наверное, — ответил ангакок.
И через четыре дня помощник пастора поймал отличного белого кита. Однако теперь никто не ставит сети на превосходном участке старого бестирера Ланге.
У Стьернебо гости. Угощение — матак — шкура белухи. Пожиратели матака — помощник пастора со своей старухой, Рудольф и Маргрета, Кент и Саламина. Матак в остром соусе! Великолепно! Шнапс, пиво, коньяк, ром, опять шнапс. Музыка по радио. Ужасные звуки фонографа. Танцы.
Под окнами стояла толпа. Они могли видеть, что мы танцуем, но не могли слышать музыки. Им это нравилось, хотя там, снаружи, было холодно. Сначала я вышел и роздал сигареты. Затем взял бутылку шнапса и угощал их, пока бутылка не опорожнилась. Затем Стьернебо дал разрешение на танцы. Открыли бондарную площадь пола 8х11 футов. Ух, и холодно же в ней было! Гармонист Ник смог играть только короткое время, потом его сменила сестра.
Респектабельность вечеринки Стьернебо наскучила мне. Я решил отправиться в бондарную. Вдруг Саламина сгребла меня сзади: она попыталась удержать меня. Я стряхнул ее и пошел на танцы. Там были Анна Зееб, дочь Ганса, акушерка и бесчисленные маленькие женщины; были также местные кавалеры. Через несколько минут в бондарной появилась и Саламина, пришедшая не веселиться, а наблюдать за мной. Она следила за каждым моим движением, за каждым взглядом и словом. Вскоре я вернулся к Стьернебо. Саламина пришла вслед за мной.
После нескольких танцев с крупной, тяжеловесной, бесплодной Маргретой и женой Самуила, эндорской колдуньей [16], я снова ускользнул из дому. Но Саламина следовала за мной по пятам. Однако, возвращаясь, я на мгновение оторвался от нее.
На моем пути оказались две женщины; мы столкнулись лицом к лицу. Сочтя, что это ниспосланные мне ангелы, я обхватил рукой одну из них. Мы повернули и в темноте быстро пошли по тропинке к моему дому.
— Саламина, — боязливо шепнула моя подружка, но продолжала прижиматься ко мне. Мы пошли дальше. Прошли мимо церкви, вглядываясь в темноту, пытаясь различить прячущиеся человеческие фигуры. Дошли до дома. Я открыл дверь: изнутри пахнуло теплом. Мрак ждал нас! И вдруг неподалеку раздался звук чьих-то шагов.
— Саламина! — в ужасе прошептала моя суженая и обратилась в бегство.
Я обошел вокруг дома. В темноте, шагая по снегу, ко мне приближалась женщина. Саламина? Однако, заметив меня, и эта женщина повернулась и убежала. Так при одной мысли о призраке Саламины обе женщины исчезли с лица земли. И в эту ночь, казалось мне, на всем белом свете не осталось ни одного живого существа, кроме меня.
Попозже я вышел от Стьернебо и увидел трех девушек, наблюдавших за мной из-за ограды крыльца. Я присоединился к ним. Мы стояли и смеялись. Кто-то внутри дома подошел к двери. Мы рассыпались в стороны. Саламина! Она стала ругать меня и сказала, чтобы я шел с ней домой. Я отказался. Тогда она ушла одна. И тут ко мне подошло маленькое существо. Я взял его на руки и понес вверх по тропинке к своему дому. Но около церкви я поставил его, точнее, ее на землю. Мы открыли дверь, вместе вошли в церковь и закрыли дверь за собой. Было темно, как в погребе. (…)
* * *
6 октября, вторник. На церковном чердаке все было тихо и спокойно. Сейчас на подушках «Наи» стало даже тепло. Мы чувствовали это. Объятия моей маленькой подруги и мои стали страстными. И вдруг — не было ни предупреждающих голосов, ни шагов — мы услышали, как внизу лестницы открылась дверь. Мою подругу охватила паника, она начала поспешно приводить в порядок свою одежду. С большим трудом я заставил ее лежать тихо. Мы задержали дыхание и ждали. Внизу, у лестницы, зажгли спичку. На секунду огонь осветил балки над люком, и снова стало темно. Кто-то поднимался по лестнице. Снова зажглась спичка. Снизу, сквозь люк, появилась Саламина!
Мы лежали менее чем в трех футах от люка, но сбоку от него и так, что находились позади поднимающегося по лестнице. Лежали не дыша и, оцепенев от ужаса, глядели, как Саламина осматривается. Она подняла спичку кверху, пытаясь при ее свете заглянуть в отдаленные уголки загроможденного чердака. Когда она, поднявшись, встала на пол, спичка снова погасла. Но она зажгла новую.
Теперь Саламина стояла так близко от нас, что мы могли бы коснуться ее. Спина ее, обращенная к нам, была темным пятном против света спички, слабо освещавшей маленький круг занятого вещами чердачного пространства. Огонек бросал тени, мешавшие рассмотреть, что находится вокруг. Охватить все разом было невозможно. И Саламина, передвигаясь на несколько шагов то туда, то сюда, зажигала спичку за спичкой, обыскивала чердак, заглядывая всюду, только не позади себя.
Трудно понять, как мы двое, с сердцами, охваченными паникой, пережили эти бесконечные минуты за ее спиной. От страха мы едва дышали. Но время шло, и мы пока еще не были обнаружены. Во мне уже стала расти надежда, что Саламина нас не отыщет, что у нее выйдут все спички, истощится терпение, что она, наконец, уйдет!
И тут Саламина повернулась. Нет, не к лестнице, а к нам, сидящим в обнимку, с неподвижными лицами, уставившимися на нее. Она повернулась и поглядела на нас.
— О Саламина! — вскрикнула моя девушка, как будто защищаясь от удара.
И Саламина заговорила. Полился поток презрения, уничтожающий, разрушительный, все сметающий поток, который губил душу, разум, мысль маленького существа, сидевшего рядом со мной. Мне казалось, что я ощущаю, как все это — душа, разум, мысль — покидает ее дрожащее тело. Кое-как она встала и убежала, будто мышонок. И как мышонок, последовал за ней, вниз к двери, и я. А Саламина, непреклонная Саламина, замыкала шествие. Внизу у дверей я и Саламина оказались одни: девушка исчезла. Саламина закрыла за собой дверь, ласково взяла меня под руку и повела домой.
Моя постель была уже постлана на полу. Я разделся и забрался в нее, в то время как Саламина, потушив свет, укладывалась в свою. Вдруг в темноте она встала. Я слышал, как она что-то делает у скамьи, где стоит ведро с водой. Затем она опустилась на колени около меня, отодвинула одеяло от моего лица, вытерла мой рот холодным мокрым полотенцем.
— Спокойной ночи! — сказала Саламина и поцеловала меня.
* * *
Четверг, 8 октября. С юга или юго-запада пришла буря. Началась она вчера вечером. Большие волны разбивались о скопление айсбергов, прибитых к суше у южного конца нашего залива. Сегодня утром я побоялся разжечь печь, казалось, что она неизбежно будет дымить. Мы сварили кофе на примусе и, одев Елену, отправили ее из дому. Затем с величайшей осторожностью заложили топливо и разожгли огонь. Тянуло, как в доменной печи! Значит, наш комфорт в эту зиму зависит, или будет зависеть, от изменений в направлении ветра.
Стьернебо все же построил свой сарай. Он пришел ко мне спросить, как построить временное строение, которое можно потом разобрать, не испортив досок. Я рассказал ему. Сарай построили за полтора дня: получился ящик. А теперь, когда временный сарай уже стоит, он никогда не будет разобран.
Я поручил Дукаяку контрабандно доставить мне для примуса два галлона керосина. (Датские постановления запрещают пользоваться в поселке керосином [17]. "Еще не прошло ста лет, — сухо объяснил мне однажды Петер Фрейхен [18], - как керосин вошел в употребление"). Несмотря на законы страны, я не собираюсь мерзнуть, когда ветер будет дуть так, что невозможно топить печь.
Сегодня жарил гагу. Зажарилась она великолепно — так зарумянилась и была такой мягкой, что резалась, будто я погружал горячий нож в масло. Соус тоже мог бы оказаться импровизированным чудом искусства (две чашки крошек черного хлеба, половина чашки мелко нарезанного бекона, одна луковица, четверть чашки нарезанных сушеных яблок, четверть чашки — пожалуй, поменьше — изюму, половина чашки нарезанной картошки), если бы не одна вещь, которая своим запахом предупредила меня за час до того, как я попробовал мясо, — сильный, едкий, почти тошнотворный вкус жира этой птицы. Я решил преодолеть свое отвращение и поел как следует. А сейчас я ничего другого не чувствую, кроме вкуса и запаха этого жира.
Саламина, между прочим, возмущенная уже раньше разговорами о нескольких неправильно понятых ею моих распоряжениях или запрещениях (я, например, говорил ей, чтобы она не открывала банок с горошком и не грела содержимое за полтора часа до еды), впала в бешенство. Затем она надулась, отказалась есть со мной, ушла обедать к Маргрете, но там никого не застала дома и продолжала держаться гордо и голодать. Сейчас Саламина забастовала. Хотя она не заходит, когда я здесь, но все же прокрадывается в дом и тщательно наводит чистоту. Вообще этот порядок не плох, если б он не основывался на недобром чувстве…
Вот сейчас, в эту минуту, она вошла, но не разговаривает со мной. Не так уж это хорошо.
Келлер, профессор социологии в Йельском университете, главный автор четырехтомной "Науки об обществе", титульный лист которой почетно украшен именем Сэмнера [19], наложил такой резкий отпечаток на мысли и стиль этой книги, что в ней нет ни следа — по крайней мере в части, мною прочитанной, — того изящества в мыслях и манере изложения, которым так заметно отличаются "Народные обычаи" и которое, следовательно, свойственно Сэмнеру. Книга Келлера с первой строки не столько заставляет думать, сколько вызывает раздражение. Она претенциозна, написана с предубеждением, вымучена и часто до глупости ошибочна.
Это скорее ряд оценок культур, а не их описаний, и автор соотносит их с «цивилизацией», которой даже не дано определения. Он, вероятно, хочет, чтобы мы судили о цивилизации по "уровню жизни", а уровень жизни он определяет наличием вещей. Конечно, это довольно разумно, но сразу же лишает книгу всякой ценности. Достижению некоего уровня жизни должно благоприятствовать наличие множества разнообразных естественных ресурсов, которые можно развивать, и подходящие условия существования. Следовательно, это исключает обитателей обширных областей земли из числа тех, кто может стать «цивилизованным». Короче, эскимос никогда не может стать «цивилизованным», так как он обитает в местах, природа которых дает лишь крайне необходимое для жизни.
И тем не менее, живя среди гренландцев, я все время имею возможность наблюдать такие свойства их характера, их поведения в общежитии, какие вряд ли назовешь "цветом цивилизации", однако они ставят под вопрос и достижения цивилизации, да и ее саму. Конечно, если не отбрасывать значения моральных и духовных качеств человека, то, чтобы сохранить какой-то действительный смысл слова «цивилизация», мы должны дать ей определение, применяя совсем другие термины, другие понятия, а не сводить все к вещам.
Здесь мне часто приходит в голову мысль, что термин «цивилизация» лучше всего применить к определенному периоду в жизни народа, расы, соответствующему зрелости в жизни отдельного человека. К этому периоду приближается всякая человеческая культура, и многие народы его достигают. Возможно, она проявляется в настроении расы, в ее духе, в том чувстве покоя, какое может охватывать расу после веков усилий, и в таких моральных качествах, какие, быть может, совместимы лишь с существованием, в котором конкуренция и внутренняя борьба уже исчезли. Дабы дать этой цивилизации определение через ее материальные достижения, можно сказать, что раса, народ стали цивилизованными, сделав все, что могли, при тех ресурсах, которые отпустила им окружающая среда. По крайней мере можно попытаться определить состояние умов и обычаев, отражающих эти материальные достижения. Я сказал бы, что цивилизацию определяют обычаи, и только причину, или главный фактор, создающий ее, следует искать в материальных достижениях.
* * *
Пятница, 9 октября. Был серый рассвет, когда я проснулся в комнате, наполненной отраженным от земли светом белого мира за окном и дымом захлебывающейся печной трубы. Ветер юго-западный. Саламина разожгла примус, но так как пришлось держать дверь открытой, чтобы не задохнуться, то в комнате был ледяной холод. Она зажгла второй примус, который я на всякий случай налил с вечера. Вскоре мы смогли закрыть двери, и в комнате стало тепло. После кофе принялся за работу. Нужно было сделать три звена железных труб для печи малого диаметра, два колена для нее же, железную плиту с отверстием и переходником для трубы большого диаметра. Я вызвал Дукаяка. Он, Тобиас и я работали до полудня, затем развели настоящий огонь в печи и смотрели, как на божественное чудо, что дым выходит из трубы, а не входит в нее. Теперь я могу считать, что мои неприятности с печной трубой кончились.
После, днем, писал картину — в доме. Моя сеть на белуху почти готова. Они могут выехать с ней завтра.
"Наука об обществе", которую сегодня вечером опять читаю, становится все хуже и хуже. Я нахожусь в положении тех людей, которые вынуждены прибегнуть к чтению, чтобы заняться чем-нибудь, и читают все, что им удается достать. Келлер теперь изобличен — он особый тип старомодного дурака. Для него социализм и вообще все, что покушается на святость капитализма, как красная тряпка для быка. И автор выставляет капитал в виде страдальца, на которого нападают, а затем посвящает ряд страниц доказательству того, что он необходим. Вот дурак! Больше не буду о нем говорить.
Вчера Саламина очень мило и смиренно помирилась со мной, ластилась ко мне, когда я уже лег. То, что я отверг ее более активные попытки, она восприняла как заслуженное наказание. Она милая и хорошая женщина.
Вернусь к тому, что написано страницей или двумя раньше, и продолжу разговор о цивилизации, имея в виду гренландцев. Верно, конечно, что в Западной Гренландии уже не существует истинно гренландской, или эскимосской, культуры. Но хотя внешне народ склонился к полному переходу к европейским обычаям, все же в настроениях и поведении людей здесь много еще определенно эскимосских черт. То, что на редкость милый характер гренландцев, их солнечные (в большинстве) натуры не приобретены от европейских учителей, наводит на серьезные размышления о нашем характере. Мы, наверно, отвергли бы предположение, что в своем легкомыслии, непредусмотрительности и лени (если они ленивы) гренландцы следуют нашему примеру. В общем, милый характер, вероятно, наиболее отличительная черта гренландцев. Но не слишком ли смело рассматривать это как доказательство цивилизованности или по крайней мере как факт, требующий исследования условий, его породивших?
* * *
Четверг, 15 октября. Сеть закончили в субботу, но погода была слишком бурной для выхода моей артели в море. Узнал, что Дукаяк с ней не едет. Артель теперь состоит из Абрахама Абрахамсена, Лукаса (сына Дукаяка), Йоаса Корнелиуссена и Ёргена Мёлле-ра, — как мне показалось, не очень многообещающая команда. Лукасу ровно двадцать, но он сильный и смышленый, хороший молодой человек. Йоас несколько унылый — он беден, неудачлив и склонен к лени. Когда Стьернебо приехал сюда, его предупреждали относительно Йоаса, но теперь Стьернебо хорошего мнения о нем. Йоас один из тех, кто брал у меня взаймы. Ёрген — самый негодный человек на острове. Он отбыл срок в единственной в Гренландии тюрьме (в Упернавике), у него буквально нет никакого имущества, так как ходит он в лохмотьях. Говорят, он ворует, не работает, попрошайничает у кого может. На вид это жалкое, бедное существо, лишенное подбородка, у него курчавые, слипшиеся волосы, редкая бороденка на том месте, где должен быть подбородок; он грязен. Говорит Ёрген на совершенно непонятном (якобы английском) языке, отдельных фраз которого он нахватался у каких-то англичан, членов экспедиции.
— Айорпок (плохо), — сказал я ему, когда он сообщил мне, что идет с артелью.
— Нет, моя понимай работать, моя работать, тащить сильно много.
А когда я ясно высказал, что о нем думаю, он отнесся к этому совершенно добродушно. Итак, вот моя артель!
В воскресенье утром еще дуло, но день обещал быть хорошим. Артель должна была отправиться днем. Во второй половине дня было ясно, тихо, но отъезд не состоялся. В понедельник утром я пошел к Абрахаму узнать, что там у них не ладится. Из того, что он мне сказал, я смог выяснить только, что есть какое-то важное препятствие. И мы отправились к Стьернебо, чтобы он помог нам как переводчик.
На северном берегу острова Убекент, там, где Абрахам намеревался расставить сеть, стоит небольшая группа домов — всего три, принадлежащих семейству Зеебов. Место это называется Ингия. Старый Исаак, отец Абрахама, Иоханна, Мартина и так далее, — старейшина живущих в этом месте. Он и другие со своими семьями сейчас живут там, чтобы ловить белух. У них есть три сети. Абрахаму Абрахамсену было передано от Исаака, что нам не позволят поставить сеть на северном берегу, так как американец не имеет права вести рыбный лов в Гренландии. Теперь через Анину и Стьернебо об этом сообщили и мне.
— Хорошо, — сказал я, — но если бы у вас была собственная сеть, Абрахам, вы бы ее поставили, разумеется, на приличном расстоянии от других?
— Да, — ответил Абрахам.
— Отлично, — сказал я, — эта сеть — ваша. Вы должны были уплатить мне за пользование сетью половину вашего улова в этом сезоне. Теперь вы будете платить мне половину вашего улова до тех пор, пока не выплатите столько, сколько мне стоила сеть.
Абрахам был несколько сбит с толку, но наконец понял мою мысль.
— Но я в Игдлорссуите новый человек, — сказал он, — и мне бы не хотелось затевать споры.
— Тогда я поеду с вами и приму на себя всю ответственность.
Итак, было решено, что мы выедем до полудня. Абрахам намеревался попросить Абрахама Зееба, чтобы он пустил нашу артель в свой дом. В сложившихся условиях подобное намерение показалось мне фантастическим, и мы решили поставить палатку; этот вопрос обсуждался нами раньше.
Для житья в палатке погода была холодная, а у Абрахама не было не только палатки, но и примуса, чтобы обогреть ее. В конце концов я дал палатку, примус и керосин. Они спросили, дам ли я провизию для них. На это я ответил «нет».
В 11 часов 30 минут мы сели в лодку Енса, громоздкую посудину, оборудованную только двумя веслами и то поломанными — одно на два куска, другое на три; куски были связаны. Абрахам сидел на руле, а мы четверо гребли по очереди, далеко не усердно — по-другому грести в этой лодке было невозможно. Несколько минут я проявлял честолюбие, но оно кончилось, когда сломалось весло. Починив его, мы продолжали идти на веслах со скоростью двух миль в час. День был зимний, но мягкий, и тем не менее в периоды нашего бездействия холод ощущался. После двух с половиной часов гребли мы обогнули северо-восточную оконечность острова — маленькую скалу, выступающую в море, и проехали мимо небольшого приютившегося за скалой поселка — Ингии. Две женщины и несколько детей вышли из домов и смотрели на нас, но приветствиями мы не обменялись. Мы проплыли еще около двух миль вдоль северного берега, мимо непрерывно тянувшейся песчаной прибрежной полосы, и миновали сети семейства Зеебов.
Дойдя до места, где мы собирались поставить свою сеть, промерили глубину. Она оказалась двадцать четыре фута. Хорошо! Направились к берегу и высадились при довольно сильном прибое, который нас основательно вымочил. Быстро выгрузили вещи с лодки и вытащили ее на берег так, чтобы волны не доходили до нее. Затем разостлали на песке сеть. Подобрали два больших камня — в качестве якорей для двух концов сети, вернее, для двух концевых поплавков. Отмерили и закрепили для них веревки. Несколько небольших камней обвязали шпагатом и снабдили петлями. Они будут служить грузилами для нижней веревки сети. Когда все было готово, снесли камни вниз и положили их так далеко в воду, как только позволял отлив волны. Затем, уложив сеть в лодку, три человека отчалили. План действий состоял в том, чтобы держаться как раз за линией прибоя и, отталкивая лодку от берега веслами, оттянуть в море якорные камни, пока можно будет их поднять со дна, а затем грести к местам их установки. Но прибой был так силен и набегающие волны так высоки, что, как люди ни старались, после получасовой борьбы им удалось только основательно запутать снасть. Работу в конце концов выполнили, отвязав якорные веревки от сети и втащив ее в лодку; а потом по одному сносили камни с берега и опускали на место. Затем сеть снова привязали к якорям, распределили грузила по нижней веревке сети, втащили причальный канат и прикрепили его к большому валуну (эту работу исполнили мы двое, оставшиеся на берегу). Теперь сеть была готова принять первую проплывающую белуху.
День тем временем кончался. Солнце, которое мы увидели вскоре после того, как обогнули мыс у Ингии, сейчас уже почти касалось линии горизонта в океане. Похолодало, и северный ветер, от которого вдали потемнело море, теперь уже добрался до нас и пригнал с собой такую волну, что не могло быть и речи о спуске лодки снова в море.
Когда мы, поставив сеть, высаживались, лодку наполовину залило водой. Прибрежная полоса была широкой и гладкой, но при полном приливе ее покрывала вода. За ней была каменная осыпь, к которой вплотную подходил обрывистый склон горы. Мы подтащили лодку как можно выше на камни и на нее водрузили каяк Абрахама (его приволокли сюда на буксире). Затем, забрав багаж, начали довольно трудный пеший переход по прибрежному песку в Ингию. Тем временем из Ингии подошли два мальчика, один из них был Джозеф Оттисен, чудесный парнишка, мой любимец. Ребятишки тоже подхватили по узлу, причем Джозеф выбрал самый тяжелый из всех, какие у нас были, не считая моего собственного рюкзака. После оказалось, что узел слишком тяжел для него, и один из мужчин сменил Джозефа.
Я предполагал, что мы устроим лагерь где-нибудь неподалеку, и нагрузил на себя столько, что смог бы пронести что всего несколько сот ярдов. Но до Ингии не нашлось надежного местечка, где можно поставить палатку. Северный ветер продувал каждый уголок, каждую щелку на этом голом берегу. Он гнал нам в лицо снег и песок так, что было даже трудно глядеть на дорогу, по которой мы шли.
Пять человек, среди которых я узнал Мартина и Абрахама Зеебов, спустились из Ингии к самой дальней своей сети и кормили собак из устроенного там склада китового мяса. Ёрген, шагавший впереди, прошел мимо них, не поздоровавшись, а затем оглянулся и с ухмылкой посмотрел на меня. Так как мне было передано приказание Исаака Зееба не ставить сетей на северном берегу, я ожидал, что будет сделана какая-нибудь попытка настоять на исполнении приказа. Эти люди, подумал я, сулят недоброе, и поэтому продолжал шагать мимо них, устремив глаза прямо вперед. Никто меня не окликнул. Далеко позади шли Абрахам Абрахамсен, Лукас и Енс; они поймут, как обстоит дело, и сумеют выйти из создавшегося положения. Но компания из Ингии, не дожидаясь их, двинулась за мной следом. Вскоре они догнали меня, поздоровались самым любезным образом и взяли у меня два узла, которые я нес в руках. И так, всей компанией, мы дошли до Ингии. Наступили сумерки. Ёрген со своей легкой ношей пришел в Ингию задолго до меня.
В Ингии есть почтовая станция — маленькая деревянная постройка. Зимой она служит приютом для людей, перевозящих почту, и кроме того, она сдается в наем посторонним за две кроны в день. Я мог бы снять этот дом и получить ключ от него у Стьернебо, но мое представление о том, как следует изучать жизнь в Гренландии, было иным. Домик стоял перед нами, дверь была заперта, зато угол его мог немного защитить нашу палатку от ветра. Палатку мы установили быстро и с помощью прихваченных мной шестов от другой, большой палатки прикрепили полотнища к стенам домика. Нам повезло, что нашлось это защищенное место, так как дул крепчайший ветер, а камней, которыми можно было бы прижать полотнища, почти не было. Внутри палатки вдоль одной стороны разостлали запасную палатку, навалили поверх нее постели, поставили примус и разожгли его. Затем поставили на огонь растапливать лед, зажгли свечу в фонаре, и палатка стала домом для пяти продрогших людей.
Горячий кофе и сухари! Пусть ветер свистит и воет, пусть над нами проносятся снег и песок, пусть полотнища палатки трепыхаются, как живые фурии. Вот мы сидим и ощущаем тепло. От жара примуса тает, исчезает в воздухе изморозь. Становится по-настоящему тепло. Так нет же! Кто-то открывает тщательно закрепленное полотнище входа. Входит посетитель, и с ним вместе врывается порция наружного воздуха.
С этого момента все время, когда мы не спали в те две ночи и день, что я там провел, через палатку проходил почти непрерывный поток праздных любопытных посетителей. Непрестанно входили и выходили мальчики, молодые люди, женщины — и Анна! Ее муж, Иоханн, когда мы явились, был весьма мало любезен. Анна пришла одна. Я приветствовал ее и усадил рядом с собой на удобное возвышение, которое соорудил из своего спального мешка. У меня было с собой шерстяное пончо. Я надел его на нее. Жесткие складки пончо ниспадали с нее, закрывая ее фигуру. И никто не мог видеть, что весь вечер Анна и я сидели, держась за руки. Так было и в следующий вечер, хотя пришел приглашенный мной Иоханн. И снова пончо прикрывало все грехи наших рук.
— Ты позвать Абрахам палатка кафемик, — сказал мне Ёрген вскоре после того, как мы устроились. Абрахам, старший из сыновей Исаака, был второй после отца важнейшей фигурой в клане Зеебов. Это человек с сильным характером, державшийся несколько особняком и неприветливо.
— Исаак, — предупреждала Саламина, — хороший человек. Все неприятности идут от Мартина, Иоханна и Абрахама.
Насколько я знал Абрахама Зееба, он казался мне приветливым и дружелюбным стариком, хотя я все же предпочел бы, чтобы он находился на Северном полюсе, а не был бы гостем в моей палатке. Но я быстро сообразил, что нахожусь в Гренландии не столько для того, чтобы демонстрировать независимость американского духа, сколько для того, чтобы узнать что-нибудь о гренландских обычаях и, быть может, испытать их прелесть.
— Ладно, — сказал я, — пойди пригласи его.
И Абрахам Зееб пришел. Он очень мило разделил с нами хлеб и кофе. А через час после его ухода мне принесли подарок от него — отличный большой кусок матака. Больше в палатке мы его не видели. Меня пригласили на кофе к Исааку — подозреваю, по почину Анны (она и Иоханн жили там); Енс и Ёрген, как к я, тоже ходили в гости. Иных знаков гостеприимства, кроме нескольких подарков в виде матака, не проявлялось. Мой же славный Абрахамсен никуда из нашей палатки не выходил. Со стороны Зеебов не замечалось и недружелюбного чувства к нам. С враждой было покончено.
Мы улеглись около 9 часов 30 минут. Ночь была бурная, шум ветра в палатке сопровождался громовым аккомпанементом высоких волн, обрушивавшихся на северный берег. Я лежал между Абрахамом Абрахамсеном и, к несчастью, невозможным Ёргеном. Начну с того, что ни Ёрген, ни Йоас не захватили с собой ни постели, ни одеяла — ничего. У Абрахама было нечто вроде большой подушки из перьев 2х2 фута и несколько маленьких собачьих шкур. У Лукаса же — настоящий спальный мешок из собачьих шкур. У меня — мой спальный мешок из оленьей шкуры. Но так как я начал переделывать этот мешок и в нем еще не хватало части верхней половины, то я захватил с собой драгоценную шкуру гуанако. Под себя я мог подложить резиновый коврик для пола и пончо. Запасная палатка покрывала почти половину пола; на остальной части мы разостлали резиновый коврик. Поверх него положили немногочисленные собачьи шкуры. Пончо я отдал Ёргену и Йоасу, которые, обнявшись, завернулись в него. Шкурой гуанако поделился с Абрахамом. И хотя мой сон прерывался, но мне было тепло до утра. Сон же мой прерывался из-за Ёргена, который всю ночь разговаривал, скрипел зубами, повизгивал и всхлипывал. Одно время он стал проделывать странные упражнения, так сильно ударяя по мне какими-то твердыми частями своего тела, что я наконец принялся лупить его кулаком, чтобы прекратить это безобразие.
Когда мы стали ложиться спать, Абрахам занял свое место, укрылся, натянул анорак до самого носа и, повернувшись на спину, мгновенно и тихо уснул. Я лежал и, глядя при свете свечи на кусочек его доброго, мирного лица, думал, как он похож на храброго, благородного рыцаря, изваянного на каменном средневековом саркофаге. Когда перед утром через полотнища палатки просочился серый свет, среди скорчившихся спящих фигур Абрахама уже не было. Он давно встал и тихонько покинул палатку. Я вышел, чтобы последовать за ним, но он был уже далеко внизу на прибрежном песке. Он направился к сетям и лодке, которую мы оставили в таком ненадежном месте.
Проходя мимо сетей, я увидел, что в сетях Мартина Зееба запутались льдины, угрожавшие снести их. Мартин и мой Абрахам шли впереди. Я догнал их, когда они остановились около нашей сети. С этой сетью тоже было неблагополучно. Якорь из камня снесло в сторону и прибило к берегу. Мы выбрали несколько десятков футов веревки, чтобы распрямить сеть в этом ее новом положении. Больше мы ничего не могли сделать. Прибой был ужасен, так как северный ветер все еще дул, не ослабевая. Его полную силу и пронизывающий холод мы испытали при возвращении. Пришлось задержаться у сетей Мартина, чтобы вытравить береговую веревку на всю длину. Затем поспешили домой к теплу, крову, горячему кофе.
Весь день дул крепкий ветер. Мы никак не могли остановить проклятое хлопанье полотнищ палатки. И весь день непрерывная вереница входивших и выходивших посетителей не давала нам в палатке согреться. Приходили молодые люди и мальчики; иногда по одной, по две — девушки; сидели некоторое время, брали у меня сигарету; сидели большей частью тихо, не считая неизбежной музыки от шмыгания носом; затем выходили проветриться.
Маленькому Джозефу нравилось у нас в палатке, а нам нравился Джозеф. От избытка энергии, побуждающей действовать (и еще, чтобы выставиться), маленький бойкий парнишка выделывал всякие штуки. Джозефу тринадцать лет. Он очень мал ростом — как его крохотный отец. Когда Джозеф улыбается, обнажаются его прекрасные зубы. У него большие блестящие глаза, окаймленные красивыми черными ресницами. Конечно, он скверный мальчишка — курит и жует табак, но к нему это как-то идет. Джозеф оказывал нам услуги, сделавшись нашим привратником. Он гордился своей должностью, моей похвалой и покровительством и исполнял свои обязанности великолепно.
На следующий вечер, когда у нас были Анна и Иоханн и мы, прикончив большую кастрюлю пеммикана [20] с сухарями и матаком, налили гостям кофе, Лукас рассказал нам одну историю. Это был длинный рассказ, переданный им, как мне казалось, с таким совершенством, с таким плавным течением мысли и так интересно, что все сидели и слушали молча, как зачарованные [21]. Раз или два задавали вопросы. Лукас отвечал на них и затем продолжал рассказывать. Более красивой, впечатляющей одним своим звучанием речи я никогда раньше не слышал. Красивое лицо юноши преображалось. Чем ярче и глубже была высказанная им мысль, тем прекрасней становилось его лицо. Нет, это не было случайным, беспорядочным повествованием. Рассказ Лукаса был хорошо построен. Даже мой слух ощущал в нем форму и ритм. Мне показалось, что Лукас часто пользовался заключительным словом фразы как началом следующей; это придавало его словам поэтический характер. Когда он кончил, все некоторое время молчали. Потом, так как уже было поздно, Анна и Иоханн встали и вежливо попрощались.
Домики в Ингии крохотные. Входя в дом Исаака, я должен был согнуться так, что стал на одну треть ниже; и даже в самой комнате я не мог стоять во весь рост. Тут жили десять или двенадцать человек, и все они спали на одних маленьких нарах. Я пошел туда после полудня, когда светило солнце. Внутри помещение, вероятно, обычно мрачное от темных стен, сложенных из дерна, закопченного потолка и земляного пола, сейчас было озарено теплым золотистым светом, льющимся через пузырь, заменявший оконное стекло. На постели сидел маленький Исаак, добрый старик, одетый во фланелевую рубашку. Его со всех сторон подоткнули перинами, так как он был болен. Что-то с сердцем, как понял я из слов Анны. Жена Исаака, сестра Ганса и Арона, отличалась прямой осанкой и держалась с достоинством, свойственным членам этого семейства, но это было весьма некрасивое и неприветливое существо. Изредка она улыбалась, и я был доволен этим. Как бы ни было мало радости в ее улыбке, но от контраста с обычно кислым выражением лица она явно выигрывала.
Единственным событием второй ночи был ужасный припадок кашля у Ёргена, начавшийся у него перед самым утром. Кашель разбудил нас всех и наконец заставил его в поисках облегчения выйти из палатки. Абрахам опять встал рано и отправился с Йоасом смотреть сеть. Белухи не было, но сеть оказалась в исправности. Ветер уже утих. Пока они ходили, я успел уложиться, чтобы вернуться в Игдлорссуит.
Возвращались мы все по суше. И то, что у меня было много вещей, и том числе тяжелых, моих спутников нисколько не тревожило. Мы вышли в 8 часов 30 минут. Дорога шла сначала вверх, через крутой, обрывистый мыс, а потом довольно долго по крутому склону горы, высоко над морем. Дорога была трудная, но шли мы быстро. Вскоре после того, как опять выбрались к берегу, я передал свой тяжелый мешок Лукасу. И хорошо сделал!
Дорога пошла по осыпавшимся камням и валунам или по бесконечным полосам крупной гальки. Даже в самую хорошую погоду было бы трудно идти по ней в камиках, а сейчас, когда галька оледенела, я и вовсе еле шел. Лукас же и Йоас, оба нагруженные, шли впереди играючи. Я отставал, но все же кое-как продолжал брести, хотя для меня это было мучением. Между тем начался прилив. Я помнил о нем еще утром и пытался ускорить выход, только, кажется, никто из моих спутников не видел в этом нужды. Один раз, когда мы шли между крутым склоном горы и морем по очень узкой, заваленной камнями кромке берега, в нескольких милях от нас разломился надвое большой айсберг. Донесшийся грохот вовремя предупредил нас, что сейчас накатятся волны, и мы ухитрились взобраться на скалы достаточно высоко, чтобы избежать опасности, в лучшем случае основательно вымокнуть.
Наибольшие неприятности ожидали нас у последнего мыса перед выходом на прибрежную полосу Игдлорссуитского залива. Там высокие скалистые горы спускаются к морю отвесно, и, хотя у подножия их есть узкая полоска низкого берега, она обнажается только в отлив. Лукас и Йоас поджидали нас там. Никаких сомнений не было: нам предстояло пройти ярдов пятьдесят или больше по воде. Только кое-где виднелись валуны, которые можно было использовать как островки безопасности.
Мои спутники, казалось, остановились в нерешительности: что делать?
— Имака, может быть, — сказали они.
Какое тут "может быть"? Мы стояли перед выбором: промокнуть или провести день, взгромоздившись на обледенелый валун у края воды. И я спрыгнул вниз и зашагал по воде; все последовали за мной. Вода доходила мне до бедер. Кожаных штанов у меня не было, и камики наполнились водой. Когда мы миновали залитую полосу, я переобулся в сухие камики, находившиеся у меня в рюкзаке. До Игдлорссуита я добрался благополучно, ничуть не пострадав от ледяной ванны.
В этот вечер состоялся большой ежегодный праздник у Стьернебо: его день рождения, годовщина свадьбы с Аниной и крещение их Брёра! Настоящий праздник начался после интимного обеда, на котором Саламина и я были единственными гостями. Мы нарядились в самые лучшие свои одежды. По настойчивой просьбе Анины я надел "американский костюм", чтобы в какой-то степени мой наряд подходил к синему саржевому костюму и белому жилету Стьернебо, которые, должно быть, в его матросской груди вызывали тошноту. Мы пили шнапс, пиво, неплохие домашние наливки Стьернебо, ели жареную морскую птицу и бог знает какую массу других блюд. Затем, позже, пришли гости — пить кофе и танцевать. (…) Старый граммофон хрипло изливал свои прокисшие, заигранные мелодии — фокстроты, вальсы, польки. Гости кое-как танцевали подо все. Затем в дело вступила моя гармоника. Здесь заблистала Сара. Заставляя ее все время играть и отпуская ей вполне заслуженные похвалы, мы получали двойную выгоду: могли танцевать под ее музыку, а не с ней. Маленькая Корнелия была очаровательна, почти глупо мила со мной, отчего температура настроения Саламины поднялась почти до точки кипения. Тут пришла Анна, и температура поднялась до кипения, до вспышки, до грозового разряда. Чело Саламины угрожало громами. Я не мог, не хотел потакать этому. Вечер протекал весело, я танцевал с кем хотел, делал в общем что мне хотелось, а Саламина то дулась и свирепо глядела на меня, то отнимала меня от партнерши, чтобы танцевать со мной. Рудольф танцевал. Уже сам этот факт был чудом. Помощник пастора, обычно весьма веселый и подвижный, скакал, выделывал разные па, под конец повел себя совсем глупо. Когда Саламина и я, словно любовная пара, возвращались домой, мы увидели помощника пастора, пытающегося преодолеть грязную канаву. Мы, конечно, сочли за благо взять на себя руководство им. Заняв места по обе стороны, довели Самуэля до дома, открыли дверь и втолкнули в страшные объятия его дорогой Сары.
Что касается Саламины, то я могу сказать, что она никогда не держалась более мило, чем в тот вечер по приходе домой.
Саламина сама предложила мне сходить за Анной, чтобы я перевязал ей порезанный палец. Она напоила Анну кофе и держалась так приятно, что Анна впервые почувствовала себя свободно, болтала и смеялась.
— Видишь, — сказал я потом Саламине, — как меняется Анна, когда ты с ней любезна.
И вот, когда Анна ушла, Саламина рассказала мне, как могла, о своих трудностях. Дело было вот в чем: Катрина, сестренка Рудольфа, принесла ей письмо от Мартина. Вот оно. И она дала его мне. Но потом, когда я попробовал было перевести письмо с помощью моего словаря, она застеснялась. Я вернул письмо, и она его сожгла. Начиналось письмо так:
"Дорогая Саламина! Наконец-то, зеница ока моего, я могу сказать тебе, что я чувствую. Пришло время, когда ты должна будешь отправиться со мной в Ингию…"
Это все, что я успел прочесть. Однако на второй странице письма было место, которое в изложении Саламины показалось мне не особенно приятным. Мартин писал, что Корнелия говорит о Саламине, будто она «нехорошая». Тут Саламина заплакала. Вообще это письмо очень ее растрогало. Короче, речь шла о предложении выйти замуж.
— Вот почему, — сказала Саламина, — Исаак, его отец и Абрахам посылали мне в подарок матак и держались со мной так дружественно!
И правда, в наш дом приносили дары. А Саламина однажды попросила меня пригласить Абрахама Зееба на кофе, чтобы, как мне казалось, отплатить ему за гостеприимство или за подарки. Да, теперь я понял, что клан Исаака оказывал Саламине множество знаков внимания.
— Вот в чем дело, — сказала Саламина, имея в виду письмо Мартина. Она должна немедленно отправиться в Ингию.
Картина стала проясняться. Правда, не сразу, а как бывает, когда видишь предметы рано на рассвете: они только-только выступают из темноты, очертания их расплывчаты, неверны. Оказывается, в то время, когда брак Мартина и Саламины планировался и устраивался семейством Исаака и это требовало поездки Саламины к ним в Ингию, я выступил со страшной угрозой как владелец сети на белух, сети, которую намеревался поставить близ Ингии, и, должно быть, думали они, сам хотел расположиться там же, рядом. Вот в чем была причина приказания не ставить сеть в Ингии. И вот, в тот день, когда я ушел из Ингии, здесь появился Мартин, чтобы забрать с собой мою Саламину.
Но все это не имеет значения. Главное — выяснить, чего хочет Саламина, и помочь ей в этом. Но даже при самом ласковом, на какое только я был способен, упоминании об этом Саламина опять начала плакать. Что бы я ни пытался сказать, слезы ее лились, как весенний дождь. Ужо само предположение, что я смею думать, будто бы она пожелает или сможет заинтересоваться кем-нибудь другим, обижало ее. Все же я сумел наконец сказать ей, что если она хочет или захочет выйти замуж и остаться в Игдлорссуите, то получит в приданое мой дом со всем в нем находящимся. Но выглядело это так, будто я протягиваю медный грош наследнице всех сокровищ мира.
Саламина сказала мне, что ей и раньше делали два предложения. Она отвергла их, она любит только одного человека — меня. Но все-таки Мартин хороший жених. Он превосходный охотник, член большой деятельной семьи, привлекателен своей общительностью и веселым характером, чистоплотен, хорошо одевается, и ему всего двадцать семь лет. Позже Саламина показала мне флакон духов, полученный вместе с письмом. Мартин сам выбрал их в то утро в лавке. Что ей делать с духами? Отослать назад?
— Это неловко, — сказал я. — Что Мартин будет с ними теперь делать?
Наконец после некоторого спора о том, прилично ли так поступить, она приняла от меня коробку с пятьюдесятью сигаретами, чтобы отослать их Мартину с запиской, поясняющей, что это в ответ на духи. Длинное письмо с отказом Саламина уже написала раньше.
В прошлую субботу Стьернебо выставил на улицу громкоговоритель иногда он не прочь устроить развлечение для людей. Увидев меня среди толпы, зазвал в дом. Мы сидели в гостиной и разговаривали. Вдруг раздался звук, похожий на гром.
— Что это? — спросил я.
— Люди поют, — ответил Стьернебо. Но мне явно слышались раскаты грома.
— Вы прислушайтесь, — сказал я.
— Да нет, — настаивал Стьернебо, — это они поют. Но все же я выйду посмотреть.
Он вышел и сейчас же вернулся.
Люди побежали вниз на берег. Что-то случилось.
Мы выбежали в темноту. Воздух был наполнен громовым ревом прибоя. Даже в темноте мы увидели блеск воды, покрывшей весь низкий берег. Оказывается, вода залила пляж, затопила все вокруг. Там и тут лежали глыбы льда. Это перевернулся огромный айсберг, и волны, вызванные им, обрушились на берег. Потом мы узнали, что один дом, впрочем единственный, который пострадал, затопило на три фута. Стоявший у входа ящик волна внесла внутрь и поставила на печь. Отхлынувшая вода захватила тринадцатилетнюю девочку и увлекла ее на много ярдов в сторону моря. Волна смыла еще двух маленьких детей. К счастью, всех спасли.
Хорошо завоевать славу пророка! Позавчера вечером я сказал Саламине:
— Завтра утром в моей сети окажется белуха.
Наступил вчерашний вечер — бурный, темный. Саламина и я прогуливались вместе по тропинкам поселка. Внезапно с берега, а потом отовсюду пронесся крик:
— Кинти килалувак катортак (у Кента попался кит)!
— Аюнгилак (хорошо)! — сказал я, сохраняя спокойствие, так как знал, что мое предсказание не забыто.
Подошел Абрахам Абрахамсен. Вскоре он, Йоас, Марта (жена Абрахама), Стьернебо и Анина пили у меня шнапс и пиво в честь моего первого кита. А сегодня по моему приглашению устроен кафемик в доме Абрахама Абрахамсена и присутствует все население поселка. Замечательная вещь китовый промысел, когда поймаешь кита!
Сейчас идет дождь — первая оттепель за много недель. Керосин, который команда брала в Ингию, налили в банку, где раньше был и, я думаю, есть и сейчас рыбий жир. В результате Абрахам принес обратно испорченный примус. Он был совершенно засорен, закоксован. Несколько часов я безрезультатно пытался прочистить его. Стьернебо предложил нагреть горелку докрасна в кухонной печи.
— А медь не легко плавится? — спросил я.
— Нет, она страшно тверда, — ответил Стьернебо. — Плавится что-то свыше девятисот градусов.
— В печке довольно жарко, — заметил я, хотя в этом замечании не было нужды: Стьернебо чуть не сжег себе руки, засовывая кочергой горелку между углями.
— Пойдем выпьем рюмочку шнапса, — предложил он. И мы пошли.
Когда выпили по рюмочке, медник, сказал:
— Теперь давай посмотрим на нее.
Мы сняли конфорки и заглянули в неглубокий слой раскаленных углей. Там, где лежала горелка, были… раскаленные угли. Только основательно порывшись в золе, мы вытащили из-под низу маленький искривленный комочек чего-то более похожего на металл, нежели на золу. С грустью осмотрев его, решили, что это примусная горелка.
К счастью, у одного гренландца нашелся примус, который он давно собирался починить и, наверно, еще дольше прособирался бы. Я предложил ему одолжить мне горелку, пока не раздобуду новую на шхуне — она должна была вскоре прийти сюда — или же не куплю в Уманаке и тогда дам ему новую горелку. Нет, он предпочел продать свою. Я уплатил ему одну крону, как за новую горелку, и из-за этой кроны его примус теперь ни на что не годен.
Идут дожди, и, несомненно, в доме помощника пастора течет крыша. Сейчас он покрывает ее толем, который я давно дал ему для починки.
* * *
Пятница, 23 октября. По-прежнему идет дождь, по-прежнему мягкая погода. За последние дни снег растаял, затем опять выпал и опять сошел. Хотя крыша помощника пастора залатана, несомненно, она водопроницаема. Да и все другие крыши поселка — плоские, крытые дерном, — как сита. Если датское правительство имеет возможность запретить такие крыши, ему следует издать об этом закон. Ну как тут бороться с простудами и легочными болезнями, если в период, когда солнце не показывается в этом поселке — и во многих других на северном берегу, — дома пропитаны водой, как старые колодезные бадьи? Сырость и холод! А когда настанет весеннее таяние, все это возобновится в увеличенных масштабах.
Мне известны подробности затопления двух домов. Из дома Рудольфа — это одно из лучших строений в поселке — за одну ночь вынесли три бочонка воды. У Абрахама Абрахамсена слой воды в два дюйма фактически покрывал весь пол и вода продолжала непременно капать из каждого дюйма щелистого дощатого потолка. За последние дни тут починили четыре такие крыши. Люди поступают так, будто бы каждый час дождя — последний и, чтобы улучшить их положение, вскоре чудом засияет яркое солнце или снова ударит крепкий мороз. Эти крыши в принципе нелепы. Укладывают их абсолютно плоско. Затем покрывают толем, просто настилая его и даже не прибивая гвоздями, а поверх всего укладывают слой дерна толщиной от четырех до восьми дюймов. От тяжести дерна крыша прогибается и принимает форму блюдечка. Вода застаивается в ней, пропитывает дерн и потом льется, пока есть чему литься.
Вчера вечером Абрахам, Лукас, Йоас и Ёрген вернулись из Ингии и принесли все, что осталось от нашего единственного кита. Мне отдали половину оставшейся части матака и два куска мяса, а вовсе не половину кита. Матака было четыре куска, мы посчитали, что весят они двадцать килограммов. Жира — сорок килограммов. Считая по шестнадцать эре за килограмм, это сколько составляет?.. Одним словом, вышло на шесть крон пятьдесят шесть эре. Половина суммы причиталась мне в погашение стоимости сети. Абрахам явно не понял нашего соглашения. Я вызвал его на консультацию к Стьернебо.
С помощью Анины Абрахаму объяснили, что с того момента, как кита вытащат на сушу, половина его принадлежит мне. Вот эту половину, без всякой урезки, в виде матака, мяса и жира следует выдать мне. Абрахаму же будет причитаться следующее: за жир — по шестнадцать эре за килограмм; за матак по десять эре; за мясо — по шесть эре. Моя часть — не прибыль, получаемая мной как собственником сети, а платежи в погашение стоимости сети, которую я дал авансом Абрахаму. И было оговорено, что я не получу больше, чем мне стоила сеть. По существу я должен понести немалый убыток. Ведь я не только даю сеть и все принадлежности к ней, но и палатку, в которой живет артель, мешки, на которых она спит, примус и керосин, которого они уже получили на семь крон. Но Абрахама едва удалось заставить понять все это, несмотря на ясное изложение Стьернебо [22].
И вот после почти двух недель неудобной и холодной жизни в палатке в Ингии артель вернулась на день, чтобы поделить между четырьмя ее членами три кроны двадцать восемь эре. А еще надо заплатить за лодку — лодку Енса. Абрахам предложил дать трем людям по одной кроне и оставить себе двадцать восемь эре. Но лодка! Наконец мы пришли к такому решению: три целых и двадцать восемь сотых кроны разделить на четыре — получится восемьдесят два эре. Дать по восемьдесят два эре Лукаеу, Йоасу и бездельнику Ёргену, а восемьдесят два эре уплатить за лодку. Но так как Абрахаму ничего не остается, я сделаю ему небольшой денежный подарок.
Абрахам сказал, что Ёрген не работал, а ел столько, сколько трое остальных, да и от Йоаса было мало толку. Этого следовало ожидать и от Ёргена и от Йоаса, хотя Стьернебо и дал о них хорошие отзывы. Решено было, что Ёрген не вернется в Ингию. (…)
Я смотрю из окна на поселок. Игдлорссуит подобен сцене, на которой развертывается бесконечная эпическая драма жизни его обитателей. Там, на солнце и в тени, в дождь и в снег, в ветреную и тихую погоду, днем и ночью, как бы под влиянием стихий и времени, сообщающих свое настроение каждому дню и часу этого спектакля, люди выходят из своих домов и со всем совершенством полной безыскусственности разыгрывают свои роли. И драма никогда не останавливается и интерес к ней не ослабевает. Даже сцена ни на мгновение не остается пустой. А если интерес не очень напряженный, то это только гармонирует с вечным течением пьесы. Она не может изменить своего ровного тона и хода, чтобы это изменение не привело к ее концу.
Это — эпическая драма, так как она одновременно гренландская и общечеловеческая. Ее составные элементы — необходимая основа любой человеческой жизни здесь. Разыгрывается эта драма подобно тому, как это происходит в Байрейте [23] или в Обераммергау, но в обстановке и в костюмах здешней единственной, особой культуры, которая по своему характеру, по духу свободы лучше всего подходит для самовыражения. Эти места, где климат то теплый, то резко холодный, все окружение, в котором эта культура созрела, наилучшим образом способствуют тому, чтобы человек здесь сыграл роль человека.
Авансцена — суша: поселок Игдлорссуит и широкий плавный серп прибрежной полосы, уходящей вправо и влево к наблюдательному мысу и к горе, которые подобно двум боковым кулисам закрывают от глаз остальной мир. Из-за этих кулис время от времени на сцену выходит неожиданное: судно из Уманака или с севера или откуда-нибудь еще. Это всегда большое событие, прекращающее все второстепенные действия на сцене. Крик "Умиатсиак!" или "Пуйортулерак!" (лодка! моторная лодка!), подхваченный и усиленный множеством голосов, заставляет людей выбегать из домов, бросать работу. Он созывает рассыпавшихся в поисках топлива, гуляющих, влюбленные пары, собирает вниз на берег все живое — мужчин, женщин, старых и молодых, ребят, грудных детей на руках, собак — и объединяет их всех на основе первого принципа искусства — единства мысли.
Или раздается крик "Умиар!" или же "Умиарторпок!". Тогда в бухту плавно войдет большая, с высокими бортами эскимосская лодка из тюленьих шкур, величественная и медленная. Ее широкие весла будут ровно и ритмично погружаться в воду, а неутомимые женщины-гребцы выпрямлять свое тело при каждом взмахе. Лодка, нагруженное судно, входит медленно. На ней целые семьи со всем, что у них есть, — детьми, домашним добром, палатками, перинами, кастрюлями, чайниками, сетями, принадлежностями к ним и собаками. Каяки привязаны к ее борту или идут на буксире за кормой. А у рулевого весла, высоко над кучей вещей, сидит, развалясь, шкипер — владелец, вождь, глава семьи.
Но чаще всего появляется человек на каяке, быть может, после нескольких часов охоты на море с пустыми руками, иногда с одной-двумя птицами и только изредка — с тюленем.
Но разве эти будничные события — все? Что еще здесь происходит?
Вот воскресный вечер. Весь день с перерывами мягко падал снег. Он опускался, порхая, чтобы нежно покрыть всю землю. Было безветренно. А сейчас с наступлением ночи — ни ветерка. Абсолютно тихо. Прояснилось. С неба среди мягких облаков сияет полная луна, озаряя белую землю неярким светом. Освещенные луной горы кажутся белее снега, а тени излучают отраженный свет белой вселенной.
По одному, по два молодежь выходит на берег гулять. Постепенно маленькие кучки, повстречавшись на тропинке, соединяются. Кое-кто запевает, потом поют все. И вот уже большая компания юношей, мальчиков и больше всего девушек, взявшись под руки, шагает широкими рядами. Голоса молодых людей, гармонично сливающиеся, прекрасны, как сама ночь и как лунный свет. Они чисты и сладостны.
Сегодня рано утром облака разошлись и как будто поднялся занавес. Сначала все было серым. А потом показались низкие горы. Отсветы красок зари поползли по ним, и горы стали яркими. Затем вдруг где-то сквозь облачный покров прорвался настоящий сноп солнечных лучей и упал на далекую, убеленную снегом горную вершину. И в этом блеске все, что раньше казалось ярким, как бы скрылось в тени. Весь день облачная завеса висела чуть ниже самых высоких горных вершин. Вечер послужил сигналом, по которому завеса поднялась. Порой все было видно, все было ясно, но иногда начинал идти снег и закрывал округу. Море было неподвижно, только прилив проносил мимо нескончаемую вереницу маленьких айсбергов. Они похожи на лодку Лоэнгрина [24], влекомую лебедями, подумал я.
Иногда, описывая цветок, говорят, что он так прекрасен, будто сделан из воска. Так и сейчас я описал море и горы, окружающие Игдлорссуит, пользуясь понятиями полотна, картона для композиции и красок. Но сведение бесконечного к понятиям, доступным человеческому разуму, это все, чего только могут достигнуть искусство и наука или что они могут попытаться сделать. Это и есть функция искусства и науки, раз мы признаем ограниченность человеческих способностей.
* * *
Сейчас вечер понедельника, 26 октября. После сегодняшнего пронизывающего холода и сырости опять наступила мягкая погода; небо затянуло, в воздухе кружатся снежинки. Но снаружи светло, хотя луны уже не видно. Ее свет, рассеиваемый облаками, отражается и усиливается белой землей и морем. Сегодня вечером на берегу никто не поет, но группы и пары там прогуливаются. День прошел без событий. Устроил добавочную полку над печкой — сложную штуку с выгнутым передом, чтобы разместилась кастрюля, в которой подходит тесто. Потом писал картины, сначала на воздухе — маленький эскиз драматического момента в ежедневном спектакле, когда весь передний план и ближние горы — в тени под низко нависшим небом, а дальние — в ослепительном золотом солнечном свете, затем в комнате — большую картину.
Саламина только что пришла домой. Пора спать. Ах да, Томас Лёвстрем изысканно любезно пригласил нас сегодня вечером на кофе в благодарность за листовое железо, которое я дал ему на печную трубу. Крохотный домик, в нем страшно жарко. Добрый старый Томас и его милая, живая, красивая жена. И их маленькая дочь, которая, кажется, нравится мне больше всех на острове.
* * *
Вторник, 27 октября, утро. Саламина, как всегда, встала задолго до рассвета. Она зажигает свечу. Затем колет помельче щепки, внесенные накануне вечером, — эту работу должен был бы сделать вчера днем Тобиас — и разжигает огонь. Часто я долго не просыпаюсь от шума, который она производит. Но вот я встаю. В доме тепло и весело — лампа уже зажжена, шумит чайник, запах кофе наполняет всю комнату. Выхожу во двор, чтобы почистить зубы, и, стоя на склоне горы, вдыхаю холодный вкусный воздух. С минуту гляжу на далекие горы, возвещающие наступление дня. Потом кофе! Тем временем просыпается Елена. Она садится, окруженная перинами, свежая, совершенно проснувшаяся и абсолютно молчаливая. От нее не услышишь ни слова.
В субботу вечером мы играли у Стьернебо в карты. (…) Поиграв некоторое время, Стьернебо и я начали мошенничать. (…) Мы стали передергивать, пользоваться джокером повторно. Прошло много времени, пока Анина заподозрила неладное. Но и тогда было довольно просто разыграть слабоумную невинность и подсунуть джокер Стьернебо, чтобы он жульничал при сдаче. Вот тут-то и начался разговор об ангакоках. Я рассказал им, что у меня есть индейский амулет из Америки и что я посвящен в тайны волшебства могу все делать и все знаю.
Женщины сейчас же пришли в возбуждение. Но Саламина заявила, что это невозможно. Дядя Енс когда-то объяснил им: настоящих ангакоков не существует, а есть просто фокусники. Кроме того, сказала Саламина, у нее в доме не может быть торнака (духа-помощника) — она знает все, что есть в доме. Я ответил, что в ближайшие дни покажу своего торнака. Так как сегодня вечером женщины много говорили об ангакоках и, очевидно, они верят, что я ангакок, то им только и нужно в подтверждение этого увидеть моего торнака. Анина хотела, чтобы ее посвятили в тайны волшебства. Она тоже хочет стать ангакоком и все знать. Я сказал, что с удовольствием покажу ей все, но это довольно страшно. Когда, например, мне показывали, я облысел. У большинства людей при этом волосы выпадают или седеют. Одну женщину посвятили в тайны. С волосами ничего не случилось, но у нее навсегда парализовало левую руку.
— Ах, — сказала Анина, — если бы только я уже побывала в Дании! Я бы тогда и не задумывалась о своих волосах. Но не могу же я туда ехать без волос!
Теперь я должен сделать какого-нибудь маленького божка, чтобы показать им.
Вчера вечером, в четверг, было ясно, ярко светила луна. Луна появилась перед заходом солнца на севере. Когда солнце село, блеклая луна повисла над ярко освещенными закатом вершинами заснеженных гор. Позже, ночью, море стало совершенно черным, и айсберги засверкали, как драгоценные камни. Звезда, взошедшая над далекими горами, походила на большой фонарь, повешенный в небе.
У нас были гости — Рудольф и Маргрета. Кофе, пироги, портвейн, пиво и шнапс. В этот день Рудольф прислал мне бухту отличного длинного сыромятного ремня — благодарность за то, что я починил его граммофон. Трое гренландцев понемногу беседовали, потом мы музицировали — флейта и гармоника. Саламина играла, Рудольф играл. Понадобилось три или четыре рюмки шнапса, чтобы он согласился играть, но и после них Рудольф так стеснялся, что вынужден был повернуться к ним спиной.
* * *
Четверг, 29 октября, утро. Светает, начинается еще один ясный великолепный день. Сижу за утренним кофе и гляжу вниз, на поселок, на берег и залив, на далекие горы. Я вижу, как заря постепенно охватывает землю, как люди по одному выходят из домов и вступают в жизнь нового дня. Один за другим отправляются в море каяки; кое-кто из охотников ушел еще до рассвета. Каяки и снасти у эскимосов всегда наготове и в порядке. Едва ли проходит минута между появлением охотника в дверях дома и его исчезновением за полосой плавучего льда в заливе. Охотники уходят на много часов — на полдня и больше. Но в это время года чаще всего они возвращаются с пустыми руками, без добычи. Они редко привозят домой тюленя, поэтому эти неизменные ежедневные выходы в море можно считать чудом настойчивости.
Я уже привык к Игдлорссуиту, и это, по правде говоря, чрезвычайно важно. Наблюдая здесь повседневную жизнь эскимосов, я думаю уже не образно, а конкретно, обыденно. Выражая, например, словами свои наблюдения над этими утренними выездами охотников на промысел или думая о них, я уже не употребляю фразы вроде: "Вон гренландцы отправляются в море на своих примитивных лодках из шкур", а выражаюсь точнее: "Вон отправляется на работу Петер, а вон Кнуд". Для меня, избравшего роль наблюдателя, важно, чтобы объект наблюдений утратил свое очарование, чтобы, записывая свои впечатления, я не стал жертвой сентиментальности или предрассудков.
Говоря о жизни, нельзя терять из виду относительного значения различных ее сторон. Мы можем понять и оценить различные стороны бытия, только лишь будучи равноправными участниками событий. В большинстве своем мы знаем, что значит думать на другом языке, а не на собственном. Мы знаем, как это необходимо для оценки оттенков смысла или, вернее, для глубокого понимания того, что на этом языке выражено. Совершенно так же необходимо жить той жизнью, которую наблюдаешь. Мы обязательно и скоро убедимся в этом, когда принц и нищий, гренландец, датчанин, американец или готтентот [25] станут для нас просто Томом, Диком и Гарри.
Однажды я поехал погостить в уединенное место Новой Англии. Все здесь было для меня ново и живописно. Я ехал со станции железной дороги и с любопытством расспрашивал мальчика-возницу то об одном, то о другом, что видел вокруг. И вот показался маленький, заросший плющом коттедж со старомодным треугольным фронтоном. Коттедж был таким очаровательным, романтичным.
— Что за люди живут там? — воскликнул я. Мальчик поглядел на меня как на помешанного и сказал:
— А? Да обыкновенные люди.
Только когда наконец все люди, будь они белыми, коричневыми или черными, носят ли они юбки или передники из травы или штаны из тюленьей шкуры, станут для нас обыкновенными людьми, только тогда мы будем способны писать с них картины или составлять доклады для научных обществ.
Искусство и наука — два пути, которые должны вести к цели, именуемой истиной. Вследствие вызываемой чувством извилистости своего пути, вследствие неточностей и противоречий искусство, носящее личный характер, столь же обманчиво в своих качествах и столь же трудно поддается определению, как и человеческий характер. Поэтому приходится признать, что оно слишком часто бывает сентиментальным, фальшивым. Потому-то, когда мы хотим узнать истину, мы с такой же уверенностью, с какой в обычных делах опираемся на людей с твердой репутацией, полагаемся на науку.
И вот в итоге в таком сугубо человеческом вопросе, в столь сложной и обманчивой области, как понимание близких нам людских родов, мы обращаемся за точными определениями, верным пониманием и оценкой человека к науке. Таким образом, мы уступаем наши слабые способности суждения группе людей, которые в целом совершенно не подходят по своим привычкам и темпераменту к пониманию дел человеческих. Наука и искусство! Из них двоих лжет наука, хитро пропагандирующая старинный формальный узаконенный метод ложных суждений или не относящихся к делу фактов.
"Наука об обществе" [26] — книга, которую я с трудом преодолеваю, определяет уровень цивилизации количеством вещей, каким владеет общество, и тут же перескакивает на защиту нерушимости права частной собственности и приходит к выводу, что капитализм — священное установление, ниспосланное богом. Автор приводит грандиозный комплект отборных доказательств. Ему в конце концов удается только доказать, что ученые даже в лучшем случае редко питают симпатию к племени, которое они изучают.
А ведь наблюдатель должен видеть племя состоящим из людей — ни больше ни меньше; должен уметь отказаться не только от таких общих понятий, как «цивилизация», «христианство», «образование», но и от пристрастия к обычаям и средствам своей собственной культуры. Достичь всего этого иностранцу невозможно. Однако способность суждения наблюдателя следует оценить по тому, насколько он осознал эту невозможность.
Рассматривая культуры в связи с тем, что мы называем цивилизацией, следует прежде всего дать определение последнему понятию. Определение уровня цивилизации количеством вещей и степенью материальных достижений все же довольно резонно, как бы оно ни казалось кой-кому неприятным. Но если определение принято и применяется как критерий истины, оно должно прилагаться последовательно. Возможно, это приведет к затруднениям, но академический ум, несомненно, с ними справится. Например, если принять во внимание окружение в детстве, бедность и почти полное отсутствие материальных благ у Авраама Линкольна [27], то мы вынуждены будем считать его дикарем, который стал президентом Соединенных Штатов.
Сейчас вечер, четверг. День был хороший; ущербная луна сияет на безоблачном небе. В конце дня, когда солнце село, а взошедшая луна передвинулась к северо-востоку и стала светить из-за моря, когда горы еще окрашены отраженным светом гаснущего заката, молодежь собралась на площадке позади пляжа играть в футбол. Мяч сделан из маленького пузыря, как я полагаю, набитого травой и наполовину надутого. Это мокрая, безжизненная масса, которую пинают ногами.
Игра — своего рода футбол, но, видимо, без всяких правил, кроме свободного удара после захвата мяча. Противника можно хватать, толкать, подставлять ему подножку, бороться с ним, делать почти все, что можешь. Нильс, здешний силач, сегодня поднял помощника пастора, перекинул его через плечо и продолжал вести мяч. Я играл второй раз, и со мной обходились довольно грубо. Несколько раз меня сбивали с ног. Это доставляло всем удовольствие, но без тени злорадства. Один раз молодой парень ловко настиг меня в неустойчивом положении и буквально швырнул наземь. Но я частично уже научился справляться с соперниками, хотя молодые гренландцы — народ сильный! Девушки тоже вступают в игру на краю поля. Некоторые проявляют большую ловкость. Хотя игра при здешних порядках груба, но все время царит полное добродушие. А игра очень груба. Ведь, как я уже говорил, разрешается бороться, хватать, толкать, пихать, ставить подножки, сбивать с ног противника. Она же ведется на неровном льду с многочисленными ямками. Я с трудом скрываю свои ушибы и хромоту.
Этот примитивный футбол напоминает мне более осторожную игру, которой мы забавлялись на острове Монхеган (штат Мэн), — нечто вроде бейсбола с большим мягким мячом на неровном поле. По необходимости в той игре правил у нас было больше. Но я отлично помню случаи нехорошего, неспортивного поведения некоторых рыбаков; как они сердились, когда «выбывали», как дулись или по-детски бросали игру и уходили с поля, если им не везло. Здесь я ничего подобного не видел. Если кого-нибудь собьют и он ушибется, то он смеется вместе с остальными. (…)
* * *
Воскресенье, 1 ноября. Я иду в церковь! По какой-то причине там будет специальная служба с пением. Я предполагаю, что по случаю празднества в память некоего события в миссионерской жизни Ганса Эгеде.
Пришло все население, церковь полна. Справа сидят мужчины, слева женщины. Мы, Саламина и я, вошли последними, и так как свободными оставались только передние места на женской половине, то мы оба сели слева. Двенадцать мужчин и женщин, составляющие хор, сидели по трем сторонам квадрата в углу, рядом с алтарем. Помощник пастора был в черных штанах и анораке из черной альпаки [28]. Божественный дух церемонии нисколько не изменил довольно убогого вида помощника, его бегающего взгляда, болезненно желтого цвета кожи и маленького пучка волос на нижней губе, как у пуделя. Манеры его вкрадчивы, и кажется, что он скорее подлизывается к богу, чем почитает его. Он пользуется кое-какими приемами, принятыми на амвоне, например, складывая руки, кладет одну на тыльную сторону другой.
Помощник кончил говорить, написал номера гимнов на аспидной доске, повесил ее, чтобы всем было видно, и пошел к органу.
Орган, здешний орган — грустная развалина. Большинство костяных пластинок отвалилось от клавиатуры, деревянные клавиши черны от грязи. Клавиши гремят, мехи хрипят и сипят, педали скрипят, но все же инструмент издает достаточное количество звуков, и помощник пастора, надо отдать ему должное, извлекает из него все, что можно. Он берет в пении как бы объемом звука, его грубый бас порой совершенно забивает хрупкое сопрано. Это бывает, когда ему приходится пользоваться средним регистром органа. Здесь голос помощника ревет, как медная труба, — внушительно, грубо и ужасно.
"Петь я не умею, — орал один ревущий миссионер на побережье Мэна, — но я могу производить радостный шум во славу господа". Помощник пастора в Игдлорссуите не столь скромен. Он стоял перед нами со спокойным самодовольством и без всякого чувства, без жара рычал в уши бога и человека. Когда песня кончалась, казалось, что слышишь сладостную тишину, царящую снаружи!
Говорят, гренландцы музыкальны. Я сомневаюсь в этом. Я слышал лучших из обученных певцов — молодых мужчин и женщин из Готхоба. Они пели правильно, но с правильностью механического устройства. Голоса женщин звучали верно, чисто и сухо. "Послушать бы им, как поют наши негры!" подумал я.
Служба, продолжалась. Наконец настала очередь проповеди. В ней говорилось об Иоанне Крестителе [29]. Проповедь была длинная. И чем дольше проповедник говорил, тем больше он входил во вкус, все более и более утрачивая связь с прихожанами. Легкие, приглушенные звуки и движения превратились, наконец, в настоящий шум, слагавшийся из сморкания, кашля, скрипа скамей, шарканья камиков, бормотания, разговоров, плача детей. Кое-кто дремал, некоторые попросту спали, а все остальные без исключения, насколько я мог разобрать, скучали и ерзали. Все быстрее и быстрее говорил помощник пастора, глядя не на слушателей, а поверх их голов, в восхищении, видимо, от потока собственного красноречия. Карен, сидевшая в хоре, задрала край анорака и кормила своего ребенка. Молодой Стьернебо (Брёр) шагал взад и вперед по проходу, засунув руки в карманы, выпятив живот, бессознательно подражая походке отца, и говорил громко и сколько ему хотелось. Дети гренландцев соблюдали порядок и спокойствие, пока утомительная проповедь сделала и их всех в разной степени беспокойными. Не производившая нужного впечатления служба резко оборвалась, и под звуки органа мы вышли и разбрелись по домам.
Во второй половине дня в церкви было назначено «пение». Прождав на холоде около церкви более получаса, я ушел домой и поэтому пропустил концерт. Но после него был кафемик, на который мы все вносили деньги по подписке. Пить кофе должны были в школе, в довольно хорошо натопленном классе.
Когда мы пришли, в классе было уже тесно. Небольшой стол посреди комнаты был накрыт самой лучшей вышитой бумажной скатертью помощника пастора. На ней стояло несколько фарфоровых чашек и блюдец. Потеснившись, нам дали место на стульях во внутреннем почетном кругу и затем начали разливать кофе. Было приготовлено несколько больших чайников кофе, и наливали его быстро. Странно видеть, как кофе наливают до краев чашки и оно большей частью переливается в блюдца. Но в этом обычае — большая щедрость.
Вскоре мы удалились, чтобы дать место прибывающей публике. Затем я послал Саламину пригласить, Ганса, Хендрика (брата Рудольфа) с его женой Софьей и Бойе (славный молодой человек, отлично владеющий каяком, женатый на Саре, дочери Арона), который пришел вместе с Хендриком. Бойе сперва отличился, вытащив пробку из бутылки шнапса, которую мы все не могли откупорить, а затем напился допьяна. Начало этой неприятности положила Саламина, дав Бойе бокал больше, чем всем остальным. Все хотели пить, и я исполнял роль гостеприимного хозяина. Пили раз за разом, все залпом, причем женщины выпивали небольшие рюмки портвейна в той же бесшабашной манере.
Затем, чтобы несколько оживить вечер, я достал гармонику и флейту. Сначала играла Саламина, потом Софья, потом Бойе. И Бойе — он определенно музыкален и любит петь — вообразил, что край стола — клавиатура органа. Он играл на ней и пел восхитительно. Мы все пели или играли. Музыка наша стала наконец буйной, но была не так уж плоха. Все смеялись, видя, что Бойе пьянеет. Я попытался больше не давать ему пить и, чтобы опорожнить бутылку, наполнил шнапсом рюмки женщин. Что же они сделали? Поделились с ним! Я махнул на все рукой. В третий или четвертый раз мы все выпили еще по рюмке, а затем вышли в темноту на улицу.
Выйдя из двери, Бойе издал радостный клич, затем вопль. Любовно облапив меня, он помчался вниз с горы, спотыкаясь, скользя, чуть не падая. С возгласами и криками мы пробежали мимо дома Рудольфа и позвали его. Он пошел с нами. Танцы были в разгаре, комната переполнена. Бойе ворвался, сгреб девушку, покружился с ней, издал радостный вопль и упал. Но сейчас же снова вскочил; он и все остальные смеялись. Так, падая, смеясь, вопя, Бойе танцевал. Другим это мешало, но было настолько забавно, что компенсировало неудобства. И все время он возбужденно говорил, повторяя чуть ли не после каждого слова:
— Кинти, Кинти, Кинти…
А как он стал ласков, мил. Я должен был с ним танцевать — и он тискал меня в объятиях.
Бойе умеет немного говорить на малопонятном датском языке. Он стал копировать никчемного Ёргена, бывшего тут же.
— Я говори английски! — кричал он и смеялся со всеми вместе.
Затем Северин Нильсен взял его за одну руку, а я за другую, и мы стали водить его по берегу, взад и вперед, взад и вперед. Он был в разговорчивом настроении, возбужден, забавен и вообще очарователен. Он сказал мне, что я должен научиться переворачиваться (под водой) на каяке, и энергично продемонстрировал технику приема. Марта и Корнелия соперничали, стараясь захватить мою свободную сторону и руку, пока Саламина не вмешалась и не положила этому конец. Они ее боятся до смерти. Вся наша компания отправилась домой около полуночи.
* * *
Вторник, 3 ноября. Ясное, тихое, залитое солнцем утро; холодно. В такие дни замечательно работается. У нас теперь второй завтрак в 11 часов. Затем Саламина убирает со стола и уходит из дому; обычно она идет к Маргрете. Но вчера Маргреты не было дома, и Саламина гуляла по улице. Я узнал об этом позже; оказывается, она не хочет мешать мне работать!
В начале вечера мы закупоривали пиво домашнего изготовления. Когда все бутылки были заполнены, в бочонке еще оставалось немного пива. Я отсосал его сифоном в большой кувшин. Потом вышел из дому с флейтой и заиграл. Почти мгновенно появились темные фигуры. Они приближались ко мне.
— Аюнгилак! (хорошо!) — крикнули мне, и я продолжал играть, подманивая их поближе своей музыкой. Собралась-таки порядочная толпа — мужчины, женщины, дети. Я вынес пиво и налил всем, затем пригласил четырех взрослых в дом. Это были Хендрик (брат Рудольфа) и его жена Софья, Петер Нильсен и Элизабет, жена Томаса. Конечно, они вошли в дом, и мы угостили их кофе. Затем я достал гармонику для Петера и флейту для себя. Мы вместе играли меланхолические песни, а потом Петер заставил нас притопывать ногами под его собственные веселые мотивы. (…)
В прихожей все время стояло три-четыре молодых человека, которых мы не могли пригласить: было слишком тесно. Мебель расставили куда попало. В промежутках между танцами гости стояли, и время от времени они выходили за дверь глотнуть свежего воздуха. Все курили, все пили пиво, все веселились, все танцевали.
Самой живой была Элизабет. Ей сорок пять лет, у нее милое, живое лицо, и в молодости она, должно быть, была удивительно красивой. Она надела фартук Саламины, чтобы прикрыть свое потрепанное платье, и танцевала без передышки. Не то чтобы она умела танцевать — ничуть. Она делала это с таким темпераментом, что всем нравилось кружиться с ней. А когда у Элизабет не было партнера, она танцевала среди пар в одиночку, подпрыгивая с радостной улыбкой на одушевленном лице.
Некоторое время играл Петер, потом Амелия и, наконец, даже смущающийся Рудольф. А играл он чрезвычайно хорошо. Как было жарко! Мы пили пиво, танцевали и потели так, что наши анораки промокли насквозь. Чтобы дать отдых гармонисту, принесли, граммофон Рудольфа. Перерывов не было. Танцы, танцы, танцы; дом дрожал от танцев. Бог весть откуда взявшаяся пыль носилась в воздухе и садилась на все. Петер, кружась в танце, издавал радостные возгласы. Двигаясь в толпе взад и вперед, мы все с различным успехом отбивали ногами дробь — в четыре такта. Наконец в половине второго танцы кончились, и все, вежливо пожелав нам спокойной ночи, пошли домой.
И хотя эти танцы были шумные, я могу сказать, что никогда не присутствовал на вечере, который отличался бы более невинной и дружественной атмосферой и где в общем вели бы себя лучше. Я сравниваю этот вечер с танцами на ферме в Новой Англии, где в промежутках между танцами в одной комнате сплетничают женщины, а в другой напиваются допьяна крепким сидром мужчины. По-своему и это неплохо, но в сравнении с вечером танцев в Гренландии невероятно вульгарно. (…)
* * *
Среда, 4 ноября. Я, кажется, настолько стал настоящим жителем этого поселка, что связан теперь обычаями его общественной жизни. Обычаи эти чужестранцу нелегко понять, тем не менее они твердо установлены и образуют последовательную систему. Это — кодекс законов, подкрепляемый самым агрессивным и активным общественным мнением. Вот пример. Вчера вечером после ужина я вышел прогуляться по берегу. Там было пустынно, но я с трубкой в зубах мерил шагами утоптанную дорожку для гуляния. Меня окликнули две проходившие мимо женщины. Они остановились, пошли назад и взяли меня под руки с обеих сторон. Это были Сара, жена Бойе, и Марта Абрахамсен. С Мартой был ее маленький сын. Мимо прошли Петер и другие знакомые.
— Аюнгилак! — крикнули они, видя, как мне повезло.
Пройдясь с ними взад и вперед раза два, я остановился у начала тропинки, поднимающейся к моему дому.
— Теперь я пойду домой, — сказал я, предполагая здесь расстаться с ними. Но нет! Оказывается, им тоже надо в эту сторону. Что ж, дом Марты нам по пути. Мы пошли по узкой тропинке гуськом, женщины — впереди. И путь, которым они шли, привел нас наконец не к дому Марты, а к моему. "Так, подумал я, — как-то нас встретит Саламина?"
Мы вошли в дом. Саламины, которую я уходя оставил за шитьем, не было.
— Хорошо, — сказали мы все трое и уселись.
Разговор не клеился. Вскоре во время одной из длинных пауз мы услышали приглушенные голоса. Подняв головы, увидели лица, прижавшиеся к стеклам большого окна. Я встал и задернул одну половину занавески.
И вот мы сидим за столом, у Марты на коленях ее мальчуган. С одной стороны сидит Сара, с другой я. Ярко горит лампа, разложены неизбежные в таких случаях фотографии, чтобы занять гостей, как вдруг в дом, словно фурия, влетает Саламина. Встав перед моими милыми гостями, она открывает шлюзы для уничтожающего водопада гренландских слов. Я тщетно пытаюсь заставить ее замолчать — она продолжает бушевать. Я приказываю ей подать кофе. Но, готовя кофе, она неистовствует.
— А что, если я позову Мартина, Петера и Бойе, — предлагаю я.
— Мартина и Петера я не хочу видеть. Бойе славный, позови его!
Что она делала дальше, я не знаю. Она то выходила, то входила, продолжая беситься. К счастью, обе женщины почувствовали комизм положения. Мы трое потихоньку ухмылялись. Марта и Сара продолжали сидеть, не трогаясь с места.
Кто-то постучал в окно: Бойе. Саламина открыла дверь, он вошел с встревоженным лицом. Я горячо приветствовал его. Он, словно захваченный этим врасплох, ответил на мое приветствие, подал руку и уселся, как я его пригласил, рядом со мной. Но все же чувствовалось что-то неладное. Бойе говорил с Сарой вполголоса, напряженным тоном, отказался от предложенной мной сигареты, отказался даже от сигары.
Тем временем Саламина подала кофе. Бойе кофе взял. Хотя он был возбужден, сердит, но, видимо, не хотел этого показывать. Я поражался тому, как хорошо он ведет себя. Саламина не захотела сесть с нами за стол. Она ходила по комнате взад-вперед, усиливая этим, насколько могла, общее напряжение. Что случилось, я не знал. Какие слухи дошли до Бойе? Что привело его сюда? Посылала ли за ним кого-нибудь Саламина? Потом из разговора я выяснил, что в этом-то и был весь фокус. Думается, приглашение дошло до него примерно в такой форме.
— Саламина сказала, чтобы ты шел поскорей. Сара у Кинти и доме, вместе с ним!
Единственный язык, которым я могу пользоваться, когда у меня собираются гости, — флейта. Если мне удается устроить, чтобы кто-нибудь аккомпанировал на гармонике, флейта содействует веселью. Я извлек инструменты и стал подсовывать Бойе гармонику. Положил ее перед ним рядом с нетронутой сигарой. Нет! Отказываясь, Бойе пытался улыбнуться. Какая меланхолическая улыбка на трагическом лице!
Снова молчание. Саламина вышагивает. Вокруг дома — голоса и звуки, как будто там теснится толпа. Мальчуган Марты начал хныкать. Она высвободила грудь, чтобы дать ему. Нет, из этой он есть не хочет. Марта дала ему другую. Теперь ест лучше.
Тут я заметил, что Саламина отдернула занавеску на окне. Я приказал задернуть ее. Саламина отказалась очень многословно, по-гренландски. Из ее речи я понял, что это противоречит гренландским обычаям. Тогда я встал и плотно задернул обе половины занавески.
— Это мой дом, — сказал я, выказывая, насколько мог, свою власть, — и с сегодняшнего дня занавески будут задергиваться каждый вечер. Все! крикнул я, наконец заставив ее замолчать. Затем я взял флейту и заиграл.
Молчание снова стало невыносимым. Мой гренландский репертуар ограничен. Я сыграл "Ближе к тебе, о господи", "Встретимся ли мы за рекой", "Ах, мой милый Августин". Боже, как уныло все это звучало, как долго тянулось!
"Если я перестану дуть в флейту, опять наступит полная тишина", думал я и продолжал играть. Тут я заметил, что играю кусок из "Неоконченной симфонии" Шуберта. Нет, это не годится. И тогда моя испуганная память натолкнула меня на "Сон Эльзы".
Среди фотографий, лежавших на столе, был ужасный моментальный снимок: я стою на палубе «Диско» (пароход линии Дания — Гренландия) с таким видом, будто бы я — владелец судна. Сара захотела ее получить.
— Хорошо, — ответил я, — пусть это будет подарком от меня Бойе.
Произошло это еще до прихода Бойе. Теперь Сара показала ему снимок и сказала, что я ей дал фотографию для него. Он взял снимок в руки. "Сейчас порвет!" — подумал я. Нет! Бойе поглядел на снимок, положил на стол. Потом опять взял и опять положил на стол. Потом опять взял и опять положил. Фотография его заинтересовала. Между тем Марту удалось уговорить попробовать сыграть на гармонике. После нее гармонику взял Бойе. Наконец он заиграл.
Бойе любит музыку, во всяком случае он любит одну мелодию, к которой поет сложную «втору» [так]. Мелодия наконец проняла его. Мы снова и снова проигрывали ее простые фразы, и сердце Бойе смягчилось. Он передал гармонику Марте, чтобы самому петь. И тут вся солнечная сторона его натуры раскрылась, засияла на его красивом, молодом лице. Мы несколько раз проиграли и спели эту мелодию. Затем Бойе взял сигару, зажег ее. Потом снова взял мою фотографию, долго смотрел на нее, наконец, немного смущаясь, попросил меня надписать ее. И я написал: "Асассаоа Бойе" (дорогому Бойе). Он был так растроган, словно я удостоил его высокой почетной награды! И наш вечер стал восхитительным.
Марта, после того как мальчик обмочил ей платье, налил на стул и на пол, решила уйти домой. Но другие остались. Бойе показывал мне, как переворачиваться в каяке, и я убедился, что никогда не смогу проделать такое. Но это специальность Бойе, и он сияет энтузиазмом и гордостью, когда рассказывает об этом маневре. Надеюсь, что я еще много раз буду встречаться с Бойе.
Уже наступило следующее утро, а мы с Саламиной как чужие. Не выношу такой вздорной ревности! Я так и сказал ей. Не знаю, что было бы, будь я гренландцем. Мое возмущение против властных попыток Саламины ясно выражает существенную разницу в культурных традициях, лежащих в основе того, что мы считаем индивидуализмом. Американец или европеец считает своим правом поступать по-своему в пределах закона или даже, как в Америки во время сухого закона, вопреки ему. Закон у нас кодифицирован и одет в синее форменное сукно с медными пуговицами. Но мы не умеем видеть, что это разукрашенное величие закона только испорченная или извращенная форма общественного мнения. В Америке конституция и право толковать ее, которым облечен наш Верховный суд (оно, это право, может быть использовано против явно выраженного желания современного большинства), доказывают всеобщее признание нерушимости наследственного права, столь же мертвого, сколь и пергамент, на котором оно зафиксировано. Как бы ни были необоснованны мнения и предрассудки, засевшие в сознании народа еще со времен предков, мнения эти вошли в плоть и кровь живущих и составляют то, что можно считать органичной, живой «конституцией». У нас закон может быть защитой — и то в ограниченной степени — индивидуальной свободы действия и слова, противных общественному мнению.
В Гренландии такой защиты нет. Здесь общественное мнение — закон, и, как бы неясны или мирны ни были меры, обеспечивающие соблюдение его требований, он абсолютно всесилен [30]. Никакой зародыш независимой мысли здесь не может выжить. И я отлично знаю, что если буду приглашать к себе в дом кого захочу и стану задергивать занавески на окнах перед толпой любопытных зрителей, то тем самым нарушу закон, которому обязан подчиняться именно потому, что дружески отношусь к этому народу. Выступая против общественного мнения гренландцев, я как бы прибегаю к защите чужестранных властителей Гренландии — датчан, с разрешения которых имею сомнительное право пребывать здесь.
Однако этот народный закон проявляет любопытную терпимость, если нарушение уже свершилось. И подобная терпимость почти равносильна одобрению. Предположим, какая-нибудь пара, стремящаяся к греховным любовным наслаждениям, попытается найти себе приют в укромном месте или же пересечет открытое, заснеженное пространство вокруг поселка, чтобы спрятаться под горой, или в яме, или в куче торфа. Ага! Найдутся глаза, чтобы шпионить за ними. Новость распространится будто степной пожар, и отовсюду, как по волшебству, появятся фигуры наблюдателей. Они заполнят весь окружающий мрак и будут так тесниться кругом, что станет душно. Радуйтесь, дорогие действующие лица публичного спектакля! И все же им иногда удается каким-то образом ускользнуть незамеченными, и тогда, словно легко побив соперников в игре, они сами торопятся все рассказать. Пусть о свидании известно всем, пусть оно вызывает публичный скандал — скандал этот забавляет народ. Сила закона обращена не на наказание, а на его предотвращение.
Сейчас по вечерам не определишь, какое у нас время года: по календарю — осень, а на деле — зима. Конец дня — это затянувшиеся закаты. Низкое золотое сияние полукругом обходит горы, будто бог держит свечу над краем земли и передвигает ее просто для того, чтобы раньше, чем стемнеет, посмотреть, все ли в порядке. Однако при этом осмотре он забывает об Игдлорссуите. Вот уже несколько недель, как солнце не светит в нашей чаше. Было много дней подряд хорошей, тихой, не слишком холодной погоды. И каждую ночь в не очень поздний час ущербная луна. Если бы только луна оставалась постоянно на небе и двигалась вокруг нас по всему горизонту, как в два последних месяца!
* * *
Среда, 4 ноября. "Умиатсиак!" Ночной воздух дрожал от крика. Через несколько минут уже стал слышен стук двигателя, и наконец совсем близко показался свет иллюминаторов каюты. Загремела цепь, и наступила тишина. Упернивикская шхуна стала на якорь в виду Игдлорссуита. Было около семи вечера. Мы ждали шхуну. Поселок сидел без белой муки, которую забыли привезти с последним рейсом «Хвитфискена». Кроме того, мы нетерпеливо ожидали последних известий из дорогого нам внешнего мира. На шхуне должна была быть почта с датского парохода "Ганс Эгеде".
Ко мне прибежал мальчик с запиской от д-ра Христансен, женщины-врача у Уманаке, датчанки. В записке говорилось, чтобы я пришел на борт шхуны выразить почтение миссис Николайсен.
Миссис Николайсен — американка датского происхождения, выросшая в Америке, обучавшаяся в школе с пансионом близ Филадельфии и учившаяся живописи в Пенсильванской академии и в Дрездене. Молодая женщина, видимо, хорошо знала, что делает. Она вышла замуж за человека, посвятившего себя Гренландии, по-видимому, потому, что любила этого человека, и потому, что ей тоже нравилось жить в Гренландии. Отец миссис Николайсен делал дочери и ее мужу необычайно соблазнительные предложения, убеждая их покинуть Гренландию и переехать в Америку, но они не хотели об этом и слышать. Миссис Николайсен была в Дании, куда ездила на лето, и теперь возвращалась на три года в Прёвен.
Уходя со шхуны, я сгреб свою почту и поспешил домой, чтобы проглотить ее. Письма — солидная куча — пришли отовсюду, от друзей. Тут же радиограммы — записи всего переданного мне по радио с середины сентября. Но ни одного письма от жены или кого-нибудь из членов семьи, кроме единственной весточки от моей дочери Клары.
* * *
Пятница, 6 ноября. Погода по-прежнему хорошая, море тихое, температура немного ниже нуля. Вчера вечером обедали у Стьернебо — прекрасный обед: жареная баранина (только что привезена из Юлианехоба), картошка (жареная и вареная), консервированная капуста, бесчисленное множество соусов и приправ, пудинг-бланманже, сотерн. Но отличную баранью ногу разрубили на большие куски, будто топором, и подали тепловатой, а тарелки были холодные.
Я у Анины явно не в почете. Впрочем, вполне заслуженно. Сегодня она жаловалась, что не может достать белых куропаток, и с завистью сказала, что хотела бы получить зайца, которого сегодня мне принесли мальчишки. Преимущество в получении всех здешних вкусных вещей, которого я достиг, подняв на них цены, стало наконец раздражать Анину. То, что Стьернебо надул меня на мясе для корма собак, которое я закупил авансом, и то, что он захватывает все хорошие шкуры (он ими спекулирует), обойдется ему недешево! Сейчас я повысил цену хорошей шкуры на двадцать пять эре.
Работа о культуре западных эскимосов, которую я читаю (доклад Американского бюро этнологии), с подробными описаниями и картинками бесчисленных изделий их ремесленников наводит меня на размышления об этой материальной — стороне культуры жителей Игдлорссуита. Сначала скажу о том, чем они владеют. В среднем доме имеется: один каяк, один гарпун, одно копье и разные охотничьи принадлежности, одно ружье, одни сани для собачьей упряжки, кнут, шесть или двенадцать собак. Мужская одежда — две пары штанов, три анорака, тимиак [31], две пары камиков, одна полутужурка (для каяка), одна пара варежек из тюленьей шкуры, шапка, нижнее белье, возможно, носки. Женская одежда — два или три анорака, две пары штанов, две пары камиков, вязаная шерстяная шапка, напульсники, нижнее белье, варежки. В доме есть также несколько собачьих шкур, небольшое число перин в чехлах из бумажной ткани, чайник, кастрюля, ночной горшок (конечно!), чашка, ложка, женский нож, карманный нож, комод, стол, печь, две или три очень дешевые брошки, жестяная коробка от печенья, один-два жестяных бидона и лампа из стеатита [32].
Из всех этих предметов гренландцами изготовлены только: каяк с принадлежностями, сани, кнут, женские штаны, одна из пар мужских штанов, комод и стол, камики, тимиак и полутужурка. Анораки из европейских бумажных материй шьют гренландки. Все остальное в этом небольшом наборе европейского происхождения.
В то время, когда составлялся доклад, который я читаю, западные эскимосы пользовались множеством предметов утвари, инструментов и оружия. Все это, без исключения, производилось гренландцами. Большинство вещей изготовлялось из твердых материалов — камня, простой или моржовой кости. Требовалось бесчисленное количество часов терпеливого труда для придания этим вещам нужной формы, причем эта форма не только соответствовала их назначению. Зачастую работа над формой, над украшением вещей превращалась в подлинное искусство. И все это делалось примитивными инструментами. Но кроме утвари, инструментов, оружия изготовлялась еще одежда из шкур, добытых охотниками, или же из травы. Да и многочисленные украшения гренландцев исключительно местного производства.
Если сопоставить жизнь современных западных эскимосов и гренландцев, то мы увидим, что она почти в точности совпадает во всем, что касается охоты и домоводства, но в то время, как западный эскимос продолжает деятельно заниматься искусством и ремеслами, гренландец ничего этого не делает. И в том, что у гренландца отняты стимулы и потребность заполнять свое время выгодной и захватывающей его работой, состоит наибольший грех европейцев.
Если в Гренландии разрушена культура и утрачен ее национальный характер, причина тому не христианство, а торговля. Следует представить себе, сколько тысяч часов в жизни гренландцев посвящается созданию нужных им предметов и украшению этих предметов, чтобы понять, какая образуется пустота в их существовании, когда внезапно исчезает стимул к этим занятиям. И влияние, оказываемое на народ уничтожением промыслов, нужно измерять не только деморализующим эффектом праздности, но и эффектом полной потери всей творческой деятельности народа. Эта деятельность необыкновенная, ее нельзя сравнивать с большинством занятий, обусловливаемых нашей цивилизацией.
Я удовольствуюсь просто утверждением, что придумывание формы и изготовление для собственного пользования необходимых предметов деятельность бесконечно более высокого порядка, нежели работа конторского служащего, продавца, председателя банка, поденщика, слуги, фабричного рабочего, шофера, торговца — любой рядовой профессии, свойственной нашей цивилизации. Если судить о гренландском производстве утвари и одежды по тому, как воздействует оно на индивидуум, то эту работу, эти занятия можно сравнить разве что с нашим искусством и наукой. Они обладают таким духовным преимуществом, что не смогли превратиться в профессии.
Первые миссионеры в Гренландии с самого начала задались целью уничтожить, зачастую силой, древние праздники с песнями и танцами, игравшие важную роль в общественной жизни гренландцев-язычников. Более поздние наблюдатели гренландского быта понимали, что в отмене этих празднеств кроется главная причина утраты интереса к жизни у современных гренландцев. Люди живут не ожиданиями и не случайными минутами счастья. Действительно, плохо, что сейчас в жизни гренландца не может случиться более интересного события, чем питье кофе в доме соседа или бездушное распевание бездушных протестантских гимнов в холодной, унылой церкви в солнечное воскресное утро. Но истинная трагедия в том, что в течение бесчисленных часов, когда гренландцы не на охоте, часов, складывающихся в дни, недели, месяцы, и так из года в год, людям абсолютно нечего делать. Это нам, воспитанным на традициях накопления собственности, хорошо говорить: "Стройте себе дома, работайте, копите, чтобы покупать вещи в дом!" А у них перед глазами пример — Стьернебо с его музеем бесполезных вещей, музеем, где две или три женщины и малый без конца начищают медь и серебро, скребут, моют, стирают пыль со стульев, на которых никто не сидит, с картин, на которые никто не смотрит, с ужасных безделушек, разложенных на салфеточках, чтобы защитить от царапин стол, который никогда не используется и крышку которого никто не видит. Гренландцы, обладая недюжинным здравым смыслом, наверно, не интересуются всем этим.
Гренландца поставили на дорогу, которая должна привести его к тому, что мы называем цивилизацией. Сделав первый шаг, он вступил в область торговли и навсегда оставил позади все свои прежние занятия искусствами и ремеслами. Наша цивилизация в конце концов предоставит ему возможность получить образование, работу в торговле и промышленности, даст деньги, вещи, которые можно купить за них, в том числе, конечно, изделия машинного производства, и они вытеснят все то, что когда-то изготовлял народ. И цивилизация, вероятно, никогда не даст гренландцу даже малейшей возможности работать над тем, что можно было бы сравнить с изготовлением прекрасных вещей из камня и моржовой кости — с занятиями его предков.
Мы можем предоставить университетским профессорам вырабатывать определение цивилизации и обсуждать ее, ибо ни для кого из нас не имеет значения, считают ли нас цивилизованными или нет. Существует другой, и гораздо более важный, вопрос — качество нашего человеческого характера. Это — единственный общий множитель во всех уравнениях счастья. И если окажется, что среда и условия культуры, отличной от нашей, более благоприятны для созревания прекрасных характеров, давайте, не заботясь о том, называется ли она культурой сравнительно дикой или варварской эпохи, попросту назовем ее хорошей. Боюсь, что мы безнадежно предубеждены и академичны, когда рассматриваем чужие культуры. Образование, христианство, чистоплотность, промышленность, собственность, умение продуктивно работать и т. д. — для нас это составные элементы цивилизации, а цивилизация абсолютное благо. Множество великих людей вышли из подвалов и стали великими благодаря подвалу. Если бы можно было доказать, что всякий человек, который что-нибудь стоит, вырос в такой среде, то решили бы мы упразднить школы? Конечно, нет.
— Я не верую, — говорит обыкновенный человек, — но думаю, что мои дети должны ходить в церковь.
Мы мало что можем сделать, так как всех нас уносит с собой течение западной цивилизации. Но что касается других народов, то мы могли бы по крайней мере стараться не вмешиваться в их жизнь. И я думаю, что если бы датчане действительно любили все еще первобытных жителей Восточной Гренландии, то они выбрались бы оттуда со всем своим имуществом и оставили бы в покое то, что и так хорошо.
* * *
Пятница, 6 ноября. Все еще хорошая, мягкая погода, по-прежнему тихо. Саламина убирала дом. Я писал картину на воздухе. Вечером было слабое северное сияние. Здесь оно бывает в южной или юго-восточной части неба. Я пригласил в дом Петера, Амалию и Елену. Мы пили пиво, время от времени пели играли на гармонике и флейте, наконец затеяли игру "встань, Дженкинс!".
Почему они сидят подолгу — вот вопрос, на который я не могу ответить: то ли им это нравится, то ли им кажется, что так полагается. Вообще, ничем особенным люди здесь по вечерам заниматься не могут.
* * *
Воскресенье, 8 ноября. Пытался нанять человека с каяком, чтобы отвезти в Уманак радиограмму. Дальше — на радиостанцию ее отправят из Уманака в январе или феврале, когда установится санный путь. Первая мысль была послать текст радиограммы в Кудлигсат (на о. Диско), но это оказалось невозможным. Я попробовал договориться с Даном Лёвстрёмом, который считается здесь лучшим каякером, предложил ему плату, полагающуюся двум человекам за поездку в Уманак, — пятьдесят крон. Он сказал, что в это время года предпочитает один не ездить. Нужно плыть вдвоем, особенно если бурная погода заставит выйти на сушу. По-видимому, Дана Лёвстрёма не интересовала даже двойная плата. Это, мол, серьезное предприятие и нужно действовать осторожно. Кроме того, у него не было тувилика — полной водонепроницаемой куртки каякера. А таких курток на острове было не больше двух штук. Все же Дан обещал, что попытается взять тувилик взаймы и подыскать себе спутника. Но через несколько часов он сообщил, что это ему не удалось. Так радиограмма и осталась неотправленной. И я предвижу, что придется провести здесь три месяца в неведении того, что творится дома и не случилось ли там какой беды.
Сегодня облачно; в проливе дует крепкий ветер. Море темное, цвета шифера, на ближних горах лежит тень от туч, но панорама далеких гор светится под полосой золотого неба. Я писал эту картину, пока вокруг меня не собралась такая толпа, что невозможно было сосредоточиться.
А сейчас мы в муках приготовления обеда из кролика, вернее, из полярного зайца. Тушеный полярный заяц! Гостями будут Стьернебо, Анина, Рудольф и Маргрета.
* * *
Среда, 11 ноября. Особенности людей зависят главным образом от их занятий. Плотники, например, на всем свете имеют больше сходства, чем американский плотник и американский коммивояжер. Разнообразие характеров, какое мы находим в такой стране, как Америка, определяется разнообразием профессий. Нравственность народа — результат обстоятельств. Она не выражает характера расы и не оказывает на народ никакого влияния или же это влияние очень слабое [33]. Нравственность — лишь внешнее поведение людей, характеры которых слагаются под влиянием других причин. Нравственность имеет огромное значение для сохранения общества, но это такое же постороннее явление по отношению к характеру индивидуума, как правила футбольной игры к характерам игроков. Игра "жизнь в обществе" примерно одна и та же, кто бы в нее ни играл, и мы сегодня довольствуемся теми же десятью заповедями, которые были сформулированы несколько тысяч лет назад для племен странствующих скотоводов.
Из всех сил, борющихся против инстинктивного индивидуализма человека, наименьшее значение имеет религия. Она ни в каком смысле не выражает человеческой потребности; наоборот, она может служить хорошим мерилом человеческого невежества и легковерия. Громадное большинство людей никогда не задумывалось над загадками мироздания или существования человека. Нелюбопытные от природы, они довольствуются тем, что живут. Самый факт, что они во все времена готовы были принять любое нелепое вероучение, свидетельствует не о чем ином, как об отсутствии интереса к этой проблеме. Потребность людей в религии не больше, чем потребность в алкоголе. Отсутствие интереса заставляло людей оставаться невежественными. И их же невежество делало их объектом психических манипуляций любого ясновидца или шарлатана.
Мы теперь знаем, что у детей нет инстинктивного страха темноты, и знаем, как поразительно легко наполнить ребенка ужасом перед ней. Разве такая доверчивость ребенка есть проявление потребности верить в привидения? Запугивание людей, очевидно, могло быть с успехом использовано для своей выгоды людьми, владевшими необходимым для этого даром. Оно превратилось в бизнес, возможно, даже было первой деловой деятельностью или свободной профессией, организованной на современный лад. Соглашение и сотрудничество между соперничающими лицами, использующими человеческое легковерие, должно было вскоре стать необходимым, и в результате произошла кодификация пугал и установление профессионального жречества. Появилась существенная необходимость контролировать все знание, сделать его монополией священников. Это было выполнено, и выполнено основательно. А для того, чтобы усилить свое общественное значение, жрецы использовали уже процветающий институт нравственности так, как будто это была их собственность. Вот это был мастерский ход! И даже сейчас, в наш век, когда религиозные догмы дискредитированы, продолжает жить представление, будто бы церковь все-таки была важной нравственной силой, да и сейчас она такова.
Но вернемся к Игдлорссуиту. Здесь, например, хорошие охотники, умеющие работать и жить, во главе общества посадили помощником пастора жалкое, подслеповатое, незначительное существо. Помощник пастора должен учить их быть хорошими! Народ здесь обладает инстинктивной мудростью и дает религии возможность существовать.
Приближается драматический момент года — окончательный заход солнца, последний закат перед двухмесячной ночью. Дни быстро укорачиваются. Сейчас золотистый вечерний свет приходится на полдень, и то освещаются только лишь горы на другой стороне пролива. Несколько миль, отделяющие нас от них, лежат в тени нашего острова Убекент.
Суббота, 14 ноября. За последнее время было несколько дней рождения и, следовательно, много кафемиков. Не так давно днем я услышал, как открылась наружная дверь, затем после паузы послышались приглушенные голоса, кто-то вытирал ноги о половик. Затем душераздирающие крики и плач ребенка, и дверь в комнату отворилась. В дверях стоял красавец мальчик Оттисен, державший за руку ревущего младшего брата. Лицо маленького покраснело и было залито слезами. Как мне показалось, оно исказилось от страха и усилий, необходимых для крика. Но фигурка ребенка была привлекательна — он был аккуратно наряжен, на ногах новые камики. Значит, у этого ребенка сегодня день рождения, и он пришел пригласить к себе Саламину и меня пить кофе. Я поспешно выдал ему банку сгущенного молока. Мальчуган охотно взял ее, но вопить не переставал.
Мы отправились на кафемик. Я взял с собой великолепный новый кнут, сделанный Рудольфом и подаренный мне, чтобы практиковаться на ходу. В доме была обычная темная прихожая; там лежали два или три щенка. "Не рискованно ли положить здесь кнут?" — подумал я. В прихожей стоял высокий ящик, а больших собак поблизости не было. Кроме того, входную дверь обычно держат закрытой. Я аккуратно положил кнут сверху на ящик, и мы вошли.
Енс — крохотный человечек, хороший охотник, он очень дружелюбен. Уже собралась небольшая группа, и на столе стояло три или четыре настоящих чашки с блюдцами. Ожидали только нашего прихода, чтобы начать кафемик. Виновник торжества смотрел на меня с недоверием.
— Милый мальчик, — попробовал сказать я, — иди сюда, ко мне.
Он сейчас же снова расплакался и, успев отдохнуть за несколько минут перерыва, завопил с новой силой. Но всем, к счастью, это казалось забавным, так что и ребенок внес свой вклад в празднество.
Его единственным соперником в активных видах развлечения была, собственно говоря, только Шарлотта. Стоило ей лишь войти в дверь и заметить меня, как она принялась скакать и петь обрывки каких-то песен, заставлявшие всех корчиться от смеха. И она тоже смеялась. После каждой песенки Шарлотта откидывалась назад на нарах, сузив свои маленькие глаза, с искаженным от смеха лицом. Веселье это было непристойным, так как ее песни носили большей частью эротический характер. А в одной из них, кажется, содержался намек на то, что я будто бы ухаживаю за Шарлоттой — мысль, конечно, забавная. И Шарлотта все пела, а потом смеялась так, что у нее начинало течь из носу. Тогда она сморкалась с помощью пальцев и, так как она находилась в обществе, вытирала их не о нары, а о собственные камики.
Я могу только сказать, что если Шарлотта — типичная представительница женщин старых нравов, то нынешний гренландский быт лишился одной из радостей жизни. Потому что никто из присутствующих ничего больше не дал для общего веселья. Все сидели и смеялись, но молчали. И конечно, если бы, соперничая с песнями Шарлотты, кто-нибудь запел лютеранский гимн, это было бы довольно глупо. Шарлотте захотелось выкурить сигарету. Я опорожнил ей в руку свой кисет; она была рада. Мы сказали ей спасибо, попрощались и вышли. В прихожей было полно собак — ступить некуда. Они ели мой кнут.
* * *
Кнуд Нильсен, вернувшийся с мыса Упернавик, сразу же пришел ко мне в гости. Мы выпили вместе шнапсу, потом повторили, и, так как наступило время ужинать, я пригласил его поесть с нами. Еды было мало, и Саламина за стол не села. Позже она поела тюленьего мяса.
Кнуд — очаровательный парень, и не удивительно, что за ним, по словам Саламины, бегают все девчонки. Интерес Кнуда к эротике облегчает болтовню с ним, ибо любовь и женщины — тема довольно примитивная, не требующая многих слов. (…)
Кнуд — один из самых любимых, наиболее популярных, больше всего почитаемых членов общины, член коммунерода (поселкового совета, состоящего из гренландцев и представляющего собой высшую инстанцию в местных делах), первоклассный охотник, довольно хороший муж, безукоризненный отец. Это человек, который по-настоящему содержит свою семью, ни к кому не обращаясь за помощью.
Я рассказал Кнуду о несчастном случае с моим кнутом. Он обещал мне дать новый. За ужином мы пили пиво и шнапс, после ужина — шнапс и пиво. И когда на столе стояла пустая бутылка из-под шнапса и четыре пустых пивных бутылки, а стрелки часов стояли на 9.30 или 10, мы втроем отправились на танцы. Ночь была ясная, звездная; в южной части горизонта слабо светилось северное сияние. Все было тихо. До нас доносились слабые звуки танцевальной музыки. Маленькое помещение было набито битком.
Веселье Кнуда вдохнуло жизнь во всех. Мы окунулись в толпу танцующих, стояли, топали и кружились с лучшими танцорами. Вдруг я заметил грустное лицо брата Кнуда, доброго Северина, который несколько дней назад так терпеливо водил по берегу Бойе. Я взял его под руку и вывел на улицу. Мы пересекли большой ледник Стьернебо и взобрались на гору к моему дому. Там мы сели за стол друг против друга, и я налил два шнапса.
— Скооль! За здоровье! — сказал я, глядя на Северина.
И тут меня охватила настоящая тоска по родине, желание поговорить с этим человеком, поделиться с ним мыслями, накопившимися за шесть месяцев. Потому что, клянусь всем святым, передо мной был не Северин, гренландец из Игдлорссуита, а воплощенный в него образ одного моего американского друга. Тот же взгляд — немного унылый, те же волосы, нос, глаза, усы.
— Скооль! За здоровье, друг мой Джек! — сказал я.
И странное дело, то, что я нашел друга, вызвало неистребимую потребность поговорить с ним и в то же время глубоко ободрило меня. В конце концов, подумал я, если я лишен оздоравливающей возможности излить душу перед другом, то и избавлен от обычных высказываний Джека все насчет одного и того же — что мужчина только малозначительный, особый отпрыск женщины и т. д. и т. п. Так, совсем не разговаривая, погруженные каждый в свои мысли, «Джек» и я просидели час. И мы оба были очень довольны, когда возвращались на танцы.
* * *
Четверг, 19 ноября. Ночью шел небольшой снег, и при дневном свете стало видно, что в проливе образовалось довольно много льда. День облачный и такой мягкий, что снег может выпасть еще. Во вторник был день рождения Саламины. Утром я подарил ей все, что нужно, на зимнее пальто. Отчасти против ее желания было решено устроить открытый кафемик во второй половине дня. Саламина напекла пирогов, сколько вместила печь, и приготовила недрожжевое тесто, чтобы испечь его у Маргреты в печке.
Дом вымыли и убрали, уложили доски, чтобы было больше мест для сидения, расставили стол и т. д. и т. п. Тем временем я поручил Анине испечь большой торт, который намеревался покрыть мороженым и украсить надписью белыми буквами на шоколадном фоне и красными и белыми свечами. Торт был поистине элегантен. Внутри торта я спрятал пять монет по два эре, одну в пятьдесят эре и одну крону — все это начищенное до блеска.
Гостей пригласили партиями. Сначала Рудольфа, Хендрика, Ганса, Стьернебо, Енса и их семьи. Когда они собрались, я внес торт с зажженными свечами. Изумление и восторг! Каждому сегодняшнему гостю полагалось получить по куску, чтобы каждый имел шанс найти в нем монету. Но долгое время Саламина не разрешала нарезать его, так как все должны были его видеть.
Монета в пятьдесят эре оказалась первой настоящей находкой, раскопанной в торте: она досталась дорогой старой Багите. Гости приходили и уходили. Стало известно, что в торте спрятана крона. Возбуждение росло. Каждый крошил свою порцию торта на кусочки, стремясь найти монету. Гости продолжали еще долго сидеть после того, как выпили кофе. Дом оказался так набит, что по комнате едва можно было двигаться. И вот, когда возбуждение достигло высшей точки, когда в доме уже почти негде было даже стоять, когда только что налили кофе партии старух, крону наконец нашла Абелона Михельсен, женщина шестидесяти трех лет, — худое, похожее на ведьму существо с двумя-тремя выступающими вперед клыками [34]. Она внезапно вскрикнула, поднимая вверх монету, чтобы показать ее. Затем в страшном возбуждении начала петь. Все ревели от смеха, а ободренная Абелона продолжала петь. О, это было великолепно! Абелону взволновал больше азарт этой игры, хотя крона, несомненно, была для нее ценным предметом.
Вечером, конечно, были танцы. Наконец Стьернебо дал согласие, чтобы из маленького склада, используемого для танцев, вынесли еще часть соли. Стало просторнее, и собравшаяся снаружи, замерзшая масса людей смогла войти в склад и немного отогреться.
Вот перечень подарков, полученных Саламиной: материалы на пальто (от меня), небольшая полоска машинной вышивки и полоска белой тюленьей шкуры (от Маргреты), гребень (от Рудольфа), разукрашенный гребень для прически (от Анины), ножницы (от Северина), красивая полоса, вышитая вручную крестиком (от Софьи), носовой платок домашнего изготовления с монограммой в уголке (от дочки помощника пастора), две полосы вышитой тюленьей шкуры (от Карен), два куска мыла, одна крона и любовное письмо, или, вернее, письмо о том, что он покоряется своей судьбе (от Мартина).
Во время всего кафемика Маргрета помогала Саламине — добрая душа!
11 часов утра другого дня. Наблюдатели увидели тюленей, и пять человек отправились в плавание среди льдов, чтобы попытаться добыть зверя.
Вопрос о «цивилизации» не имеет отношения к обсуждению человеческого характера, за исключением того, что она, «цивилизация», определяет род занятий человека. Занятия человека — существенный фактор в числе других факторов, определяющих его характер. Развитая цивилизация связана с многообразием занятий, которые требуют специализации. В результате возникает большее разнообразие человеческих типов, нежели их находится в примитивных обществах. Но если только развитая цивилизация не устранила таких примитивных занятий в их простейшей форме, как рыболовство или мелкое сельское хозяйство, то придется считаться с тем, что в число человеческих типов будет включен и тот, который социологи любят называть "первобытным человеком". Собственно говоря, рассмотрение человеческих характеров, основанное на «цивилизациях», может так далеко увести в сторону, что лучше от него отказаться.
Занятие индивидуума — важнейший фактор в его развитии. Профессию следует сделать основой всякой общей классификации людей. Другой фактор климатические условия. Но их важность состоит главным образом в том, что они влияют на практику профессии. Иными словами, изучение человеческих обществ должно вестись отдельно от изучения человеческих характеров, а человечество, если мы хотим достигнуть истинных обобщений, должно делиться на группы по профессиональному признаку. Тогда социолог, ограниченный изучением политических и общественных явлений отдельно от внутренних качеств, присущих человеку, сможет почувствовать себя свободным от факторов, которые должны были служить для него помехой в постижении чистой науки. Короче говоря, пусть социолог оставит в покое человеческий характер и положится на то, что непонятные силы приспособления делают человека способным действовать в любых условиях.
Будьте осторожны с людьми, которые "служат человечеству". Неприятная особенность священников и реформаторов не в их занятиях — они довольно безобидны, — а в их претензиях. Доктора, как правило, хорошие люди, потому что они заняты не "служением человечеству", как думают некоторые, а тем, что им нравится делать.
* * *
Среда, 23 ноября. Тактика Стьернебо становится довольно понятной. Совершенно ясно, что он, будучи спекулянтом, помешает мне, если только сможет, получать наиболее нужные из здешних продуктов. Первая из двух шкур, годных на подошвенную кожу, отложенная для меня, только что вернулась из растяжки. Это очень плохая шкура. Она просто изрешечена дырками от паразитов и порезами. Несколько дней назад жена Давида, Карен, приходила спросить, не хотим ли мы купить отличную тюленью шкуру (того сорта, какой используется на одежду и голенища камиков). Да, хотим, ответили мы. Она принесла эту шкуру в том виде, как она была снята с животного, и показала ее нам. Хорошо, сказали мы, растяни ее. Спустя два часа шкура была куплена Аниной.
Мы узнали об этом только вечером, хотя мы разговаривали с Аниной и она не упомянула о шкуре. До этой сделки Карен приходила опять к Саламине спросить, не можем ли мы уплатить ей вперед. Саламина сказала, что заплатим, но деньги у меня с собой, а я у Стьернебо. Пусть Карен пойдет туда и попросит Анину передать мне, что нужно, Карен пошла. Когда она вошла, я был у Стьернебо на кухне. Карен обычно очень стеснительна. Войдя в дом, она остановилась и только улыбалась. Анина спросила, что ей нужно. Она хочет поговорить со мной. О чем? Она не захотела отвечать. Я же, не зная, что разговор касается меня, вышел. Карен сказала Анине, в чем дело. Анина заплатила за шкуру — не за меня, а за себя.
Саламина, узнав об этом, страшно возмутилась. Мы пошли к Карен, забрали ее и втроем отправились к Стьернебо. Анины не было дома, за ней послали. Карен целиком стояла на нашей стороне. Анина знала, что шкура обещана нам и что Карен приходила только за тем, чтобы получить у меня деньги. После почти часового препирательства шкура была признана моей.
— Здесь когда-нибудь ловятся нарвалы? — спросил я Стьернебо месяц назад. Я очень хотел заполучить бивень нарвала.
— Нет, — ответил Стьернебо, — никогда.
Вечером после эпизода со шкурой тюленя, когда Саламина и я сидели в доме, на берегу поднялся крик. Саламина выбежала и вернулась сказать мне, что Эмануэль Корнелессен возвращается с ловли с нарвалом.
— Беги скорей, — сказал я, — и купи бивень.
Саламина побежала на берег, но скоро вернулась и сообщила, что Эмануэля еще нет.
— Иди сейчас же обратно, — распорядился я, — и жди. Стьернебо знает, что я хочу достать бивень, и попытается получить его для себя. Анина сейчас будет тут орудовать.
И Саламина побежала опять. Вскоре она возвратилась сияющая. Она встретила Эмануэля как раз, когда он пристал к берегу и вытаскивал свой каяк. Бивень обещан мне. А Анина, конечно, примчалась на это место, но опоздала и ушла домой.
По обыкновению рычали и лаяли собаки и на разделку животного сбежалась куча народу. Я несколько беспокоился о бивне и поэтому пошел на берег следом за Саламиной. Там уже взад и вперед носилась Анина. Тут же Стьернебо величественно практиковался с кнутом на собаках.
— Подойди опять к Эмануэлю, — сказал я Саламине, — и пусть он подтвердит, что бивень мой.
Ей не хотелось приставать к Эмануэлю, так как он был занят. Наконец она подошла. Боже! Бивень уже куплен Стьернебо! Стьернебо в это время, уверенный в своей покупке, устроенной, не знаю как, Аниной, гордо стоял в стороне, щелкая кнутом. Пусть себе стоит. Разыскав Эмануэля в толпе, я держался около него, оставив при себе Саламину. Наконец мы добрались до него — поговорить. С ним был Йонас. Я оставил в стороне рассуждения об этической стороне дела и изложил его так: Стьернебо — одна крона за кило, Кинти — две. Стьернебо — две кроны, Кинти — четыре. Стьернебо — три кроны, Кинти — шесть.
Йонас, поняв меня, объяснил все Эмануэлю и стал его уговаривать.
— Ладно, — сказал Эмануэль, — бивень твой.
Как только мы пришли домой, я послал Саламину заплатить Эмануэлю пять крон, чтобы сделка считалась заключенной. Договорились, что нас известят, когда утром начнется взвешивание добычи. Саламина была тут же. Она стояла рядом с Эмануэлем и привела его с собой к нам в дом с бивнем, который весил три с половиной килограмма! Я заплатил ему двадцать две кроны пятьдесят эре, включая задаток. Было это два дня назад. С тех пор я не подходил близко к Стьернебо.
* * *
Воскресенье, 29 ноября. Вчера был день рождения Елены (дочки Саламины). Ей исполнилось пять лет. Устроили обычный кафемик для всего населения острова. Пришли все, кто мог ходить или ползать. Для остальных собрали чашки и отнесли кофе и пирог им на дом. На то, чтобы напоить кофе все население, ушло три часа. Некоторые, забыв обо всем, сидят долгое время, объедаются пирогом и выкуривают столько сигарет, сколько они в состоянии выкурить. Компания Стьернебо не была приглашена.
Стьернебо сейчас действует нам назло. Он объявил, что устраивать танцы в бондарной можно только в дни рождения. А танцев давно уже не было. Последний раз они устраивались в тот пронзительно холодный вечер, когда Стьернебо по моему настоянию позволил убрать из бондарной мешавшую танцам соль. В сущности Стьернебо рад был этому, в чем он и сознался: соль все равно когда-нибудь пришлось бы убрать, а так это сделано бесплатно. Мы работали целый час, перетаскивая соль; мешки замерзли, превратились в твердые глыбы. Когда работу окончили и подмели пол, было уже около полуночи, поэтому танцы вскоре прекратились.
Произошло это недели две назад. А вчера наступил день рождения Елены, большой кафемик для всех, и все с нетерпением ждали вечера, чтобы потанцевать. Ночь была самая мягкая за последние несколько недель, лунная, субботняя. В заливе стоял лед, и, значит, утром никто не смог бы отправиться на каяке в море. Но Стьернебо не разрешил танцы. Тогда мы пригласили Рудольфа, Хендрика, Северина и их жен, Петера, Амалию, Катрину и Мартина, а потом еще Абрахама и его жену на танцы в моем доме. Люди, которым нечего было делать, осадили дом. Дверь пристройки нам пришлось держать закрытой; и мы чуть не задохнулись от жары.
Затем толпа стала безобразничать, пытаясь силой прорваться внутрь. Все время мы держали у дверей стража — большей частью это была Саламина, которую, естественно, возмущало поведение толпы. Наконец кто-то перерезал ремешок щеколды, лишив нас возможности открыть дверь. Мне сейчас же сказали об этом. Через маленькое стекло в двери я увидел густую толпу у входа. Подобравшись всем телом для прыжка, я бросился на дверь. Щеколда сломалась, и я, изрыгая проклятия, пулей вылетел в толпу. Все обратились в бегство. Продолжая ругаться, я пустился вдогонку, но двое или трое не побежали. Среди них оказался помощник пастора, который стоял у самой двери, когда кто-то перерезал ремешок щеколды. Он довольно жалким тоном стал уверять меня, что это сделал не он.
Затем мы привязали щеколду веревочкой, но озорники продолжали дергать за дверь. Тогда я попросил председателя коммунерода Абрахама Зееба навести порядок. Он обратился ко всем с суровой речью. Помогло, но не очень. Даже в час ночи, когда гости расходились, снаружи еще бродило много народу.
В четверг мы праздновали День благодарения [35]. Устроили обед, на котором были Рудольф, Хендрик, Северин и их жены. Обед прошел с громадным успехом. Ели жареную баранью ногу, жареную картошку, кукурузу со свининой (добавили рису, чтобы блюдо было погуще) и яблочный пирог. Потом танцевали. Разошлись в три часа.
* * *
Вторник, 9 декабря. Прошло больше двух недель после ссоры со Стьернебо. Я уже почти и не вспоминал о нем. Один раз мы встретились на дне рождения у помощника пастора. Нас пригласили по специальной просьбе Анины, когда Стьернебо был там. Мы обменялись ничего не значащими фразами, и я постарался сделать так, чтобы не выйти с ним вместе. Несколько дней назад снова встретились на похоронах и тоже только обменялись приветствиями. Вот и все.
В воскресенье вечером Рудольф и Маргрета рассказали о нем много любопытного.
Стьернебо никогда не дает денег взаймы.
Стьернебо забрал себе половину денег, которые я уплатил Дукаяку прошлой осенью.
Не Стьернебо ударил и сбил с ног Арона, как он рассказывал мне, а Арон схватил его за горло и тряс, как собака крысу.
Стьернебо бьет Анину.
В 1930–1931 годах Матиас Стрит всыпал Стьернебо; он ударил его по лицу ключом от склада.
(Когда Стьернебо жил в Агто, там все знали, что он лгун. У него было много столкновений с жителями, и он так часто угрожал им револьвером, что и он, и его оружие стали предметом презрения.)
Лед стойко держался последние десять дней; все думали, что он уже стал на всю зиму. С новолунием начались сильные ветры. А сегодня лед ломает. Два дня назад мы с Давидом отправились в поездку на моих собаках (Давид охотник, которого я взял себе на службу). В этом году мы первыми совершили поездку по льду. Восхитительно! Давид (Лёвстрём, муж Карен) будет ведать моими собаками.
Охотники поймали несколько тюленей, в том числе два или три крупных. Мы получим одну из больших шкур.
Рудольф и Маргрета поедут с нами в Уманак.
* * *
12 декабря. Известия с фронта! Стьернебо отказался продать мне масло (ламповое) и вместо него дал Тобиасу соленый китовый жир. Обычно каждому гренландцу выдается по два килограмма масла. Рудольф уже внес меня в списки. Стьернебо же, увидев мою фамилию, велел Рудольфу вычеркнуть ее. Я послал ему записку с протестом, требуя объяснения. Стьернебо не ответил, но дал Тобиасу для меня два килограмма. Рудольф по настоянию Стьернебо взял тридцать килограммов масла. Он половину тайком отдает мне.
Тишле убил тюленя с отличной шкурой. Маргрета пошла к нему и договорилась о цене. В это время появилась Анина. Когда Маргрета ушла, Анина осталась и купила шкуру, заплатив на крону больше.
Ладно! У Давида была большая шкура — для каяка. Анина помчалась к нему и купила ее. Только что я послал Саламину заплатить на крону больше и тут же выложить деньги. Шкура у меня!
Суббота перед Рождеством. Приготовили и завернули двести подарков: сорок пять мешочков конфет, двадцать два рога изобилия — красота!
За занавеской, подвешенной к потолку, стоит готовая и украшенная «елка». Мы внушили Елене, будто бы там, за занавеской, прячется человек, и она побаивается его.
Юстина — маленькая кифак Абрахама Зееба. Бедняжка! Она простовата, и ее жестоко дразнят. Юстина говорит, что любит меня, потому что ей сказали, будто бы я люблю ее. И Юстина всем рассказывает об этом: так она счастлива. У нее есть тридцать эре. Она говорит, что пойдет в лавку и купит два с половиной грамма кофе, два с половиной грамма сахару, одну свечу, сухарей и сливочного масла, сигарет, одну сигару [36]. Ну что ж, она получит от меня в рождественском подарке все это плюс один анорак, один шелковый пояс, один носовой платок, одно ожерелье, шоколад, одну крону, одну банку сгущенного молока, один кусок мыла (вот это ей нужно), одну банку джема. Все эти подарки, завернутые в отдельности, ей дадут в присутствии множества народу. Она будет очень гордиться.
Юстина Ане Леа Лееб родилась в 1915 году. Она умеет считать до десяти по пальцам рук и до двадцати, когда снимает камики и считает по пальцам ног.
* * *
Воскресенье, 20 декабря. Небо чистое. В полдень взошла луна. Горы освещены льющимся с запада светом. Фотографировал. Диафрагма 6,3, выдержка 15 секунд. Холодно и тихо. Лед образуется снова. Сегодня два кафемика. (Фотография вышла хорошо.)
Гравировал вчера на дереве рождественский рисунок, а сегодня обнаружил, что у меня нет краски, чтобы делать оттиски. Пробовал масляную, но ничего не получилось.
Вчера вечером неожиданная трагедия. Саламина сидела и шила за обеденным столом, я работал за письменным. Окончив работу, я пересел к ее столу, чтобы почитать. С минуту пытался читать, но свет оказался очень плохим. Я в негодовании воскликнул: "Айорпок!" (гадость!) — и пересел обратно к письменному столу. Читал три четверти часа, Саламина продолжала шить. Пора было ложиться спать. Саламина встала. Я заговорил с ней, она не ответила. Внимательно посмотрел на нее и увидел, что лицо ее в пятнах и покраснело от слез. Изумленный, спросил ее, что случилось. Она разразилась горькими упреками за то, что я сказал ей «гадость».
* * *
28 декабря. Кончилось Рождество! Чувствуем себя после него растерянными, замороченными. Сейчас, проспав одиннадцать часов, расставил все на своем рабочем столе и уселся за него. На оконных стеклах и на подоконнике за занавеской нарос слой льда. Сейчас зажгли свечи, чтобы растопить его.
Рождественский праздник начался утром 24 декабря. Мы не могли никуда пойти на кафемики — были заняты украшением дома и приготовлением вечернего пира. Пир удался отлично. Рудольф и Маргрета, Хендрик и Софья, Абрахам и Луиза, Катрина (она работала, помогала Саламине). Меню: барашек, томаты, кукуруза, маисовая каша, рис с мясом и спагетти, запеченные с сыром. Плум-пудинг. Гости не решались приступить ко всей этой еде. Шнапс, виски и пиво. Позже танцы; пригласили еще Мартина. Подарки всем.
Днем 24-го пошли в церковь. Полно. Все одеты в лучшее, что у них есть. Большой хор. Пели действительно хорошо. Пели почти все.
День Рождества, 12 часов 30 минут. Все дети поселка пришли к нам в дом. Каждый получил мешочек конфет и подарок. В два часа началось угощение взрослых. Саламина, Сара и Катрина подавали. Гостей приглашали через получасовые промежутки группами по десять — одиннадцать человек. Гороховый суп и вкусное мясо белухи, кроме того, хлеб с маслом и пиво каждому в таком количестве, сколько он в состоянии был поглотить. Потом гости шли к Софье пить кофе (угощал я). Так и шло всю вторую половину дня. Вскоре после того, как началось угощение, вне очереди появилась Шарлотта. Она была в восхищении от подарков, смеялась и вскрикивала, корча гримасы. Стьернебо, Анина и Елена удостоили нас своим посещением. От еды они отказались.
Кнуд, вернувшийся днем в поселок, провел рождественскую ночь у нас. Кафемики не прекращались целый день. Мы не были ни на одном.
На следующий день, 26-го, празднество продолжалось. Мы ходили на бесчисленные кафемики. Все дома к рождеству были украшены, в некоторых смастерили большие «елки». В домах было чисто, прибрано. Бойе подарил нам бумажные корзиночки собственного изготовления и каждому по бумажному датскому флагу.
В моей корзиночке лежало три куска сахару.
В четыре часа кафемик у Стьернебо; помощник пастора с женой, Рудольф с женой. Много пирогов, много стаканчиков рому.
В этот вечер Кнуд, Рудольф с Маргретой, Хендрик с Софьей и Катрина обедали у нас. Рагу из солонины, капуста и остатки от вчерашнего обеда. Шнапс, пиво и пр. Затем Рудольф, Катрина, Маргрета и я взяли две бутылки шнапса и пошли из дома в дом угощать всех подряд. Мы входили, наливали рюмки и уходили. Это было весело. В одном доме уже легли спать. Неважно! Они выпили свои рюмки, сидя в постели.
Обойдя все дома, вернулись ко мне и освободили место для танцев. Послали за Мартином и Нильсом, Бойе с Сарой, и Юстиной. Юстина была центром вечера. Мы по очереди танцевали с ней, держа ее на руках и передавая друг другу. Наконец ее передали маленькому Тобиасу, который, конечно, был тут же, но он свалился под этим легким грузом. Между танцами, само собой разумеется, Юстина сидела у меня на коленях и время от времени самым деловым тоном требовала, чтобы я поцеловал ее, и каждый раз говорила спасибо.
Сегодня Давид, Саламина и я совершили продолжительную поездку, покрыв почти полдороги до острова Упернавик. Мы проехали по нескольким невероятно трудным участкам неровного льда. Я бы не поверил, что это будет возможно.
Когда мы вернулись, Кнуд, проведший ночь на острове Упернавик, уже был здесь. Ночевал он у меня. В доме его отца еще продолжают болеть.
* * *
3 января 1932 года. Новый год в Гренландии — праздник. Стрельба из ружей начинается 30 декабря, и продолжается всю ночь. Следующая ночь была занята хождением в гости. За дверью моего дома раздался выстрел, и к нам ворвалась Беата. Она что-то кричала мне по-гренландски, забавно скалила зубы. Она попробовала «подстрелить» у меня одну крону. Предвидя, что вскоре последует массовое обращение в мой «банк» за ссудами, я сказал ей «нет». Все, что у меня было, я роздал на Рождество. Но сигареты — пожалуйста! Я дал ей горсть, и она была в восторге. Весь день продолжалась эта «стрельба»; большей частью приходили мальчики в праздничных нарядах. Они являлись по одному или группами, вежливо пожимали мне руку и потом стояли в смущенном ожидании. Уходили они с сигаретами.
Вечером пришел Кнуд и принес красивый маленький кожаный кисет, вышитый Амалией: мне от нее. Я послал Кнуда за женой. Пришли Рудольф и Маргрета, и мы принялись есть и пить. Появился Хендрик. Он принес мне в подарок от Софьи кожаный футляр для спичечной коробки и вязаный кисет. Послали за Софьей. Опять пили. Затем принесли пакет от Саламины Нильсен (жены Северина) — коврик из шкуры детеныша тюленя на подкладке из великолепно тисненной тюленьей шкуры.
Гости разошлись, а мы с Саламиной, взяв полбутылки виски, отправились в иглу Ганса Нильсена угощать там больных и выздоравливающих. Затем пошли к Рудольфу; опять виски. После пили кофе то у одного, то у другого. Кнуд, Саламина, Маргрета и Рудольф пили кофе у Рудольфа. Вошла Анина. С чего я начал, не помню, но я высказал Анине, насколько мизерны ее попытки походить на леди и как жалок и недостоин ее унизительный страх перед Стьернебо. Я напомнил ей, что она хотела подарить мне кожаную вышивку, но Стьернебо запретил ей. Все решительно поддержали меня. Анина расплакалась. Надеюсь, все это пойдет ей на пользу; присутствующие тоже сочли, что так и будет. Анина ушла. В 3 часа 30 минут я отправился спать, выпив более чем достаточно.
На следующий день в 12 часов 30 минут Саламина, Давид и я поехали на санях в Нугатсиак. Мартин сопровождал нас на своей упряжке. День был великолепный — тихий, безоблачный, для зимнего времени мягкий. Горы светились розовым светом, который шел с юга. Вскоре, оглянувшись назад, мы увидели горы нашего острова, темно-фиолетовые на фоне южной стороны небосклона. Ехали хорошо. Встречались большие участки льда настолько гладкие, что на них можно было бы кататься на коньках. В других местах лед был немного шероховат и приятно хрустел под полозьями. Ближе к суше встретились гряды торошенных льдов — настоящие ледяные баррикады, казавшиеся недоступными для упряжек. Но мы проехали и через них.
Саламина оставалась на санях, а Давид и я шли впереди с собаками или помогали тащить сани. Все шло хорошо, пока мы не добрались до острова Каррат. Внезапно стали попадаться участки чистой воды — от небольших разводий до настоящих озер, а к востоку от нас простиралась огромная полынья. Мы оказались на молодом льду. Упряжки остановились. Давид прошел вперед обследовать дорогу.
Тщательно осмотрев и попробовав лед во многих местах, он решил, что продолжать путь можно. Саламину пересадили на сани Мартина. Давид шел впереди, я со своей упряжкой следовал за ним. Двигаясь таким образом, мы наконец увидели огни Нугатсиака и почти одновременно обнаружили, что путь наш перерезан полосой чистой воды. Отвернули к западу. Доехали до небольшого айсберга. Давид и Мартин взобрались на него, стали осматривать дорогу. Плохо дело! Нам ничего не оставалось, как изменить курс и потом добираться обратно в Нугатсиак, придерживаясь самого берега.
Давид, пробуя лед, бежал впереди бульшую часть пути. Крюк был большой, но он привел нас к цели. Вскоре мы оказались невдалеке от берега; немного спустя опять впереди, но уже совсем близко появились огни Нугатсиака. Когда мы выехали на берег, нам навстречу стали спускаться по крутому склону люди. Подстегиваемые кнутом собаки сделали последнее усилие, втащили сани на склон. Мы приехали!
Перед этим моя черная собака чуть не свалилась; она шаталась как пьяная (результат непривычного для нее кормления свежим акульим мясом). Ее выпрягли и положили на сани. Давид работал у саней. Многие помогали нам разгружать их и носить вещи в дом бестирера Павии. Ах, как там было славно и тепло! И вскоре мы уже пили кофе.
Когда кончили, пришел помощник пастора звать нас к себе на кофе. А вернувшись к Павии, мы застали здесь троих стариков. Они пели, плясали и были в восторге, когда я присоединился к ним. Затем в здании склада начались танцы. Сначала играл на гармонике помощник пастора, потом другой мужчина, потом женщина. Жарко! Опять пили кофе у Павии.
Саламину и меня уложили на полу в столовой Павии. Спали крепко. Утром кофе. Потом кофе и рыба в доме Эскиаса (бывшего школьного учителя). Отличный парень! Немного говорит по-датски, немного играет на скрипке. У него пять славных маленьких ребятишек. Затем — кофе у помощника пастора. Потом отъезд. Павиа подарил мне хорошую оленью шкуру. Как он ненавидит Стьернебо!
На обратном пути мы некоторое время придерживались берега, а потом взяли курс прямо на Игдлорссуит. Изумительный день — тихий, мягкий. Айсберги выделялись как горы, темно-зеленые на фоне тускло-красного и золотого неба. Близ Игдлорссуита лед местами был очень неровен. Обратный путь проделали за четыре часа (а туда шли шесть часов). Перебираясь через тяжелые гряды торосов, я раза два падал и сегодня чувствую боль от ушибов с головы до ног.
К нашему возвращению дом был вымыт, чист. И было тепло — топилась печь. Все это сделала Катрина. Рудольф, Маргрета и Катрина ужинали с нами. Тюленья печень, картошка, кукуруза и консервированные персики.
Из-за тяжелых ледовых условий в эту зиму совсем не ловились тюлени и акулы. Собаки умирали от голода. Йонас выделил мне собачьего корму, за который я заплатил ему одну крону.
Никак не могу забыть бедную маленькую глухонемую в Нугатсиаке, которая все время прикрывала свой рот.
В той стороне, где море, видны полосы густого тумана. (…)
* * *
6 января. Встал в восемь. С час перед этим лежал в своей постели на полу, в полусне смутно сознавая, что Саламина работает, комната освещена и в ней постепенно приятно теплеет. И вдруг я проснулся, но не для того, чтобы начать обыденное существование, а чтобы вступить в мир, полный прекрасного пения. Оно шло с улицы — чудная торжественная рождественская песня в исполнении многоголосого хора. Волнующее событие!
Я быстро оделся. Что делать? Мы зажгли лампу и поставили ее на окно, потом зажгли маленькие рождественские свечки. Свет падал на снег, на стоящих снаружи людей, смутно видневшихся сквозь замерзшие стекла. Кончив один длинный гимн, они начали другой. Когда допели и этот, я вышел к ним с конфетами и сигаретами. Было холодно, тихо и темно. Очертания людских фигур скрадывал падающий снег, но на небе сияли редкие звезды.
— Спасибо, спасибо! — благодарили певцы за то немногое, что я им вынес. Мне же хотелось плакать, благодарить их за принесенную ими красоту.
В своем большинстве хор состоял из мальчиков, но там было несколько девочек и молодых женщин, в том числе Сара и Анна. И конечно, тут же подвизался Ёрген. Религия, музыка и плотская любовь — единственное, что вызывает в нем энтузиазм, да, собственно говоря, он и занят только этим. Он ничего не делает. Сейчас, когда мужья по целым дням отсутствуют, охотясь на льду, Ёрген ходит в гости к их женам и развлекает или пытается развлечь одиноких женщин. Истории его любовных похождений — наслаждение кумушек.
Карен, жена Давида — бойкая, забавная маленькая женщина, вечно смеющаяся. Она очень смеялась, рассказывая нам вчера вечером историю о Ёргене. Несколько дней назад, когда она и Давид уже легли спать и Давид уснул, пришел Ёрген. Карен притворилась спящей и стала наблюдать, что будет дальше. С Давидом и Карен живет одна женщина, по имени Аннике, — странное, робкое существо. У Аннике такой вид, будто она умрет от смущения, если ее поцелует мужчина. Аннике уже легла. Ёрген подкрался к ней, говорит:
— Аннике, пусти меня лечь с тобой, я дам тебе кофе.
— Ладно, — ответила она.
Когда Ёрген исполнил свою мужскую обязанность, Аннике спросила:
— Теперь я получу свой кофе?
— Нет, не получишь, — ответил Ёрген, этот настоящий обманщик.
Карен при этом расхохоталась; они все смеялись…
Карен рассказала, что Ёрген предложил и ей проводить с ним в постели те дни, когда Давид будет уходить на охоту. Давид, присутствовавший при этом рассказе, смеялся так же весело, как и она.
Сеть на тюленей у Давида наконец готова. Он только что выехал на моих собаках, уложив на сани каяк и сеть; это будет первый день нашего общего промысла. Давид направился на юг, где в Уманакском заливе есть чистая вода. Сейчас каждый день народ возвращается с тюленями.
* * *
У Рудольфа двенадцать собак, на него работают Тишле и Эмануэль. Дважды я присутствовал в дома Рудольфа при разделке тюленьей туши. Делается это ловко и чисто. Тюленя вносят на кухню, кладут на спину. Шкуру разрезают от головы до хвоста. Кишки вынимают и кладут в ведро, а печень, сердце и почки — деликатесы! — на блюдо. Затем, почти бескровно, отделяют от мяса шкуру и жировой слой. Тушу разрубают, лучшие части отбирают в пищу людям, остальное идет на корм собакам. Затем сало срезают со шкуры, скатывают ее, и разделка окончена. Через десять минут Катрина кончает мыть пол, и кухня чище, чем была.
Печень обычно едят сырой. Она очень вкусна. Часто охотник вырезает ее сразу же после поимки животного и тут же съедает. Он прорезает в брюхе отверстие, достаточное, чтобы просунуть туда руку, добирается до печени и вытаскивает. Вареное сердце превосходно. Вкус, как у бараньих почек.
* * *
7 января. Вчера вечером окончились рождественские праздники. Несмотря на запрет помощника пастора, ряженые праздновали крещенский вечер. Ряженых называют «кивитоками», как тех людей, которые сходят с ума и убегают, чтобы жить в одиночестве. Мы напоили кофе утренних менестрелей. Они ушли, и вслед за ними пришли Кнуд, Рудольф с Маргретой, Хендрик с Софьей, Йонас, его жена Елизавета и Юстина. Только они ушли, как снаружи послышался звук многих голосов. Потом раздались шаги в прихожей, стук в дверь, и в комнату вошли три странных существа, одетые в меха и шкуры, с вымазанными сажей лицами, так что почти нельзя было узнать, кто это. Оказалось, это Карен, Аннике и жена Йонаса. Они начали скакать и танцевать по комнате, не произнося при этом ни слова. Аннике очень забавно виляла своим увеличенным задом. Все представление носило сугубо эротический характер. Мы дали ряженым сигарет и шоколаду, и они отправились в другой дом. Позже молодой Исаак, сын Йонаса, пришел к Маргрете. Из собачьей шкуры он сделал себе голову удивительного животного и весь был одет в тюленьи шкуры. Он забавно плясал.
Я прогулялся по берегу, но немного: стоял жестокий мороз. Вышла Юстина и взяла меня под руку. На ней был лишь тонкий бумажный анорак, надетый на рубашку без рукавов; руки без варежек. Юстина — феномен, забавляющий даже гренландцев.
* * *
9 января. Признав, что гренландцы — люди совсем другой культуры, но по своему характеру в основном похожи на нас, мы можем, наблюдая их жизнь, искать ключ к тому, что в конце концов существенно и для нас. Здесь перед нами жизнь, сведенная к ее почти простейшим формам. Простота эта столь же ясна, как и пейзаж моря и голых скал. Здесь живут люди, у которых, пожалуй, нет ничего, кроме предметов первой необходимости. И тем не менее они не только живут в этих условиях, но на протяжении веков при полной бедности стали такими, как все мы.
Мы говорим: "Не хлебом единым жив человек", и нам приятно верить, что большинство изысканных и полезных вещей — составная часть цивилизованного существования — необходимы для жизни высокоразвитого человека. Но вот люди; тождество между ними и собой я ощущаю так же сильно, как между собой и своими друзьями на родине. У них нет религии, искусства, театра, кино, нет литературы, никакого культурного руководства. У них нет науки, изобретений, политики, правительства. Что у них есть?
Возьмем Давида и Карен. У них есть следующее. Дом — десять на двенадцать футов. Печь, кастрюля, чайник, чашка с блюдцем, стеатитовая лампа, стол, скамья, сундук, нары, постели, по два комплекта одежды у каждого. Двое детей. Одежда для детей. У Давида есть каяк, ружье. Вот полный перечень их «внешних» ресурсов. А вот внутренние их данные для жизни в обществе — дар слова, умение любить, танцевать и аппетит к еде и сну. И конечно, у них есть сила, чтобы работать. И это все, что у них есть, и все, что их раса имела, вероятно, во все времена. Но Давид и Карен и их маленькие дети точь-в-точь такие же, как Давиды и Карены и их дети в Дании или Америке. Они совершенно счастливы. Они живут своей жизнью почти без участия воли, они функционируют. У них нет стремлений, нет цели, к которой они могут стремиться. Они счастливы. Вполне вероятно, что, чем более жизнь приближается к такому существованию без стремлений, тем ближе люди к счастью.
* * *
Я давно не делал записей о Саламине и наших домашних отношениях. События двух последних дней могут служить примером ситуаций, которые создавались время от времени. Позавчера из Нугатсиака приехал Павиа. Я пришел домой в 4 и сказал Саламине, что у нас будут обедать восемь человек и мы будем есть белых куропаток. Саламина начала бушевать. Во-первых, зачем приглашен Кнуд? Затем — куропатки: они, мол, заморожены, мы не успеем их приготовить. Саламина принесла куропаток и в ярости швырнула их на пол.
— Хорошо, — сказал я, вскипая, — не надо куропаток, — и вынес их в кладовую пристройки, — но, Саламина, обед на восемь человек все же приготовь.
Саламина ушла и снова принесла куропаток. Она бесилась. Я приказал ей прекратить все это. Тогда она начала плакать. Атмосфера накалялась. Наконец, выйдя из себя, я сказал ей:
— Силамут! Уходи! Иди к кому-нибудь из друзей и оставайся у них, а я приготовлю обед.
— Саламина силамут? Саламина силамут! — кричала она, собираясь тащить свой сундук к дверям. — Помоги мне отнести его к Маргрете.
Я отказался, и она задвинула сундук обратно. Теперь она плакала еще сильнее. Это было ужасно! Я попытался успокоить ее, но безрезультатно. Вид у нее стал страшный — лицо воспалилось, глаза покраснели. Я послал за Катриной, чтобы она помогала.
Куропатки оттаяли, их ощипали и разделали; обед был готов за полчаса до прихода гостей. Саламина, видимо, справилась со своим настроением.
Гостями были Рудольф с Маргретой, Кнуд и Саламина Нильсен, Павиа и Катрина. Сели обедать. Женщины пили портвейн и пиво, мужчины — шнапс и пиво. Вскоре Саламина, которая, казалось, пила мало, приняла трагический вид. На глазах у нее показались слезы. Я поспешил предложить выпить за ее здоровье. Но это только ускорило события. Она начала плакать.
— Кинти сказал мне силамут, — всхлипывала она, — Саламина силамут!
Чем больше ее пытались успокоить, тем сильнее она расстраивалась. На минуту она вышла из-за стола.
— Она пила очень мало, — сказал я вполголоса Рудольфу, — а шнапса совсем не пила.
Саламина услышала, что я сказал. Какой у нее острый слух!
— Я слышала, — крикнула она, — Саламина не пила шнапса. Саламина хочет шнапсу!
Рудольф налил ей полрюмки, и, когда на мгновение она, рыдая, спрятала лицо, я выпил ее шнапс: она уже забыла о нем. Но теперь, всхлипывая и стеная, она вцепилась в меня. И чем больше я пытался уклониться, тем настойчивее и безумнее она делалась. Вдруг Саламина закричала, что сейчас же отправится в горы. И она вышла. Кнуд погнался за ней, привел ее назад силой. Но рукав ее нового анорака был изорван в клочья.
Тут начался ад. Саламина пыталась ударить меня по лицу. Мы вдвоем удерживали ее. Это было позорное зрелище. В довершение всего Павиа, немного прихвастнувший своим умением пить, совсем опьянел, и его отвратительно тошнило. Но на это никто не обращал внимания, предоставив Рудольфу заботиться о нем.
От нас гости пошли к Рудольфу. Я решил отделаться от Саламины, вернулся домой, постлал себе и лег. Внезапно появился Рудольф, чтобы пожелать нам спокойной ночи и посмотреть, все ли в порядке.
На следующий день Саламина была полна трогательного раскаяния. Я же, решив, что ее необходимо проучить, оставался с ней совершенно холоден. Должно быть, накануне она заснула в слезах и вскоре опять начала плакать. Я лег спать, а она долго стояла около меня на коленях и плакала. Сегодня утром у нее красные глаза. Когда я кончал завтракать, Саламина перешла на мою сторону стола, прижалась ко мне, положила голову на плечо и заплакала.
* * *
25 января. Сведения о состоянии льда между нашим островом и Уманаком были неблагоприятные, но во вторник, 23 января, мы с Давидом все же выехали в 8 утра, чтобы попробовать добраться туда через Кангердлуарссук-фьорд, а затем по суше через узкую часть полуострова в Кангердлуарссук.
Мы отправились прекрасным ранним утром. Луны не было. Звезды, сплошная белизна суши и замерзшего моря излучали слабый свет. Завеса снежного тумана, висевшего низко над землей, скорее чувствовалась, нежели была видна. Одна из собак из-за пореза передней лапы хромала, но мы все же решили взять ее.
С места наши упряжки рванули дружно. Рудольф, который пришел с Маргретой проводить нас, держал свою упряжку наготове и, когда мы спускались на лед, догнал нас. С минуту слышался отчаянный лай собак: обе упряжки сцепились на бегу. Ударами кнута их быстро разняли.
— Инувдлуарна! Прощай!
— Ивдлитдло! Прощай и ты!
Мы удаляемся. Вот на льду появляется человеческая фигура. Это — Томас Лёвстрём, осматривающий свои удочки на акул.
— Инувдлуарна, Томас!
— Ивдлитдло!
И нас поглощает ночь. Нет ничего, кроме звезд, снега и льда. На западе северное сияние тихо колышет световой занавес над снежными вершинами нашего острова. Холодно, а я недостаточно тепло одет. Бегу позади саней — чтобы согреться и от избытка энергии: мне кажется, что я могу пробежать сто миль. Бегу, пока не становится жарко. Потом, отдыхая, быстро начинаю мерзнуть, и это заставляет меня опять бежать. Можно надеть верхнюю одежду из оленьих шкур, верхний камигмит из тюленьей шкуры, закутаться в шкуру гуанако и лежать на санях. Но мне не хочется. Бежать так приятно.
До входа в Кангердлуарссук-фьорд пятнадцать миль, три часа с лишним езды. Лед довольно неровный, временами попадаются гряды торосов. Когда мы огибали северную оконечность острова Упернавик, наступил день. Рассвело настолько, насколько возможно в это время года. Лед фьорда гладкий, как стол, и лишь слегка присыпан снегом. Но вот собаки натягивают ремни упряжки, сани скользят по снегу с трудом, со скрипом, будто их тащат по стеклянной шкурке.
— Плохо, — говорит Давид.
Теперь приходится бежать не когда захочется, а все время, хотим мы этого или нет. Один из нас должен оставаться на санях, хотя для собак было бы лучше, если бы на сани никто не садился. Пейзаж Кангердлуарссук-фьорда грандиозен, но в белом одеянии он не производит такого грозного впечатления, как в тот бурный сентябрьский день, когда я проплывал по фьорду на «Нае». Только вершины гор, как и тогда, теряются в облаках.
В устье Инукагсиак-фьорда при въезде в длинный внутренний рукав Кангердлуарссука нас опять настигла ночь. В лицо дул холодный ветер. Я замерз и натянул на себя доху из оленьих шкур. К тому же от непривычки бегать в камиках я начал хромать и боялся, что повредил стопу. От постоянного ношения камиков я уже испытывал неприятные ощущения в стопе, а сейчас это превратилось в настоящую боль. Давид тоже начал хромать, но он не жаловался. И все-таки мы вынуждены были идти пешком.
Дневной переход намечалось закончить с расчетом, чтобы можно было добраться до Уманака за три дня, поэтому мы не останавливались и все шли и шли.
Наша еда состояла из сухарей, шоколада и кофе, который мы пили из термоса во время езды. Не понимаю, почему мы так медленно двигались? Почти все время скорость продвижения была больше, чем при быстрой ходьбе, и, чтобы не отставать от собак, мы были вынуждены бежать рысью со скоростью приблизительно около четырех миль в час. И все же, когда в полной темноте облачной ночи мы наконец достигли места ночной стоянки в конце фьорда, было ровно 9 часов. Мы пробыли в пути 13 часов, покрыв расстояние в 45 миль.
Там, где мы остановились, есть пещера, в которой обычно спят гренландцы, едущие этой дорогой, — узкая, защищенная от ветра трещина в скале. Пол пещеры был покрыт снегом, и Давид сообщил, что внутри очень мокро. Ладно, воспользуемся моей палаткой!
Я не знал, как ставится палатка на льду, и теперь с удовлетворением отметил, что Давид, хоть он и гренландец, знает еще меньше меня. Как-нибудь, подумал я, да устроится. Так и вышло. Давид взял пешню и пробил во льду на расстоянии трех дюймов друг от друга две ямки и затем проделал между ними сквозное отверстие. Образовался ледяной мостик. Давид отцепил ремни упряжи от саней, пропустил один из ее концов под арку мостика и связал оба конца. Собаки оказались привязанными ко льду.
Палатка была малюсенькая, на одного человека, с полотнищем для пола. Я разостлал полотнище на льду и подтащил сани, чтобы они служили якорем для главного заднего шеста.
— Ну-ка, Давид, сделай здесь для переднего шеста такую же дыру с мостиком.
На берегу нашлись небольшие камни — они сгодились, чтобы придавить боковые полотнища. Через пять минут палатка была уже поставлена, и я разжигал примус. Через десять минут в маленькой палатке было так жарко, что мы откинули полотнище входа, чтобы проходил холодный воздух.
Как только лед в кастрюле превратился в горячую воду, я всыпал в нее банку пеммикана, добавил сухого супу из чечевицы и накрошил сухарей. Пока мы поедали это питательное и вкусное блюдо, закипел кофе. Напившись дымящегося кофе, мы развалились на куче мехов и в тепле и покое закурили трубки.
Вечером накануне отъезда Давид пил кофе у меня дома.
— Спроси его, — сказал я Саламине, — есть ли у него спальный мешок.
Он ответил «есть». "Хорошо, — подумал я, — тогда я возьму только один из своих мешков". Но кроме него я все же прихватил шкуру гуанако, чтобы была еще лишняя теплая вещь, если мне вздумается понежиться. Сани укладывал Давид, и, пока мы не стали распаковываться в начале Кангердлуарссука, я не знал, что он взял с собой. Оказывается, он ничего не взял. И кроме того, он был очень скудно одет. Я подарил ему штаны из тюленьей шкуры, он был в них. Но были ли под ними трусы или нет, не знаю. На Давиде была шерстяная фуфайка, свитер и три бумажных анорака (лучший из них я подарил ему в день отъезда). В палатке под нами лежало полотнище пола и сложенная вдвое резиновая подстилка. Я дал Давиду оленью шкуру, чтобы он мог подложить ее под себя, и шкуру гуанако, чтобы накрыться. Себе же я подостлал олений тимиак и залез в свой теплый спальный мешок. Беспокойство о том, что Давид замерзнет, мешало мне сразу уснуть, но тут вдруг тишину нарушил его храп.
На следующий день мы выехали около девяти. Оба хорошо выспались, выпили утром кофе. Моментально свернули лагерь и погрузились на сани, но порядочно времени потратили на выбор наилучшего пути по суше. Наконец двинулись по крутому склону вверх по течению замерзшей речки. Ехать было трудно. Местами поверхность льда была гладкой и твердой, как стекло. У собак расползались ноги, и сани вместе с грузом соскальзывали назад под гору. Кое-где поверхность льда была тонкой. Мы проваливались и двигались по быстро бегущему между слоями льда потоку глубиной в десять дюймов. И путь шел круто вверх. Затем речка расширилась, превратилась в озеро. Несколько приятных минут мы мчались по гладкой твердой поверхности озера. Потом перешли на сушу и двигались вдоль извилистого ущелья, снова проваливаясь, вытаскивая и подталкивая сани через сугробы и крутые завалы.
Наконец началось главное испытание. В этом месте ветвь круто спадавшего ледника обрывалась отвесными скалами зеленого льда. Нам нужно было как-то взобраться наверх, а потом спуститься по этому леднику к другому фьорду. Путь, казавшийся более легким, Давид отверг, утверждая, что он очень плох. (Все-таки, если я опять буду проезжать здесь, я обязательно попробую этот путь.) Одна сторона торца ледника упиралась в крутой склон горы. Нам предстояло подняться на этот склон, по всей вероятности, футов на сто. Мы барахтались в глубоком снегу, покрывавшем склон, не находя иной опоры, кроме острых глыб льда. Собаки, напрягая силы, подтягивали сани на один-два фута, потом соскальзывали, катались в снегу, путались в упряжи и затевали драку. В дело вступал кнут. Собак разнимали, и они снова принимались тащить. Мы, конечно, помогали им изо всех сил, подталкивая сани кверху и удерживая их, когда собаки дрались или когда приходилось распутывать ремни. Работа отчаянно трудная, но мы справились с ней!
По верху ледника ехать тоже было тяжело. Снегу было мало, а гравий, вмерзшийся в лед, резал подошвы ног, царапал полозья саней. Но теперь мы хорошо видели простиравшийся под нами Кангердлуарссук-фьорд. Несмотря на тяготы пути, это подбодрило нас. И все-таки спуск с горы по покрытой вмерзшим гравием трещиноватой поверхности ледника шел медленно. Мы затратили три с половиной часа, чтобы достичь фьорда, хотя, как показывает карта, до него было всего-навсего две мили.
Езда по льду Кангердлуарссука оказалась такой же тяжелой, как и накануне по леднику. Собаки медленно тянули порожние сани, словно они были из свинца. Это нас устраивало: малая скорость вполне подходила для таких хромоногих, как мы.
Весь день была густая облачность, стемнело рано. На юге слабо засветил месяц. В шесть часов остановились, чтобы дать отдых собакам и самим подкрепиться едой. Зажгли примус, приготовили большую порцию каши из пеммикана с чечевицей. Через сорок минут мы опять были в дороге.
Давида беспокоил лед вдоль берега полуострова Агпатсиаит. Он образовался совсем недавно и местами был не толще двух дюймов, так как при каждом ударе пешня проходила насквозь. Мы продвигались осторожно, Давид шел впереди, пробуя лед.
В подобных условиях просто поражает послушность собак. Давид тихим свистом давал им сигнал остановиться. Псы мгновенно ложились и следили, как Давид исчезает впереди в темноте. Затем, услышав снова свист, такой тихий, что мои закутанные уши его не улавливали, все собаки вскакивали и следовали за Давидом, мгновенно останавливаясь при новом сигнале. Так как всем ведал Давид и мне абсолютно нечего было делать и не о чем беспокоиться, я лег на сани, натянул на себя меховую полость и задремал.
Это был почти сон, пребывание на грани сна и сознания; в моей голове проходила вереница восхитительных сновидений. Сновидения, волшебная темнота и легкое, спокойное движение саней по гладкому льду сделали этот час незабываемым. Временами, в полусне, неясные фигуры собак казались танцующими впереди меня человечками. Я не воспринимал ничего, кроме силуэтов: третьего измерения не существовало. Один раз в этой картине опять появился Давид. Он показался мне великаном: настолько я привык воспринимать рост собак как человеческий.
Вскоре мы опять выбрались на надежный лед, и в это же время показались огни в окнах кучки домов на полуострове Увкусигссат. В 11 часов мы прибыли в поселок Увкусигссат.
Бестирер Флейшер, деверь Саламины, и его семья уже легли спать. Они все поднялись, чтобы принять нас или, вернее, меня, так как гренландец, занимающий положение, не более демократичен, чем датчанин или американец с положением: последовавший пир был устроен не в честь Давида. Однако он получил приют и пищу в другом месте. Через короткое время я сел за стол с бестирером и его женой и принялся за роскошный ужин, состоявший из жареной рыбы, бутербродов, пирогов и пива. Мою мокрую одежду забрали и повесили сушиться, камики привели в порядок. Гостеприимство было приятное и широкое. А спал я в эту ночь на диване с пружинами.
Наутро, в десять, выехали. Оба мы хромали от боли и могли только ковылять за санями. Да и собаки скоро стали проявлять усталость. Однако в этот день до окончания перехода мы отдыхали лишь в одном месте. До Сатута добрались в 4 часа дня и въехали в поселок на полном ходу — собаки почуяли свой прежний дом. Но немногим меньше чем в трех милях до Сатута одна собака свалилась, и мы привезли ее на санях как пассажира.
Ланге, бестирер, за час до этого уехал в Уманак. Но жена его отлично приняла нас — угостила пивом (меня), пирогами (меня), а нас обоих кофе. Оба мы устали и хромали. Но когда одна из очаровательных девушек Ланге поставила на граммофон пластинку с вальсом, мне пришлось танцевать. Я забыл про свою ногу и мог бы протанцевать весь вечер.
Через час мы опять запрягли собак и, сопровождаемые полудюжиной мужчин, некоторое время бежавших рядом, выехали на последний шестнадцатимильный перегон к Уманаку. Эти шестнадцать миль были очень утомительны. Собак приходилось все время подгонять. Они бежали только тогда, когда кто-нибудь из нас шел впереди. Если мы переходили в бег, они не поспевали за нами.
Бульшая часть пути была сносной, но за Сагдлиарусеком мы попали на неровный лед, ехать по которому в темноте было мучительно. Около Уманака я обнаружил, что мой тимиак исчез с саней. Давид сейчас же отправился за ним назад и долго не возвращался", — должно быть, тимиак свалился почти за милю от этого места. За такое проявление доброжелательности я тут же выдал Давиду плату за полдня.
В 10 часов мы, сделав вид, будто бы чувствуем себя отлично, въехали в Уманак. Мы оказались первыми гостями из другого поселка.
Через три дня приехал Стьернебо с почтой из Игдлорссуита и Нугатсиака — он задержал ее до своей поездки, чтобы получить за доставку почтовый сбор.
Я собирался пробыть в Уманаке только два дня, но состояние моей ноги, гостеприимство докторши и очевидная необходимость раздобыть еще собак задержали нас.
Стьернебо прибыл вечером, незадолго до того часа, когда докторша давала обед для довольно широкого круга гостей. Бинцер (датчанин) пришел и разъяснил ей, что нужно пригласить Стьернебо, иначе он, Бинцер, который в отсутствие бестирера обычно принимает у себя Стьернебо, не сможет прийти на обед. После длительного обсуждения вопроса докторша согласилась, и мне было дано приятное поручение как можно скорее напоить Стьернебо, чтобы он сошел со сцены. Я выполнил задание, и около десяти часов Бинцер и другой европеец, Ширинг, поддерживая Стьернебо под руки, отвели его в комнату в доме бестирера, где он свалился и оставался лежать на постели одетым. Два дня спустя он возвратился в Игдлорссуит, сожалея и скорбя о том, что побывал в Уманаке.
Однажды я поехал с докторшей в Каэрсут. Ее собачьей упряжкой правил я. Это был мой первый опыт. Все шло хорошо, когда мы ехали туда, но на обратном пути встречный ветер затруднял работу кнутом. (…)
Скоро наступила темнота, но кругом было изумительно красиво. Тени, отбрасываемые в лунном свете, еще светились холодной синевой неба, а освещенные луной склоны гор казались золотыми. Мы, не останавливаясь, миновали огни поселка Агпат: до Кекертака оставалось всего лишь несколько миль. Перед Кекертаком нам встретилось скопление айсбергов. Когда мы въехали в поселок и направились к дому помощника пастора, люди выбегали из своих жилищ. Потом кафемик, танцы, прогулка в одиночестве при луне и — сон.
Выехали утром в девять и прибыли в Игдлорссуит в пять. Во время этой поездки было холодно, и нам, несмотря на хромоту, пришлось основательно побегать.
* * *
2 февраля. Саламина хотела купить для меня в лавке две большие шкуры. Стьернебо показал ей только маленькие.
— Вот все, что у нас есть. Больших шкур нет.
Саламина взяла маленькие.
— Оставь их мне, — сказал Рудольф, — я посмотрю, что можно сделать.
Через час, воспользовавшись отсутствием в лавке Стьернебо, Рудольф обменял их на две великолепные большие шкуры.
Перед лицом примитивной цивилизации гренландцев кажется невозможным найти доводы в защиту идеи прогресса. Нельзя себе представить прогресс без собственности — частной или общественной. Сколь бы ни было ваше определение независимо от материального, как бы оно ни основывалось исключительно на духовных и интеллектуальных ценностях, почвой, из которой вырастают эти ценности, служат материальные накопления цивилизации. А эти последние овеществленный труд. Труд же — антитеза счастья. Труд — это не времяпрепровождение (!). Счастливые люди не ищут способов заставить жизнь казаться короткой.
Хорошо белым, цивилизация которых пользуется благами естественных средств ограничения перенаселения в виде туберкулеза и сифилиса. Хорошо им придавать жизни младенцев немыслимую ценность, смотреть на детоубийство как на ужас, вызывающий содрогание, и даже считать преступными противозачаточные средства. Но все, кроме добрых католиков, поймут, что для менее развитых и более примитивных народов, которым не дарованы «чудесные» факторы, ограничивающие численность семьи, в виде постепенной утраты сил ее взрослых членов и их смерти в расцвете лет от длительных болезней, когда они полны ощущения жизни и исполнены желания жить, — что этим народам необходимо в конце концов прибегнуть к быстрому уничтожению лишних младенцев или к преданию смерти престарелых и инвалидов [37]. Может быть, надо считать счастьем, что туберкулез безжалостно удерживает в тесных рамках численность столь трудно живущего народа Гренландии? Как иначе могли бы они так ухитряться поддерживать жизнь маленького полупарализованного сына Регины или несчастной одноногой жены Арона — Луизы, которая, хвала господу, может сейчас сидеть всю свою, возможно, долгую жизнь безрадостно, неподвижно и молча, с поникшей головой, будто бесконечно глядя в колодезь скорби! Вызывавшее ужас языческое человеческое жертвоприношение вытеснено живым свидетельством христианского служения богу — живым ужасом.
Видит бог, в наше время никому не стоит беспокоиться о христианской религии или церкви. Церковь и вера больше не играют роли в мировых делах. Но «христианство», этот далекий незаконнорожденный потомок Нагорной проповеди [38], - высокое имя, которым мы оправдываем все, что делают западные народы, ибо все мы — от Аль Капоне [39] и Рокфеллера до самого мелкого воришки — христиане.
Маленькая язычница Елена (сестра Анины) прибежала к Маргрете.
— Маргрета! Я думаю, хотя и не уверена точно, у меня будет ребенок!
— О Елена! — восклицает бездетная Маргрета, восхищенная новостью. — А кто отец?
— Тобиас. А ты думала кто? Может быть, мы поженимся. Ой, только не говори Анине, — добавила Елена, вдруг вспомнив, что она — свояченица бестирера. — Никому не говори.
— Конечно, не скажу, — успокоила ее Маргрета.
Через десять минут я знал все. Саламина, рассказывая мне об этом, совсем забыла, что не любит Елену. Здесь бы очень хорошо поняли, о чем идет речь в "Тэсс из рода Д'Эрбервилль", что же касается "Красного письма" [40] — этакого идиотского человеконенавистничества, то его, пожалуй, могли бы одобрить пастор или его помощник.
* * *
5 февраля. Несколько дней назад после двух с половиной месяцев непрерывной холодной погоды вдруг задул сильный южный ветер, и температура повысилась до 47°Ф (+8 °C). Если бы не испарение под действием ветра, то у нас был бы потоп от таяния снегов на склона горы. Через несколько часов наиболее крутые склоны обнажились; повсюду бежала вода. Прошел день, ветер продолжал дуть, не переставая. Пришло сообщение, что в Уманак-фьорде ломает лед, и скоро на всем протяжении от Нугатсиака до острова Упернавик была чистая вода. Потом ветер утих. Температура снова упала ниже точки замерзания. Пошел снег. Подул ветер, но уже более холодный, северный. Сильно мело, и вокруг домов образовались сугробы. От стен их отделяли пустые пространства, словно рвы вокруг стен замков. Затем снова стало тихо и холодно. Все думали, что теперь вновь образуется лед, но опять подул бешеный южный ветер, и температура поднялась выше, чем прежде. Это было вчера, и уже чистая вода приближается на севере к мысу Ингия, а на юге к Игдлорссуитскому проливу. Поездка в Нугатсиак, намеченная на сегодня, отменяется. Лед покрыло водой, но хуже то, что с северо-востока ожидается шторм, обычный после южного ветра. Он может отогнать лед от Ингии.
В эти мягкие дни все испытывают радость. Места гуляний переполнены, и всюду расползлись ухаживание и шпионаж за ним.
* * *
6 февраля. У меня создается впечатление, будто бы "Наука об обществе" написана "выдающимся философом" Панглосом [41]. Автор с удовлетворением смотрит на нашу планету как на "лучший из миров", человеческое общество в каждую минуту его исторического существования считает самым лучшим из всех возможных обществ и, наконец, капитализм — окончательным и абсолютно наилучшим из возможных порядков. Автор не в силах представить себе, чтобы правительство могло возникнуть без общего согласия управляемых. Он не признает классовой борьбы и приемлет демократию, ни разу не подумав о том, что меньшинство обрабатывает общественное мнение. И фактически такая обработка — рабочий принцип этого строя. Все это достаточно наивно. Но чтобы профессор науки об обществе в 1926 году настойчиво боролся с угрозой социализма, коммунизма и со всем тем законодательством, которое способствует передаче в руки низших классов большей власти и называется прогрессивным, считая все это "вносящим раскол", — это уже ребячество! (…)
Историю нужно писать не только как историю классовой борьбы, так же как и общество следует изучать не как нечто политически целое, а в виде классов или профессий, образующих это общество. Исследование цивилизации должно быть исследованием групп людей одной профессии. То, что человек каменного века пользовался каменными орудиями, несущественно; то, что эти люди были охотниками и рыбаками, очень важно.
Я роздал «взаймы» несколько сот крон. Занимавшим известно: пока долг не будет погашен, они обязаны отдавать мне половину того, что платит лавка за добытые ими шкуры и жир. С первого января тюлени, а потом акулы ловились в изобилии. Январь был рекордным месяцем по добыче жира. Фактически мне никто не уплатил даже малой доли своего долга. В августе в прошлом году Оле по ошибке было уплачено дважды за одну и ту же шкуру. Он знал, что ему платят второй раз, и молчал об этом, а потом пытался уверить меня, что в конце концов шкура того стоит. Оле должен мне две кроны и признает этот долг. Несколько недель назад он попросил меня дать ему новый займ, говоря, что у него много акульего жира на мысе Упернавик и что он уплатит мне сполна, когда перевезет сюда жир. Я дал ему еще полторы кроны. Через несколько дней он перевез жир. Чтобы взвесить жир и получить деньги, Оле послал в лавку Петера Сокиассена и потом с деньгами опять удрал на мыс Упернавик. Все же, решил я, эти люди не нечестны. Просто они находятся под властью старинной коммунистической общественной философии, согласно которой богатство, накопленное одним членом коллектива, может быть присвоено и присваивается другим, более нуждающимся. Обещание вернуть мне долг Оле дал, не подумав. Он, пожалуй, по традиции правильно расценивал степень своей ответственности: раз я богат, то он не может быть мне должен. Я убежден, что подобное объяснение якобы отсутствующего у гренландцев чувства чести в таких делах справедливо.
Но вот другой пример. Открывается дверь, и входит Олиби. Я обещал дать ему аванс в счет уплаты за бисерный воротник, который он делает для меня. Олиби бормочет просьбу об авансе. Я даю ему десять крон.
— А теперь, Олиби, — говорю я, доставая свою банковскую книгу, — ты мне должен в общем шестнадцать крон. Ты получил одну крону в ноябре и пять крон в декабре.
— Нет, — говорит он, глядя на меня с недоумением, — в ноябре я ничего не получал. Я получил не одну, а две кроны в октябре и пять в декабре. Я тебе должен семнадцать крон. Сейчас я верну тебе пять крон, что я брал в декабре. — И он отдает мне одну из двух монет, которые я ему только что дал.
— Спасибо, Олиби!
Да, но, как правило, более легкомысленные гренландцы руководствуются старыми обычаями: взывая к прошлому, удобнее жить сейчас.
* * *
7 февраля, суббота. Поездка в Нугатсиак. Давид и я на одних санях, Саламина и Елена с Петером на других. День мягкий, тихий, лед отличный. Две собаки больны; от них нет толку, а одна из них при приближении к Нугатсиаку сдала совсем, и ее пришлось взять на сани. Горы впереди скрылись в тумане; вскоре скрылся и Игдлорссуит. Мы немного сбились с курса и выехали к выступу Упернавика.
Павиа принял нас радостно, и вскоре мы все вместе пили пиво. Саламина прибыла через час.
Ходил в дом, где живет глухонемая. Эти люди крайне бедны. Застал там трех молодых женщин и ребенка. Было воскресное утро, хотя нет, это было после полудня. Печь не топлена, горит лампа. Вышивку по коже, которую я заказал, девушка еще не начинала. Помощник пастора собрал для меня много песен и аккуратно переписал их в тетрадку. До марта, когда предполагается устроить праздник, он соберет еще.
Вернулись в воскресенье днем; дул сильный ветер, мело. Нас было много: Давид и я на десяти собаках, Петер, Саламина и Елена на девяти, Северин на девяти и Павиа с женой и ребенком на девяти. Всю дорогу я и Давид ехали впереди и приехали первыми гораздо раньше остальных.
Вечером пировали. (…)
Сегодня на втором завтраке были Павиа, Ане, Рудольф, Маргрета и Катрина; рагу из баранины. Затем гости отправились домой, в Нугатсиак.
Когда у вас в гостях гренландцы, нужно делать скидку не на их характер, а на их воспитание. И эта скидка, по-моему, единственная, которую нам когда-либо следует давать человеку.
* * *
9 февраля. Трудно дать определение цивилизации. Келлеровское определение зависимости уровня цивилизации от "количества собственности", от вещей, мне не нравится и вызывает у меня недоверие. Конечно, цивилизованность индивидуумов, насколько мы их знаем, не связана с собственностью. Подобное определение исключало бы навсегда из числа цивилизованных народ, который подобно эскимосам живет в таких условиях, при каких ограниченность ресурсов никогда не позволит достигнуть высокого уровня материального развития. Можно было бы дать определение, основываясь на взаимосвязи материального развития народа с ресурсами, которыми он располагает, и на влиянии этой взаимосвязи на привычки и, возможно, на характер народа. Эскимосы, видимо, исчерпали возможности окружающей среды и вступили в период застоя. Их лодки и приспособления стали самыми продуманными и совершенными, какие только можно создать в данных условиях. Их жилища (палатки, снеговые домики-иглу, дома из дерна) в совершенстве приспособлены к условиям жизни бродячих охотников. Дальнейшие старания и изобретательность уже не могут дать результатов, и поэтому они стали проявляться менее активно. Традиция слабой активности продолжается и поныне. Все подавляющий, заливающий Гренландию извне поток новых приспособлений и устройств никак не стимулирует проявление творческих способностей и, по-видимому, приводит к полной пассивности. (…)
Пользуясь методом художника познавать и фиксировать истину с помощью чувств (и я, защищаясь, настаиваю на утверждении, что этот метод так же хорош для достижения общей цели, как самые тщательные научные количественные методы), временами приходится излагать свои заключения, прибегая к таким относительным понятиям, как «нравится» или "не нравится". Этот метод требует какой-то оценки от воспринимающего аппарата, а он, взятый целиком, — это я. Например, я заявляю: матак вкусен. Предполагая, что это утверждение стоит защищать, я должен доказать, что и у себя на родине обладаю разборчивым вкусом в еде.
Если я показываю, что мне нравится гостеприимство и атмосфера дружбы в доме Давида, если я проявляю понимание очарования и ума Карен, редкого добродушия Давида, его человечности, понятливости, если мне нравится ходить к ним в дом и сидеть там у них, несмотря на полную их безалаберность и жуткую грязь, то я должен сказать ясно: безалаберность и грязь глубоко чужды моему характеру. Я люблю порядок и могу жить и работать, только когда меня окружают аккуратность и чистота. Для меня порядок и чистота — важные добродетели. Я держусь их, как только могу. И если непосредственная реакция на грязь и беспорядочную жизнь семьи Давида не заставляют меня кричать, что Давид и вся его порода — твари, которым лучше погибнуть со всей своей гадостью, то только потому, что они, как яркое солнце, сияют исключительными человеческими достоинствами. А когда я подумаю, как мы склонны с гордостью открывать, выкапывать, извлекать из-под прелой кучи навоза на свет прекрасные качества физиономии жителя Новой Англии, то, боже мой, какими чистыми, прекрасными, ослепительно ясными кажутся мне лица этой гренландской пары!
У гренландцев фактически отсутствуют развлечения [42], если исключить пение, танцы и футбол, а это все скорее следует рассматривать как непроизвольное выражение эмоциональной или физической энергии, нежели как развлекательное времяпрепровождение. Среди умеющих играть в карты лишь немногие любят это занятие. Им и так не скучно.
* * *
12 февраля. В таком примитивном обществе, как здешнее, мало замечаешь существование законов, а коренные жители, вероятно, и совсем их не замечают. Здесь существует выборный орган управления из трех человек; один из этих трех «глава». В их руках власть. Они устраняют разногласия, решают споры и регулируют поведение гренландцев. Но разногласий и споров не существует, а поведение отдельных граждан как бы инстинктивно соответствует требованиям кодекса законов. Это потому, что кодекс, как письменный язык, возник post factum. Кодификация была просто записью тех норм поведения, которые на протяжении веков в процессе приспособления выжили и постепенно в конце концов стали общепринятыми и естественными.
Возможно, человек, живущий в простом обществе, слабо знает ограничения, которым подвергается его поведение, как бы строго и мелочно, по мнению постороннего, оно ни регламентировалось законом и религиозными запретами. Это можно сравнить со способностью человека говорить; самые сложные движения языка, гортани и губ выполняются при этом как бы инстинктивно, создавая те строго определенные звуки, которые образуют речь. Да и сама речь, как бы ни была примитивна, бессознательна, лишена письменности, все же имеет свою грамматическую структуру, которой подчиняются, не думая о ней, все говорящие на данном языке.
Сознание существования закона возникает только в сложных обществах, когда разнородные классы, составляющие одно государственное целое, подчинены единому для всех кодексу. А из сознания существования закона рождается понятие свободы. Требование свободы только признак ощущения угнетения. Борьба за свободу, которая, казалось, озарила славой страницы новой истории и означала появление в сознании людей представлений о "правах человека", не более чем довольно точное выражение либо растущей сложности политического организма, либо усиления консолидации этого сложного организма. Никакая однородная группа не будет возмущаться гнетом или чувствовать тяжесть своих законов, ибо эти законы — обычай. Она будет нести ее так же легко, как рослый человек несет собственную тяжесть. Но пусть один фунт из груза будет чужой, и он становится тяжестью, которая вызывает недовольство.
* * *
13 февраля. Я популярен среди жителей поселка. Они рады видеть меня при встречах, приветливо принимают в своих домах. Несколько раз высказывалось предложение, чтобы я стал бестирером поселка взамен, конечно, Стьернебо. Эта популярность мне приятна. Она дает мне такое чувство удовлетворения от сознания, что я что-то значу, приносит мне такой крепкий сон и радостное пробуждение, делает мое пребывание здесь столь радостным, что я удивляюсь, как это люди везде, где они могут стать любимыми, не используют подобной возможности. У меня нет никаких иллюзий насчет средств и способов стать популярным, во всяком случае в Гренландии. Популярность покупается, как любой товар. Однако, несмотря на свое корыстное происхождение, она не делается менее приятной.
Бедность у гренландцев традиционна, в ней они пребывают постоянно. Но не только здесь, а и везде люди больше всего хотят от тех, у кого есть средства давать, не радостно протянутой руки и не приветливого слова — они хотят вещей. И не нужно удивляться тому, что очень бедные гренландцы любят чужого в точном соответствии с его щедростью. Из всех датчан, которых знает народ Западной Гренландии, только один занимает такое высокое место в их чувствах, что его называют некоронованным королем. Этот человек выдающийся исследователь страны, лучше всех других постигший, как живет и странствует отважный и храбрый народ. Им восхищаются, его любят повсюду от севера до юга. Его везде хвалят. За что? За его изумительную щедрость в угощении шнапсом.
Исследователь жизни народа не должен рассматривать потлач [43] как странный и любопытный обычай. Потлач живет в умах людей, на него повсюду надеются бедные и в некоторых трудных условиях, создаваемых окружающей средой, к нему неизбежно прибегают.
(…) И я удивляюсь, почему здесь, в Гренландии, где источник моего богатства остается тайной и я должен казаться гренландцам гораздо ниже их по своей мужской сноровке и смелости, почему здесь меня не лишают (при полном одобрении общества) моего незаслуженного богатства путем моментального и неизбежного убийства? К моему счастью, этому народу упорядоченной культуры убийство кажется противоестественным. Мне дают возможность использовать более длительный и постепенный способ распределения богатства в виде устройства банкетов и раздачи займов. То, что они все пользуются моим гостеприимством, не отвечая тем же, и берут взаймы, не думая об уплате долгов, полностью компенсируется популярностью, которой меня наградили. Не сомневаюсь, что подобно недавнему предложению занять место бестирера, в добрые старые, дохристианские времена меня бы почтили избранием на пост вождя рода, и на этом посту я пребывал бы вполне законно только до того момента, пока у меня были бы деньги.
Немногие из тех, кто делает мне подарки и возвращает свои долги, ничуть не благороднее и не нравственнее остальных. Они просто осознали новый порядок и применились к нему. (…)
Позавчера и вчера выпало много снегу; этой ночью тоже недолго шел снег. Сначала дул сильный ветер и мело. Но сейчас все покрывает рыхлый, глубокий снег. Собаки барахтаются в нем, а сани на ходу почти совсем в него погружаются. Но погода мягкая.
* * *
14 февраля. Современная нация состоит из многих культур. Они не сливаются воедино, а существуют рядом и зависят друг от друга. Но эта взаимосвязь не делает их тождественными, точно так же как взаимосвязь фермера и его лошади не создает их равенства. Существует цивилизация XX века; она сосредоточена в городах. Но эта цивилизация не то же, что цивилизация Америки, и не исключительно она свойственна XX веку. Другие, более старые цивилизации сосуществуют с ней. Растение, в своем развитии достигшее цветения, не сбрасывает листьев. Более поздние, специализированные формы жизни часто зависят от сохранения и сосуществования с ними их прототипа. Необходимость сохранения прототипа придает ему ранг нового вида. Художники и писатели, которые стали выразителями городской жизни, считают, что исключительно она и представляет собой сегодняшнюю жизнь. Это не более верно, чем утверждение, что мозг выше сердца. Нет и, быть может, никогда не будет цивилизации, не зависящей от примитивных занятий человека. И хотя эти занятия под воздействием современных средств могут измениться, они все же останутся в достаточной степени неизменными по своему основному характеру, чтобы сохранились условия более примитивной культуры. Рыбак всегда будет более похож на рыбака любых времен, чем, например, на банкира одного с ним поколения. (…)
Сушильные рамы на берегу постепенно исчезают: палку за палкой отдирают на топливо. Прошлой осенью в доме Давида были надлежащих размеров сени, хотя в них не хватало нескольких досок. Вместо того чтобы достать доски и починить сени, он разобрал их и построил новые, поменьше. А теперь и они исчезают. Сначала исчезла одна стенка, потом другая, а потом двери. Сейчас осталась только крыша, торчащая над пустым пространством. Через несколько дней будет сожжена и она. Такие несущественные постройки служат здесь обитателям как бы сберегательной кассой. В хорошее время они вкладывают в них деньги, а в трудное ими топят.
Рудольф не ходит к Стьернебо за кофе. Говорит, что не хочет, чтобы ему навязывали больше кофе, чем ему требуется, и что во всяком случае этот кофе — дрянь.
* * *
15 февраля. Один из способов узнать человека состоит в подражании выражению его лица и манерам. Выражение и манеры так тесно связаны с тем, о чем человек думает в данный момент, или же с обычными его думами и умонастроениями, что они могут служить ключом к познанию характера. Мысль находит себе точное выражение в чертах или жестах и движениях, и если начать подражать им, то непременно возникнет то же состояние духа.
Анину можно узнать на любом расстоянии по любопытной стремительности ее походки. Тело ее наклонено вперед, а ноги как будто торопятся, чтобы не отстать. Походка ее неизящна. Она негибка и, можно, пожалуй, сказать, манерна, но манерность ее создается причинами, далекими от изящества. Она довольно широко расставляет ноги, как бы остерегаясь, чтоб камики не терлись один о другой. Руки она держит напряженно и далеко от тела. Пальцы подвернуты внутрь к запястью, чтобы прижимать напульсники к рукавам анорака. Она все время смотрит вниз, на себя, и часто поправляет край анорака или бисерный воротник.
Я попробовал пройтись походкой Анины и вдруг почувствовал себя ребенком, наряженным в такое красивое новое платье, что мне нужно было поскорее обежать знакомых и показать его. Но конечно, я не должен задевать одним камиком о другой и не слишком сгибать колени, а то камики будут морщить. Надо также держать руки вытянутыми, не то появятся складки на рукавах анорака. Ах, как красива моя новая одежда!
Анина, проходя мимо, бывает смущена моим суровым приветствием, будто бы зная, что я понимаю ее искусственную походку и вижу ее тщеславие. Но Маргрета и Саламина не понимают: Маргрета чувствует уважение, а Саламина завидует.
Я скопировал Анину при Рудольфе, Маргрете и Саламине и рассказал им обо всем этом. Они смотрели друг на друга, кивали головами и громко хохотали. Так вот что такое Анина! Глупый ребенок. Я отношусь к ней теперь снисходительнее. Но на самом деле она не ребенок. Эта ребячливая, недоразвитая двадцатисемилетняя женщина может канючить и плакать, клянчить и подлизываться, может коварно лгать и хитро льстить с инстинктивной эгоистичностью ребенка, но с макиавеллиевским богатством уловок.
Мягкий день. Прошлой ночью шел слабый снег. Ехать невозможно из-за скопившегося глубокого снега. Сообщают, что из Уманак-фьорда ушел почти весь лед. Виды на связь с Уманаком плохие. Ожидается почта с севера — она должна была прибыть вчера. Несомненно, ее задержал глубокий снег. Ей придется побыть здесь некоторое время.
Вчера Давид вернулся с тюленем, единственным убитым в этот день. Жир две кроны двадцать эре.
Вчера вечером — шнапс, виски, пиво и танцы; были Рудольф и Маргрета, Хендрик и Софья, Катрина, Абрахам и Луиза, Йонас и Элизабет.
Маргрета сообщает, что Анина видела три большие тюленьи шкуры, которые Элизабет готовит для меня, и позавидовала мне. Элизабет выделывает их гораздо лучше, чем Багита для Анины, и это Анину очень сердит.
Дитлир, поймав трех тюленей, уплатил мне одну шкуру в счет долга. Сегодня явился посланный и потребовал плату за шкуру. Я выплатил половину. Саламина узнала, что Дитлира нет, он на охоте. Вероятно, он не знает об этом требовании.
* * *
16 февраля. Мало-помалу я составил себе словарь. Трудно построить его из тех немногих слов, какие Саламина и я употребляем между собой. Совершенный словарь должен служить ключом к языку, без расчета на то, что читатель знает этот или какой-либо другой язык или даже алфавит. Он должен начинаться алфавитом и давать определения или описания звуков при помощи картинок, изображающих рот в разрезе, а затем переходить к комбинациям этих звуков, показывая на схемах, как изменяется рот при произношении гласных или же при переходе от согласных к гласным. Установив дальше значения букв — символов звуков, словарь с помощью рисунков может дать значения группы основных слов. Это составит вводную часть словаря, начальный учебник. И он будет походить на существующие начальные учебники, за исключением того, что при каждом новом выводе или определении будет строго логически опираться на уже ранее установленное.
Легче всего дать определение существительным. Прилагательные будут потруднее, наречия еще более трудны, предлоги же и союзы заведут в тупик. Но надо искать тот минимум существенно важных слов, с помощью которых можно в конце концов дать определение нового слова. Тогда уж все начнет проясняться, и вскоре мы сможем располагать такой оснасткой из понятных слов, что не только сумеем дать точные определения новым, но и полностью уточним начальные, более грубые определения, данные в виде рисунков.
Такой словарь эскимосского языка мне бы следовало иметь; и таким методом, за отсутствием словаря, я сейчас выучиваю одно слово за другим. Если мне нужно существительное, я рисую этот предмет и сейчас же получаю ответ. Но сегодня я трудился полчаса, чтобы узнать местоимения. Мне стало казаться, что говорить "Кинте холодно" или, обращаясь к Саламине, "Саламина голодна?" — значит говорить как-то по-детски. Я решил поучиться.
— Кто это? — спросил я и показал на себя.
— Кинте, — ответила Саламина.
— Нет, — возразил я, — Саламина не понимает. Кинте хочет сказать, — я показал на себя, — "любит Саламину".
— Аюнгилак, — ответила Саламина с энтузиазмом.
— Нет, — кричу я, начиная раздражаться, — Кинте говорит: "Кинте любит Саламину" — плохо.
— Нет, нет, — возражает Саламина с обиженным видом. — Это хорошо. Разве Кинте не любит Саламину?
Трудность состояла в том, что при каждом подобном примере разговорной речи, и особенно тогда, когда под влиянием воспоминаний об изучении латыни я выбирал глагол «любить», Саламина моментально отклонялась в сторону. Не знаю, как это получилось, но наконец Саламина написала на бумаге уванга (я). За этим быстро последовали эвдлит (он или она) и эливсе (они). Пользуясь этим началом, я получил дюжину слов, необходимость в которых стал чувствовать. Среди них: игнасак — вчера; унингавок — остается; утерпок до; каунгок — приносит и аюнгинек — лучше всего — слово, которое я раньше тщетно пытался узнать.
Прекрасный, ясный день, умеренно холодный. Солнце приближается. Сейчас оно всего в нескольких сотнях ярдов от берега. Почта еще не прибыла. Может быть, будет сегодня.
* * *
17 февраля. (…) Если бы неравенство рас было доказано (а оно не доказано) и было бы доказано, что гренландцы стоят ниже европейцев — потому ли, что они еще состоят преимущественно из эскимосов, или потому, что они смешанная раса, — то можно было бы считать нынешние тенденции западной цивилизации не влияющими на ход общественного развития в Гренландии. Но такое неравенство не доказано и так считать нельзя. Гренландский народ, усыновленный благожелательной Данией, стал членом европейской семьи. В этой семье гренландцы — дети, и их подготовка к будущему самоуправлению находится в руках датчан. Жаль, что в то время как капитализм разваливается и новый общественный порядок стремится стать будущим Европы и Америки, гренландский народ не готовят к естественному участию в этом будущем, подлинно новом порядке.
Уже сейчас видно, что развитие Гренландии основано на торговле и эксплуатации. Датские чиновники — главным образом торговцы, и как представители правительства, и в частном порядке. Они не охотники и не рабочие, они — «богатые». Управляющие поселков — бестиреры из гренландцев тоже торговцы. Жалованье им выплачивается из прибылей от покупки и продажи, и они занимаются торговлей на свой риск. Большинство торговцев (может быть, даже все) и бульшая часть служащих администрации имеют собак, лодки, сети, рыболовные снасти, ружья, и все это дается в пользование охотникам по соглашениям об участии в прибылях. Конечно, это эксплуатация. Представители народа или служащие — гренландцы, у которых есть моторные лодки и они имеют возможность разъезжать, спекулируют продукцией народного промысла. Заседающие в Готхобе депутаты от крайнего юга Гренландии в ландсрод покупают на юге тюленьи шкуры по низким ценам и реализуют их в Готхобе с большой прибылью. Гренландцы, путешествующие в районе Уманака, покупают тюленьи шкуры и продают их с прибылью на юге в Якобсхавне. В Гренландии сейчас формируются общественные классы, и принадлежность к ним закрепляется наследственно.
Неравенство возможностей уже возникло здесь, так как различные возможности появляются вместе с обучением, а обучение начинается в домашней среде. Зачастую колонии — это просто малопроизводящие торговые центры. И все же житель далекого поселка уже оказывается немножко провинциальным. Его культурные средства определенно более скудны.
Постепенно, но неуклонное становление в Гренландии привилегированного класса торговцев происходит в то самое время, когда Европа и Америка начинают понимать, что обществу лучше обходиться без него. И может случиться, что в тот момент, когда новый порядок везде установит свое господство, гренландские «купцы» будут занимать положение, из которого датский социализм, исполняя свой долг, вынужден будет изгонять их ценой больших неприятностей и трений. Охотник — вот кто сейчас становой хребет (и должен им оставаться) того скромного развития, какого эта маленькая страна может когда-либо достигнуть. Датское правительство обязано считать своей первой задачей поддержание главной роли гренландского охотника в обществе, его культуры и общего благосостояния.
* * *
18 февраля. Вчера пришлось сделать выговор Тобиасу за неумеренное расходование тюленьего сала для наживления крючков на акулу и запретить ему брать сало из кладовой без ведома Саламины. Я сказал ему, что видел в их доме амюзеты (это маленькие рыбешки вроде корюшки), в то время как мне казалось, что они есть только у меня. Но Тобиас утверждал, что эту рыбу его отец поймал прошлым летом. Странное дело. Недавно Тобиас заявил, что у них в доме нечего есть, и мы дали ему еды. И вот сегодня нас пригласили к ним в дом пить кофе. Визит был устроен в связи с вопросом об амюзетах. Дукаяк объяснил мне, что амюзеты его собственные и их у него на чердаке много. Но если чердак полон рыбы, как же тогда в доме нечего есть?
Сегодня заходил Кнуд. Он пытался рассказать Саламине, будто случайно услышал, что Тобиас говорил родителям, что Саламина жадная и нехорошая, но Саламина оборвала этот разговор — она вышла из комнаты.
Карен прислала нам небольшой кусок мяса тюленя, убитого сегодня Давидом, но не прислала печени. Они ее съели, хотя это единственная часть, которую я просил мне дать. К тому же Карен известила меня, что шкуры, доставшиеся на мою долю, она не будет растягивать. Когда я послал за ними, Карен прислала мне испорченную шкуру, которая лежала несколько дней без присмотра. Тогда я пригласил к себе Карен и Давида, угостил их хлебом с маслом, чаем, папиросами.
— Не понимаю вас, — сказал я, — все время я делаю вам подарки, даю, не жалея, деньги, даю, когда попросите, уголь и фактически все тюленье мясо. Вы же мне взаймы ничего не даете. А когда дело идет о небольшой услуге растянуть для меня шкуры, вы отказываетесь.
В ответ они молчали и глупо ухмылялись. Карен так и не предложила своих услуг. Шкуры дадут мне в том виде, в каком их сняли с животных.
Карен и Давид ушли.
Саламина понимала, как все это недостойно. Она поставила на стол еду, мы сели ужинать. Саламина в задумчивости подошла ко мне и положила руку мне на плечо. Немного спустя она заговорила:
— В двадцать седьмом году умер мой муж. Это было ужасно! И двадцать восьмой год был плох, а двадцать девятый — немногим лучше. В тридцатом я жила спокойно, и не было со мной никакого мужчины. В тридцать первом в Уманак приезжает Кинте и просит Саламину отправиться с ним в Игдлорссуит и жить в его доме. В тридцать втором Кинте уедет в Америку и никогда потом не приедет снова в Гренландию. О, я не смогу этого перенести, потому что в моей жизни ничего уже не может быть!
Я притянул ее голову к своей груди. По моим рукам текли ее слезы. Сказать было нечего. Через некоторое время Саламина тихонько поднесла носовой платок к лицу, вытерла слезы, затем спокойно встала и начала мыть тарелки от ужина.
* * *
19 февраля. Возвращаясь к рассуждениям о путях культуры, можно сказать, что Гренландии следовало бы перескочить не только через экономические условия индустриальной эры, но и через все представления о нравственности, которыми наш народ руководствуется уже много веков, через ту мораль, которая вместе с капитализмом катится к гибели. Верно, что христианская мораль провозглашена в Гренландии вот уже двести лет. Верно также и то, что гренландцы не приняли ее как норму поведения. Нельзя сказать, что эта мораль отвергнута. Каждый порядочный гренландец называет себя христианином, и большинство из них ходит в церковь. Добросовестные родители, думающие о будущем своих дочерей, предупреждают их о грехе любовных отношений вне брака, но дальше этого дело не идет.
В своем поведении эти дочери, их братья, отцы и матери руководствуются или, правильнее сказать, даже наслаждаются свободными старинными обычаями своего народа [44]. Мы клеймим внебрачную любовь и прелюбодеяния как преступления, для них же это — естественное развлечение, которому придает остроту некоторая его греховность и опасность наказания из ревности. Зло такой безнравственности не ощущается. Незаконнорожденность некоторых детей не секрет для жителей поселка. Ребенок в первую очередь принадлежит матери. Утенок в выводке цыплят, видимо, пользуется такой же небрежной любовью отца выводка и получает такой же корм, как если бы утенок тоже был его. Незамужняя мать не подвергается общественному презрению. В большинстве случаев она со временем выходит замуж, а ее ребенка муж принимает как своего собственного. До этого мать и ребенок живут с ее родителями или же, как Корнелия в Игдлорссуите, то в одной, то в другой семье, становясь на время членом этой семьи. Отец ребенка не проявляет к нему интереса и не несет никаких обязанностей по отношению к своему отпрыску, кроме того, что платит ежемесячно небольшую сумму, какую назначит коммунерод (поселковый совет).
Если бы собственность и наследство в Гренландии играли какую-то роль, все могло бы быть иначе, но они не играют никакой роли и никогда не смогут играть ее в заметной степени.
Христианскую мораль в вопросах пола можно было бы заставить соблюдать утверждением ужасной общественной жестокости, какую проявляем мы, закаленные христиане, по отношению к нарушителям-любовникам. Но надо еще доказать цену этой «нравственности». Вряд ли она сможет возместить те страдания, самоубийства, убийства и детоубийства, которых потребует от гренландцев ее поддержание.
Однако, если вместо того, чтобы заниматься исключительно выискиванием бурных и катастрофических последствий неограниченных половых сношений, мы бы посмотрели на них бесстрастно, обращая внимание лишь на те стороны, которые можно было бы рискнуть назвать достоинствами, то мы увидели бы, что людям это нравится. Такая свобода содействует общей дружелюбной фамильярности и раскованности, откровенности в речах и поведении, признанию в каждом другом человеке подобного себе, а все, вместе взятое, быть может, и составляет сердцевину той стойкой, здоровой жизненной силы, какой обладают эти маленькие изолированные общины. (…)
То, что мы называем справедливым и честным в наших отношениях, может казаться совсем не нужным народу, не имеющему опыта в таких делах. Эти нравственные ценности не естественны, они выработаны нами. Отношения между работодателем и работником для Гренландии новы, а работодатель — редкое явление. Мы привыкли признавать обязательства — взаимные обязательства при соглашении о работе, но многие из обязательств, принятых у нас сейчас, не были нужны и не признавались в производственной жизни сто лет назад. В наши дни человек чувствует многие обязательства, еще не признанные в такой степени, чтобы стать законом. Но в Гренландии все это еще в младенчестве.
Если вы нанимаете человека на поденную работу, то он думает, что вы заплатили за день его времени, а не за девять часов работы. Поэтому с совершенно чистой совестью он отдает этот день, проводя его в общем, как ему захочется: немного поработает, потом посидит — не тайком, а у вас перед носом. А если поденщиков несколько, то они время от времени все ложатся на траву, чтобы понежиться и покурить трубку, они не разбегаются, так как их наняли, чтобы они были здесь, на месте. Если они таскают строевой лес, то будут носить так много или так мало, как им заблагорассудится. Здоровый парень проходит ленивым шагом, волоча тонкую жердь; маленькая женщина перегоняет его, сгибаясь под тяжелой балкой. Но когда понесут следующий груз, может случиться, что все будет наоборот, если только им придет в голову такая фантазия. Здоровый парень не стыдится, когда вы видите, что он почти ничего не делает.
Давид работает у меня по соглашению о дележе прибылей; он работает на моих собаках! Я предполагал, что он будет работать постоянно. Вложив на приобретение собак и оборудование значительный капитал, я, естественно, не хотел, чтобы они простаивали. Можно бы взять на работу любого другого, но, остановившись на Давиде, я доверил упряжки исключительно ему. И вот Давид после перерыва в несколько дней отправляется охотиться на тюленей. Он возвращается ни с чем. Просто ему не повезло, хотя другие вернулись с добычей. Следующие день-два Давид лежит дома. Так оно и идет. Вот он поймал тюленя. Хорошо, думаю я, теперь он по-настоящему взялся за дело. Ничуть. Сидит себе дома четыре дня, но на пятый он отправляется, а Карен приходит ко мне занять денег на еду. Если б в какой-либо из этих дней я был виноват в простое Давида — например, забрал бы собак для своей поездки, — мне пришлось бы заплатить ему. (…)
* * *
20 февраля. (…) Мягкая погода. Небольшой снег, начавшийся вчера вечером, идет и сейчас. Лед, который, как сообщали два дня назад, стал образовываться в Уманак-фьорде, может сломаться под тяжестью накапливающегося снега.
В четверг Давид вернулся — тюленя он не поймал: на санях не было каяка. Я спросил его, в чем дело, но объяснения не понял: Давид смеялся. Вчера вечером я узнал, что каяки и сети, принадлежащие ему и Хендрику, унесены льдом. Для Давида, человека с малыми средствами, это очень серьезная потеря, но он не жаловался — только смеялся.
Гренландская собака вполне одомашненное животное и, насколько я заметил, ни по внешности, ни по характеру не похожа на волка — своего брата (как это многим представляется). Самый лучший тип — мускулистая собака среднего роста. Она густошерстая, пышный хвост завернут колечком высоко на спину. Отдельные экземпляры иногда напоминают немецкую овчарку, но вообще гораздо более похожи на китайскую чау. Если бы удалось установить родство гренландской собаки и чау, то это могло бы помочь в решении проблемы, откуда появились эскимосы и кто они такие. Конечно, может быть, что новые собачьи породы вывезены из Европы. Это даже весьма вероятно, если судить по многочисленным разновидностям типа животных и разнообразию их окрасок, хотя преобладающий цвет белый, а у многих из лучших собак белый с переходом к рыжеватому. Но встречаются черные, коричневые, коричневатые с полосами другого цвета или белые с резко выделяющимися черными или коричневыми пятнами.
* * *
21 февраля. Если справедливо рассматривать современное государство состоящим из различных культур или цивилизаций, то мы должны признать, что каждая из них имеет собственные нравы, неотделимые от условий ее существования. Всякий закон, не согласующийся с нравами народа, невыносим для него. Недовольство некоторых классов определенными законами происходит оттого, что эти законы не гармонируют с нравами этих классов. Чтобы члены сложного общества были довольны законами, законы должны быть приемлемыми для всех классов. Тогда федеральные законы и федеральная юрисдикция ограничивались бы вопросами общего межклассового соглашения, оставляя все остальные вопросы классовому законодательству и классовым мерам по соблюдению этих законов. "Один закон для быка и другой…" (как там эта цитата?) [45].
Вчера вечером мы пили кофе с Шарлоттой и Олиби. Шарлотта, как всегда, была оживлена. Вскоре она начала петь, зная, какое наслаждение доставляет этим мне. Пела она довольно высоким голосом, а потом внезапно переходила на низкие ноты, как граммофон, у которого вдруг кончился завод, и заканчивала как будто смущенным смехом.
У Кнуда живет женщина, несколько простоватая. Ей около тридцати пяти лет. Как мне кажется, она просто неряшливое существо, но Шарлотта и Олиби говорят, что эта женщина изумительно танцует. Олиби пошел и привел ее. Сначала она стеснялась, не хотела выступать; она стояла около двери, держась в тени и отворотив от нас лицо. Но вскоре, поддавшись ритму пения Шарлотты, она прыжком вступила в танец. В тот же миг она преобразилась и стала великолепно гротескной. Ее лицо, руки и ноги работали с сильным драматическим напряжением. Она хлопала в ладоши и выкрикивала "Ап, ап!" низким контральто, которое подобно барабану поддерживало ритм песни и танца.
Женщина выступала с короткими промежутками почти час, показав за это время значительный репертуар ритуального позирования. И все время мы видели драму, сильную драму, напряженную, страстную и абсолютно убедительную; женщина явно была одержимой.
Ей сказали, что я люблю ее. Я подтвердил это. Она вдохновилась и сказала, что любит меня тоже. И после этого полностью отдалась исполнению завлекательных чудес, работая мускулами живота и паха.
Я дал ей весь табак, который был у меня в кисете. Она с большим удовольствием стала жевать его.
Опять выпал снег. Он идет и сейчас. Погода мягкая.
* * *
22 февраля. Глубокий, глубокий снег, и он продолжает тихо ложиться на землю. Вчера и сегодня ходили с Тобиасом осматривать его крючки на акулу. Ничего не нашли. Правил собаками. Теперь наловчился.
Вчера вечером к нам пришли пить кофе Рудольф, Маргрета, Йонас и Элизабет. После кофе пили пиво. Вскоре, конечно, все настроились танцевать. Йонас неожиданно проявил изумительную легкость, а Элизабет оказалась одна не хуже оркестра: она неутомимо пела мелодии легких быстрых танцев, идеально соблюдая ритм. Затем Йонас сказал, что если мы хотим посмотреть настоящего танцора, то надо позвать Петера Сокиассена. Было около полуночи. Рудольф поднял Сокиассена с постели, и он появился, немного обалделый от сна. Я дал ему большую кружку пива. Он опорожнял ее несколько раз. И вдруг — раньше, чем начать танцевать, — он оказался пьян, стал говорить, что ему нужен Хендрик, жалобно просил его привести. Послали за Хендриком. Ладно! И тогда Петер стал танцевать. Танцевал он изумительно. Это была не просто легкость движений, это было искусство. Ловко, с безукоризненным ритмом, разнообразно и с высоким изяществом. Он был слишком пьян, чтобы самостоятельно держаться на ногах, и Рудольф держал его как механического паяца — одной рукой, забрав в кулак одежду на груди. А когда они оба поворачивались, Рудольф держал Петера сзади за штаны, Хендрика так же держал Йонас.
Гости разошлись в три.
Между старинными танцами гренландцев и всеми теми, какие они танцуют теперь, в том числе и в исполнении Петера, лежит пропасть. Старые танцы были драматическими произведениями — образным воплощением чувств танцующего. Современные танцы — просто выступление.
В какой-то момент Петер Сокиассен расчувствовался, вспомнив о смерти своей жены. "Ну, ну", — сказала Саламина и вывела его из этого состояния. Но свою благодарность он излил за те десять крон, которые я ему дал.
Петер принес с собой носовой платок. Он пользовался им очень демонстративно, делая смешные замечания насчет того, что пользоваться платком — значит поступать как полагается. Каждый раз он при этом производил громкие звуки носом или ртом.
Никогда не слышал, чтобы один гренландец украл что-либо у другого, хотя они воруют у чужаков. Петер Нильсен — почтенный член общества в нашем поселке, но из Камерьюка его выставили как вора.
* * *
23 февраля. Авторы, пишущие о первобытном обществе, постоянно напоминают нам о том, что первобытный человек не только не свободнее нас от пут в своем поведении, но подчинен вплоть до мельчайших своих действий обычаям и нравам общины и что обычаи эти равносильны законам [46]. Прежде всего я подвергаю сомнению подразумевающееся при этом утверждение, что первобытный человек был более нас обременен ограничениями в своем поведении. Хотя принудительная сила обычаев, как правило, больше, чем сила какого-либо закона, не составляющего части обычаев и нравов, все же она не воспринимается как закон и ни в каком смысле не является бременем. Попытка составить перечень обычаев, действующих в современном обществе, не имеет смысла. Обычаи возникают, живут как факторы, регулирующие поведение, и отмирают; с этим, может быть, к счастью, ничего нельзя поделать. Однако время от времени появляются целые тома о сложном кодексе нашего общественного этикета. Эти трактаты об обычаях «общества» рассматривают лишь малую долю всех обычаев нашей цивилизации. И все же большинство из нас живет, полностью соблюдая весь кодекс, и нам не приходит в голову мысль, что мы обременены.
Не существует, например, движения за освобождение от возмутительного нарушения личной свободы — запрета есть с ножа, и, хотя сложные правила о браке в первобытных обществах могут поражать нас своей неразумностью, мы все же не кричим, что хотим жениться на наших матерях, тетках, сестрах, либо только на негритянках, либо вообще на людях, стоящих ниже нас в обществе. Видимо, совершенно так же гренландцы проводят жизнь счастливо, не замечая правил общественной жизни, которым они подчинены. Если они не мучают себя тоской по «свободе», то не потому, что вдруг стали не способны испытывать недовольство, а потому, что им не навязывают никаких порядков в чьих-либо интересах, и им нечем быть недовольными. (…)
О пьянстве. Пьянство — способ уйти от запретов в области мысли и в поведении [47]. Способ важный в той степени, в какой мы становимся не теми, чем кажемся сами себе; так как самое существо нашего «я» поистине обретает тогда свободу. Кое-кто может сказать, что под воздействием опьянения животное, находящееся внутри нас, выходит наружу и показывает себя. Все-таки если признать реальность небесных полетов фантазии, какие нередко случаются в опьянении, то мы должны считать это животное внутри человека существом, обладающим замечательными и отчасти ангельскими свойствами. Однако в Гренландии пьяные, оказывается, разговаривают мало. Их чувства ищут более активного выражения и находят его в танцах и в смехе. Для смеха людям здесь не нужно других причин, кроме веселого настроения. Они смеются чему угодно и ни от чего: смеются, если падают, смеются, если не упали. Они смеются, смеются, смеются. И пляшут! Эти малоподвижные, спокойные люди, которые, кажется, довольствуются тем, что просто существуют, сразу все вместе становятся веселыми, шумными. Я не видел ни разу гренландца, проявляющего хотя бы слабые признаки дурного характера, когда он пьян, за исключением, может быть, Павии. Да и у Павии это дурное только таится в потенции — он может оказаться несносным пьяным. Говорят, что в Игдлорссуите нет никого, кто делается несносным в пьяном виде, но кое-где в других местах такие люди встречаются.
* * *
25 февраля. (…) Гренландец, совсем недавно считавшийся одним из тех первобытных людей, которые, как нам говорят ученые, обладают разумом ребенка и верят в существование мира страшных бесов, теперь, когда авторитетные лица заверили его и убедили доказательствами, что ничего подобного нет, этот гренландец принял свою свободу со спокойным удовлетворением, которое должно разочаровывать христиан, рассчитывавших продолжить дорогу лишь христианским бесам.
Собственно говоря, мы все, может быть, обладаем детским разумом, счастливым, почти совсем не рассуждающим и столь невинным в отношении понимания общих идей, что почти любой человек может запугать нас. Но то, что нас можно пугать рассказами о привидениях, не доказывает, что мы испытываем потребность в том, чтобы нас пугали. И то, что нас можно принудить страхом к определенному типу поведения, точно так же не доказывает целесообразности подобного отвратительного принуждения или того, что что этот кодекс поведения более божественного происхождения или более истинный, чем привидения. Во всяком случае с той поры, как это освященное веками пугало изгнали из детской, заметной деморализации наших детей не произошло.
Все, что можно честно сказать о широком распространении религии среди людей, сводится к следующему: людей, знающих мало или ничего не знающих, можно научить верить во что угодно. Нельзя сказать, что они испытывают потребность или жажду веры; просто у них есть такая слабость. Это вещи столь же различные, как различны желание есть и склонность к удовольствию, даваемому алкоголем. Подобно тому как можно сказать, что все люди потенциальные пьяницы, их всех можно считать и потенциальными жертвами веры в какие-нибудь привидения. И то и другое — извращение. И то и другое опасно. Но как ни трудно оценить сравнительные достоинства и недостатки алкоголя, труднее — так как религия бесконечно более тонко связана с человеческими нравами — установить, служили ли те силы, которые провозглашали и поддерживали религиозные учения, интересам общества в целом или они служили только интересам одного класса и была ли в том или другом случае религия благом для человека.
Наблюдая, как гренландцы живут своей упорядоченной, счастливом и довольной жизнью в безбожном спокойствии духа, ничему не поклоняясь, не молясь, не столько боясь смерти, сколько любя жизнь, рассматривая море, лед и ветер как стихии природы, к которым надо подходить без всяких иных орудий, кроме здравого смысла и умения, я могу благодарить за них бога, что он очистил их мир от Торнарсука (высшего существа их древнего верования) и его семейства и не дал им взамен сколько-нибудь серьезной веры в себя, то есть в бога.
Вчера таяло, потом задул ветер. Вечером опять шел снег. Условия для поездок невозможные.
Петер Сокиассен хорошо повеселился, но он уверяет, что был так пьян, что ничего не помнит. Он просил Рудольфа сказать ему, танцевал ли он старые танцы? Если танцевал, то, значит, опозорился.
Молодой Эмануэль пришел в гости к Марте Абрахамсен. Она сказала ему, что у нее будет ребенок.
— А может быть, — сказал Эмануэль, — его отец не Абрахам? Ты тут последнее время много шлялась.
— Может быть, — ответила Марта и громко расхохоталась.
У меня опять занимают деньги. А двое хотели продать мне собак. Плохо, что навалило столько снегу.
* * *
26 февраля. Если бы я мог так писать о Гренландии, как я ее чувствую! Эта дикая земля, обледенелая и затихшая, эта пустыня замерзшего моря, эти горные вершины, безмолвные, укутанные в просвечивающую тьму зимних дней. Золотой свет полной луны в сумерках середины дня. На безлунном небе миллион звезд и северное сияние, как покрывало Изольды [48].
* * *
27 февраля. Вчера вечером у нас обедали Рудольф, Маргрета, Абрахам и Луиза; приятный, тихий вечер с гостями. Я навел их на рассказы об изгнанном клане, который будто бы живет внутри Карратс-фьорда. Вот что они знают о свидетельствах существования этого клана:
1915 — В самом конце верхней части Увкусигссат-фьорда нашли стрелу.
1916 — В той же местности — отпечатки босых ног.
1923 — Человек из Нулиарфика обнаружил в Унурамаке санный след.
1929 — В Карратс-фьорде, на его северной стороне, видели трех людей. Это случилось в июле, но они были с головы до ног одеты в оленьи меха. Эти три человека прятались за скалами и подсматривали оттуда; как только к ним попытались подойти, они убежали. Все это сообщили люди из Игдлорссуита. (В то время там могли быть немцы, хотя более вероятно, что они побывали там в августе.) ["Снежный человек"?]
Карен демонстрировала вчера свою истерию — это у нее бывает довольно часто. Истерия ее выражается в мрачности и припадках бессмысленного бешенства, когда кто-нибудь к ней приближается. Общее, разумное мнение, что ее нужно вывести из этого состояния кнутом. Однако Давид не способен на суровые меры. Он трогательно сидит рядом и старается ее ублажить.
* * *
29 февраля. Последние два дня стоит настоящая весна. Дует теплый южный ветер; с домов стаял снег. Глубокий рыхлый снег под верхним слоем весь превратился в мокрую кашу. На льду снег так осел, что утрамбованные санные колеи выступают надо льдом, как насыпные дорожки. Все высыпали из домов: женщины развешивают выстиранную одежду и постельное белье, девочки тащат на спине младенцев, повсюду снуют мальчишки. Вчера вечером я поднялся в снегоступах на холм над гаванью, чтобы посмотреть, что делается в стороне Уманака. Залив полон льда, но видны большие пятна чистой воды. Мне было так жарко, что, добравшись домой, вынес из дому стул и уселся курить.
Сегодня я укрепил большое полотно на санях и выехал на лед писать. Дело шло великолепно, собаки лежали не шевелясь. Анина вышла погулять. Она уселась ко мне на сани и под прикрытием полотна стала ко мне ластиться. Вот это явно нехорошо. Она просила меня никому об этом не рассказывать и ужасалась, что все могут узнать.
Вчера Петер Сокиассен и старый Эмануэль отправились на мыс Упернавик, где уже месяц сидят отрезанные от мира старик Оле и шестеро женщин и детей. Петера и Эмануэля послал коммунерод. Давно пора. Там нет льда, и возможно, что все они умирают от голода или уже умерли.
(Людей этих застали в живых, но они уже съели свои последние камики и другие куски кожи, которые можно было превратить в пищу, и находились на краю гибели. Их благополучно доставили домой, и вскоре они оправились.)
* * *
4 марта, пятница. Наконец состоялась большая поездка в Нугатсиак. За четыре дня до этого мы совсем не были уверены в том, что можно будет ехать. Сначала мешал снег, сыпучий, сухой; собаки утопали в нем по шею, а сани погружались целиком — снег был выше настила. Затем внезапно наступили дни таяния — как летом. Вода от растаявшего снега стояла поверх льда, образуя слой снеговой каши толщиной в восемнадцать дюймов, а сверху лежал мягкий снег. Но в ночь с 29 на 1-е похолодало, и Саламина обошла всех, сообщая, что мы выедем в десять часов. Выехали в следующем составе: сначала Абрахам Зееб, Габриэль (сын помощника пастора), Мартин, Петер Сокиассен, Эмануэль и позже всех Саламина, Беата и я. Почему-то не было до конца известно, поедет ли Беата. Ее должен был взять Мартин, но, когда он выезжал, Беата решила остаться дома. А двумя минутами позже она прибежала на берег полностью одетая и явно готовая отправиться в путь. И ее взяли.
Езда с самого начала была трудная, но бодрые собаки работали легко. Мы скоро обогнали Петера и Эмануэля. Остальные были видны в миле впереди нас. Мы постепенно нагоняли их, и наконец они остановились, чтобы подождать нас. Мы пересадили Беату на сани к Мартину, перенесли два ящика пива к Абрахаму и двинулись дальше. Ехали вдоль берега до Ингии, а потом направились прямо в Нугатсиак.
Ехать все время было трудно, продвигались мы медленно. Иногда упряжки делали не больше полутора миль в час. Во время этой медленной езды я обронил варежку и быстро соскочил с саней, чтобы ее подобрать. Когда я потом побежал за санями, они находились от меня футах в двенадцати. Чтобы нагнать их, мне пришлось напрячь все силы. Ноги погружались в снежную кашу почти по колено, на каждом шагу их будто засасывало. Я подумал, что, если бы сильному человеку пришлось пройти по такому снегу полмили, причем как угодно медленно, он бы совершенно вымотался.
Хотя на санях сидело только по два человека, собаки барахтались и работали с таким трудом, что я решил попробовать свои снегоступы [49]. Это было триумфальное шествие! Вскоре их попросил у меня Мартин. Я не видел, как он их надевает, а он притянул их слишком туго к подошвам, но, несмотря на это, наслаждался ходьбой, хотя раза два смешно перекувырнулся и, падая, почти целиком утопал в снегу. Потом в свою очередь их надела Саламина и пошла мастерски. Оказалось, идти в снегоступах не только приятнее, нежели ехать на санях, но позже, дабы облегчить работу собак, это стало необходимым. Наконец мы пошли и без снегоступов, опираясь на поперечину саней, чтобы переложить на них половину своего веса. Эмануэль и Петер, у которых было только семь собак, теперь ехали далеко позади, хотя лыжи были у обоих.
И вот наконец показался Нугатсиак. Саламина помчалась вперед на снегоступах. Отойдя немного, она свернула под углом вправо. Мы решили, что Саламина сошла с ума. Собак, пытавшихся следовать за ней, невозможно было удержать. Наконец, размахивая руками, мы привлекли ее внимание, и она вернулась.
Саламина объяснила нам, что в январе в этом месте рыбачили нугатсиакские мужчины и она намеревалась пойти по их следу. Все посмеялись над ней — сейчас, мол, не январь — и снова направились прямо в Нугатсиак. В одной миле от Нугатсиака нас встретил Эскиас на лыжах и сказал, что нам следовало бы взять вправо, чтобы выйти на след рыбаков. Правота Саламины блестяще подтвердилась. Эскиас повел нас к следу рыбаков. Собаки, почуяв след, ускорили шаг. Ехать стало легче. Наконец на хорошей скорости мы выехали на сушу у Нугатсиака. Было 7 часов 30 минут вечера; выехали же мы из Игдлорссуита в 10 часов утра.
Напившись кофе и переодевшись, все отправились к Павии и принялись за нелегкую задачу — попытаться развеселиться с помощью шнапса и пива. После трех рюмок шнапса Павиа, как всегда, стал разговорчив. После четвертой он рассказал, как однажды вечером он и Ольсен выпили вдвоем семь бутылок. После пяти рюмок шнапса Павиа был явно сильно навеселе. И далее, пока мы все приканчивали две бутылки шнапса, поглощая при этом бесчисленное количество бутылок пива, Павиа основательно напился. Пива у нас было маловато, на всех вдоволь не хватало. Я заранее поручил Павии сварить для меня бочку пива. Хотя ему было уплачено за бочку, но подали нам лишь малую ее часть. К счастью, я захватил с собой двадцать шесть бутылок и, к еще большему счастью, часть их оставил в запас.
Когда наконец начались танцы, пьяный Павиа удалился к себе в спальню, решив организовать там избранный круг. Он послал за Саламиной и за мной и предложил пить в его комнате отдельно. Он выставил маленький бочонок, в котором, по его словам, было настоящее хорошее пиво. Бочонок откупорили и в качестве круговой чаши принесли грязный таз для мытья посуды. Я приказал его вымыть. Кое-как это было сделано, и мы принялись за пиво.
От попытки выделить избранный круг я пришел в негодование и не только немедленно роздал оставшееся у меня пиво игдлорссуитской компании, но и разделил между ними то, что осталось от сотни сигар. Затем, несмотря на протесты Павии, я вынес полный таз пива танцующим и угостил их, используя этот таз на манер чаши для причастия. Трижды я выносил полный таз, пока бочонок не опорожнился, но даже и тогда не всем досталось пиво.
Тем временем старинные танцы продолжались. Посреди комнаты положили на пол барабан и палочку. Танцор встал, взял их и начал танцевать. Танцуя, он пел: "Уа, у-у-у" или "Ия, ия, анаия, ия". Остальные подпевали в такт барабану танцующего. Это музыка в самом точном смысле высокоэмоциональная, ритмичная и волнующая. Когда танцор уставал, он передавал барабан и палочку другому, как бы заставляя его продолжать вместо себя, или же клал барабан и палочку у чьих-нибудь ног. При все возрастающем возбуждении танец продолжался непрерывно. Прошло довольно много времени, когда последний танцор положил барабан посреди комнаты на пол, чтобы его взял желающий. И тут вышла танцевать Беата. Беата — маленькая женщина со своеобразной добродушной физиономией. Изгибаясь и извиваясь — таков ее стиль, — она как бы растворилась в танце.
Некоторые из танцующих бросались на пол, продолжая танец телодвижениями, как при соитии. Эти танцы так пронизаны интенсивным чувством, что становятся настоящим искусством.
Эмануэль был великолепен. Изумительный старик! Петер Сокиассен был уже слишком пьян. Три нугатсиакских старика, в том числе Петер Оттисен, танцевали по нескольку раз. Прекрасно! Один молодой человек танцевал с особенным воодушевлением, но он походил на актера, который переигрывает. Хорошие танцоры в своем исполнении проявляют себя полностью, избегая эффектов. Пожалуй, самый совершенный артист среди них Петер Сокиассен. Наконец танцы окончились. Две кифак быстро вымыли пол в столовой. В пять утра я лег в постель (в постель? — на пол!).
На следующий день была буря — снег и штормовой ветер. Мы, однако, еще заранее решили переждать здесь день, чтобы отдохнули собаки и кстати мы тоже. Во второй половине дня раздобыли доски и изготовили широкие подполозки к саням. Утром обтянули их тюленьей кожей.
Я устроил в доме Эскиаса кафемик для всех. Очень приятный кафемик. Народ веселился. Эскиас играл на скрипке. Приехал помощник пастора из Нулиарфика; он тоже играл.
На кухню к Павии пришла очень неопрятная молодая женщина, на которую я обратил внимание еще в сентябре прошлого года. Она ужасно грязна. Одежда на ней холодная, бедная, скудная; между камиками и штанами виднелись голые ноги. Она замужем, и ее беременность уже очень заметна. Муж ее — плохой добытчик, сейчас у них почти нечего есть. Я дал ей крону, и она трогательно поблагодарила меня. Позже я увидел, как она шла из лавки и несла свои покупки, завернутые в грязную тряпку. Я попросил ее развязать тряпку и показать, что у нее там. В узелке оказались кофе, ячмень, сухари и еще что-то. Я бросил в узелок еще крону. Эта женщина была бы очень хороша, если бы только была чистой и ее зубы не были бы такого ужасного цвета, как будто от жеваного табака.
На другое утро было холодно, довольно ветрено и к тому же стоял туман. Все-таки решили ехать и в 12 отправились; я ехал впереди. Однако вскоре все сбились в кучу. На этот раз Эмануэль и Петер держались вместе с нами. Кроме того, к нам присоединились Ганс Мёллер и Петер Мёллер, — один на шести, другой на семи собаках. Составился большой поезд: в общей сложности сорок восемь собак. Я, конечно, совсем не умел обращаться с собаками, и мои псы, набранные, как говорится, с бору по сосенке, то расходились в сторону, то сбивались вместе. Они совсем меня измучили, и сегодня у меня рука и плечо болят от работы кнутом.
К полудню ветер почти совсем затих, но мгла продолжала держаться весь день. Вскоре мы потеряли берег из виду, и только очень слабое золотистое свечение части неба намекало на то, что там может находиться солнце. Я по глупости не взял с собой компаса. Впрочем, я оставил его дома с намерением пронаблюдать, как гренландцы будут ориентироваться в таком положении, как сейчас.
Следуя первоначальным указаниям своих спутников, некоторое время я ехал в голове партии, но не был уверен, что смогу долго воспринимать ту слабую разницу в освещении, которая хоть как-то позволяла ориентироваться. Между гренландцами возник небольшой спор относительно направления, но победило мнение Абрахама и Саламины. Мы выехали на сушу точно там, где наметили, — в Ингии. Мне кажется, в пути мы очень мало отклонялись от прямого курса.
Петер Оттисен — великий охотник. Он однажды застрелил трех белых медведей, одного за другим тремя выстрелами. Всего он убил девять медведей, а однажды добыл за день двадцать семь оленей.
Прикрепили подполозки к саням, но на полпути к Ингии сняли их: снег был достаточно тверд, чтобы держать груженые сани. Временами мы могли бежать за санями, но мешал рыхлый снег. Одно время не было никакой возможности определить направление, мы уж подумали, что придется провести ночь на льду. К счастью, вскоре показалась Ингия. Приехали домой в 7 часов с минутами, пробыв в пути семь часов с четвертью.
Собака, которую я купил у Хендрика, так и не привыкла к смене хозяина и к новым товарищам по упряжке. Всю дорогу до Нугатсиака с ней пришлось возиться. Она много раз поворачивала назад или ложилась, отказываясь бежать. Я обменял ее у Эскиаса на другую великолепную собаку. На пути домой с ней тоже пришлось повозиться, но немного. Сейчас она начала осваиваться и дружить с другими собаками.
(По-видимому, увлечение танцами охватило всех наших друзей, так как в дневнике за 5 марта отмечается, что накануне вечером в нашем доме продолжались бурные танцы; выступление Беаты я назвал в записи "великолепным".)
Каким бы непринужденным ни казался танец с барабаном и палочками, движения и позы Беаты построены так, что создают отличный рисунок. Беата, милая, лаже излишне сдержанная маленькая женщина, преобразилась. Она пела странным низким голосом, бедра ее играли, изящное тело изгибалось наподобие змеи. И все время она, не переставая, била в барабан. (…)
* * *
9 марта. Вчера Саламина сидела, простегивая чехол моего спального мешка, казалось совершенно спокойная, довольная миром и своей судьбой, и вдруг, повернувшись ко мне, сказала:
— Ты постоянно раздаешь людям деньги взаймы, но они их тебе никогда не возвращают. Пора бы заплатить мне. С моего приезда, с августа, ты мне ни разу не платил жалованья.
— Что, — воскликнул я, — ты не получила жалованья? Да я платил за все, что получила ты и твои дети. У тебя двести крон в банке.
— Это все были подарки, — ответила она, — а жалованья я не получала. Датчане в Уманаке платят своим кифак по десять крон в месяц.
— Да, конечно, — сказал я, — но это все, что получает кифак. Она получает сто двадцать крон в год, однако за это время одежду и вообще все, что ей требуется или что она захочет, ей приходится покупать самой. За все, купленное для тебя и для детей, было уплачено, и за шесть месяцев ты внесла в банк двести крон.
Я начал горячиться. Саламина упрямо повторила:
— Да, но это были подарки. Жалованья ты мне не платил. Я хочу, чтобы мне было заплачено.
Я отлично понимал, что она говорит и что хочет сказать. Я рассердился и сказал:
— Отлично, с сегодняшнего дня я буду выплачивать тебе жалованье. Буду давать пятнадцать крон в месяц, на пять крон больше, чем платят в Уманаке. И ты будешь сама платить за все, что понадобится тебе и Елене.
— Я и так плачу за себя за все, — бросила она.
Немногим более месяца назад Саламина получила свою пенсию. Я часто ловил ее на том, что она из этих пенсионных денег платит за что-нибудь для себя. Всякий раз я протестовал. Она быстро уступала и брала мои деньги, за исключением одного случая. В Нугатсиаке я дал ей денег заплатить за материю на анораки, но так как анораками она была уже снабжена в избытке и покупка новых анораков оказалась просто детской или женской прихотью, то Саламина отказалась от денег.
Чем больше мы говорили, тем дальше расходились. А потом я должен был уйти, чтобы послушать у Стьернебо одну радиопередачу, которую ждал.
Я проснулся как раз в тот момент, когда будильник замолчал. Звон все еще стоял в моем не совсем проснувшемся мозгу. Я мог бы продолжать спать под звон будильника, подумал я, ведь так темно. Было холодно. Набросив халат, я очистил от золы решетку в печке, положил в нее щепки и зажег их. Потом вышел на улицу.
Когда я ложился спать, было облачно, казалось, пойдет снег, а сейчас сверкали звезды, в небе полыхало северное сияние. Огонь и лед. Мир кристально чистый и ясный. В домах не горел свет; из труб не поднимался дым. Еще ни одна душа не проснулась. Я почувствовал свое одиночество и остро ощутил единение с неодушевленным миром того, что внутри нас и что мы называем душой. Душа сродни обширному физическому миру; чувства реагируют на химизм жизни. Поистине душа — бесплотная мысль. Я почувствовал, что сейчас, в эту кристальную ночь, дышу холодным резким воздухом свободы. О боже, как это сладко после раздутых переживаний последних дней!
Я сидел за завтраком, когда на самом деле зазвонил будильник.
Саламине не следовало ходить к Стьернебо вслед за мной, все могло бы обойтись благополучно. Но когда я после радиопередачи вышел на кухню, она сидела там, готовая объясниться и добиться признания своих прав. Саламина была убеждена, что я ее не понял. Но дело было не в отсутствии понимания. Я просто не осознал, что ее точка зрения выражает нечто более глубокое, чем личное мнение: это точка зрения ее племени.
Мировая война началась из-за различных точек зрения разных наций на вопросы, которые не имеют никакого отношения к мирным делам. Быстро в присутствии Стьернебо, игравшего роль судьи, я изложил положение вещей. Задолго до моего обсуждения с Саламиной вопроса о жалованье между нами установились отношения, которые, в моем понимании, не были отношениями хозяина и слуги. Она стала хозяйкой моего дома и сердца и разделила со мной — нет, заняла вместо меня — мою постель и стол. Мне казалось просто неэтичным, некрасивым ограничивать ее жалованьем. Такой порядок, конечно, не соответствовал моим щедрым планам по отношению к ней. И так далее. В заключение я заявил, что намеревался оставить ей приданое — много сотен крон — в банке. И хотя все, что она до сих пор получала, было подарками, но делал я их, прекрасно понимая, что обязан я ей гораздо большим — тем, что не оплачивается.
Затем говорила Саламина — с жаром, порожденным, как я позже понял, моральными соображениями, а не жадностью. Она заявила:
— Да, но все это были подарки, а подарки — не жалованье. А раз я работала, то хочу, чтобы мне заплатили.
Тогда судья указал ей, что существующий порядок для нее более выгоден. Это было бесполезно: Саламина хотела, чтобы ей заплатили.
— Хорошо, — сказал я, — с сегодняшнего дня ты будешь получать пятнадцать крон в месяц и ничего больше.
— Ты разве не видишь, что это выйдет очень мало? — сказал ей Стьернебо.
— Нет. Я так и хочу, — ответила Саламина, — но почему с этого дня? А как же с жалованьем с августа по март?
— Хорошо, — сказал я, совершенно взбешенный. — Тебе будет уплачено полностью за все время. Это составит девяносто крон. Я заплачу тебе по конец марта. Но с меня хватит твоей службы. При первой возможности я велю Давиду отвезти тебя домой в Икерасак.
Домой мы вернулись вместе. Я выписал ей чек.
— Вот, — сказал я — по пятнадцать крон в месяц. Выходит девяносто пять крон. Это включает плату за одну неделю августа.
В ответ Саламина:
— Стьернебо сказал, что пятнадцать крон очень малая плата.
Я был вне себя. Я послал ее с чеком и запиской к Стьернебо.
"Объясните ей все, — писал я. — Если с меня следует больше, я заплачу. И переведите ей эту записку. Она ко всему относится с подозрением".
Саламина вернулась через полчаса: глаза ее покраснели от слез. Она принесла записку от Стьернебо. Чек она оставила ему, чтобы он внес сумму на ее счет.
— Теперь я поняла, — сказала она, — и прошу извинения. Могу я остаться?
— Нет, не можешь, — взревел я, этакой осел! — Я не бизнесмен и не желаю держать в доме женщину-бизнесмена. Ты должна уйти.
— Я должна отправиться в Икерасак. Лед может быть ненадежен и будет слишком холодно для такого далекого путешествия. Мне стыдно возвращаться в Икерасак.
И мы говорили, спорили, сражались. Я пригрозил, что оставлю ей дом, а сам переберусь в Нугатсиак. Саламина все плакала и плакала. С распухшим лицом, вся в пятнах, она отправилась искать себе приют и устроилась у Маргреты.
Был день рождения Маргреты. В этот вечер, чтобы обеспечить избранный круг гостей и особенно дабы избавиться от общества Анины, было решено пить пиво, сваренное Рудольфом, для празднования события у меня в доме. Я устроил небольшой званый обед: Рудольф и Маргрета, Эскиас, приехавший из Нугатсиака, Саламина и я. Саламина, проливая слезы, приготовила отличный обед. Перед самым приходом гостей она надела красивый шелковый анорак, подаренный мной на рождество.
— Сегодня вечером я надену этот анорак, — сказала она, — так как может быть, что мы все вместе обедаем здесь последний раз.
Обед получился довольно грустный. Хотя гости и старались, как могли, поддержать веселье, но все они слишком любили Саламину, чтобы не разделить ее горе. Временами грустные мысли вызывали у Саламины новые слезы. Она отправлялась во двор, чтобы выплакаться, не стесняясь.
После обеда пришли пить кофе Хендрик с Софьей и Абрахам с Луизой. Подали шоколадный торт, который я заморозил и украсил для Маргреты. Затем танцевали.
А на следующий день Саламина перебралась. Когда она проснулась — если вообще спала, — у нее был такой вид, будто она проплакала всю ночь. До полудня убирала дом, складывала вещи. Пришла Катрина снести ее сундук вниз. Все это время Саламина умоляла разрешить ей работать на меня:
— Позволь мне приходить по утрам растапливать печь. Утром холодно. Тебе будет так холодно! Позволь мне шить тебе камики, стирать твои анораки. Позволь мне готовить для тебя, мыть посуду, убирать дом. Я хочу работать на тебя, хочу делать все и не хочу никакой платы.
— Нет, — отрезал я.
Наконец Саламина должна была уходить. Она стояла передо мной, прощаясь; слезы струились по ее лицу.
— Спасибо за все, — сказала она. — За подарки и деньги, что ты мне давал. За еду, за дом. Спасибо за то, что ты позаботился, чтобы у меня не было ребенка. Спасибо за то, что ты был ко мне добр. Спасибо, спасибо, спасибо!
Еще долго после того, как за ней закрылась дверь, Саламина стояла около дома, а потом пошла, не переставая плакать, к Маргрете. Когда наступило время ложиться спать, Саламина пришла забрать свою постель и попросила позволения постлать мне.
— О, тебе будет холодно, — всхлипывала она, — пожалуйста, позволь мне приходить по утрам топить печь.
Нет, нет! Я проводил ее до дома Маргреты и не мог уйти, пока за ней не закрылась дверь.
На следующее утро Саламина пришла в семь; должно быть, проплакала всю ночь.
— Всю ночь, — сказала она, — я не переставала повторять: Кинте, Кинте, Кинте, тебе холодно! О, Кинте холодно и некому позаботиться о нем. Утром он должен вставать в холодном доме, разводить огонь и готовить завтрак и делать всю работу сам! О, позволь мне работать на тебя. Я люблю Кинте. Как я могу ничего не делать, когда тот, кого я люблю, должен работать? Пожалуйста, пожалуйста, позволь Саламине работать на тебя, ну, пожалуйста. Я хочу работать даром. Я хочу вернуть тебе деньги, которые ты мне дал. Пожалуйста, позволь Саламине работать.
Саламина вызвалась постирать мой анорак, отнесла его к Маргрете. Стоило ей взять его в руки, как Маргрета горестно проговорила:
— Анорак Кинте. — И обе заплакали.
Я вижу, как перед домом Маргреты стоит Саламина и смотрит вверх, на мое окно. Она стоит долго, скрестив руки, — потому что холодно, — потом заходит на короткое время в дом, опять выходит и снова смотрит сюда. Когда никого нет на улице, показывается Саламина. Неутешная, она идет медленно, скрестив руки, опустив голову; находит любой предлог, чтобы прийти ко мне в дом.
— О, Кинте, Кинте, — плачет она. — Саламина не ест, не спит. Всю ночь она лежит и думает: может быть, Кинте холодно, может быть, ему что-нибудь нужно. Лучше бы было Саламине умереть.
И слезы бегут у нее по щекам. Один раз она взяла мой большой охотничий нож и принесла его мне.
— Убей Саламину, — сказала она, — убей ее, убей ее!
Теперь Саламина работает на меня, но очень мало, потому что я хочу быть один. Я должен оставаться один, чтобы работать. Она заботится о моей одежде и камиках, но шьет у Маргреты. Иногда приходит мыть полы. Ей хочется делать больше, делать всю работу, но я не разрешаю, и она плачет.
Я зашел к Маргрете и застал ее одну. Мы сидели и курили.
— Может быть, Кинте теперь не часто будет заходить к нам? — спросила Маргрета и вдруг стала вытирать глаза. Оказывается, причиной ее слез были слова Рудольфа, сказанные Саламине:
— Плохо, что ты живешь у нас, теперь Кинте, возможно, не часто будет заходить к нам в гости.
Смотреть с нашего затененного острова на освещенную солнцем землю по ту сторону пролива — значит созерцать само лицо неба: так ослепительно, непорочно белы высокие вершины и хребты, так синё само небо. В нашем языке нет слов для такой красоты, потому что мы не знаем ее.
Красота эта трогает — и освобождает душу, но не сердце. (…)
Пора сказать что-нибудь и о моих усердных занятиях своим постоянным делом. Независимо от того, что я хотел жить счастливо и узнать как можно больше о народе, издревле обитающем в этой красивой части света, в Гренландию меня привело мое дело: я пишу картины.
Если бы я был самым ярым эгоцентристом на свете и приехал в Гренландию, на Север, чтобы показать миру, как сильно или как мало северное одиночество влияет на мою непобедимую душу; если бы я думал, что красота заложена в глазах созерцающего и становится вечной, бессмертной через искусство; если бы я принадлежал к какой-либо из школ, считающих, что натура должна быть разложена на кубы или круги или что она вообще не должна участвовать в создании картины; если бы, короче говоря, у меня были какие-нибудь предвзятые мнения об искусстве, то все они исчезли бы перед зимним северным миром.
Я здесь для того, чтобы стараться писать картины этого мира, который я люблю, — мира, красота которого безупречна и абсолютна.
* * *
Воскресенье, 13 марта. Позавчера пришла почта из Уманака. До Увкусигссата ее довезли Бинцер и доктор, собиравшиеся везти ее и дальше. Однако лед был плох. Им пришлось вернуться и оставить почту почтальонам для дальнейшей отправки. Когда это стало возможным, почтальоны доехали от Увкусигссата до Игдлорссуита за два дня. Ночью (они провели ее на льду) ледяное поле оторвалось и поплыло в море. К счастью, оно опять пристало к ледяному припаю. Ехать было очень трудно.
О прибытии почты возвестил громкий крик. Все жители — мужчины, женщины и дети — высыпали из домов и побежали вниз, на берег. И вот из-за южного мыса показались две упряжки с тяжело нагруженными санями.
Вчера утром Мартин и Эмануэль повезли почту дальше, в Упернавик. Когда они отправлялись, шел небольшой снег, но вскоре после их отъезда начался сильный снегопад, который все еще не окончился. Вероятно, Мартин и Эмануэль не смогут продолжать путь.
Каждый год в Игдлорссуит приезжает с упернавикской почтой Расмус. Его здесь ожидает множество женщин с быстро бьющимися от приятных воспоминаний сердцами и молодых девиц, у которых надежда заставляет учащаться пульс. Мужчины тоже ждут развеселого парня, чтобы послушать его увлекательные рассказы о ночных похождениях. Он, вероятно, не больше эскимос, чем я. Высокий, худой, костистый, длинноногий, голубоглазый, светлокожий, курчавый, этот парень мог бы принадлежать к любой североевропейской расе. Он очарователен. Расмус уверен в себе, и спелые девицы ложатся, как хлебная полоса, под косой его ухаживания. А сейчас, весной, когда охотники проводят дни и ночи вне дома, жены-прелюбодейки увеличивают счастливый урожай почтальона — каждая вкладывает свою долю.
Вчера вечером я рассказал Расмусу историю о Вайнямёйнене из «Калевалы» [50]. Вайнямёйнен посетил остров, на котором не было рыбаков и оставались лишь одни их жены. Он собирался уехать в точно рассчитанное время, но по просьбе одной старухи задержался на ночь. Финский герои должен был бежать от мести возвратившихся мужей. Но Расмусу везет больше: он не боится никого, да и нечего ему бояться. Я могу предположить, что терпимость и даже одобрение, проявляемые к его проделкам, — искренняя дань его выдающейся мужественности.
— Кинте аюнгилак! — воскликнул Расмус, оценивший мое гостеприимство и пиво. А Саламине, обхватив ее талию своей длинной рукой, шепнул: "Завтра, когда Кинте будет писать картину, я приду в дом и буду тебя любить".
Товарищ Расмуса Давид — спокойный красивый человек с чертами датчанина. Он и сам вполне может быть замечательным любовником, но ни он, ни другие не заговаривают об этом.
* * *
23 марта. 16-го я отправился в Нугатсиак провести там неделю. Взял с собой шесть полотен, примус и кое-какую провизию. Мы пробыли в дороге восемь часов. Верхний слой снега был мягкий, если не считать очень тонкого наста, а под ним — глубокая снежная каша. Положившись на суждение Давида чего я больше не буду делать, — мы не захватили с собой ни широких подполозков для саней, ни снегоступов. С ними мы бы сэкономили несколько часов. Рыхлый снег — сани погрузились по самые перекладины — и наст сильно мешали движению. Идти мы не могли. У собак из сильных порезов на лапах сочилась кровь. В предвидении этого я захватил с собой катушку хирургического пластыре, что оказалось хорошей временной мерой: пластырь был весь израсходован.
Следующим утром мы въехали на остров Каррат. Стояла хорошая, мягкая весенняя погода. Как я узнал, здесь, на узком мысе юго-западной оконечности острова, раньше был маленький поселок, называвшийся Каррат. От этого поселка сохранился лишь один дом. Я побывал у владельца дома Оле Сокиассена, который теперь живет в Нугатсиаке, и попросил разрешения занять этот дом.
— Он заперт на ключ, — сказал Оле, — но ключ торчит в замке.
Поселок Каррат отстоит от Нугатсиака приблизительно на шесть миль, и по хорошему льду мы доехали туда за полтора часа. По дороге, когда передо мной раскрылось все великолепие окружающего пейзажа, мне пришла в голову мысль продолжить свое пребывание в Каррате и вместо суток пробыть там несколько дней. Так я и сделал.
Старый поселок находился на берегу маленькой бухточки, хорошо защищенной от всех ветров, кроме восточного. Берег крутой, холмистый, и дома, когда-то стоявшие здесь, должно быть, располагались на отдельных холмиках. Так по крайней мере был расположен дом Оле. Собаки с трудом подтащили сани к его дверям.
Хотя домик был полузавален сугробами снега, я рассчитывал, что внутри него будет сухо и достаточно уютно. Но дом оказался ледяной пещерой. Лед и снег лежали горами на полу, а с обледеневшего потолка везде, где просачивалась влага, свисали большие ледяные сталактиты. Слабый холодный свет с трудом проникал через занесенное снегом окно. Я сложил перед домом в кучу свои вещи, разжег примус и оставил его зажженным на нарах, чтобы просохло хотя бы это место. Я торопился поскорее отправить Давида назад в Нугатсиак и воспользоваться единственным теплом — ярким весенним солнцем. Давид должен был возвратиться в Нугатсиак, пробыть там ночь, на следующий день возвратиться в Игдлорссуит и по дороге завезти мне кой-какие вещи, которые я просил Павию мне прислать. Мое письмо было соединением фонетической записи гренландских слов и изобразительного искусства. Я просил прислать рис, овсяную муку, сгущенное молоко и шутки ради пририсовал женскую фигурку — красивую девушку. Давид уехал.
В конце дня охотник, возвращавшийся из Кангердлуарссук-фьорда, заметил меня на вершине холма за работой и подъехал поговорить. Это был несчастный молодой человек. Он рассказал, что его жена умерла и дом сейчас стоит пустой — хороший дом со стеклами в окне и печкой. Так он и стоит в Нугатсиаке, и никого в нем нет.
— Здесь, в Каррате, — грустно продолжал охотник, — когда-то стояло много домов. Вон там три, а два сейчас же за поворотом берега, — он указал на это место. — Все исчезло! Люди, дома — ничего нет!
Прежде он ловил много тюленей, теперь их можно выловить очень мало. Трудное время, и ему нечего есть. Не дам ли я ему двадцать пять эре? Он вернет мне, если добудет тюленя, а если не добудет, то деньги не отдаст. Буду ли я платить Оле за пользование домом? Сколько? Он сказал, что его зовут Якобом. Я попросил Якоба, когда он будет завтра возвращаться в Кангердлуарссук, привезти мне от Павии свечей.
Тем временем от примуса в доме потеплело, только так слабо, что тепло почти не ощущалось. Внутри помещения стоял холод, но лед начал таять, и с потолка закапала вода — будто пошел дождь. Время от времени капли гасили пламя. Я отыскал старый нож с обломанным тупым концом и начал обрубать размягчившийся лед. Переставляя примус с одного места на другое, я ухитрился в течение часа очистить ото льда над нарами весь потолок и стены. Потом вытер их тряпкой и наконец добился того, что стены стали сухими. Когда подошло время ложиться спать, нары уже достаточно высохли, чтобы можно было положить на них постель.
К вечеру солнце спряталось в облаках, но перед самым закатом оно опять засияло и с невероятным великолепием осветило заснеженные горы. Я сел писать, но — тщетно. С наступлением темноты я лег и уснул под кап-кап-кап падающей в жестянки воды.
Проснулся, едва за окном посерело. Мороз и тишина. Ух, как холодно и сыро! Высунул руки из спального мешка, зажег примус и быстро нырнул обратно. Должно быть, я опять заснул, потому что, когда наступило время вставать, около меня на нарах уже лежала коробка свечей. Якоб приходил и ушел.
Опять стоял приятный весенний день. Солнце грело, небо было синее, и вскоре снежный мир, за ночь замерзший и отвердевший, снова начал оттаивать. Стало совсем тепло, но в доме, где капала вода, было холодно и уныло. Я выдрал изо льда скамейку, примерзшую к полу, и вынес ее наружу. Она послужила мне местом отдыха и студией. Я переносил ее с места на место, ставил в снег, садился на нее и писал.
И вот около полудня, когда я сидел за работой, из-за мыса появились мои собаки, тяжело груженные сани и Давид. На заднем конце саней стояли большие полотна (из моего собственного запаса), которые я наказал Давиду привезти мне из Нугатсиака, а перед ними удобно растянулась — я едва верил своим главам — женщина. Упряжка подъехала прямо к моим дверям. Я встретил приезжих около входа.
Сани остановились. Женщина встала; мы поздоровались. Затем, держа в руке очень маленький узелок, связанный в бумажный анорак, она открыла дверь и вошла как будто бы в собственный дом. А когда через несколько минут мы с Давидом последовали за ней, она уже была занята уборкой. Давид, получив указание вернуться через пять дней, уехал в Игдлорссуит. Мы стояли и глядели ему вслед, пока он не обогнул мыс и не исчез из виду. Затем она и я, одновременно осознав, что мы романтические жертвы одиночества, поглядели друг на друга и рассмеялись. Что ж, если овсяная мука, свечи, рис и девушка доставлены, то надо их использовать как можно лучше.
Это была приятная молодая женщина двадцати лет со спокойными манерами, круглощекая, пухлая, славненькая, нельзя сказать чтобы красивая нормальная, здоровая гренландская Ева. Из-за Евы неудобства нашего Эдема заставили бы меня забеспокоиться, однако я уже знал, чту гренландки могут чувствовать себя отлично где угодно.
Не удивительно, что жаворонок может распевать под жарким летним небом, но чудесно и восхитительно, что эта флегматичная гренландка может стоять часами в темной, служившей нам жильем пещере, где капает с потолка, совершенно довольная и тихонько мурлыкать песни. Я думаю, что судить о том, насколько приятен характер человека, следует скорее по тому, как мало нужно для его процветания, нежели по тому, как много для этого требуется. Во всяком случае моя Ева, то есть Полина, — так ее звали — была абсолютно спокойна, довольна и счастлива, занималась ли она в этот момент обрубкой льда с потолка, выкапыванием гниющих костей и отбросов или счищала снег и лед с замерзшего болота, служившего нам полом, или стояла без дела, дрожа от холода, или же бродила по сугробам, чтобы согреться. Входя в дом, где капало с потолка, я содрогался и, чтобы подбодрить ее, спрашивал:
— Айорпок? (плохо?)
Она поднимала голову от работы и, улыбаясь прекрасной улыбкой, отвечала:
— Аюнгилак! (хорошо, отлично!)
На обед я сварил кашу из риса с пеммиканом, а на ужин овсяный кисель без молока и сахара. Мы ели из кастрюльки по очереди, пользуясь деревянной ложкой, сделанной мной из куска доски.
— Мамапок! — заметила Полина, что значило, по выражению, с которым она произносила это слово, «восхитительно».
В доме все время было сыро и холодно, а с заходом солнца мы стали мерзнуть. На Полине было надето очень мало, собственно говоря, всего пять вещей. Как я заметил, на ней были: камики, короткие штаны из тюленьей шкуры, бумажные трусики, бумажная рубашка и тонкий анорак из коленкора. Камики были старые, рваные. Запасный гардероб состоял из пары еще более старых камиков и бумажного анорака. Для спанья она ничего не привезла.
Я заметал, что гренландцы могут терпеть лишения, не чувствуя себя несчастными. Им может быть так холодно, что они почти замерзают, но так как могло бы быть еще холоднее, то они не жалуются. Я отлично знал, что мог бы оставить Полину спать ничем не покрытую на сырых, твердых досках в этом промерзшем доме и она сказала бы «аюнгилак». Я также знал, что мог бы из благородной вежливости отдать ей свой спальный мешок и с христианским терпением, изнемогая от сна, шагать всю ночь взад и вперед по тесной комнатке. Я не сделал ни того, ни другого. Мой спальный мешок из оленьих шкур был просторен, слишком просторен, чтобы одному в нем было тепло. Мешок, подумал я, если мы в него втиснемся, как раз годится для двоих.
— Аюнгилак, — сказала Полина, когда я стал расстилать мешок, и, следуя моему примеру, разделась догола. Не осталось свободных и четверти дюйма, когда в мешок, рядом со мной, пролезла она — бедная, маленькая, холодная как лед, ни на что не жалующаяся эскимосочка! Она почти окоченела от холода! Затем понемногу в нас, лежавших рядом, тесно охваченных густым, мягким оленьим мехом, проникло восхитительное тепло, а вместе с ним сознание близости другого человеческого существа и забвение всего мира за пределами мешка.
Дни протекали без всяких событий; было тепло и ясно. Над нами темно-синий высокий свод. Перед нами — близкие заснеженные стены гор или отдаленные вершины и хребты по ту сторону покрытой снегом морской равнины. Позади на фоне пурпурного неба высоко вздымалась вершина кафедральной массы горы Каррат, а за ней — морщинистые хребты Кекертарссуака и главный остров. Ходить по глубокому плотному снегу было трудно.
У нас побывал гость, некто Абрахам, принесший мне письмо от Саламины. Но из этого письма мы узнали мало, так как ни Абрахам, ни Полина читать не умели. Зато Абрахам принес мне двух куропаточек. Из них мы приготовили роскошный обед. Жили мы очень скромно. Наш запас провизии был сделан в расчете на одного едока, а керосина было так мало, что мы пользовались примусом лишь в крайних случаях.
Дни стали длинными. Мы подымались с рассветом и ложились, когда стемнеет. Весь день я работал. И вышло так, что за день до того, как было назначено вернуться Давиду, все мои полотна кончились. У меня было еще дело в Нугатсиаке, и я решил вернуться туда.
Снег и снежная каша лежали таким глубоким и мягким пластом, что, казалось, нечего было и думать идти пешком в Нугатсиак. Но после холодной ночи вдруг все изменилось. Санный след затвердел. Полина охотно согласилась отправиться рано утром в Нугатсиак, чтобы прислать оттуда сани за мной и моими картинами, а я бы пока еще несколько часов поработал.
Упряжка пришла за мной в полдень без всяких приключений. Мы помчались галопом в Нугатсиак.
Петер Оттисен из Нугатсиака — темнолицый маленький старик. Характерные, ничем не «разбавленные» черты его расы наложили отпечаток на его облик. Память его хранит рассказы, песни и обычаи эскимосов. Когда я поручил помощнику пастора из Нугатсиака Беньямину собрать старые песни, он обратился к Петеру Оттисену.
— Вот все, что я смог у него получить, — сказал Беньямин, показывая мне маленькую исписанную тетрадь. — И я хорошо заплатил ему.
Но однажды Саламина получила письмо. "Скажи Кинте, — было написано в нем, — что, когда я спел помощнику пастора несколько песен, он сказал мне, чтобы я перестал петь. Он не дал мне петь дальше и сказал, чтобы я уходил. Если Кинте приедет в дом Эскиаса, я спою все песни, а Эскиас может их записать. Он может записать и музыку". Письмо было подписано: "Петер Оттисен".
Эскиас во всех отношениях выдающийся человек. Он образован, умен, хороший охотник и добытчик; у него приятные манеры и доброе сердце. У него экономная и прилежная жена, к которой он обращается за советом во всех важных делах. Дети у них чистые, дом большой, светлый, всегда убранный, через несколько окон вливается солнечный свет. И Эскиас играет на скрипке.
Вечером, в день моего возвращения в Нугатсиак, мы встретились с Петером Оттисеном в доме Эскиаса. Началась самая нескладная, какая только когда-либо производилась, требовавшая огромного труда запись старинных мелодий. У меня была флейта, у Эскиаса скрипка. Старый Петер пел вдохновенно, тихо, но так, как будто все мы участвовали в гонке, в которой он обгонял нас. Скрипка, настроенная в лад с флейтой, сразу же сползала на старую настройку. Голос Петера тоже менял тональность. И это создавало трудности. Но самым утомительным оказалось то, что, пытаясь уловить отдельную ноту или фразу, встречающуюся в конце песни, мы должны были терпеть беспрестанное повторение всей песни с самого начала; Петер не в состоянии был пропеть отдельно какую-нибудь строку. Затем, когда повторяли как будто совсем хорошо записанную вещь, Петер варьировал мелодию, и вся проделанная нами работа шла насмарку. Наконец, мы пришли к тому, что бульшую часть записи стал выполнять Эскиас, а я ограничился проверкой написанного им и вносил поправки и дополнения. Мы прекратили работу в половине первого ночи, записав всего три песни. (…)
Давид приехал около десяти. Когда он уезжал, я велел ему захватить сюда снегоступы и подполозки для саней. Они оказались абсолютно необходимыми, потому что без них сани погружались в толстый, покрывшийся коркой слой снега по самый настил. На подполозках сани шли довольно быстро, хотя собаки глубоко зарывались в снег. До Игдлорссуита мы доехали за шесть часов.
Когда я находился в Нугатсиаке и Каррате, в Уманакском заливе дули сильные ветры. Лед опять погнало в открытое море. Эдвард Нильсен и еще один молодой человек из Игдлорссуита охотились с собаками к юго-западу от поселка. Льдина, на которой они находились, оторвалась и поплыла. Эдвард, бросив своих собак, добрался до неподвижного льда; другого человека потащило в сторону открытого моря, на такой маленькой льдине, что волны перекатывались через нее. Его спасли Мартин и Хендрик, добравшиеся к нему на каяке. Он потерял своих собак.
Через пять дней (сегодня 25 марта, страстная пятница) Давид и я на пятнадцати собаках выедем в Уманак. Давид возьмет каяк Кнуда. Мы отправимся через Кангердлуарссук-фьорд к границе льда. Там я устрою себе стоянку, а Давид поедет дальше на каяке в Увкусигссат доставать умиак, чтобы перевезти на тот берег меня, собак и сани. (…)
* * *
Жена Стьернебо остается добродетельной от страха, и зависть к недобродетельным озлобляет ее. Разумом она ребенок, но ребенок зловредный, лживый, плаксивый, избалованный, который, не имея возможности достигнуть умственной зрелости, быстро вырождается, перейдя к злобной преждевременной старости. Когда видишь, как она носится по поселку в неистовых мелких хлопотах по украшению своей персоны, то начинаешь думать, что она не в своем уме. Тут маленький кусочек кожаной узорной работы, там полоска вышивки, лыжи, камики, шитье — Анина бегает из дома в дом, где за маленькую плату выполняют мелкую работу, чтобы принарядить ее. И когда наконец жена управляющего появляется, покрытая пасхальными украшениями, и, отставив руки далеко от корпуса, придерживая на месте напульсники, вся охваченная желанием показать себя маленькому мирку, торопливо, чуть ли не бегом, шагает, наклонясь вперед и глядя вниз, чтобы видеть себя, мало на кого это производит хотя бы малейшее впечатление. У мужчин появляется скучающий вид, и они уходят, а когда один из них — Анина проходила мимо — предложил Расмусу крону, чтобы он соблазнил ее, великий Расмус [51] сплюнул. (…)
* * *
8 апреля. Остров Сатут. Тихо, морозит, повсюду образуется лед.
* * *
9 апреля. Сатут. Погода, которой я опасался и в наступлении которой был почти уверен, действительно наступила. Хорошие дни не могли продержаться до начала моей поездки и во время нее. И конечно же, 27 марта, за два дня до намеченного дня отъезда, надвинулся и окутал нас холодный мокрый туман.
Напряженность ли атмосферы последних дней заставила Саламину довести меня до исступления, или это была простая случайность, но между нами разыгралась домашняя драма, вынудившая меня наконец уйти ночевать на церковный чердак. В Игдлорссуите было много приезжих, несколько человек остановилось у Рудольфа, и Саламина попросилась ночевать ко мне в дом. Это само по себе было бы неважно, но вечером мне хотелось побыть одному и писать, Саламина же упорно сидела дома и сохраняла такое агрессивное молчание, что даже перепалка была бы менее раздражающей. Если я в знак протеста откладывал работу и выходил, Саламина шла за мной. Если я возвращался, возвращалась и она. Расхаживая в отчаяний взад-вперед по берегу, я встретил маленькую девушку из Ингии и остановился покурить с ней. Вдруг неведомо откуда появилась Саламина и устроила мне сцену ревности. Я направился в дом, взял свой спальный мешок и отнес его на чердак церкви. Там было сыро и холодно, но я разостлал постель и заполз в нее. "Она меня и здесь найдет!" — подумал я. Так и вышло. Только я начал задремывать, как Саламина поднялась по лестнице. Она стала упрекать меня, жаловаться. И это длилось целый час. Моей единственной защитой были мрак спального мешка и молчание. Наконец она покинула чердак.
29 марта я проснулся сильно простуженный. Утром 30-го в 7 часов я почувствовал себя еще хуже. Погода по-прежнему была сырая, холодная; свежевыпавший почти в фут толщиной снег лежал на уже размягчившейся поверхности льда. Выехали мы с Мартином. Он на девяти собаках с каяком на санях, я на четырнадцати собаках с тяжелым грузом. До Кангердлуарссука мы ехали 5 часов. Здесь ненадолго показалось солнце. Мы сделали остановку, чтобы напиться кофе. Лед в фьорде изумительно хорош; снегу только один дюйм. Собаки неслись вовсю.
Около 4 часов увидели двух человек на двух упряжках, ехавших нам навстречу. Это были Абрахам и Габриэль. Удачная встреча! Остановились обменяться новостями, и я сварил кофе. Они приехали из Увкусигссата на лодке. Лодка будет ждать до завтрашнего дня. Если мы продолжим поездку и перейдем по суше до следующего фьорда, то сможем добраться до Увкусигссата водой. Тогда Мартину не понадобится плыть на каяке. Поездка Абрахама в Уманак была долгой и трудной, с двумя переездами по суше.
В 6 часов 30 минут достигли конца фьорда. Там в большой пещере расположилось лагерем несколько мужчин из Ингии. Оставил им собаку Павии, чтобы они доставили ее обратно в Ингию. Негодную собаку Петера Сокиассена отослал назад еще раньше. В 6 часов 45 минут выехали, чтобы совершить переезд по суше. Езда великолепная; воды нет. Крутой участок около ледника было очень трудно преодолеть. Пока мы спускались на другую сторону, стемнело. Ехали по замерзшей речке, по чистому блестящему льду. Пришлось надеть на полозья цепи. Фьорда достигли в полной темноте. Переезд по суше занял 3 часа. Теперь нам в лицо дул сильный холодный ветер; пошел снег. Следуя извилинами северного берега, мы наконец выехали на кромку льда и, направившись вдоль нее в сторону берега, нашли лодку. Было 2 часа ночи. Поставили маленькую палатку, я сварил кофе. Давид и Мартин отправились прогуляться в ожидании появления тюленей в 4 часа, а я лег спать.
Давид и Мартин вернулись в 5 часов. Я проснулся от их голосов. Сварил кофе. Чуть повыше на горе, примерно ярдах в ста от нас, видна была палатка, но обитатели ее еще не появлялись. В этот день дул сильный ветер, выехать в Увкусигссат было невозможно. Надобность в каяке Мартина теперь отпала, и в полдень он уехал от нас, чтобы возвратиться в Игдлорссуит. В течение дня от припая оторвало и унесло льдину размером в квадратную милю. Вечером, когда стемнело, легли спать. В 5 часов Давид снова встал и отправился охотиться на тюленей. Утро было ясное. Вся округа, покрытая свежевыпавшим снегом, сверкала. Выехали поздно утром. Лодка оказалась тяжело нагруженной. Еще бы — шесть человек, двенадцать собак, сани и снасти, принадлежавшие всем пассажирам. Два каяка на буксире.
(Извилистым путем, по загроможденной льдами воде и при крепком ветре мы достигли Увкусигссата в 7 часов 30 минут. Там провели ночь. На следующий день, несмотря на шторм, отплыли снова, но все же из-за шторма пришлось возвратиться. Бросив якорь в маленькой бухточке, воспользовались предложенным нам гостеприимством живущего там семейства. Пробыли там два дня и две ночи и с близкого мыса наблюдали, как штормовой ветер гонит мимо целые мили плавучего льда. Наконец шторм утих. 5 апреля мы добрались на лодке до неподвижного льда, затем ехали на санях, потом снова переправлялись на лодке и достигли процветающего островного поселка Сатут. Там нам оказал дружеское гостеприимство бестирер-гренландец Иоганн Ланге. За Сатутом лежал свободный ото льда залив. Но в Гренландии погода может меняться очень резко, и на следующее утро залив снова замерз. Образовавшийся лед был слишком тонок для саней и слишком толст для лодок.)
* * *
9 апреля. Тихо, морозно, лед немного поломало, но он продолжает образовываться. Никаких шансов на отъезд. Похоже на то, что я никогда не выеду из Сатута. "Нет дороги!" — говорит Ланге. (Наше продолжительное пребывание в Сатуте позволило мне снова заняться своим дневником; помещаемые ниже записи делались тогда, когда был подходящий случай, и они не датированы.)
Ко мне пришел гренландец из Сатута, старый участник экспедиций. Он сказал:
— Вы можете добраться до Икерасака, если отправитесь к концу фьорда и там перевалите через узкий перешеек. Дальше поедете по хорошему льду.
10-го утром, в 8 часов, мы выехали. Почти час ехали по тонкому молодому льду. Большинство собак распрягли, и они бежали свободно. Давид бежал далеко впереди саней, пробуя лед. Наконец достигли старого льда, Запрягли собак и отправились на двух упряжках. Проводником был гренландец Иоханн.
Было морозное утро, нам в лицо дул обжигающий ветер. Доехали до места, где более десяти человек ловили палтуса. Чтобы заслониться от ветра, они поставили свои сани стоймя. Поехали дальше. Наконец достигли места, где следовало пересечь перешеек, но выбраться на сушу по изломанному, торосистому льду было трудно. Одна собака упала в трещину, другая растянула связки на ноге. Переезд по суше был короток, но местами очень крут. Доехали до следующего фьорда, остановились, сварили кофе. До Икерасака по гладкому льду добрались быстро. Проезжали мимо прекрасных скал величественной архитектуры. В Икерасак въехали в 4 часа. Томсон, датчанин-бестирер, и его жена приняли меня очень сердечно. В их уютном датском жилище я сразу почувствовал себя как дома. Пили кофе в домике Николая Флейшера, родственника Саламины, устроившего нам теплый прием. Помощник пастора играл на пианино, играл хорошо. Томсон сообщил, что, по сведениям, переданным по радио, моя жена находится на борту «Диско» (пароход из Дании). Я приготовился выехать на следующий день.
[Мы выехали из Икерасака с новым проводником в 7 часов. Оставили там двух собак — захромавшую и Негорсака, который куда-то исчез. У нас теперь было десять собак из четырнадцати, на которых мы выехали из Игдлорссуита. Достигли суши, полуострова Нугссуака, в 9 часов 30 минут. Не встретив особых трудностей, кроме ожидавшегося глубокого снега, местами довольно крутых склонов и постоянных подъемов, наши две упряжки достигли перевала около двух часов дня. С высоты тысячи метров мы видели заснеженные склоны почти до того места, где перевал выходит в залив Кекертак. Горячий кофе и часовой отдых на солнце.]
Спуск оказался не таким легким, как ожидали. Мы находились теперь на южном склоне, покрытом глубоким мягким снегом. К заходу солнца погода изменилась. Когда мы наконец выбрались на морской лед, с потемневшего неба падал снег. В Кекертак въехали в 9 часов 30 минут. Навстречу нам высыпал народ, за нашими санями бежала большая толпа. Остановились в доме бестирера. Бестирер, высокий молодой человек, встретил нас дружелюбно и отвел мена к себе в дом.
Бестирер Нильс Дорф — гренландец, прожил три с половиной года в Дании. Он сейчас же сообщил мне об этом. Дорф говорит бегло по-датски. Обстановка, устройство и чистота дома показывают, что Дорф усвоил многое из датской культуры.
Мне поставили кровать в столовой. Я спал, пока спал весь дом; часов в восемь встал.
Наш план состоял в том, чтобы переехать на гребной лодке через пролив Вайгат к восточной оконечности острова Диско — расстояние, равное приблизительно 25 милям. На следующий день после нашего прибытия в Кекертак была бурная погода, и об отправлении не могло быть и речи. Но гребцов мы наняли. Вечером были танцы. Поздно утром меня позвали поговорить с командой.
Все были в сборе и стояли передо мной с несколько воинственным видом забастовщиков. Они спросили, сколько им заплатят. Мы остановились на команде из восьми человек: я предложил платить им столько-то за поездку туда и обратно и столько-то за каждый день простоя из-за дурной погоды. Мое предложение было довольно щедрым, но они, видимо, не понимали его, пока один вдруг не крикнул: "Аюнгилак!" Он объяснил условия остальным, и все охотно согласились.
В 7 часов утра 13 апреля выехали. Но до этого мне пришлось столкнуться с другими затруднениями. Мне сказали, что пятеро гребцов решили не ехать. Ладно, выход очевиден — возьмите других. Нашли двоих. Третьего еще можно будет прихватить в маленьком поселке в нескольких милях от Кекертака.
Выехали на двух санях с упряжкой в четырнадцать собак, так как я купил у бестирера Нильса еще одни сани и четырех собак. Переехали на главный остров, и через три-четыре мили подъехали к вытащенной на берег лодке. Однако место оказалось неподходящим для спуска лодки на воду. Моих собак припрягли к лодке. Они быстро втащили ее на гору, перетянули через мыс и спустили на другой стороне мыса на берег. Затем лодку пришлось спустить с шестифутовой высоты ледяного шельфа на морской лед, проволочить сто футов до края старого льда и столкнуть на молодой лед, который лодка сразу же проломила. Погрузили поклажу и собак на борт, начали медленно пробивать себе проход к чистой воде, до которой оставалось еще с четверть мили.
Дул свежий ветер. Выбравшись на чистую воду, мы подняли парус и пошли вдоль берега на запад между плавучими льдами. В Акунаке остановились, взяли на борт молодого человека, тамошнего жителя. Снова отплыли и в течение двух часов шли зигзагообразным курсом среди льдов. День был ясный, но холодный. Вынужденные бездействовать, сидя в переполненной лодке, мы скоро начали страдать от холода.
Компания, подобравшаяся в лодке, была довольно веселой. В полном соответствии с первыми волнениями из-за оплаты она все более и более проявляла жадность. Гребцам хотелось получить все, что у меня было: мою трубку, мой табак, мои сигареты, мою пищу, мой примус. Я, само собой, разделил свою еду с ними, хотя у них было много своей. Дал им бульшую часть сигарет, хотя у них был хороший запас табака. Рулевой мрачно молчал. Это дельный человек, но из тех, кто никогда не разделяет настроения остальных. У него профиль, как у Данте. Кожа темная, глаза светло-зеленые.
Низкий берег острова Диско казался гладким, крепким для санной езды.
— Трудно вам будет, если высадитесь на берег, — убеждали меня гребцы. — Снег очень глубокий и мягкий. До Скансена к ночи никак не доберетесь. Почему бы вам не поехать морем. Мы бы вас отвезли.
И я, дурак, им поверил. Они немного поспорили, поторговались об оплате, но я все это уладил к их полному удовольствию.
Ветер, который был довольно свежим, начал спадать; стало почти совсем тихо. Продвигались мы очень медленно. Один раз заметили песца, бежавшего по ледяному шельфу. Он повернул в глубь острова, и мы потеряли его из виду. Время от времени варили чай или кофе. Один раз я сварил большую кастрюлю овсяного киселя на всю компанию. Гребцы ели его, добавляя китовое сало. Я взял предложенный мне кусок, бросил его в свой овсяный кисель, попробовал. Сало оказалось отвратительным, прогорклым. Кисель был испорчен, но я его все-таки съел.
Мы находились еще далеко от Скансена, когда зашло солнце. И лишь в полночь, в темноте, лодка пристала к берегу у подошвы отвесной скалы. В поселке все спали. Несколько человек из команды сопровождали меня и Давида до дома бестирера. Мы ввалились и кухню.
— Позови бестирера, — подталкивали они меня, заметив мое нежелание будить дом.
Я постучал в незапертую дверь столовой. За ней из спальни отозвался мужской голос, и вскоре показалась слабо различимая мужская фигура. В темной комнате его белье было светлым пятном. Я почему-то сразу почувствовал доброту этого человека, так же как в темноте скорее ощутил, нежели увидел, порядок и чистоту дома. Когда бестирер, натягивая носки и обуваясь, разговаривал со мной, я понял, что он добр по тому, как спокойно он говорил своим низким голосом. Таким показался мне бестирер Мозес. Потом вышла его жена, славная, умная женщина. И вскоре я уже сидел за столом, поедая хороший хлеб с маслом и запивая его кофе. Спал я в мезонине, в чистенькой маленькой комнате для гостей; здесь было тепло, так как Мозес затопил печь.
На следующий день мы должны были выехать в 11 — Давид, я и проводник, на отдельных упряжках. Но ночью четыре собаки пропали. Давиду, конечно, следовало бы их привязать, а мне распорядиться об этом. В общем, это послужило мне уроком. Мы отыскали собак, пройдя мили две вдоль берега и в глубь острова, по следу от волочившейся упряжи. Собаки вернулись довольно охотно, и в двенадцать мы выехали.
День был тихий, ясный, поразительно мягкий. Ехали быстро, и Давид на новых собаках вскоре остался далеко позади. Через некоторое время я задремал: такой гладкой и ровной была дорога. Вдруг, внезапно открыв глаза, я заметил, что человек из Скансена бросился к передку саней: совсем близко перед нами открылся обрыв. Я попытался вскочить, но опоздал. Передняя упряжка благополучно нырнула вниз. Наша шла сразу за ней. Я смог только броситься на настил лицом вниз и во время падения держаться за сани. Собаки, оставшись без управления, пошли более крутой дорогой. Мы слетели с обрыва в мягкий снег.
На полпути к Годхавну пришлось свернуть с берега и по длинному и легкому склону взбираться на гору. Местами глубокий мягкий снег затруднял движение, зато спуск на другой стороне был великолепен. Солнце уже опустилось низко, когда мы выехали на равнину у окраины Годхавна. Упряжки быстро помчались по плотному снегу к дому Порсильда. Мы проехали мимо закутанной в меха прогуливавшейся важным шагом датской парочки. Он и она уставились на меня. "Какое, наверное, прекрасное зрелище я представляю сейчас", — подумал я. Только позже мне стало известно, что парочка любовалась моими прекрасными собаками, приняв меня просто за гренландца.
Д-р Порсильд (видный датский ученый, поселившийся в большом доме в Годхавне) сердечно принял меня. Я остановился у него в доме. Я прибыл 14 апреля, на шестнадцатый день после отъезда из Игдлорссуита.
Каждая культура — целый мир. Она определяет поведение людей, в большей степени их мысли и в меньшей — характер их эмоций. За пределами отдельной культуры нет такой вершины, с которой можно было бы наблюдать и оценивать эту культуру. Только тот, кто так сроднился с определенной культурой, что видит, чувствует, мыслит ее категориями, — только он обладает истинным знанием своих собратьев по культуре. Много значит изучить язык, думать и говорить на нем, но это далеко еще не все. Надо усвоить образ жизни, одежду, пищу, привычки народа, чтобы основательно постигнуть его душу.
О чем думает Катрина, когда, окончив работу, стоит часами у окна и, ничего не делая, смотрит на то, что за окном, — весной на грязный снег, на снежную кашу, на ручейки, на темный склон горы, проступающий сквозь зимнюю белизну? И думает ли вообще? Что она и все другие получают от этого ежедневного досуга? А если в ее сознании нет мыслей, если она не вспоминает какой-нибудь строки поэта или сама не испытывает тяги к поэтическому творчеству, то разве ее душа меньше насыщается длящимся часами созерцанием явлений времени года, чем ее тело бездумным вдыханием чистого, свежего воздуха? Этот вопрос задал — и ответил на него — Вордсворт в своем сонете "Вечер на берегу в Кале". О таких вот вещах мы не можем ни знать, ни судить, если только не жили жизнью гренландцев.
В Гренландии говорят: суди девушку по ее камикам, женщину — по камикам мужа.
[Выше отмечалось, что я надеялся добраться до Хольстейнборга вовремя, чтобы встретить Фрэнсис на пристани. Несмотря на задержки в пути, я прибыл в Годхавн все же достаточно рано, чтобы успеть совершить необходимую поездку морем. Но бюрократические правительственные рогатки оказались непреодолимыми: мне не удалось добиться приведения в порядок и спуска на воду моторной лодки. Таким образом, 27 апреля, после двухдневного путешествия на небольшом судне, Фрэнсис ступила на лед в гавани Годхавна и тут же попала в объятия ожидавшего ее темнолицего, одетого в меха гренландца — своего мужа. Тем временем годхавнская моторная лодка «Краббе» все-таки была спущена на воду и передана мне в пользование. Два дня спустя, в 10 часов утра, взяв на борт собак и сани, мы отплыли.]
Был мягкий, тихий день, солнечный свет проникал сквозь дымку. Встречалось много дрейфующих льдов, но мы избегали больших скоплений, держась ближе к берегу. Во второй половине дня быстро стемнело: подул восточный ветер, усиливавшийся с каждым часом. На полпути к Ритенбанку мы попали в сильное волнение, но двигатель «Краббе» работал бесперебойно, и к 9 часам вечера лодка шла уже с подветренной стороны берега. Часом позже мы бросили якорь в забитой льдом гавани Ритенбанка. На берегу выстроилась толпа поглазеть, как мы будем сходить с судна. В толпе среди всех я узнал датчанина-бестирера по его своеобразной фигуре, укутанной в широкое длинное пальто. Он встретил нас очень тепло и подкрепил встречу великолепным гостеприимством, которое мы не скоро забудем.
На другой день, в полдень, отплыли в Кекертак. Какой был день! Снег таял, вода бежала ручейками по обнажившейся земле. Было тепло, как в июне; солнце светило с безоблачного неба. Горы отражались в гладком, как зеркало, море. Вблизи Кекертака нас остановил лед. Мы на лодке прошли вдоль ледяного шельфа и высадились в нескольких милях к западу от Кекертака. Тут увидели четыре дома и множество народу. Я нанял человека отвезти нас в Кекертак. Наш груз, включая Фрэнсис, разделили на три равные части (нет, саму Фрэнсис мы на части не делили). Одну из них дали этому человеку. Он приволок сани и подвез груз к своему дому. Выехали, когда сани были уложены и собаки запряжены. Тут выяснилось, что нас сопровождает множество людей с упряжками и что груз, который я поручил нанятому мной человеку, он разделил еще с одним. Дорога была не очень ровной. Она шла то в гору, то с горы по голым скалам, по ломаному морскому льду, а в одном месте нам встретился отвесный пятифутовый уступ — спуск с ледяного шельфа. Попался еще один крутой спуск. Посредине него выступал валун, образуя обрыв высотой в двенадцать пятнадцать футов, на котором можно было легко сломать шею. Дорога резко отклонялась в сторону, чтобы обойти этот уступ. Фрэнсис сидела неподвижно, парализованная страхом. Я тормозил изо всех сил, собаки держались дороги: проехали отлично. В 6 часов прибыли в Кекертак.
Бестирер и его семья встретили нас, как старых друзей. После небольшого завтрака, состоявшего из пирога и кофе, мы оставили Фрэнсис наедине, чтобы она поспала сколько сможет, прежде чем мы снова выедем в полночь. Пока Фрэнсис спала, я пил. Пил виски, потом пиво, пиво без конца в течение нескольких часов с бестирером Кекертака и с настоящим джентльменом — бестирером Саркака, любителем выпить. Давида тоже иногда допускали к краю того аристократического круга, в котором я находился. Но, конечно, стакана ему не дали. Он стоял или сидел на полу и пил из бутылки. Я рассчитался с бестирером. Гребцы, привезшие меня в Скансен, скрыли, что я там заплатил им двадцать крон, и получили от бестирера плату за мой проезд полностью. Конечно, я выплатил ему все, так же как оплатил и счет за двух человек с упряжками, перевозивших нас от места высадки с «Краббе» до Кекертака. Потом в Кекертаке начались танцы. Корыстные наклонности кекертакских мужчин здешние девушки полностью искупают своими жаркими объятиями. Так в разных праздничных развлечениях время подошло к полуночи. В одиннадцать сели за сытный ужин; в двенадцать выехали…
Серые сумерки, прохладный воздух. Лед был крепкий, слегка покрытый снегом; по гладкому льду ехали спокойно. Через полчаса или три четверти часа мы выбрались на сушу и, чтобы пересечь полуостров Нугссуак, начали длинный крутой подъем. Снег не такой рыхлый и мягкий, как две недели назад, поэтому ехать было намного легче. Кроме того, и уклоны при продвижении на север менее круты. Расстояния, казавшиеся при первой поездке такими большими, теперь, став привычными, сократились.
Постепенно серый полуночный свет уступил белизне дня. Солнце затянуло облаками, и это избавило меня от темных очков. Перевалив через высшую точку, мы встретили несколько крутых уклонов под гору. Хотя я тревожился, что местами приходится везти Фрэнсис по очень неприятным спускам, но все прошло благополучно. Сани Давида опрокинулись. По мере приближения к северной стороне полуострова появлялись все новые и новые крутые спуски. Но я уже основательно освоил прием торможения, и все сошло хорошо. Несколько рискованной дорогой оказалась замерзшая речка, так как иногда ледяная корка под нашим весом проламывалась, и сани наполовину проваливались в поток, текущий тремя футами ниже. Нильс (добавочный каюр) один раз опрокинулся и промок насквозь. Достигнув фьорда, мы несколько минут отдыхали, пока Нильс переодевался в сухой анорак, затем выехали на последний перегон в несколько миль, отделявший нас от Икерасака. Лед, покрытый на один-два дюйма водой, был гладок, как стекло, и так как я не спал сорок восемь часов, то стал дремать. Фрэнсис крепко уснула. Мы оба проснулись оттого, что сани стояли, упершись в небольшой ропак [52] вышиной около ярда. Забыв, что Фрэнсис не умеет ездить на санях, я погнал собак. Когда мы перевалили через ропак, сани накренились под острым углом, и Фрэнсис скатилась в лужу.
Чтобы достигнуть Икерасака, нам пришлось опять пересечь узкую полосу суши, на этот раз голую. Въехали в Икерасак в 11 часов 30 минут — как раз ко второму завтраку.
Я забыл сказать, что единственная неприятность, которая была во время поездки, это частые обрывы упряжи — постромок. Они рвались, наверное, раз пятнадцать, и, конечно, всякий раз, когда больше всего требовалась тяга каждой собаки. Одна собака, прихрамывавшая еще перед выездом, так захромала, что не могла быстро бежать наравне с другими на спусках. В конце концов пришлось пустить ее бежать не в упряжке. За час до нас в Икерасак прибыл Ольсен. Он добрался из Уманака до кромки льда на капитально отремонтированной «Нае», а от кромки прошел пешком.
На следующий день мы выехали поздно утром. Достигли кромки льда, сделав предварительно несколько крюков, чтобы избежать опасных участков даже в лучших местах тонкого льда. Потом, лавируя между плавучими льдами, благополучно добрались до Икерасака.
Через два дня отплыли на «Нае» в Игдлорссуит. На борту: Фрэнсис, доктор, Беата (кифак доктора и повивальная бабка Кекертака), Давид, Ольсен и четыре человека команды. Сначала мы отправились в Кекертак, чтобы высадить на берег повивальную бабку и дать возможность доктору посетить своих пациентов. Было 3 часа утра, когда «Ная» уткнулась носом в лед Игдлорссуитского пролива и ошвартовалась. Мы понеслись в Игдлорссуит наперегонки — Ольсен на одной из моих упряжек с Беатой и Давидом, я на другой с Фрэнсис и доктором. Выиграл гонку я! Опередил их не меньше чем на пятнадцать минут. Приехали в четыре утра. Было прекрасное ясное солнечное утро, и казалось странным, что весь поселок спит. Подъехали к моему дому; не распрягая собак, я побежал будить Саламину — у нее был ключ от дома. В доме Рудольфа спали; все встали и были нам рады.
Вскоре в доме стало тепло. Кофе сварен и стоит на столе. Рудольф и Маргрета присоединяются к нам. От тостов с кофе переходим к шнапсу и пиву. Понемногу люди в поселке пробуждаются и собираются вокруг нашего дома. Мы приглашаем все больше и больше народу, и вскоре у нас уже множество гостей: Ганс, Йонас, Кнуд, Петер, Давид, Абрахам, молодой Эмануэль, их жены и дочери. Шнапс. Я произношу речи. Музыка и танцы.
Ольсен разбудил своего врага Стьернебо, чтобы раздразнить его и привести в бешенство из-за двигателя «Наи». Чтобы разбудить Стьернебо, Ольсену пришлось громко и не переставая звонить в большой колокол, висящий на стене дома управляющего как раз рядом с окнами спальни. Ольсена впустили в дом. Несколько часов спустя, что-то около десяти, он вышел оттуда и, спотыкаясь, начал подниматься на гору.
Веселящиеся у меня гости стоят толпой около дома, глядя на страшное возвращение Ольсена. Он шатается, спотыкается; лицо его осунулось от шнапса, искажено гневом. Славное зрелище для гренландцев ясным майским утром. Пьяному помогают войти в мой дом. Минуту или две он дико разоряется:
— Я ему показал, чтоб его черт… и т. д.
Потом валится носом вперед и засыпает пьяным сном, положив лицо на протянутые поперек стола руки.
Часом позже, пытаясь убрать Ольсена в сторону, потому что его огромное тело мешало танцам, мы разбудили его. Ольсен вышел из своего бессознательного состояния, как разъяренный медведь, угрожая уничтожить всех нас. Рудольф и я вывели его из дому, и я остался с Ольсеном наедине.
— Я его убью, будь он проклят, убью! — ревел он. — Он говорит, что я погубил двигатель!..
Потом, закрыв лицо руками, Ольсен положил голову на ящик для угля и закричал: "Нет, ей-богу, я его убью!" — и, шатаясь, бросился напрямик к дому Стьернебо.
Мне в общем было все равно, убьет он Стьернебо или нет, но я прибег к избитому приему — уговорами и хитростью, но не силой удержал его. Наконец Ольсен немного утих и отправился мирно вниз к Стьернебо, чтобы проспаться.
Только что гул, похожий на гром или глухой взрыв, потряс дом. Оказывается, камень кубической формы, примерно в 16 дюймов в поперечнике, скатился со склона горы и разрушил угол ящика для угля.
Гости разошлись около полудня, но в течение всего дня продолжали ходить в разные места по кафемикам. Вечером у нас был званый обед: Абрахам с Луизой, Рудольф с Маргретой, Катрина, Мартин и мы четверо, включая доктора.
[Предполагая, что читатель уже хорошо представляет себе меню наших гренландских званых обедов и что вообще на них происходит — включая, конечно, танцы, а затем появление и участие в них значительной части взрослого населения поселка, — мы просто отметим, что все хорошо провели время, и вернемся к дневнику.]
В Игдлорссуит мы приехали 5 мая утром. А 7-го утром в 11 часов Фрэнсис, доктор, я и множество игдлорссуитцев на своих упряжках отправились в Нугатсиак. На следующий день там должно было состояться празднование дня рождения маленькой дочки помощника пастора Беньямина. Подобрали наконец состав для четырех саней: Рудольф и Маргрета, Мартин и Саламина, Абрахам с Луизой и одним или двумя детьми, Фрэнсис, доктор и я. Во всех упряжках было по восемь собак.
Поездка превратилась в гонки. Рудольф шел впереди, остальные растянулись неподалеку следом не в состоянии перегнать друг друга. Мартин обогнал меня, ушел вперед со своей упряжкой, когда моя из-за чего-то остановилась. Перед Нугатсиаком я сделал последнюю отчаянную попытку обогнать всю вереницу, но снег в стороне от санного пути был слишком глубок для быстрой езды. Я отстал и оказался опять на третьем месте. Тут мои соперники поступили довольно странно: они передали по линии, чтобы все остановились, и пропустили меня вперед на первое место. Очевидно, им казалось, что моя гордость белого человека требует въехать в Нугатсиак первым. За кого они нас принимают?
Празднества начались сразу с того, что распечатали бутылку виски, привезенную доктором Павии, и откупорили бесчисленное множество бутылок пива. Но на следующий день дело развернулось всерьез — день превратился в сплошной кофе-пиво-виски-танцемик. Почти все были немного навеселе и все были очень довольны. Танцы устроили в школе — там великолепный танцевальный зал. Вся молодежь, все красавицы Нугатсиака были на танцах и кроме них еще много немолодых и некрасивых. Беньямин, помощник пастора, вел себя экстравагантно — это его обычная роль. Он танцевал напропалую, выделывая всевозможные и необычайные па. Эти па столько же смущали окружающих, сколько доставляли удовольствие самому Беньямину.
— Смотри, Кинте, — кричал он, — вот как надо! — и начинал вертеться в противоположную сторону.
При всем своем самомнении танцевал он отвратительно. Олиби с видом, выражавшим "она заслуживает хорошего партнера и сумеет его оценить", обратил все свое внимание на Фрэнсис. Он танцевал, держась гордо, прямо, вертелся много и очень искусно, все время сохраняя самодовольное, чванливое выражение. Фрэнсис находила его скучным партнером. Мортон, пользующийся дурной главой, танцевал — надо отдать ему справедливость — лучше всех. Большой, очень сильный, он двигался изящно и уверенно, проявляя настоящее умение в исполнении современных танцев. Павиа, конечно, блистал в танцах, но таким блеском, какому мало кто позавидует. Чтобы покороче описать этот длинный вечер, скажу, что мы танцевали, затем удалялись на короткое время к Беньямину или Павии выпить пива, потом опять танцевали. Около девяти сделали небольшой перерыв, во время которого ходили к Эскиасу ужинать. Ели тюленье мясо. Ужин был хорош!
На следующее утро выехали в 10 часов. Немного задержался доктор, поэтому наша упряжка двинулась последней. Некоторые упряжки выехали почти на час раньше, и все же вскоре все мы — Рудольф с Маргретой, Мартин с Саламиной, Нильс с Багитой, Негорсак (доктор), Фрэнсис и я — сбились в тесную кучу. Нильс ехал последним. Самый большой груз находился на моих санях. Нильс неоднократно пытался обогнать меня, но не мог: снег сбоку от узкой дороги был слишком глубок, чтобы можно было развить скорость. Правда, временами мы все же обгоняли какую-нибудь отставшую упряжку, а когда прошли три четверти пути до Игдлорссуита, наш поезд нагнал первый отряд из семи упряжек. И тут началась гонка!
Чтобы не уступить первенства, каюры стали подгонять своих собак, и с милю мы ехали в хвосте. Рудольф, как я и ожидал, начал гонку на полной скорости. Собаки передних упряжек шли вплотную друг к другу. При их обгоне Рудольфу почти не приходилось съезжать с дороги. За минуту бешеной езды он обогнал четверо саней и снова вошел в цепочку — в промежуток, образовавшийся между упряжками во время гонки. Мартин ехал вплотную за Рудольфом, но, обгоняя других, эти две упряжки создавали некоторое смятение в цепочке. Каюры подгоняли собак кнутом, собаки в замешательстве и страхе взвизгивали.
Я ехал вплотную за Мартином. Когда он обогнул ближайшую упряжку, собаки этой упряжки внезапно рассыпались веером, а один пес выбежал далеко в сторону чуть ли не под прямым углом. И тут на большой скорости, плотно сгрудившись, наскочили мои собаки. Они пронеслись мимо отбившейся собаки и через нее. Мгновение спустя все смешалось, превратилось в клубок из собак и постромок. Нильс, увидев, в каком я положении, быстро обошел нас с другой стороны.
Пока мы распутывали этот клубок, большинство упряжек оказалось уже далеко впереди. Я в отчаянии заработал кнутом и, чтобы нагнать остальных, стал подгонять своих псов. Это мне удалось. Одна за другой упряжки оставались позади, но все же перед Нильсом, Мартином и мной было еще несколько упряжек. И вот я подошел к месту, от которого в сторону уходила тропа. Мне показалось, что по ней можно будет срезать кусок дороги и обогнать всех. И я направил упряжку по этой дороге. Она завела меня в тупик, к проруби, где ловят акул.
Когда я это сообразил, выяснилось, что все уже ушли вперед. Мне ничего не оставалось делать, как возвращаться на проторенный путь, и я направился назад напрямик по девственному снегу. Бесполезная попытка! Снег был глубокий, мягкий. Когда я наконец добрался до дороги, мне пришлось лишь смотреть, как мимо мчатся все остальные участвующие в гонке упряжки. Теперь дорога шла по берегу острова. Дорога размокла от воды, стекавшей с соседнего горного склона, но так как по ней много ездили, то она была широкой. Вот тут я и использовал свой единственный шанс: стал обгонять одну за другой отстававшие упряжки. Обогнал Ганса, обогнал Габриэля, обогнал упряжку с драгоценным грузом — женой Исаака, мрачно, словно грозовая туча, смотревшей на меня. Обогнал Нильса и вскоре оказался в числе передних упряжек. Правда, Рудольф был уже так далеко впереди, что его можно было считать выбывшим из гонки.
Когда мы подъехали к Игдлорссуиту, Мартин свернул к своему дому, оставив меня и Абрахама заканчивать гонку. Мы пришли одновременно, голова в голову.
Спустя несколько дней я выехал в Кангердлуарссук-фьорд, нагрузив сани полотнами и запасом еды на несколько дней для себя и собак. Гренландцы выказали некоторое беспокойство по поводу моей поездки в одиночку, но я и слышать не хотел о том, чтобы брать с собой еще кого-нибудь. Они предупреждали меня, что лед в фьорде ненадежен, и советовали поговорить с жителями Нугатсиака. Я последовал этому совету и поехал сперва в Каррат. Там нашел молодого человека, удившего на льду рыбу; с ним я посоветовался. Он сказал, что лед в фьорде довольно хорош, но следует придерживаться северного берега. Я поехал дальше. Лед действительно оказался достаточно надежен, только на нем было много воды.
Так как это была моя первая самостоятельная поездка в подобных условиях, то я — наверное, напрасно — остерегался опасностей. На всякий случай я старался ехать по следам чьих-то саней, будучи уверенным, что там, где смог проехать кто-то другой, проеду и я. Но зато я убедился и в том, что не смогу разбить лагерь на льду: берега вокруг крутые, подходящего места для стоянки не видно. Наконец я все же выбрался на низкий берег. Здесь остановился, распряг собак, привязал их на цепь и поставил палатку на санях [53].
Место для привала на отложении гравия, нанесенного горным потоком, оказалось отличным, достаточно ровным и сухим. Поток шумел рядом. Едва я поставил палатку, как до моего слуха донеслись звуки громового раската. Я поднял голову. На противоположной стороне фьорда вздымались контрфорсы и башни отвесной каменной стены, тысячи полторы футов высотой. От одной из скал этой стены поднималось что-то похожее на облако дыма. Только это был не дым. Это был снег, а гром — шум обрушившейся лавины.
День серый. Туман, частично закрывавший окружающее, теперь так сгустился, что временами я переставал видеть горы на той стороне фьорда, до которых не было и мили. Неподходящий день для живописи. Приготовил себе ужин, покормил собак и лег спать.
Проснулся рано утром. Сначала услышал рядом рев потока, потом шум ветра над палаткой и затем шорох снежных хлопьев, скользивших по полотнищам. Я выглянул наружу. Мир снова был девственно белым; падал густой снег, и дул сильный ветер. Я залез в спальный мешок и продолжал спать. Бульшую часть дня бушевала буря, и все это время я спал. Палатка была превосходная — уютная, непроницаемая, крепкая. Что мы могли делать, как не спать — я собаки?
В конце второй половины дня я поднялся. Снег перестал идти, а ветер уменьшился до слабого. Сварил себе рис с пеммиканом и сел писать.
Не люблю писать туман и дождь; для меня они менее интересны, чем то, что они скрывают. В чистых формах мира, в океане, горах, в солнце, луне, звездах достаточно тайны и без театрального фокуса — туманного покрова, чтобы заставить их казаться таинственными. Чудо, что горы Гренландии больше и красивее, чем представляешь их себе. В этом я вновь убедился, когда спустя несколько часов, в течение которых я смотрел на окутанные и увенчанные облаками горы, облака рассеялись. Низкое солнце бросило золотой свет на вершины, еще более высокие, еще более причудливые, нежели я воображал себе, не видя их.
Я привязал собак на цепь двумя группами: пять сработавшихся собак в одной группе и три чужих в другой. Как показала беспокойная ночь, такое распределение было не вполне удачным.
Няковет, великолепное молодое животное, полученное от Эскиаса в Нугатсиаке, занял основательное место младшего члена или гостя гордой группы избранных собак Ланге. Дух Няковета, размеры и чистый белый цвет давали ему на это право. Но других двух собак, Негорсака с коричневой мордой и рыжую, как лисица, собаку из Сатута, остальные псы не терпели. И для этих двух жизнь в обществе остальных псов была в полном смысле этого слова собачьей жизнью. Их непрерывно обижали, а во время кормления почти совсем лишали доли мяса. Няковет, привязанный на общую цепь с этими двумя, воспользовался случаем, чтобы показать, что он сделан из теста вожака. Сначала он задал основательную трепку всем собакам поочередно, а потом забавлялся тем, что время от времени принимал по отношению то к одной, то к другой небрежно-угрожающую позу, отлично рассчитанную на то, чтобы превратить очередную жертву в униженное, скулящее, трусливо пресмыкающееся существо. Серьезную драку я прекращал ударами толстой палки.
Другие псы досаждали так хитро, что я долго ничего не мог поделать. Каждый раз, когда начиналась свара, стоило мне вылезти из палатки, в собачьем лагере воцарялась полная тишь да благодать. Наконец я наложил кучу камней в таком месте, до которого мог дотянуться рукой, не вылезая из спального мешка. Несколько удачно брошенных камней окончательно установили мир и тишину.
Следующий день не принес больших изменений в погоде. Я свернул лагерь и выехал из фьорда. Сделал остановку, чтобы писать остров Каррат с юга. День был пасмурный, но без тумана. Только в фьорде туман еще как будто держался. Написав вид Каррата с юга, я выехал в море и написал эту прекрасную гору с запада. Затем, так как день уже кончался, поехал быстро в Нугатсиак и за полчаса добрался до поселка.
В Нугатсиаке было полно людей. Возвратились из фьордов охотники с санями, нагруженными тюленями. Сюда же приехали и игдлорссуитские охотники: в нугатсиакской лавке товаров было больше.
— Сколько ты добыл тюленей? — спрашивали меня все время.
— Десять! — отвечал я, а они смеялись.
На следующее утро я выехал в Игдлорссуит. Санный путь был хорош. Я покрыл все расстояние за два с половиной часа. Собаки мои подошли к поселку галопом. Я же, откинувшись назад и подгоняя собак, с небрежным видом опытного каюра похлопывал кнутовищем по сапогу.
Тем временем «Ная» вернулась в Игдлорссуит через Уманак (следуя секретному незаконному распоряжению бестирера Уманака) и снова отплыла в Уманак с доктором, пассажирами, пациентами и Стьернебо. Три моих ящика оставили в Годхавне.
Через два дня, рано утром, «Ная» пришла. Она стала на якорь близ кромки льда с подветренной стороны. В этот день начало дуть с юга. Ветер усилился почти до штормового. Когда около полудня я поехал отвезти для «Наи» железный балласт, оказалось, что ее плотно зажало льдом, который простирался мористее на целую треть мили. Лодка была там в полной безопасности, но на всякий случай на борту оставили двух человек. Спустя два дня «Ная» отплыла, и во второй половине дня мы с Фрэнсис выехали на санях в Нугатсиак.
В предыдущие дни все время таяло: то там, то тут на льду виднелись лужи. Старую дорогу вдоль берега острова до самой Ингии сейчас настолько развезло, что мне посоветовали направиться в Нугатсиак напрямик по льду. Ехал довольно хорошо. Правда, было мокро, но лед не настолько раскис, чтобы собакам трудно было по нему бежать.
Перед Нугатсиаком мы нагнали другую упряжку. Несколько минут мы мчались рядом наперегонки, потом наши пути разошлись. Когда мы въехали в Нугатсиак, там подняли флаг, и народ повалил нам навстречу. Собаки мчались, не останавливаясь, проскочили по торосистому льду и дальше единым махом вынесли сани на голый берег. Въезд был грандиозный. Окружающие помогли разгрузить вещи и отнести их в школу. И на четыре дня школа стала нашим домом.
К сожалению, хорошая погода продержалась всего лишь одни сутки. Ночью выпал снег. На следующий день было пасмурно, с востока дул сильный ветер и температура воздуха поднялась. Мы были вынуждены сидеть без дела и смотреть, как рушатся наши надежды на путешествие по фьордам. Я предполагал выехать на следующий день в Умиамако-фьорд и объехать вокруг острова Каррат, но погода продолжала оставаться угрожающе теплой, и вскоре поступили сообщения, что лед Умиамако-фьорда плох и совершенно ненадежен. Чтобы не рисковать, следовало бы немедленно возвратиться в Игдлорссуит. Однако я провел еще три дня в Нугатсиаке, и лишь после того, как вдоволь поработал, мы с Фрэнсис в 6 часов вечера выехали домой.
Тем временем погода переменилась, и день из самого, может быть, теплого в году по полуденной температуре воздуха превратился в довольно холодный. Поднялся северный ветер. Нам посоветовали сначала ехать на запад, а потом повернуть прямо в Игдлорссуит. В этом направлении путь по льду был для меня нов, да и айсберги незнакомых форм не могли служить ориентирами. А ориентиры были очень нужны. Через двадцать минут после нашего выезда начался туман; с моря накатывалась густая пелена. Через час туман поглотил нас, суша совсем скрылась из виду, а солнце показывалось с большими промежутками лишь на мгновение. Сначала лед был довольно крепким.
— Это восхитительно! — воскликнула Фрэнсис и начала говорить о разных вещах. Мои же мысли были заняты наступающим туманом и всей проблемой езды вслепую по льду, который, как было известно, надежен, но о котором я по неопытности мало мог судить. Фрэнсис все время проявляла замечательное спокойствие, хотя в Нугатсиаке ее немного напугали.
— Надеюсь, ты не рассердишься, если в эту поездку я буду немного бояться? — спросила она перед выездом. Ясно, что после таких слов я должен был выглядеть если не совсем уверенным, то и не встревоженным. Теперь же, управляя собаками и сидя к Фрэнсис спиной, я был озабочен тем, чтобы она не угадала по спине, какое обеспокоенное у меня лицо.
В последний раз я ориентировался по суше, солнцу и ветру, но потом, когда на нас опустился туман, весь мир превратился в серое облако. Временами пятнистая поверхность льда не была видна даже в ста ярдах. Если бы лед оставался таким же крепким, как около Нугатсиака, то я бы не беспокоился. Но дело обстояло иначе. Мне говорили, что по мере моего продвижения лед будет становиться лучше. Он же делался хуже. Раньше лед напоминал заснеженную равнину с мокрыми пятнами зеленоватого цвета, теперь получалось наоборот: лед был весь мокрый и оставались лишь отдельные пятна снега. Во многих местах блестели озера, отражавшие серо-голубое небо. Затем мало-помалу вся ледяная равнина покрылась водой, в которой виднелись островки снежной каши. Дул сильный ветер. Он морщил воду мелкой рябью, плескавшейся о сани.
— Вечером на море будет нелегко, — сказал я Фрэнсис.
Сани наезжали на островки снежной каши и ныряли с них в талую воду, слой которой на льду достигал шести-восьми дюймов. Внезапно перед нами возникли айсберги, большие и малые. Ничего хорошего это не обещало. Лед возле айсбергов ненадежен. Я старался объезжать их подальше, но собаки тянули к ним. Стало очень холодно. Мы надели на себя еще одежду. Стемнело: густой туман скрывал от нас заходящее солнце.
Я продолжал ехать вперед в надежде, что собаки хорошо знают направление на Игдлорссуит. Вряд ли это можно назвать инстинктом. Наблюдая за собаками, я заметил, что они, как и я, ориентируются по солнцу и ветру. Солнце находилось у меня за правым плечом, и, по мере того как шло время, мне нужно было учитывать его положение. Стоило солнцу показаться, как собаки оглядывались на него. Когда же его не было, они смотрели на светлое пятно в тумане, за которым оно скрывалось. Если я предоставлял собак самим себе, они бежали таким ровным курсом, будто дом был у них перед глазами. И все же, чтобы случайно не проехать мимо оконечности острова Убекент и надеясь напасть на санные следы игдлорссуитцев, я придерживался направления на середину Игдлорссуитского пролива. В случае, если санный след не попадется, я намеревался повернуть на запад в тот момент, когда по времени должен буду находиться на траверсе Игдлорссуита. Мне приходилось подгонять собак, хотя, как правило, гренландская собака не нуждается в понукании, если бежит в подветренном направлении.
Теперь мы ехали словно по морю. Временами вода заливала сани почти до настила, а иногда ее оставалось не более дюйма. Острова снежной каши приносили мокрым собакам облегчение. Мы выискивали эти острова и там, где они тянулись цепочкой в нужном направлении, изменяли курс, чтобы часть пути ехать более или менее сносно.
Вдруг собаки нырнули в воду. Я зарылся каблуком в рыхлый лед и остановил сани.
— Боже мой! — воскликнула Фрэнсис, единственный раз за весь день.
Чтобы добраться до рыхлого льда на противоположной стороне, все восемь собак поплыли через полынью десятифутовой ширины. Вот они доплыли, вылезли на лед и по моему сигналу остановились. Иначе бы сани и все наше имущество — картины, фотоаппараты, постели — ушли под воду. Фрэнсис удерживала сани, чтобы они не соскользнули в полынью, а я осторожно оттянул собак и, пока они плыли обратно, развернул сани.
Снова началось барахтанье в Саргассовом море [54] снежной каши и воды. Туман сгустился, образовав вокруг сумеречный полумрак. Вмерзшие в лед обломки айсбергов внезапно выплывали из тумана, как низкие рифы. Они, как и морские рифы, были опасны, и их следовало избегать. Мы проехали так близко от одного из обломков, что собаки помчались к нему. Я прошел немного вперед, пробуя лед пешней. Он был достаточно прочен, и мы отправились дальше. Но не проехали и пятидесяти ярдов, как собаки снова забарахтались по брюхо в воде, а через мгновение поплыли. Мной овладело отчаяние. "Послушай, — говорило оно мне, — ты не можешь целый день, как дурак, болтаться в этой каше! К чему тут осторожность? Ты ничего не знаешь, и так или иначе, какая разница, что случится. Поезжай!" Да, мы вынуждены были ехать вперед, так как возвращаться назад было нельзя. Собаки почти не замедляли бега, но я все же подгонял их.
По-видимому, мы находились посреди архипелага маленьких айсбергов. Ветры и течения согнали их в кучу, а таяние затопило окружающее ледяное поле, превратив его в болото. Еще два раза собаки проваливались в полыньи, сани каким-то чудом удерживались на льду, и мы продолжали ехать. Наконец мы, кажется, выбрались на более крепкий лед. Он был бел от снега, и, хотя местами только-только выдерживал собак и сани, вид его внушал доверие.
Я посмотрел на часы — мы находились в пути уже три с половиной часа; через полчаса надо менять курс и брать направление на Игдлорссуит. Но едва я принял это решение, как мы пересекли санный след. Я чуть было не пропустил его: собаки рьяно мчались по выбранному направлению и переехали след, не отклоняясь в сторону. Я свернул на него упряжку. Никакого сомнения не было: след вел к Игдлорссуиту. Но это оказалась не та главная дорога, которую я искал. Поэтому вскоре я оставил санный след и снова повернул на юг. У меня уже не было сомнений ни в том, что мы вблизи от Игдлорссуита, ни в том, что лед теперь уже не сулит нам опасностей. Собаки чуяли дом и тянули прекрасно. Стоило мне похлопать по ноге кнутовищем, как они ускоряли бег, замедляя его лишь для того, чтобы перебраться через островок снежной каши, а, перейдя его, снова пускались бежать.
И вдруг прямо впереди и совсем близко поперек дороги открылась трещина — четыре фута черной воды! Собаки было поколебались, но я подстегнул их. Они сделали прыжок, и все, кроме одной, перемахнули через трещину. Сани последовали за ними. Их загнутый вверх передок пронесся над водой и опустился на лед. Сани перекрыли трещину. Собаки продолжали тянуть.
Но в тот момент, когда задок саней сошел со льда, я перебросил весь свой вес вперед. Этого оказалось недостаточно. Тяжело нагруженная задняя часть саней просела, а загнутая передняя поднялась в воздух Это остановило собак. Подгоняя, я налег всем туловищем на переднюю часть, и сани, удерживаемые собаками, повисли на краю трещины. Сзади чернела вода глубиной в четыреста метров, и над этой пучиной сидела Фрэнсис. Она не пошевелилась, не произнесла ни слова. Я крикнул, чтобы она переползла вперед и слезла с саней. Потом мы вместе налегли на поднятый кверху перед саней. Собаки потянули изо всех сил — перед опустился, а задняя часть, с которой стекала вода, поднялась. Сани двинулись вперед. Мы прыгнули на них и помчались дальше.
Через несколько ярдов упряжка выбралась на главную санную дорогу. Собаки понеслись по ней. Туман рассеивался. Вскоре вновь показались высокие горы Упернавика. С трудом верилось, что они были скрыты. Мы снова видели гору, поднимавшуюся сзади Игдлорссуита. Собаки, почуяв дом, мчались во весь опор. За милю от Игдлорссуита мы выехали на старую дорогу, — высокая и сухая, она, как шоссе, выступала сейчас над покрытой мокрой кашей равниной. Это еще больше подбодрило собак, и они мчались теперь так, как никогда раньше. И вот, обогнув последнее скопление айсбергов, мы оказались на виду у поселка.
Народ сбегался на берег, чтобы встречать нас. Все — мужчины и женщины — в ярких цветных одеждах, разодетые в воскресное платье для вечерней прогулки, смотрели на нас. Я, конечно, откинулся назад в небрежной позе опытного каюра, похлопал по сапогу кнутовищем, чтобы собаки бежали быстрее, и на неослабевающей скорости прямо, как почтовый голубь, подлетел к берегу. За последние несколько дней прибрежный лед попортился, превратившись в массу плавающих в воде обломков. Мы с разгону промчались через эту полосу, взлетели по береговому склону и остановились наверху.
К дому с нами шла большая процессия — мужчины, женщины, мальчики и девочки. Дюжина пар рук помогла разгрузить сани, снять с собак упряжь, отвязать палатку и повесить ее сушиться, а затем поднять сани на высоту человеческого роста на помост. Печь топилась, из чайника шел пар. Саламина быстро поджарила тосты и сварила кофе. Теперь надо было отпраздновать приезд.
Было 11 часов 30 минут вечера. Накрыли стол на шестерых, поставили пиво и шнапс, и я побежал в дом Маргреты позвать гостей. Занавеси на окнах были подняты. Рудольф, встречавший нас при приезде, уже лежал в постели и спал. На полу в спальном мешке лежал Павиа. Маргрета стояла со спущенными косами.
— Идемте все пить шнапс и пиво, — крикнул я.
Рудольф проснулся, протер глаза и стал одеваться. Павиа вылез из мешка и последовал примеру Рудольфа. Через две минуты мы вчетвером взбирались на гору к моему дому, чтобы провести веселую ночь до 4 утра.
Так закончились для нас приключения этого дня. Для Давида день закончился ночевкой в Нугатсиаке, куда он был послан Рудольфом, чтобы доставить нас домой. В тумане мы с ним разминулись. Первый след, который мы пересекли, возможно, и был следом его саней. Давид вернулся на следующий день. Для одного молодого охотника этот день кончился тем, что он провалился сквозь лед; его спас другой охотник.
Весь следующий день дул свежий ветер, и большое поле льда к югу от Игдлорссуита унесло в море старого Эмануэля Самуэльсена и молодого человека из другого поселка, охотившихся на льду к северо-западу от острова, унесло в море со всеми их собаками. У Эмануэля был каяк. С тех пор прошло еще два бурных и вьюжных дня, прошел дождь, все тает; ни один из охотников пока не вернулся. Вчера в том районе охотился Габриэль Мёллер, но он не видел их следов. Их считают погибшими, хотя, возможно, Эмануэль вернется на своем каяке. Чувствую, что в Эмануэле потерял близкого друга.
Таяние продолжается. Дни санных поездок уже отошли, и собаки отныне станут для меня только украшением. Мне кажется, будто закончился еще один отрезок моей жизни, моей молодости.
* * *
В Гренландии на меня производят впечатление не остатки древней культуры в обычаях современного народа и не то, что народ усвоил из европейской культуры, а отсутствие культуры: простое, примитивное, открытое и неприукрашенное, несублимированное животное состояние, из которого вырастает очаровательный цветок — милый характер гренландцев. Пусть это животное состояние связано с бедностью и грязью, — в них, конечно, очень мало красивого. И все же, когда я вижу счастье этих людей и начинаю понимать, насколько сильно оно зависит от беззаботной, чисто природной непринужденности, я задумываюсь над тем, могут ли удобства, роскошь, искусство, наука, изобретения, богатства нашей цивилизации вознаградить нас за то, что наша раса утеряла, вступив на свой путь?
Многие из достижений нашей культуры, которыми мы гордимся, представляют собой в известней мере компенсацию за кое-какие основные, необходимые человеку вещи, которых прогресс лишил его. Наша интеллектуальная культура коренится в городской жизни, и очарование, каким поэты наделяют поля и луга, горы, леса, ручьи, дрозда и жаворонка, открытое небо, солнце, луну, звезды, — только выражение постоянной потребности человека в этих элементах его первоначальной окружающей среды. И я подозреваю, что романтическая любовь, составляющая сердцевину поэзии, может быть, не означает ничего более божественного в человеке, чем невроз, вызванный стеснением плоти и крови.
* * *
3 июня. Целое представление! 30 мая Карен опять попросила денег. Нельзя ли ей оставить себе те две принадлежащие мне шкуры, что у нее в работе, и получить за них деньги в лавке? Завтра день рождения ее сына и т. д. Она передаст мне две следующие шкуры, которые получит. Вчера Давид поймал двух тюленей — он добыл их, не пользуясь моими собаками, и, следовательно, эти тюлени принадлежат ему, но, как было договорено, Карен должна передать их мне. Сегодня, когда мы сидели за вторым завтраком, Амалия вошла в дом Карен и через несколько минут вышла оттуда со шкурой, отнесла ее домой. Посылаю Саламину за Карен. Карен приходит. Саламина помогает мне, и я объясняю Карен, что она сделала и как это нечестно.
— Давид, — говорю я, — хороший человек; Карен нехорошая. Она должна немедленно передать мне шкуру, или я с ними, с Карен и Давидом, больше не имею дела.
Защищаться ей нечем. Говорит, что отдаст мне следующие шкуры. Но я повторяю свой ультиматум, и Карен уходит взбешенная. Она отыскивает Давида в лавке или где-то около, ведет его домой. Они возбужденно разговаривают. Вскоре выходят от себя и приближаются к моему дому. Я киваю им головой, приглашаю зайти; затем, чтобы показать, что мое решение окончательно, закрываю окно. Они входят вместе, раскрасневшиеся. Давид смущен, Карен в бешенстве. Давиду объясняют, как было дело. Он ничего не знал о наших переговорах. Давид протягивает мне две шкуры, которые перед этим Карен бросила на пол. Он говорит, что должен мне две хорошие шкуры взамен тех, которые я дал ему в январе на штаны, но раньше июля он не сможет их добыть.
— Нет, — говорю я, — те шкуры я тебе подарил.
Он смотрит на меня смущенно, благодарно, говорит спасибо.
— Сигару, Давид? — предлагаю я и иду за ящиком.
Тем временем Карен вышла вон большими шагами. Давид взял сигару, поблагодарил и поспешно последовал за Карен. Они снова показались на горе; шли вместе вниз и о чем-то спорили. Карен начала бить Давида. Он продолжал быстро идти рядом с ней. Когда они подошли к своему дому, Карен разошлась вовсю, била его кулаками, царапалась. Входя в дом, Давид обернулся и бросил смущенный взгляд на мое окно. Дверь за ним закрылась. Ну и дом! Через минуту выскочила Карен. Она пнула несколько раз ногой щенков, лежавших у порога. Один пролетел по воздуху. Затем исчезла позади дома, как будто за кем-то гналась. Может, за щенками? Но вот Карен появилась из-за другого угла. Впереди убегают от нее мои собаки и упряжка Давида. Она швыряет в них камни. Она обезумела. Собаки бегут, Карен преследует их, камни летят градом. Карен опять вихрем врывается в дом, подхватывает одного из щенков, вернувшегося на свое место у двери, отшвыривает его на несколько ярдов. Из дому выбегают трое детей и направляются на берег. Карен снова выходит и заворачивает за дом. Потом вновь появляется, волоча за собой сани, подаренные мной Давиду. Выходит Давид и прекращает это безобразие. Она начинает бить его, а он стоит, обороняя сани и защищаясь от ударов. Мимо проходит жена помощника пастора. Страшно разгневанная, Карен подходит к ней, жалуется — что она терпит! Сара уходит. Так как Давид вошел в дом, Карен берется снова за сани и толкает их вверх, на гору. Давид опять идет спасать сани. Карен, увидев неподалеку одну из моих собак, делает к ней несколько шагов и в бессильной злобе швыряет в нее камень. Давид стоит теперь около саней и отчаянно дымит сигарой, а Карен осыпает его ругательствами и изредка — ударами.
Я должен идти работать. Путь мой проходит вблизи них. Давид стоит и смотрит на меня растерянным взглядом. Карен кидает в него куски дерна.
— Тебе это полезно, Давид, — кричу я и ободряюще ему ухмыляюсь.
Карен что-то кричит мне в ответ. Господи! Почему Давид не отколотит ее при всем народе?!
Час спустя я снова прохожу мимо их дома и ясно слышу звуки рыданий, перемежающихся со стонами. Может быть, Давид все-таки побил ее?
* * *
Есть здесь гренландец, по имени Мортон (Мортон из Нугатсиака, мы о нем уже упоминали), рослый, сильный, приятной внешности. Он немного говорит по-датски, знает несколько английских слов, танцует современные танцы, и вообще это человек довольно одаренный и привлекательный. То, что он по всей Северной Гренландии известен как исключительный, настоящий, ни к чему не годный бродяга и прохвост, не имеет никакого отношения к тому, что сейчас будет рассказано. Мортон несколько лет назад ездил в Данию и после очень короткого пребывания в столице, вернувшись к соотечественникам, показывал золотую медаль, которой, как он уверял, его наградил король. Мортон нуждался в деньгах и заложил эту медаль своему другу за пять добрых гренландских крон. Для друга эта сделка могла бы оказаться очень выгодной: Мортон, человек без определенных занятий, так и не выкупил свой залог, но беда в том, что медаль была обычной медной датской кроной, в которой Мортон просверлил дырочку, чтобы привязать ленту.
Мортон привез не только медную крону. Он видел в столице Дании замечательное зрелище — маленькую собачку с огромными глазами. Это всех страшно удивило: очень немногие гренландцы были за границей, и, естественно, их интересовали чудеса внешнего мира. Они жаждали знаний. И хотя случайно я видел слишком много китайских собачек, чтобы считать нужным рассказывать о них, но было еще много американских чудес, побольше и получше, которыми гренландское общество могло восхищаться целыми часами.
Сидя с гренландцами в долгие темные зимние вечера за пивом, я рассказывал о высоте самых больших зданий, о количестве людей, которые, по данным бюллетеня "Сабвей сан" (Солнце подземки), ежедневно перевозятся нью-йоркским метро, о скорости поездов и автомобилей, о самолетах, о Ниагарском водопаде, о встрече боксеров Танни — Демпси. Все это вещи для них понятные, и они быстро воспринимают их как должное, так как человеческий ум способен легко овладеть понятиями, выходящими за пределы личного опыта.
Но вот собачкой с большими глазами оказалась для гренландцев стоимость вещей. В Америке рабочим платят от двадцати до шестидесяти крон за семичасовой рабочий день, тогда как здесь, в Гренландии, рабочие получают только одну крону пятьдесят эре за десять часов! Америка! Вот где, казалось бы, стоило жить! Но, говорил я им, квартира (иглу) в Америке стоит от ста до пяти тысяч крон в месяц, и, хотя люди платят такие деньги всю жизнь, дом, в котором они живут, им не принадлежит. Я рассказывал им, что есть люди, имеющие доход в миллион крон в день, и есть люди, у которых нет ничего. Человек, рассказывал я, может держать у себя на работе сто тысяч рабочих; все они усердно трудятся, все хорошие рабочие и все зарабатывают деньги. Но вот в один прекрасный день заведующий складом богача, на которого трудятся все эти рабочие, приходит к хозяину и говорит: "Народ не покупает больше автомобилей, которые вы изготовляете. Склад полон ими, но ни у кого нет достаточно денег, чтобы покупать их". — "Что ж, — отвечает богач, — скажите семидесяти пяти тысячам человек, что мне их работа больше не нужна". Но у этих семидесяти пяти тысяч человек нет денег, а если и есть, то очень мало, потому что хотя они и зарабатывают деньги, но все, что они должны покупать, стоит слишком дорого. Они пытаются получить работу у кого-нибудь другого, но оказывается, что людей уволили отовсюду и нигде ни для кого нет работы. Тогда человек, у которого они покупают еду, говорит: "Я не могу дать вам еду, ведь вы не сможете заплатить за нее". А другой человек — владелец дома, в котором они живут, говорит: "Вы должны выехать из моего дома, если не заплатите". И они остаются без жилья и без еды. Они не могут никуда пойти и построить себе дом, потому что вся земля принадлежит другим людям. Они не могут и отправиться стрелять тюленей, оленей или каких-нибудь других животных, потому что диких животных нет.
— Что же тогда эти люди делают? — спрашивает удивленный гренландец.
— Ничего, — вынужден ответить я. — Они только стоят часами, ожидая, пока богатые дадут им чашку кофе.
Гренландцы смотрят друг на друга и начинают понимать, что это за чудо.
— Может быть, в Гренландии лучше? — смеются они.
Да, может быть, лучше.
Маленькая часть Гренландии, которая не погребена под покровом вечного льда, представляет собой узкую полоску гористой земли между ледяным куполом и морем. Это совершенно безлесная, лишенная покрова земля. Люди живут в разбросанных по берегу поселках: там у них только жилища и больше ничего. Живут они тем, что дает море. В море они собирают урожай. На свете мало стран, вернее, даже нет такой страны, где бы человек мог найти меньше, чем в Гренландии, удобств и всего, что нужно для жизни и счастья.
[В этом месте в дневнике, — как и в Гренландии, которая описывается в нем, — появляется элемент, столь чуждый жизни страны и дневнику, что он, этот элемент, заслуживает не больше, чем мимолетного, сделанного так, между прочим, замечания. Прибыла немецкая кинематографическая труппа. Так как ей понравился длинный пляж Игдлорссуита, то часть немцев сделала поселок своей базой. ] С довольно известным импресарио и режиссером д-ром Франком прибыли подобранные им многочисленные актеры, лыжники, операторы, техники, сценаристы, жены и любовницы, повар, знаменитый летчик Эрнст Удет и слегка увядшая ведущая дама Рифеншталь, которой впоследствии суждено было блистать в ореоле зловещей славы фаворитки Гитлера. Поведение немцев на протяжении нескольких месяцев, их времяпрепровождение, интриги, ссоры и вообще вся их несуразность, оказались для гренландцев больше развлечением, нежели знакомством с культурой, которая заслуживала бы подражания. Больше знакомить читателя с немцами, имена которых, может быть, здесь встретятся, я полагаю, нет нужды.
[Мой день рождения — 21 июня, как добросовестно описано в дневнике, видимо, праздновался гораздо шире, с гораздо большим охватом знакомых и даже более весело, чем другие дни рождения, о которых мы рассказывали.
До сих пор в дневнике не упоминалось о том, что мы начали строить клуб — дом для танцев. Празднество началось в этой постройке, пока что на полу без крыши, но вскоре было перенесено в наш дом и окружающие домики.]
Площадку для танцев вымыли, поставили скамьи, стулья и столы. В три часа подняли американский флаг и начался кафемик — кофе, пироги, сигары. Играл граммофон, звенели чашки, женщины болтали. Все смеялись, когда то один, то другой находил в пироге монету. С окончанием кафемика начались приготовления к банкету. Я построил вокруг двора стенку из парусины и прозрачного пластика. Там установили стол и достаточное число стульев, ящиков, скамеек, чтобы усадить более двадцати ожидавшихся гостей. Я приготовил пунш из фруктового сока, портвейна, рома и шнапса. Еды у нас было огромное количество, какой именно — неважно. Она была вкусной. Итак, все готово. Через две минуты Тобиас побежит звать гостей.
[In vino veritas [55]: «вином» служила сваренная дома бражка из гренландского винограда, купленного в лавке, с солодом и хмелем. Истина, которую она открыла, относилась ко всему роду человеческому. Теплая сердечность, высвобождаемая «вином», может вполне согреть сердца верующих в человеческое братство… А все же, что мы иногда находим в поисках истины? Мы находим — вернемся к нашему званому обеду — нашего друга Павию. ]:
Качаясь, спотыкаясь, громко распевая и хихикая от счастья, Павиа идет ко дну. Еще нет одиннадцати. Он думал, что может выпить океан, а утонул в нескольких бокалах. Шатаясь, как пьяный бык, он позволил нам отвезти его домой, к Рудольфу. Мы постелили ему на полу, зная, что если он упадет, то уж ни за что не встанет. Некоторое время Павиа брыкался, вырывался, громко пел и просто ревел. Наконец, как будильник, у которого кончился завод, он провалился в сон. Гости продолжали танцевать и в предрассветные часы и кончили, когда уже настал полный день.
* * *
Конец июня. Молодой Якоб Нильсен отправился с двумя маленькими девочками собирать птичьи яйца. Они поехали на гребной лодке вдоль берега к одному месту в километре к югу от поселка. Там из обрамляющих берег обвалившихся в воду камней круто поднимаются высокие скалы. Лодка подъехала к камням. Якоб вылез, стал карабкаться вверх. Яйца обычно лежат на более высоких уступах.
— Не лезь выше, упадешь! — кричали ему девочки, но Якоб продолжал подъем.
Горные породы, слагающие береговые скалы, как и все породы, выходящие на поверхность острова, выветрены, рассыпчаты и крошатся. Скалы покрыты зубцами, бороздами, все растрескались. Якоб взбирался вертикально. Вот он добрался до места, которое могло бы быть широкой площадкой, но сверху насыпалась раскрошившаяся порода, которая образовала наклонную осыпь. Все же здесь можно было передохнуть. Упершись ногой пониже площадки, Якоб поставил на нее колено и начал подтягивать тело кверху. Девочки в лодке следили за ним. Они увидели, как Якоб вдруг бросился ничком на площадку, вытянув руки вперед. Одно мгновение он еще держался на ней, а потом упал.
Девочкам стало страшно. Они видели, как Якоб падал — не сразу, а постепенно. Одна его нога еще опиралась на камни, а кусок породы, на который он поставил колено, понемногу стал отделяться от скалы, и тело Якоба постепенно принимало горизонтальное положение. И так, вытянувшись во всю длину, с протянутыми в отчаянии руками, он упал.
Послышался тупой удар о прибрежные валуны, затем приглушенный звук, будто сломалась палка. Якоб лежал неподвижно на валунах. Каменная осыпь дождем сыпалась на него, щелкая по валунам. Уставившиеся на него девочки закричали.
— Мы должны перенести его в лодку. — сказала одна. Они вылезли из лодки, захватили Якоба под мышки и стали тащить по скользким камням. Якоб весь обмяк. Лицо его посерело. Кровь текла из раны на голове и изо рта. Девочки вдвоем подтянули к борту лодки сначала плечи Якоба, затем одна приподняла тело, а другая, стоя в лодке, потащила его на себя. Мало-помалу девочки втащили Якоба в лодку, уложили на дно и поспешно стали грести домой.
Сперва со слов человека, пришедшего за мной, я понял, будто Якоб упал в обморок, и поэтому полез за нашатырным спиртом и стимулирующим средством, но тут пришел другой посланец. Я схватил бинты, дощечки на шины и побежал. Через минуту Хендрик был на борту «Наи» и разжигал примус. Почти в ту же минуту, как запустили двигатель, мы внесли Якоба на наспех сделанных носилках на борт «Наи»; сломанное бедро было в шинах и забинтовано.
Бедный Якоб! Во время перехода в Уманак он не приходил в сознание. Четыре дня мы пробыли там. Два человека денно и нощно дежурили у его постели. Он продолжал оставаться без сознания, бредил. Бедро его было сильно раздроблено, рука сломана, кроме того, у него серьезная рана на голове и внутренние повреждения. Он умрет. Никто не проявлял особенного интереса, когда Якоб, жалобно стонавший и всхлипывавший, лежал в Игдлорссуите. Никто из родственников не отправился в Уманак навестить его. Обеспечить его сиделкой в госпитале было трудно. Ёрген Мёллер, его дядя, отказался дежурить при нем. А когда я вынудил его согласиться, он в конце концов подставил вместо себя замену.
* * *
9 июля. Пишу на борту «Наи» в Игдлорссуите. На берегу дети мучают молодую собаку. Только чти они утопили маленького щенка и некоторое время забавлялись тем, что бросали его друг в друга. А теперь, забросив щенка на несколько ярдов в воду, бросают в море и молодую собаку, чтобы она принесла щенка. Ребятишки берут собаку за хвост и за голову, сильно раскачивают и швыряют. Когда она опять выбирается на берег, дети запускают в нее большие камни, снова хватают и т. д. Обычно жестокость проявляет одна и та же группа детей.
* * *
20 июля. Вчера «Ная» отплыла в Уманак с двумя датчанками-медсестрами, которые приехали сюда погостить. В момент отъезда, в суматохе, в дом Давида откуда-то проникли собаки: Давид в тот день убил трех оленей. Это было сумасшедшее зрелище. Все собаки острова сбежались в дом. Наконец их оттуда выбили палками.
* * *
23 июля. Утром отправился с Иоганном Ланге и другими на морскую прогулку. Сначала завернули в Каэрсут — выпить с Ларсом Посткассе. А тут к Ларсу заглянула докторша и разругалась с Ланге. Она требовала, чтобы дочь Иоганна Регина пошла к ней служить. Регина же жила у нас. Она приехала заменить Саламину и осталась: она так мила и добра, что с ней невозможно расстаться.
— Нет, — сказал Иоганн, — Регина не может к вам переехать. Она будет жить у Кинте до октября.
— А потом? — спросила докторша.
— Нет, — твердо отрезал Ланге, — вы ее не получите совсем. Вы однажды сказали, что хотите ее взять, а потом взяли другую девушку. Теса (вот так)!
Докторша рассердилась.
— Ну, — сказала она, в гневе обращаясь ко мне, — я все равно бы не взяла Регину после того, как она поработала у вас. Вы их всех портите.
Затем, отклонив мое предложение прокатить ее на «Нае», докторша вылетела вон.
В Уманаке я повидался с Петерсеном (канадец, с которым я был знаком раньше). В мое отсутствие он и его люди заботились о моей лодке. Мы перешли на маленькое судно Петерсена. За стаканами виски Петерсен великолепно рассуждал о том, как он любит и чтит гренландцев.
— Гораздо больше, чем приехавших сюда датчан. Но все-таки гренландцам надо напоминать, что ты белый, а они эскимосы.
А еще Петерсен сказал мне, что умеет с ними обращаться и они все его любят. Дурак!
— Я мог бы сказать вам кое-что по этому поводу, но не скажу, — ответил я.
Я помнил, как д-р Порсильд сообщил мне, что его гренландская матросская команда предупредила: если следующим летом он даст Петерсену эту лодку, они служить больше не будут. Хотел бы я знать, что думают вообще гренландцы о человеке, который громко заявляет о своем товарищеском отношении, а на самом деле глубоко их презирает?
Отплыли в Сатут после полуночи. На борту Анна Зееб — пассажирка, едущая в Игдлорссуит. В Сатут пришли около 4-х утра. Шнапс и пиво у бестирера, потом на борт — спать! В 11 часов второй завтрак у бестирера Ланге. Затем отплыли в Увкусигссат, В Увкусигссате только высадили на берег пассажиров и отправились дальше в Игдлорссуит, куда прибыли в 11 часов (шли 6 часов). Приятная прогулка; пил в каюте шнапс с Анной и Иоханном.
* * *
24 июля. Тепло, ясно, тихо. Бледно-голубые и светло-сиреневые небо, море и горы пронизаны золотистым светом. Отплыли в 9 часов 45 минут. Нас было всего шестеро — молодой Эмануэль ехал пассажиром. Когда прошли Ингию, подул северный ветер, и мы подняли парус. Кругом большие айсберги, снежные вершины; в просветы между ними виднелись далекие горы района Умиамако, славящегося красотой. Полуостров Свартенхук до Тартуссака — пустынная земля с невысокими горами, разделенными широкими, идущими вглубь долинами. За Тартуссаком берег моря образуют крутые, выступающие мысы или сплошные скалистые стены. Они напоминают базальтовые скалы острова Диско.
Около Тартуссака вдруг появился и подплыл под лодку морж. Кнуд поспешно выстрелил в него в тот момент, когда он нырнул, но промахнулся. Мы стали делать круги, надеясь, что удастся еще раз выстрелить. Морж снова высунул голову, но он плыл за пределами достигаемости и затем окончательно исчез.
Мы прошли Малигиак (на западном берегу полуострова Нугссуак) на несколько часов раньше, чем намечали. Здесь мы намеревались стать на якорь на ночь, но решили плыть дальше.
В час дня вошли в удобную маленькую гавань Сёнре Упернавика. Место это очень красивое: низкий мыс, где стоит поселок, покрыт самой роскошной густой зеленой травой, какую я видел до сих пор в Гренландии. Народ, конечно, стал выходить из домов, и едва мы бросили якорь, как от берега отчалила лодка, полная людей, чтобы приветствовать нас. Она привезла бестирера Клеемана — отца опасного почтальона Расмуса. Виллам Клееман принял нас очень тепло. Это мягкий человек; его лицо и манеры выражают доброту почти патетическую.
После шнапса у нас, в каюте «Наи», я отправился с ним на берег пить кофе. Жена его по своему доброму характеру похожа на Виллама. Дом, казалось, был обителью гармонии. Вскоре Виллам и его маленький девятилетний сын уже музицировали. Мальчик, белокурый, нежный, синеглазый, сидел, свесив ножки, не доходившие до полу, с большой гармонией на коленях; ремень ее был укорочен — вставили перочинный нож, чтобы маленькие ручонки музыканта доставали до клавиш. Он играл умело и уверенно, как хорошо обученный взрослый. При этом на лице его было такое выражение детского очарования, какое я, может быть, ни разу раньше не встречал. Как он улыбался, встречаясь со мной взглядом! Как эта улыбка снова тонула в серьезности музыканта! А перед ним стоял его маленький отец и, как учитель музыки, играл на скрипке. Бородатый, с немного унылой физиономией и фигурой, но настоящий артист, он в точности походил на учителя музыки из романа. Что меня так тронуло: эти двое — отец и маленький сын — или музыка?
[Много лет назад стирельсе — гренландская администрация — получила бумагу от германского правительства с запросом, проживает ли в Гренландии немец по фамилии Клееман. Будто бы упомянутый Клееман в действительности другое лицо, снявшее бумаги на имя Клеемана с тела убитого на франко-прусской войне. Этот Клееман, бестирер Сёнре Упернавика и отец Виллама, был во многих отношениях человеком замечательным, во всяком случае по его утверждениям. У него в доме, например, висел портрет, изображающий покойного императора Фридриха-Вильгельма верхом на лошади. Клееман утверждал, что это он сам. Тем, на кого производило сильное впечатление множество орденов, украшавших грудь монарха, и кто просил показать их, Клееман отвечал, что он давным-давно отдал их детям играть. Как-то, когда он ожидал очереди в одном из учреждений Копенгагена, ему попался рисунок портрет Пастера [56]. Когда Клеемана вызвали по делу, по которому он туда пришел, он взял портрет с собой.
— Это мой дядя, — сказал он.
Говорят, что Отто Лембке — бестирер Упернавика — многое знает о старом Клеемане. Прозвище Вильгельма Клеемана — Лисица.]
На следующее утро я с Фрэнсис съехал на берег на устраиваемый нами всеобщий кафемик. Кафемик состоялся в одном из небольших домов, довольно грязном. У хозяев из посуды была лишь чашка с блюдцем и мисочка. Народу набралось много, и постепенно становилось все больше. Вскоре на ящике рядом со мной оказалась девушка, которую я обхватил рукой; другая девица сидела у меня на коленях.
Снова питье кофе у Расмуса; у него хороший дом, изящная, одаренная жена. Когда мы садились в лодку, раздавал сигары и рукопожатия всем здешним мужчинам. Мы еще вернемся. Дружелюбный народ.
Старая нищая. Оборванный мальчик. Каяки, поднятые на каменные столбы. Каяк и навернутая на катушку веревка с гарпуном закутаны в муслин.
* * *
25 июля. Отплыли около 1 часа 30 минут дня и через три часа были в Прёвене. Бульшую часть пути плыли вдали от суши. Горы кажутся однообразными. Между Прёвеном и Упернавиком пейзаж стал суровым, более гористым. Огромные отвесные скалы Сорте Хуль напоминали о возможных чудесах внутри фьорда.
Чета Николайсенов приняла нас сердечно. Там находился отец миссис Николайсен, датчанин, с которым мы были знакомы раньше, веселый, остроумный филистер. Был день рождения бестирера. Он устроил кафемик для жителей, но никто из его семьи не присутствовал. Вечером Николайсен выбросил несколько тысяч сигарет; жители Прёвена устроили из-за них свалку… Отплыли наутро в девять и в два часа дня вошли в Упернавикскую гавань.
* * *
26 июля. Упернавик. Чистенькая, приятная на вид колония. На верху ближайшей горы маленький чайный домик бестирера. С вершины второй, более высокой горы открывается круговая панорама: к северу — море, где маленькие острова усеивают водное пространство, к югу — величественные скалы и на востоке — широкая полоса воды, забитой льдом, — узкий берег северной части главного острова, а за ним — ледяной купол.
В Упернавике сейчас находится ландсфогед. Очень высокий, узкоплечий, с солидным брюхом; полицейская форма висит на нем пузырем, как платье на беременной женщине. Штаны спускаются на носки разваливающихся ботинок. Но медные пуговицы сияют, и аксельбанты из плетеных с золотой канителью шнуров блестят как новые. Глубоко сидящие глаза, пухлое лицо, большой мягкий рот с выступающей нижней губой, цвет лица, как у школьника. Выслушав трехчасовую страстную жалобу, он говорит: "Хм, хм, да, но нужно иметь в виду и другую сторону вопроса". Беспомощное, слабое, доброе патетическое существо.
Семья бестирера «аристократическая». В семье есть генерал — дочь молодая модная леди, туфли из белой замши на высоких каблуках. Мать разговорчивая, живая почтенная дама. Отец — видный старый служака, сейчас уходит на пенсию. Дом для танцев — его дар населению. Дом совета области его детище.
[Через два месяца добрый бестирер, преданно прослуживший в Гренландии всю жизнь, должен был со всем семейством выехать в Данию и там уйти на пенсию. Они сели на упернавикскую шхуну, чтобы ехать в Годхавн, а здесь пересесть на пароход, идущий в Копенгаген. Мы, Фрэнсис и я, тоже заказали билеты на этот рейс шхуны, но, получив приглашение от нашего друга капитана Сёренсена поехать на юг на его боте, отменили свой заказ. Шхуна отплыла. И с того дня не было найдено никаких следов ни шхуны, ни множества пассажиров и команды.]
Посетил доктора. Он, вероятно, первоклассный врач. Помощник его добродушный, краснолицый, полный молодой человек. Когда-то в Копенгаген, говорят, прибыла комиссия из трех невероятных толстяков — представителей бестиреров — ходатайствовать об увеличении окладов.
— Мы не имеем средств покупать себе достаточное количество продуктов питания, — утверждали они. (Ходатайство было отклонено.)
Купить в 8 часов керосин и выехать как можно скорее! До девяти никто не появился, чтобы отпустить нам топливо, — опоздали открыть на час. Выехали в 10 часов 30 минут. Черт побери, как поздно!
Славный переход в Прёвен. Спокойное море, небо затянуто облаками. Встретили нас, как и в прошлый раз. Вечером отличный обед. Отплыли на следующий день в 2. Пять часов до Сёнре Упернавика. А там нас все так дружески принимали!
Но Вильгельм, Дорте и Раемус с женой Ревеккой были встревожены серьезной болезнью ребенка-первенца дочери Вильгельма. Я попросил сейчас же показать мне девочку. Они неохотно повели меня в свой бедный, действительно бедный дом.
Вход такой, что мы должны были пробираться ползком на руках и коленях. Внутри теснота, низкий потолок шатром. В комнате было полно народу. На спальных нарах лежал грудной восьмимесячный ребенок. Он жалобно стонал. Женщина поднимала и опускала его ножки. Из глаз ребенка тек гной; голова его распухла, стала бесформенной. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что делать.
Я выполз обратно. Снаружи стояли родители. Мать, молодая, белая, синеглазая, казалась не в себе от забот и горя. Муж ее — коренастый, маленький, красивый, малорослый, темнокожий, черноволосый — настоящий гренландец! Я сказал им, что ребенка нужно сейчас же везти на «Нае» к доктору в Упернавик. Родители колебались, но повивальная бабка, находившаяся среди присутствующих, полностью согласилась со мной и добилась их согласия.
При первых моих словах, что «Ная» должна немедленно снова отправиться в Упернавик, команда сразу высказала свое одобрение. Хендрик тут же отправился на борт и стал разогревать двигатель. Вскоре показалась длинная процессия, шедшая от дома, где был ребенок, к пристани. Она шла так медленно, что, казалось, почти не двигается. Никто не разговаривал, не производил ни малейшего шума — шли совсем тихо. Впереди шел великий Расмус, неся на руках ребенка — запеленутого, закутанного, с подушечкой, нес так осторожно, будто бы вся его огромная сила и ловкость были направлены только на то, чтобы избежать малейшего легкого толчка. Процессия медленно приближалась, прошла мимо меня и медленно, осторожно проследовала по крутой тропинке к пристани. Там ждала лодка. Расмус спустился по почти вертикальной лесенке; люди придерживали его за плечи, чтобы он не упал. Родители и одетая в белое повивальная бабка тоже сели в лодку. Дед проводил их до «Наи». Едва лодка отвалила от пристани, как заработал двигатель. Через две минуты «Ная» ушла. Было ровно 6 часов вечера.
За те несколько минут, что заняло приготовление ребенка к отъезду, я перевез на берег с «Наи» нашу палатку, постели, кое-какие продукты, а также домашние вещи разбитого ревматизмом помощника пастора, которого мы везли из Прёвена в Игдлорссуит, чтобы переправить дальше в Икерасак. Поставили палатку. Нам с энтузиазмом помогало не меньше двадцати гренландцев. Пока Фрэнсис варила кофе для нас двоих, помощника и еще двадцати других, нас из любопытства и чтобы составить дружескую компанию окружили мужчины, женщины, дети. На их лохматые головы садились, как мухи на коров, миллионы москитов.
Несколько часов спустя я отправился прогуляться по плоскогорью маленького полуострова Сёнре Упернавик. Когда я возвращался вдоль берега, послышался звук работающего двигателя и внезапно в поле моего зрения появилась «Ная». Сердце мое екнуло.
— "Ная"! — закричал я.
Стал сбегаться народ. На корме развевался приспущенный датский флаг. Я побежал к бестиреру предупредить стариков о несчастье. Они уже знали.
Все жители поселка собрались на пристани, молча смотрели, как «Ная» стала на якорь, как от берега отошла лодка, смотрели, как сошли на берег те же люди, что уехали пять часов назад: молодые родители, повивальная бабка и Расмус, несший на руках с нежной осторожностью свою ношу — ребенка. Расмус поднялся по трапу, ступил на пристань и открыл лицо ребенка, чтобы старик мог взглянуть на него. Все, кто мог, молча глядели на ребенка.
Теперь завернутое тельце взял на руки старик и, сопровождаемый толпой, грустно пошел к дому. Тельце отнесли в бедный маленький домик, но вскоре опять все вышли и понесли ребенка в дом бестирера.
За мной пришел Расмус. Ребенок — девочка — лежал на белой подушке на двух стульях посреди комнаты. Она была красиво одета в ползунки из муслина небесного цвета, подвязанные на шее ярким бантом. Крохотные ножки были обуты в камики. С закрытыми глазами она казалась спящей. Длинные темные ресницы касались щек: милый, маленький, бесконечно очаровательный ребенок.
— Как она хороша, — пробормотал я.
— Да, — зашептали вокруг.
Принесли кусок небеленого муслина. Осторожно приподняли ребенка и просунули муслин под него. Потом тельце завернули, закрыв одним концом материи ноги, а другим — прелестное спящее личико. Муслин зашили быстрыми стежками. Расмус поднял тельце ребенка и понес на гору в склеп. Все последовали за ним. Мать, пораженная горем, держалась спокойно; она шла, сопровождаемая мужем, ни с кем не разговаривая, будто никого не видя. Муж шагал, держа руки в карманах. Бог знает о чем он думал. Они люди бедные, и, возможно, девочка была для них обременительной. Я шел рядом с убитым горем дедом, на случай если ему понадобится моя рука, чтобы опереться.
Склеп был построен из неотесанных, сложенных насухо камней. Пол усыпан щепками и стружками, оставшимися от изготовления последнего гроба. В темном помещении у стенки — грубо сколоченные из досок две полки — столы. Ребенка положили на одну из полок, отодвинув доску, чтобы тело лежало удобнее. Затем все по одному вышли. Кто-то закрыл внутреннюю дверь и, чтобы припереть поплотнее, заложил ее засовом. Потом все ушли. Я пошел рядом со стариком.
Если есть бог, то какие очаровательные, нежные цветы он срывает. Если бы существовал рай и ангелы, то в раю не могло бы быть никого, кроме таких вот маленьких детей.
Я принес бутылку шнапса, и Вильгельм, Расмус и я выпили вместе много стопок. Дали шнапсу нескольким друзьям и команде «Наи».
Отплыли мы на следующее утро в девять; кроме нас на борту находилось семь пассажиров, много багажа и каяк. День был изумительно ясный и тихий, но только до полудня. Потом разыгрались штормовой встречный ветер и волнение. Позже пошел дождь. Стали на якорь в Игдлорссуите в два часа утра.
Отплывая из Упернавика в самый отлив, «Ная» задела килем камни; задела, перескакивая через них два или три раза. Повреждений не было.
По возвращении в Игдлорссуит я дал людям отдохнуть, затем послал «Наю» в Икерасак с помощником пастора, который совсем не мог ходить. Через несколько дней прибыл ландсфогед, замученный в Нугатсиаке двумя ночными заседаниями с немцами. Бедняга провел на нашем берегу восемь лихорадочных часов. Бестирер Йоргенсен (Стьернебо) доказывал ему, почему нельзя построить клуб на том месте, где запланировали его Фрэнсис и я. [Постройка клуба, как будет видно дальше, немедленно встретила упорное сопротивление Стьернебо, но исполненное энтузиазма участие в строительстве всех жителей поселка пересилило его.]
На следующий день после посещения ландсфогеда мы отплыли на север. Ясный день, свежий ветер. До Сёнре Упернавика шли 14 часов 30 минут, прибыли ночью в 12 часов 30 минут. Никто из жителей не спал, все были на улице. Кофе у бестирера и в доме Расмуса. Танцы. Крохотное, грязное, набитое народом помещение. Спать пошли на борт. Вскоре нас разбудили Расмус и Петер, чтобы мы шли опять на берег. Пошли. Несколько девушек — маленькие, грязные! И наши молодцы, которые так жаждали танцев, не смогли даже потанцевать.
На следующий день кафемик для всех. Отплыли в два. В Прёвен пришли в шесть. Наутро густой туман. Отплыли в пять. В Упернавик прибыли в восемь. Попали на танцы. Публика плохо воспитана. Орала, требуя сигарет. Роздал, какие были, девушкам. Молодой человек дикого, хулиганского вида нахальным тоном потребовал сигарету. Я отказал. Он начал дерзить — стоит передо мной, расставив ноги, пробуя схватить сигареты, которые я передавал девушкам. Потом потеснил меня, толкнул. Я пригласил девушку на танец. Он выскочил впереди меня и попытался утащить ее. Бедняжку, приодетую, в шелковом анораке, рассерженные поклонники стали тянуть в разные стороны. Затем нахал влез между мной и девушкой. Я отшвырнул его ярда на два. Он стукнулся о сиденье и стенку, вскочил разъяренный и дернул девушку к себе. Я махнул рукой и отошел.
Задержались при получении керосина, так как лавку открыли с опозданием. Отплыли в половине двенадцатого. Неполадка с двигателем; вернулись. Попросил датчанина, капитана шхуны, привести двигатель в порядок. Видный парень, но мрачный. Неполадка оказалась пустяшной. Пригласил его в каюту выпить. Идет неохотно, пьет неохотно. Потом расходится. Оказалось, я, когда был прошлой осенью на борту шхуны в Игдлорссуите, глубоко обидел его, даже привел в ярость своим поведением не ответил на приветствие, осадил его, не хотел разговаривать с ним, простым матросом. Так как у меня совершенно не было подобного намерения, а возможно, даже я в то время и не видел его, то сейчас мне ничего не оставалось, как принести извинения от всей души. Так я и сделал. Капитан повеселел; выпивка развеселила его еще больше. Мы стали друзьями. И он сошел на берег, унося наполовину недопитую бутылку виски.
* * *
10 августа. Хороший день, временами облачно, к вечеру похолодало. Острова, мимо которых мы проплываем, голые, без клочка зелени, однообразные. На нашей карте отмечено только их число и предположительное местоположение. Около 5 часов бросили якорь в бухте, оказавшейся внешней гаванью Тассиуссака. На следующий день мы перевели «Наю» на внутреннюю бухту, почти со всех сторон окруженную сушей и поэтому похожую на озеро.
Маленький поселок очень мило расположен на узкой полосе земли между внутренней бухтой и внешним рейдом. Церковь отражается в пруду. Вокруг поселка высокие горы, защищающие его от ветров. Бестирер Ганс Нильсен встретил нас, повел к себе в дом. Нильсена называют гренландцем. Он высокого роста, синеглазый блондин, с большим носом, страшно худой. У него плохие зубы. Вид суровый, но его добродушие временами — и довольно часто проглядывает, как, скажем, росток, пробивающийся сквозь растрескавшуюся, пересохшую корку почвы. И, как росток, его добрая натура развивается и расцветает сердечным гостеприимством.
Нильсеновская датская синеглазая кровь сильна. Он только наполовину датчанин. Там, в доме, сидит Дорте, дочь сестры Ганса, девушка лет шестнадцати. По виду она краснощекая крестьянская девушка-датчанка. У Ганса есть еще маленький внучатый племянник, мальчуган трех лет. Его отец и дед гренландцы, сам он — синеглазый блондин, кровь с молоком, как всякий чистокровный датский ребенок. Жена Ганса по своим манерам и быстрой улыбке настоящая гренландка, причем очаровательная, несмотря на безобразный, бесформенный рот, который постоянно раскрыт с обычным «аденоидным» выражением, свойственным гренландскому рту. Мать Ганса — важная, но очень приветливая дама, она скорбит о своем недавно умершем муже.
Взобрался на одну из гор и сверху отыскал место для лагеря. Вышел на берег и поставил там палатку; сухое, покрытое мхом местечко. Солнце светит — дождя, кажется, никогда не будет!
* * *
Сегодня суббота, 13 августа. (Восемь дней назад, в пятницу, я оставил Игдлорссуит.) Сижу в палатке вот уже третий день, гудит примус и барабанит дождь. Здесь выдался один лишь хороший день, и я работал, не отрываясь. Дождь начался вечером, в 11 часов, когда я сидел и писал потрясающее штормовое небо. И вот с тех пор дождь идет и идет с короткими промежутками. Место, где я в первый раз поставил палатку, превратилось в пруд. Собственно, пруд появился уже на следующее утро. Когда я проснулся, в одном углу палатки набежало на два дюйма воды; моя одежда вся промокла. Я передвинул палатку на место получше. И здесь, слушая, как дождь барабанит по парусине, провожу дни. Софья, дочь хозяев ближайшего дома, дважды в день приходит за моими камиками или чтобы поесть со мной. Иногда прибегает ее сестра Ева или маленький Томас. Случается, меня приглашают на кофе или побеседовать к бестиреру, но бульшую часть времени я в одиночестве.
Пригласил Еву прийти пообедать со мной, она спросила:
— Можно я приведу Томаса?
— Конечно!
Приведя сына, Ева помогла ему передать мне сверток в полтора раза больше его самого — отличную собачью шкуру.
— От Томаса тебе в подарок, — сказала она.
Милая маленькая Ева, такая хорошенькая, просто созданная, чтобы улыбаться, но больше половины передних зубов у нее отсутствует.
Я ходил к ним в дом, пил там кофе. Иоханн, ее молодой муж, болен, лежит уже две недели дома на скамье. Боли в боку, в груди, кашляет. Чахотка? Сейчас ему немного лучше. Красивый молодой человек. Дом чистый, на длинных спальных нарах гора безукоризненно чистых перин.
* * *
15 августа. Мне хочется сказать, что счастье следует различать по выражению их лиц. И все же описать это выражение так же трудно, как дать определение самому счастью…
Я пишу сейчас о счастье потому, что здесь, в каюте «Наи», находится та молодая девушка из Тартуссака — Софья. Она поехала со мной в круговую поездку на Север. Сейчас мы стоим на якоре в Клаусхавне, на полуострове Нугссуак; стоим двое суток, так как на море штормит. Крепкий ветер стонет в снастях «Наи». Дождь идет днем и ночью. Холодно, и горы, окружающие гавань, покрылись снегом на двести футов от уровня моря. У меня есть книги и работа, часы текут быстро, довольно приятно. У Софьи нет ничего. Она так же счастливо наслаждается ничегонеделанием, как если бы была поглощена приятнейшим занятием. Ночью она спит на кушетке напротив меня. Я тихонько встаю, одеваюсь и с минуту гляжу, как она спит. Ее детское лицо покойно, пассивно счастливо. Софья слышит, что я встаю, и просыпается. Пробуждение ее мгновенно, как и улыбка, отмечающая его. И весь день Софья, как переполненная чаша, магическая чаша, вечно полная счастья. При самом незначительном слове, взгляде или мысли чаша проливается улыбкой — так она полна.
Очень многое из того, что мы воспринимаем как существенно необходимое для человеческой жизни, представляет собой всего лишь догмат культуры. Наша западная вера в прогресс требует беспокойной деятельности. Она должна остро ненавидеть безделье, раз уж заставляет бездельника упрекать самого себя в такой степени, что иногда безделье превращается для него в мучение. Но в Гренландии все еще господствуют привычки древней законченной культуры, и люди, можно сказать, уже целые века переживают то раннее утро праздности, о котором даже христиане поют — "когда человек больше не будет трудиться". Несмотря на то, что уже надвинулась ночь реальной борьбы за существование, гренландцы все еще не спеша прогуливаются, вспоминая о райских днях. И никто из них ни капельки не стыдится безделья. Оно им нравится. И вряд ли они легко с ним расстанутся.
* * *
25 августа. Утром третьего дня выехали из Клаусхавна. Небо затянуто тяжелыми облаками. Ветер стал умеренным; в закрытом районе Клаусхавна он дует порывами. Когда мы разогревали двигатель, стало темнеть, но только мы отошли, как навалился снежный буран, совсем скрывший от нас берег. Снег со свирепыми шквалами. Пришлось постыдно вернуться и бросить якорь опять на прежней стоянке. С полчаса на суше была зима; затем снег исчез так же быстро, как появился. После полудня солнце уже сияло, и мы отплыли.
В этой части Гренландии ландшафт более разнообразен, чем в области Уманака. Низкие округлые горы контрастируют с высокими горными массивами, отвесно вздымающимися из моря. Наступил уже вечер, когда «Ная», пройдя вдоль северного берега Нугссуака почти до конца фьорда, повернула в маленькую бухту на берегу полуострова и в глубине ее бросила якорь. Какое красивое место! Расщелина между горами, образующая берега маленькой бухты, продолжалась на берегу Нугссуака в виде глубокой долины, за которой открывался вид на обширный большой ледник и высокую внутреннюю равнинную часть ледяного купола. Бледно-бирюзовое вечернее небо, ледяные скалы цвета светлого кобальта и огромные золотисто-белые пространства!
Два американца из экспедиции Хоббса [57], которой предстояло здесь зимовать, пришли к нам из дальней возвышенной части долины. Они шли пошатываясь, как старики. Путешественники поднялись на борт — два мокрых, полузамерзших изгнанника, изголодавшихся по разговору. Мы сидели на судне и пили. Я сошел с ними на берег и отправился наверх, туда, где стояли палатки их маленького, терзаемого ветром, полузатопленного лагеря. Во время недавней бури узкую воронкообразную долину продувал двенадцатибалльный штормовой ветер, и дождь лил как водопад. А сейчас опять солнце! Ниже площадки с палатками находился широкий пресный пруд; за прудом — узкая полоска земли, а дальше — ледяной фьорд, ледник и заснеженная вершина внутреннего купола.
Следующий день я провел здесь: писал картину. В шесть отплыли в Клаусхавн. Вечер был великолепен, красив. Спали в Клаусхавне, отплыли оттуда на следующее утро. Хороший день; дул свежий восточный ветер. Пройдя мимо множества островов и бесчисленных айсбергов, мы к середине дня достигли траверза острова Кугдлеркорсуит. Пирамидальная гора на юго-западной оконечности острова соблазнила меня устроить стоянку на мысе, образующем северный рог полумесяца бухты; южный рог — гора. Тут мои люди заявили (старая история!), что у них нет провизии. Софью и меня высадили на берег, и «Ная» ушла в Клаусхавн; вернется через два дня.
Софья и я разбили маленькую палатку, навалили на края полотнищ такое количество камней, какое, казалось, не сможет сдвинуть никакая буря, затем я установил полотно и начал писать. После полудня светит солнце, тепло, как на родине в разгаре лета. Но время идет, и тень ближних гор начинает падать на нас, а вместе с ней приходит вечерняя прохлада. Наконец я с удовольствием забираюсь в теплую палатку, готовлю горячий ужин для нас двоих. Близится темнота, синева неба затуманивается. Погода, наверно, изменится. Приятно у нас в палатке в эти часы перед сном! Я читаю, откинувшись на скатанные спальные мешки, а Софья уютно прижалась ко мне. Будь она кошкой, замурлыкала бы.
Следующее утро обещало бурю. На фоне мрачного лимонно-желтого неба горы казались темными. Черный потолок слоистых облаков, нависавший над нами, был так плотен, что свет падал только снизу. Я начал было писать картину, как налетел шквал с дождем. Шквалы все учащались, а после полудня дождь шел уже непрерывно и дул сильный ветер. С приближением ночи ветер перешел в штормовой; тяжелые камни, к которым были привязаны растяжки палатки, пришли в движение. Хотя с юго-востока, откуда шла буря, мы были немного защищены, но полотнища пузырились и хлопали, казалось, их вот-вот разорвет в клочья. Около 10 часов один палаточный шест сломался. Палатка внезапно рухнула, и я едва спас ее от горящего примуса. Пока я связывал половинки сломанного шеста, закрепив их планкой от мольберта, многие наши вещи промокли. Бешено хлопающая, пропитанная водой парусина осыпала все каскадом мелких брызг. Мы легли, не раздеваясь, так как я боялся, что может случиться что-нибудь похуже. И случилось.
Я спал, но часто просыпался: слишком сильно шумела буря. Около часу ночи я почувствовал, что ветер изменился, но изменилось направление, а не скорость. Теперь он дул с юго-запада. Ну что ж, пусть себе дует, подумал я и задремал. И вдруг я очнулся. Софья сидела в своем спальном мешке, поддерживая верх палатки, с которого капала вода. Сломался второй шест. Я выскочил на дождь и принялся за работу. Так как направление ветра изменилось, то нагрузка приходилась теперь на другой шест. Я снял планку от мольберта и использовал ее в качестве шеста. А ветер продолжал дуть еще сильнее, чем раньше. Он выдергивал концы полотнищ палатки из-под камней, которыми они были прижаты, стаскивал с места тяжелые камни, за которые были закреплены растяжки. Чтобы удержать нашу палатку на земле, я за ночь перетаскал, наверно, с полтонны камней. Исправив повреждение и снова прочно установив палатку, улегся спать, но на этот раз разделся, так как промок до костей.
К десяти часам утра буря утихла, а после полудня стало так хорошо, как только может быть хорошо на свете, когда горячее солнце сушит свое собственное, только что умытое лицо. По всему берегу накатывался сильный прибой. Когда в семь часов пришла «Ная», она остановилась вдали от берега с работающим двигателем. Петер маневрировал на маленькой шлюпке, не пытаясь пристать, а только стараясь подойти к камням достаточно близко, чтобы мы могли побросать в лодку свои вещи. Дважды мои полотна, все четыре, смывало за борт! Мы спасли их с большой опасностью для себя. Один раз шлюпка до половины набрала воды, потом ударилась о камень и пробила планку. Понадобилось десять рейсов, чтобы перевезти все наше лагерное имущество и нас самих.
В Тасиуссак мы пришли около двух часов ночи. Проспав ночь и выпив кофе у бестирера Ганса Нильсена, я засел писать картину. В час дня попрощался с маленькой Софьей, и «Ная» отплыла; в 7 часов бросили якорь близ Упернавика. Разводило большую волну: дул сильный ветер, обещавший нам плохую стоянку в Упернавикской гавани. Мы обошли восточную часть острова и стали на якорь в хорошо защищенной бухточке.
Ночью, около полуночи, я возвращался через горы в гавань. Ко мне присоединились шесть девушек, больших и маленьких, хорошеньких, миленьких и так себе. Петер и Хендрик уже улеглись, парусиновый верх над их спальным местом был наглухо застегнут. Тогда все мы начали кричать, сначала вразброд, потом хором: "Петер! Петер! Петер! Пе-е-е-тер!" В этом пустынном месте, почти в полной темноте, шум, производимый нами, казался грандиозным. Наконец мы все-таки разбудили спавших мертвецким сном. Девушки долго кокетничали, не решаясь подняться на борт, потом поднялись. Мы уселись с ними в каюте «Наи» и закурили, ожидая возвращения Кнуда. Когда я сходил с лодки на берег, Кнуд крикнул мне, чтобы я привел трех девушек. И вот Кнуд пришел — и девушки тут: дважды три. Утром опять обогнули остров, зашли в гавань, запаслись керосином, распрощались на берегу с друзьями и отплыли в Прёвен. В половине восьмого мы были уже там. Вечер я провел на берегу в «Фискемессере» ("Старом рыбаке"), где обедал со своими друзьями-датчанами. Отплыли в 4 утра. Через три часа, а 7 часов, стали на якорь в Сёнре Упернавике. Два часа провел на берегу. Бедного Виллама Клеемана уволили с государственной службы. Он, естественно, огорчен потерей места, но увольнение кажется ему явной несправедливостью. Клееман упорно считает, что при рассмотрении счетов ревизоры ошиблись.
В девять отплыли, провожаемые обычной дружеской овацией, какую нам устроили здешние жители. Они размахивали платками и шляпами, приспустили флаг, дали несколько залпов. Море было тихое, но к ночи очень похолодало. Между полуостровом Свартенхук и островом Убекент море было забито айсбергами. Пошел дождь. В Игдлорссуит мы добрались в час ночи.
В отъезде мы пробыли намного больше, чем намечали. Игдлорссуитцы проявляли к «Нае» свой интерес: почти ежедневно они возвещали: "Идет!" А когда «Ная» действительно приблизилась, они побежали сказать об этом Фрэнсис. Мы вернулись 24 августа.
* * *
Воскресенье, 28 августа. Позавчера Рудольф, Абрахам с Луизой и Мартин обедали с нами и провели у нас весь вечер. Мы немного выпили, Мартин очень расстроен из-за смерти отца (Исаака). (Я делаю крест на его могилу.) Мартин немного всплакнул: в этот вечер он особенно остро ощущал свое одиночество. Отец занимал в его сердце место, которое Мартин должен был бы отдать жене. Тут еще рядом Саламина, которую он любит, а она не хочет идти за него.
Вечером пришел умиак (большая, так называемая женская лодка) с Йонасом, Дитлиром, Христианом, Габриэлем, Давидом, молодым Эмануэлем, женщинами и детьми. Они отсутствовали двадцать четыре дня, ездили на охоту и добыли восемь оленей. Возвращение домой — внушительное зрелище. Со стороны оно выглядит так. Жители возбуждены, они кричат при виде возвращающихся охотников. В ответ с лодки стреляют, сообщая число убитых оленей. В море выезжают каяки, чтобы сопровождать лодку до берега. Не менее внушительна и сама "женская лодка", приводимая в движение громадными широколопастными веслами. Она переполнена; каяки у нее на борту и на буксире. Взволнованная толпа любопытных собралась смотреть добычу. Оказывается, что из этих восьми оленей трех убил Давид. Самуэль Меллер (отец Габриэля), Давид и Йонас поднесли нам по куску мяса.
* * *
Завтра отплываем в Уманак встречать «Диско». На борту будет двенадцать человек. Сейчас ожидается дождь.
* * *
"Завтра" наступило. 29 августа. Отплыли в 8 часов. Через час задул свежий встречный ветер, поднялось сильное волнение: пришлось повернуть и со смущенными лицами возвратиться назад. Сидим дома…
* * *
31 августа. 29-го в 6 часов вечера отплыли вторично. Шли хорошо и прибыли в Уманак в 2 часа или немного позже. А на следующее утро узнали, что «Диско» уходит из Упернавика в полдень и, вероятно, в полночь будет в Игдлорссуите. После полудня отплыли опять домой. Прибыли в Игдлорссуит и, не раздеваясь, легли немного поспать. Я улегся на сундуке у окна, наставив ухо в сторону моря, чтобы услышать первый звук приближения «Диско». В четыре меня разбудил далекий крик мальчика с наблюдательного холма: там завидели «Диско». Через полчаса показалось судно. Раньше, чем «Диско» бросил якорь, я уже был в своей шлюпке и греб изо всех сил, чтобы обогнать Стьернебо, которого вез на лодке Мартин. Я победил! Нам пришлось держаться несколько минут на расстоянии, пока не перестал работать винт и пароход не остановился совсем. Я взобрался на борт, пожал руку Даугорду Енсену — это один из директоров Управления по делам Гренландии в Дании — и капитану. Пригласил Даугорда завтракать и снова отправился на берег. Через полчаса Даугорд — хандельсшеф ("министр гренландской торговли") и ландсфогед сидели у нас.
[Когда «Диско» отходил ночью в Уманак, я находился на его борту. Команде «Наи» было дано распоряжение следовать за нами. Распоряжение команда выполнила. Но ее нежелание возвратиться со мной на следующий день ясно видно по приводящейся ниже цитате из дневника.]
— Плохая погода, — сказал Кнуд. — Ужасный ветер.
— Что ж, попытаемся, — ответил я.
— Большая волна.
— Попытаемся.
— Густой туман.
— Попытаемся. А если будет очень плохо — вернемся.
— Нехорошо возвращаться.
— Возвращаться хорошо, если опасно продолжать плавание. Попытаемся.
— Мы не взяли провизии.
— Я вчера вас предупреждал, когда мы должны выехать.
— В лавке было много народу. Я не мог добраться, чтобы меня обслужили.
— Слушай, Кнуд, — сказал я, поняв наконец, что это забастовка. — Мы отплываем сейчас, немедленно. Если ты не хочешь ехать, можешь оставаться в Уманаке. Если и остальные того же мнения, они тоже могут остаться. Я возьму других людей. — И я пошел, не ожидая ответа, отвязывать шлюпку.
Они последовали за мной на борт. Мы отплыли, как только разогрели двигатель.
Море гладкое, как стекло. Низкие облака скрывали вершины гор, но на воде было хорошо, ясно.
— …Ужасная погода, штормовой ветер, большая волна, густой туман!.. язвительно сказал я команде. Они ухмылялись.
* * *
[В субботу, 4 сентября, я отправился в самый конец Увкусигссат-фьорда, взяв еще несколько человек, кроме команды. Оставив меня на выбранном мной месте, где я собирался разбить палатку и писать, они отправились дальше по фьорду на три дня охотиться. Фьорд буквально кишел тюленями.]
В течение двух дней, которые я провел на берегу, погода была довольно хорошая, и я работал как одержимый. Раз в день ел до отвала и — спал! Провел я там две ночи, и на третий день в 9 часов утра, когда я сидел за работой, пришла «Ная» — на сутки раньше. Через два часа я был готов возвращаться.
Обратная поездка была великолепна. Воздух был чист, облака, как вуаль, обвивались вокруг гор, усиливая их очарование. Ингия-фьорд, мы видели его только мимоходом, возможно, самый прекрасный горный пейзаж во всей Гренландии.
Прибыли домой в десять вечера под моросящим вождем.
* * *
В четверг, 9 сентября, в Игдлорссуит пришла шхуна «Хвитфискен» и выгрузила запасы для поселка на будущий сезон. Она доставила также строительные материалы для клуба. Если мы хотим построить его, то это надо делать скорее.
Ольсен, как обычно, был пьян. Он ходил, шатаясь, из моего дома к Стьернебо и обратно и каждый раз сообщал мне, какой бессовестный негодяй Стьернебо. Несомненно, Стьернебо таков и есть. Ольсен сделал одно замечание, проливающее свет на происходящее.
— Если вы собираетесь строить этот клуб, то вам придется ставить его вон на той горе, — он указал пальцем на заболоченный склон к югу от поселка. — Вам никогда не разрешат построить его внизу — там, где вы начали.
"Хвитфискен" не привез мне письмо о том, какое решение приняли о клубе директор, ландсфогед и бестирер.
8-го в 4 часа дня «Хвитфискен» отплыла в Уманак через Нугссуак, увозя на борту Стьернебо и Анину. Сейчас нужно ловить момент! Мне было ясно, что сопротивление, с которым мы встретились при попытке строить клуб на выбранном нами участке, не основывается на законе, а представляет собой еще одно доказательство решения бестирера воспрепятствовать нам поставить клуб где бы то ни было, и если мы хотим построить его, то должны перехитрить в этой игре бестирера. Мы приготовились отплыть в Уманак рано утром следующего дня.
На другой день была плохая погода, но все же мы вышли в море. Однако через два часа мы вынуждены были отказаться от попытки пойти дальше: мешали сильный встречный ветер и большое волнение. Вернувшись в Игдлорссуит, я не находил себе места от нетерпения.
Спустя три часа, несмотря на предупреждения опытных охотников, мы снова отплыли и вечером, в 10 часов, бросили якорь в Уманакской гавани. Я отправился прямо к бестиреру.
— Нет, — сказал он, — директор говорит, что вы не можете строить этот дом так близко к правительственному зданию, — и залился смехом в припадке безрадостного веселья. — Нет, нет, мистер Кент, только не там!
Ну и смеялся же он!
— Давайте разберемся, — взорвался я. — Мне хочется понять, как в Гренландии делается дело. Гренландцы не могут поставить себе клуб, так как на участке, где стоял старый склад, вы собираетесь что-то строить. Клуб окажется от вашего дома менее чем в двадцати метрах. Но если вы построите дом на участке старого склада, он будет меньше чем в двадцати метрах от двух других домов гренландцев. Вы требуете, чтобы мы подчинялись закону, который сами намереваетесь нарушить. У вас строгие законы, запрещающие пользоваться в поселках керосином и бензином. Вы следите за тем, чтобы гренландцы соблюдали эти законы. Но вы позволяете немцам жечь примусы, керосиновые лампы и печки в правительственных зданиях, где они квартируют. Вы позволяете бестиреру иметь моторную лодку с бензиновым двигателем и пользоваться ею, а бензин хранить в близком соседстве с правительственными зданиями. И вы, и ландсфогед все это знаете и допускаете. Значит, законы, которые будто бы обязательны для всех, применяются только по отношению к коренным гренландцам. Так, что ли?
— Да, да, мистер Кент! — выговорил бестирер сквозь веселый смех.
— И вы понимаете, что вся администрация играет в Игдлорссуите на руку сумасшедшему дураку Стьернебо, который не только не помогает этому полезному делу, не поощряет выполнения его, но и всячески ему мешает. Так, что ли?
— Да, да, видимо так, — смеялся веселый управляющий.
— Хорошо, где же мы можем строить клуб?
— Где угодно, но чтобы от него до наших строений было больше двадцати метров.
— Если мы передвинем его так, чтобы он стоял ровно в двадцати метрах от старого склада, в том же направлении, в котором стоит сейчас, это будет дозволено?
— Да, конечно.
— Очень хорошо! Там мы его и поставим.
Я попросил, чтобы мне дали плотника. Бестирер тотчас же на это согласился. Я решил закончить все приготовления к утру и отплыть.
Выехали в полдень, забрав с собой плотника и его подручного — Енса и Ёргена. Отплыли мы не прямо в Игдлорссуит. Я знал, где игдлорссуитцы хотят подставить клуб — дом, где им можно было бы танцевать, но полагал, что при нынешнем положении вещей предусмотрительнее предоставить жителям поселка самим решать это дело, не вмешиваясь в него. Я показал Кнуду, где, по-моему, было бы хорошо поставить клуб, и предупредил его, что в любом случае клуб должен находиться не менее чем в двадцати метрах от правительственной постройки. Через того же Кнуда я передал все дело в коммунерод.
В Каэрсуте я сошел на берег, отдав распоряжение команде «Наи» приехать за мной через два дня. Когда «Ная» отошла, я отправился насладиться гостеприимством Ларса и писанием картин.
В Каэрсуте эти дни было очень холодно: ветер, солнца нет, временами снег. Я возвращался с работы насквозь промерзший. Мне даже показалось, что и я тоже схватил этот злосчастный грипп, который свирепствовал во всех поселках. Но это оказалось ложной тревогой. Прошел понедельник, «Наи» не было. Прошел и вторник, хотя в этот день в Каэрсуте стояла неплохая погода. «Ная» прибыла лишь во вторник к ночи, в 10 часов. На следующее утро дул крепкий ветер, но мы тем не менее отплыли. Ветер был попутный, и в 4 часа мы стали на якорь в Игдлорссуите.
Енс и Ёрген из Уманака, Мартин и несколько юношей работали, связывая рамы для стен дома. Формы для фундамента были поставлены и уже заполнены. Дом поставили там, где я предлагал, но в двадцати шести метрах от правительственного строения. Работа продвигалась медленно: мало людей помогало.
Но на следующее утро мы все взялись за работу по-настоящему. К полудню рамы для стен были закончены и все стропила распилены по размеру. Давно уже пора бы мобилизовать людей, показав им, что работа продвигается, поэтому я распорядился освободить бетон от форм, созвать всех жителей и общими силами передвинуть пол (построенную ранее открытую площадку для танцев). Собралось двадцать пять мужчин, три женщины и много мальчишек — большая сила. Но платформа была тяжела, и она была неудобно расположена на выступающем из земли старом фундаменте. Все же за работу взялись с энтузиазмом. За пятнадцать минут перенесли пол на его постоянное место и аккуратно опустили на угловые фундаментные болты. После этого всех охватил такой припадок кашля, что казалось, он никогда не кончится. В поселке была тогда эпидемия. Я слегка оживил всех пивом. После чего все разошлись на полуденный отдых.
Теперь дело пойдет! В час дня собралась толпа. При установке стенных рам у нас на каждую шпильку и гвоздь было по человеку. К шести часам вся стенная конструкция была уже установлена и две стены зашиты досками. Были поставлены и леса для установки стропил. Так кончился четверг, а Стьернебо все еще не появлялся!
Когда дом начал приобретать видимую форму, общий интерес перешел в энтузиазм. Я поставил Енса на изготовление и установку оконных рам и пригонку подъемных окон [58], а сам занялся основной конструкцией; на этом деле я мог занять столько людей, сколько могли работать. В пятницу к вечеру мы установили стропила, зашили досками торцы чердака и настлали больше половины крыши.
В субботу работали до восьми часов, так как собирался дождь. Мы покрыли крышу толем, застеклили подъемные окна, и, таким образом, дом был надежно защищен против надвигающейся бури. И весь следующий день шел дождь.
Вернулся Стьернебо. Что он думает о клубе? Это Стьернебо скрывает под добродушной манерой, однако к клубу не приближается.
В понедельник клуб был почти закончен даже в мелочах. Установили фронтонный карниз, навесили дверные и оконные приборы; покрасили здание снаружи. На следующий день покрыли его вторым слоем краски, а я занялся орнаментальной работой, которая должна была украсить треугольник под крышей над торцовой стеной.
Во вторник клуб был готов — все закончено, кроме моей орнаментальной работы. Фундамент весь отделали камнем и выкопали большую дренажную канаву, чтобы отводить стекающую со склона горы воду с площадки дома. В среду поставили флагшток и подняли датский и американский флаги. Я закончил орнамент и на виду у глазеющей, восхищенной и гордой толпы укрепил его на клубе. Радостно было видеть, как довольны люди. Они стояли часами и созерцали свой клуб — свой собственный дом!
В один из этих дней годхавненская шхуна «Хвален» вошла в порт, возвращаясь домой из Нугатсиака. Группа киношников так щедро наградила команду шхуны огромным запасом шнапса, что команда, как ни старалась, никак не могла поставить судно на якорь. Шхуна ходила беспорядочно пьяными кругами с выпущенным на несколько десятков футов под водой якорем, а за ней отчаянно гонялись лодки посетителей с берега. Временами, видимо пытаясь помочь лодкам, шхуна неожиданно поворачивала, мчалась на них, как разъяренный Моби Дик [59], и проносилась прямо сквозь их рассыпающиеся ряды. В это время капитан и помощник ходили, шатаясь, по берегу — каким-то образом они сошли на берег — в блаженно-пьяном состоянии. Помощник, растрепанный, с расстегнутыми пуговицами, спотыкаясь, ввалился к нам с визитом. Отыскав Саламину, которая ему нравится, он стал преследовать ее с пьяной влюбленностью. Всю ночь он бродил шатаясь, вокруг, врывался в дом, будил спящих, потом колотил в двери, которые перед ним закрывали. В два часа помощник снова пришел к нам, как он сказал, за своей трубкой. Потом передумал, а может быть, нашел трубку в темноте и ушел, качаясь. В шесть шхуна отплыла и через двадцать четыре часа после никому не известных странствований по Уманакской бухте стала на якорь в Уманаке.
Мы должны были прибыть в Уманак не позже 1-го октября, чтобы отплыть в Хольстейнборг на геодезическом судне «Андре» (капитан Сёренсен). Я не представлял себе, как мы сможем упаковаться и быть готовыми в срок. А сегодня, во вторник, 20-го, во второй половине дня, нам сообщили, что судно должно отойти не позже 26-го, а возможно, что уйдет и 24-го! Осталось четверо суток. К тому же последние дни дул такой ветер, что мы не решились бы пуститься в плавание на «Нае». При такой погоде нельзя рисковать, мы должны быть в Уманаке, если возможно, 22-го. На упаковку остался один день!
Вечером (на здании клуба развевались флаги) жители поселка устроили кафемик — для нас! Нам поставили стулья, чтобы мы могли пить кофе с полным почетом. Стьернебо, за которым послал коммунерод, пришел поздно. Когда я выпил кофе и встал, Абрахам, предположив, что я собираюсь уйти, попросил меня подождать, так как будет еще кое-кто. Наконец, когда, по-видимому, все до одного жителя поселка оказались налицо, помощник пастора Самуэль Мёллер стал напротив нас на другом конце свободного пространства комнаты, сделал знак, чтобы было тихо, сложил руки в своей обычной молитвенной позе и начал речь.
Говорил он долго и горячо, но из сказанного им я мог уловить только постоянно повторяющиеся слова "Кинте ама нулиа, иглу" и как будто «калагсмит». Когда он кончил, я подошел, пожал ему руку и поблагодарил его.
Затем вышел вперед молодой охотник Бойе. Совершенно очевидно, что его выступление не было предусмотрено. Однако говорил он свободно, с большим чувством. Когда Бойе закончил свою речь, все по очереди пожали нам руки. Помощник пастора снова попросил, чтобы замолчали. С минуту он совещался с присутствующими, попробовал голос, затем повел за собой хор. Пели длинный прекрасный гимн; хор, певший на разные голоса, красиво звучал в пустой деревянной коробке дома.
В среду вечером, несмотря на суматоху, свалившуюся на наш дом, и на все дела в связи с предстоящим на утро отъездом, мы устроили всеобъемлющее внушительное празднество — большую пивную оргию с открытым для всех доступом, танцы в новом клубе и угощение у нас дома для самых близких и дорогих друзей — все одновременно в ознаменование открытия клуба и нашего прощания. Я сделал новую длинную столешницу для нашего стола, потому что у нас дома надо было усадить семнадцать человек. Обед! Карибу, картофель с жирной коричневой подливкой, консервированные фрукты, шнапс и пиво сколько хочешь, сигары и сигареты. Вот это был пир! Гостями были: Рудольф и Маргрета, Абрахам и Луиза, Хендрик и Софья, Йонас, Мануэль и Сара, Кнуд и Юлиана, Мартин, Енс и Дорте из Каэрсута, гостья и добавочная кифак. Когда все хорошо поели — наелись так, что отказались от кофе, — и все общество развеселилось от выпитого, Самуэль по поданному Абрахамом знаку встал и произнес речь. И хотя мы не поняли из этой речи ни слова, мы все же ее горячо одобрили, так как она заканчивалась "сколь!" — за здоровье Фрэнсис и мое.
Затем я произнес речь, как бы обращенную к Самуэлю. Я говорил о том, что игдлорссуитские дети в некотором смысле все — дети своего учителя, то есть его, Самуэля. Я теперь знаю, что гренландские дети совершенно такие же, как датские или американские; что гренландцы могут научиться всему тому, чему учатся другие народы, и, таким образом, будущее гренландцев в руках их учителей. Я сказал: какой позор, что учителей и учеников еще не научили датскому языку, тогда бы они могли читать все хорошие книги мира, понимать все и всему учиться. Но, продолжал я, даже в существующих условиях вы, Самуэль, можете делать гораздо больше. Вы можете более прилежно работать с детьми, учить их большее количество часов в день, так, как делают это у нас. В заключение я предложил выпить за здоровье Самуэля и за детей Игдлорссуита.
Тем временем пришли новые гости: Ёрген из Уманака, Эмануэль Самуэльсен и Давид. Давид сел рядом со мной, и я воздал ему честь. Мы выпили за его здоровье и говорили, что, когда я приеду опять, он снова будет у меня работать. Говорили и о том, что он, Мартин и я весной отправимся в Туле.
Самуэль наконец почувствовал действие хмеля. Он встал и завел хоровую песню, потом стал болтать, затем искать ссоры: сначала напал на коммунерод, потом персонально на Хендрика. Хендрик, которому пиво развязало язык, энергично отвечал, но Самуэль все больше и больше возбуждался, стал говорить вещи, которые неприятно было слушать уже всем. Кончилось тем, что Хендрик и Кнуд быстро встали, крепко взяли Самуэля за руки и сзади за штаны и мгновенно вынесли из дома. Этот прием даже не назовешь насилием — так чисто все было сработано. Самуэль же почти не прерывал своей речи и держал руки ладонями вверх, как Христос на картинах вознесения.
На улице Хендрик и Кнуд продолжали спорить с Самуэлем, но уже без особого раздражения. Через несколько минут Кнуд вернулся как ни в чем не бывало и шепотом предложил план: сейчас все скажут "спокойной, ночи" и разойдутся по домам будто бы спать, а когда Самуэль уберется к себе, то все потихоньку вернутся назад. Так и сделали. Самуэль некоторое время сидел на склоне горы и плакал, затем исчез. Тогда все возвратились.
При окончательном расставании, когда все уже по-настоящему уходили спать, Кнуд плакал — сначала на плече у Фрэнсис, называя ее своей матерью, потом на плече отца, то есть на моем. И Рудольф и Кнуд прощались целых полчаса. Все мы были глубоко растроганы. Если мы снова сюда приедем, то получим от Рудольфа десять великолепно выдрессированных собак и заплатим за восемь из них по пятнадцать крон, а за две — ничего. Так кончился этот вечер.
На следующее утро пошел дождь. Прощаний было много, и грустных. Вокруг дома стояли люди, готовые помочь нам перенести вещи на борт. Мы пожали руку каждому мужчине, женщине и ребенку. Рудольф и Абрахам поднялись на борт вместе с нами. Все мы плакали. На пристани люди запели гимн. Это был последний прекрасный штрих, заставивший нас испытать еще большую грусть.
Когда «Ная» отходила, за ней по берегу до конца мыса следовала толпа. Люди махали руками, носовыми платками, стреляли из ружей.
Прощай, Игдлорссуит! Прощаюсь с тобой, как с жизнью!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но с жизнью, моей жизнью в Гренландии, — как показало время, не так легко было распроститься в тот день. Два года спустя я вернулся в Гренландию со своим четырнадцатилетним сыном и еще год прожил с Саламиной и с нашими многочисленными друзьями жизнь, какую я научился любить.
Хотя болезни, несчастные случаи и время потребовали тяжелой дани, но любовь принесла свои плоды. Мартин — вы его помните? — женился на красивой девушке из Кекертака. У них родился ребенок. Бойе и Сару бог благословил еще раз. А Саламина! Да, у нее родился крепкий мальчик от сына Иоганна Ланге, красавца. Мальчики, два года назад только начинавшие ходить, сейчас уже щелкали кнутиками на прибрежном песке. Многое, конечно, изменилось, но спустя два дня после приезда снова было так, будто бы я отсутствовал только одну ночь.
С той поры прошло почти десять тысяч ночей. Какие огромные печальные перемены испытал дорогой Игдлорссуит! Вскоре после нашего второго, и последнего, отъезда, примерно через год, Саламина вышла замуж за Габриэля, молодого предприимчивого сына помощника пастора.
Но оказалось, что "болезни, время и любовь" не единственные силы, влияющие на судьбы народа.
Тюлени под влиянием изменений климата покинули здешние воды. Им взамен пришла с юга треска. Гренландский охотник, чтобы существовать, вынужден был стать рыбаком. Возникла необходимость сбывать улов на переработку для экспорта. Охотник покинул далекие поселки и переселился в крупные центры рыбной промышленности.
Игдлорссуит, увы, обречен. Но если воля к жизни всего человечества предотвратит угрозу всеобщей гибели — а кто смеет сомневаться, что так и будет! — не расцветут ли в садах мирной земли цветы человеческие, гораздо более прекрасные, нежели те, что выросли на плодородных навозных кучах прошлого?
Старая Гренландия умерла, да здравствует… — нет, не ее грустное сегодня, — да здравствует ее долгое завтра!
ПРИМЕЧАНИЯ
Если не указано другое, то — примечания Н.А. Лопуленко.
1. "Курс N by E" — книга издана в СССР в 1962 и 1965 гг.
2. Бестирер — управляющий поселком или торговец.
3. Книга «Саламина» издана с СССР в 1962, 1965, 1970 и 1975 гг. (Прим. Н.А. Лопуленко.). Саламина — согласно древнегреческой мифологии дочь речного бога Асопа. Сын ее от Посейдона стал первым царем острова Саламин. (Прим. выполнившего OCR.)]
4. Стьернебо — имя датчанина, служившего на датских торговых судах, ходивших в Гренландию. Позже был переведен на берег Гренландии и получил должность бестирера.
5. Оригинал дневника, хранящийся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, был подарен автором в 1960 г. вместе с коллекцией картин.
6. Обераммергау — местечко в Баварии (ФРГ), где ежегодно на открытой сцене разыгрываются религиозные представления из жизни Иисуса Христа.
7. Из дальнейшего чтения дневника читатель увидит, что это не совсем верно. Если в поселках уровень жизни гренландцев был достаточно высок, хотя и не приближался к датскому, то для отдаленных районов, где жило большинство коренных жителей острова, он оставался очень низким. Губернатор Гренландии Брюн в 1948 году писал: "Мы должны ясно себе представить, что современная Гренландия — бедная страна, и нищета заметна здесь повсюду. Она выражается в плохом жилье, скверной одежде, плохом питании и тяжелом состоянии здоровья жителей… Туберкулез косит гренландцев".
8. Контрфорс — опора в виде балки, поперечной наклонной стенки или вертикального выступа, укрепляющая основную конструкцию, обычно несущую стену.
9. Морена — отложения, накопленные ледниками при их движении и выпахивании ложа.
10. Ганс Эгеде — датский миссионер, сыгравший важную роль в христианизации эскимосов Гренландии в начале XVIII века.
11. Всеми эскимосскими племенами в прошлом практиковался обмен женами на больший или меньший срок. Особенно он был распространен среди "товарищей по песне". Это — постоянные партнеры, которые во время праздников пели по очереди друг другу и пользовались одним барабаном. Они считались очень тесно связанными, постоянно менялись женами и имели определенные взаимные обязательства, которые строго выполнялись, Если в результате обмена рождался ребенок, оба считались его отцами, жил он в доме одного, а наследовал обоим. Этот обычай объясняется нормами первобытно-общинного строя, при котором существовали взаимные брачные права всех братьев на жен друг друга.
12. У Фредерика был туберкулез. (Прим. перев.)
13. В представленном издании пропущены фрагменты перевода, в результате чего имеется неясность. Согласно книге «Саламина», у Анны заболел живот, поскольку она объелась ягод. (Прим. выполнившего OCR.)
14. Пение — одно из любимейших развлечений эскимосов. В прошлом были широко распространены певческие праздники, в которых участвовали и мужчины и женщины, пели хором под аккомпанемент бубна. У каждого мужчины и у многих женщин были свои личные песни, сложенные ими самими в связи с каким-либо знаменательным событием. Известны и песенные состязания, своего рода «дуэли», когда поссорившиеся "выясняли отношения" в песенной форме.
15. Погребальный культ — одна из древнейших форм религии, связанная с верой в душу и ее загробное существование. Формы погребения у разных народов чрезвычайно разнообразны. Жертвоприношения являются важной составной частью этого культа. Они зародились на основе идеи, что покойник нуждается в тех же вещах, какие нужны живому человеку — в пище, питье, одежде, оружии, орудиях. Это представление широко распространено у народов всех частей света. В случае смерти нужно было выполнить много обрядов, чтобы дух умершего не вредил оставшимся в живых. Тело выносили через окно, а если это был чум, то из-под шкуры, покрывающей его. У эскимосов умершего, одетого в лучшие одежды, с перевязанными ногами завертывали в тюленьи шкуры и опускали в могилу, выложенную камнями. Возле могилы клали вещи умершего: мужчине — орудия для охоты, женщине — инструменты для шитья.
16. Эндорская колдунья — правильнее — аэндорская — мрачная предсказательница, мифический персонаж из Библии.
17. Запрет ввозить в поселки керосин был вызван политикой консервации, проводившейся в XIX — начале XX столетия. Датское правительство пыталось сохранить в Гренландии традиционные формы хозяйства. Для поощрения охоты на морских животных, поскольку дома отапливались и освещались жиром тюленей, и был введен запрет на ввоз керосина. И хотя в 1925 году с политикой консервации было покончено, некоторые запреты еще сохранились.
18. Петер Фрейхен — датский ученый, этнограф, полярный исследователь (1886–1957). Принимал участие в 5-й экспедиции Туле К. Расмуссена.
19. Сэмнер — Уильям Грэхэм Сэмнер, американский экономист социолог (1840–1910), автор труда "Народные обычаи".
20. Пеммикан — сушеное размолотое мясо, смешанное с жиром и соком кислых ягод, хранившееся в кожаных мешках. Этот продукт являлся лучшей пищей в длительных арктических экспедициях.
21. У эскимосов очень богатый фольклор. В нем ясно отражена связь их жизни с природой севера. У них существуют легенды, сказки и рассказы, объясняющие явления природы, поведение животных. В их фольклоре фигурируют великаны и шаманы; героем мифа о сотворении мира чаще всего является ворон.
22. В обычном, традиционном дележе добычи у эскимосов можно было наблюдать остатки отношений, которые существовали в период жизни первобытно-общинным строем. Добыча, полученная во время охоты всем стойбищем, например при охоте на карибу или ловле лосося во время весеннего нереста, делилась поровну между всеми участниками. Добыча от индивидуальной охоты делилась по определенным нормам. Бульшая часть туши тюленя распределялась между другими участниками охоты. Убивший тюленя получал очень мало. Часть отдавали старикам, вдовам и сиротам.
23. Байрейт — город в Баварии (ФРГ), в котором происходят традиционные фестивали оперной музыки.
24. Лоэнгрин — герой средневековой немецкой рыцарской поэмы (XIII в.). В конце поэмы Лоэнгрин на лебеде отправляется в Индию.
25. Готтентоты — один из народов в Намибии и ЮАР, древнейшие обитатели Южной Африки.
26. Под этим общим названием опубликован ряд работ У. Сэмнера по социологии и этнографии.
27. Авраам Линкольн (1809–1865) — 16-й президент США, один из организаторов Республиканской партии, выступившей против рабства негров, за что и был убит наемником плантаторов. (Прим. Н.А. Лопуленко.) Убивший Линкольна был не наемником, а фанатичным сторонником южан актером Дж. У. Бутсом. (Прим. выполнившего OCR.)
28. Альпака — домашнее парнокопытное животное рода лам, гибрид гуанако и вигони. Разводят в высокогорье Перу и Боливии за ценную шерсть.
29. Иоанн Креститель — согласно евангельской мифологии, ближайший предшественник Иисуса Христа.
30. Общественное мнение играло огромную роль в жизни эскимосов. У них не было никаких специальных карательных органов для тех, кто нарушал правила, которые считались обязательными, например, правила охоты или поведения в обществе. Если кто-то нарушал их, то наиболее сильным воздействием считалось увещевание со стороны стариков. В крайних случаях пользовались бойкотом. В редчайших случаях того, кто считался неисправимым и приносил вред всей общине, — убивали.
31. Тимиак — накидка, одежда свободного покроя из птичьих или оленьих шкурок.
32. Стеатит — минерал жировик.
33. Нравственность — это один из способов регулирования жизнедеятельности человека в обществе. Она обусловлена объективными социально-историческими условиями и законами развития общества и прошла длительный путь развития. Каждая общественная формация имеет свою, соответствующую ей, форму нравственности. В доклассовом обществе, к которому относились и общины эскимосов, она относительно проста и тесно связана с древними обычаями.
34. Интересно, на какого Бармалея или Кощея был похож сам Р. Кент лет этак в семьдесят пять — восемьдесят. (Коммент. выполнившего OCR.)
35. День благодарения — официальный праздник в США в память первых колонистов Массачусетса, проводится в последний четверг ноября.
36. В книге «Саламина» (Пер. с англ. В.К. Житомирского. М.: Географгиз. 1962. - 391 с.) этот эпизод звучит так: "У Юстины, оказывается, было полкроны — примерно десять центов. Она рассказала нам, что купит себе к рождеству кило кофе, кило сахару, кило сухарей, кило шоколаду, кило инжиру, кило рису, кило того, кило этого — по кило всего на свете… и сигару!" Судя по последующему контексту, все-таки килограммы правильнее см. текст. Переводчик же один — В.К. Житомирский (Прим. выполнившего OCR.)
37. Этот обычай был характерен для ряда обществ с присваивающим типом хозяйства и определялся низким уровнем развития производительных сил. В условиях суровой северной природы, когда добыча пропитания была непредсказуема и охотникам часто приходилось возвращаться ни с чем, у эскимосов случались жестокие голодовки, во время которых вымирали целые общины. Поэтому в некоторых случаях для поддержания малого размера численности группы, если окружающие природные условия не позволяли прокормить большее число людей, прибегали к этому древнему обычаю убийству новорожденных девочек. Мальчик в будущем должен был стать охотником и кормить общину. Эта практика, создавая половую диспропорцию, возможно, поддерживала не менее древние обычаи обмена женами и многомужество.
38. Нагорная проповедь — сжатое изложение морально-этических принципов раннего христианства.
39. Аль Капоне — американский гангстер, глава мафии.
40. Тэсс — героиня романа английского писателя Томаса Гарди (1840–1928) "Тэсс из рода Д'Эрбервилль", которая была отвергнута обществом из-за рождения внебрачного ребенка. "Красное письмо" — роман американского писателя Натаниела Готорна (1804–1864), героиня которого понесла позорное наказание за нарушение супружеской верности.
41. Панглос — всезнайка (греч.), синоним псевдоученого, герой повести французского философа и писателя Вольтера "Кандид, или Оптимизм".
42. Тяжелая борьба за пищу, требующая много энергии и изобретательности, все же не заполняла полностью жизнь эскимосов. В свободное время, кроме песен и танцев, они развлекались играми. Любимой их игрой была перемена фигур из связанного концами шнурка, надетого на кисти рук. Играли также в своеобразный футбол, в кости, подбрасывали и ловили на острие палочки предмет с отверстием. Кроме того, в играх дети приучались к основным видам хозяйственной и домашней деятельности. Мальчики играли в охоту, девочки в куклы.
43. Потлач — праздник, сопровождаемый пиром и раздачей подарков, что, в какой-то мере, перераспределяло богатство и уравнивало людей в имущественном положении. Распространен у индейцев северной части тихоокеанского побережья Северной Америки.
44. Свободное поведение женщин является, во-первых, пережитком материнского родового строя, когда был распространен групповой брак, то есть группы женщин являлись женами групп мужчин. Кроме того, из-за прекращения искусственного регулирования численности по полу, число женщин стало превышать число мужчин. Женщинам стало труднее выйти замуж. Отсюда так называемое «свободное» поведение женщин, которое является скорее скрытой формой многомужества.
45. Один закон — часть латинской поговорки "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку" (Quod licet lovi, non licet bovi), соответствует русской поговорке: "Всяк сверчок знай свой шесток".
46. Обычай — это унаследованный от предыдущих поколений привычный способ поведения, который существовал в определенной группе населения и становился естественным для ее членов. Он приобщал людей к определенному социальному и культурному опыту, передавал его из поколения в поколение, регламентировал поведение, поддерживал сплоченность членов группы. Многие обычаи когда-то были важны и полезны для племени или его части. С течением времени, из-за изменений условий жизни общества, первоначальный их смысл забывался, и они отмирали или осмысливались по-новому.
47. Кент довольно мягко говорит об этой острой животрепещущей проблеме. Причины высокого уровня алкоголизма у коренного населения Северной Америки кроются очень глубоко. Он не пишет, что пьянство у эскимосов буквально насаждалось в XIX веке сначала промысловиками-китобоями, а позже — мехоторговцами. Дальнейшее развитие алкоголизма на севере — это сплетение многих факторов: социальных, культурных, психологических и даже экологических. Однако толчок возникновению этого явления дала колонизация северных районов США, Великобританией, Францией и другими капиталистическими странами. (Прим. Н.А. Лопуленко.)
Упущен еще один фактор, причем, по-видимому, самый главный биологический. Быстрая алкоголизация северных народов (и североамериканских индейцев) связана с отсутствием в этих популяциях генетической устойчивости к алкоголю (формируется исторически). До европейцев указанные народы практически не знали спиртного (всякие наркотики-мухоморы не в счет биохимические механизмы опьянения другие; только немногие племена индейцев делали свою «червивку», часто ритуальную, из ягод). Поэтому все, кто генетически был склонен к алкоголизму, не вымерли, а даже дали потомство. И в генофонде популяций подобных субъектов оказалось достаточно много. Если, к примеру, в Средиземноморье с его винами такие люди давным-давно (небось еще до Древней Греции) просто вымерли от пьянства (либо не дали потомства), то у северных народов они вполне здравствовали до прихода европейцев с их выпивкой. И еще вопрос: действительно ли европейцы их спаивали, или северные народы, случайно попробовав, так втянулись, что стали приставать к китобоям-эксплуататорам: "Налей да налей — все отдам!" Понятно, что китобои и эксплуататоры могли воспользоваться ситуацией. Если бы эскимосам вдруг так же понравилось бы, например, какао, то, наверное, европейцы везли бы им не водку, а целыми кораблями именно какао.
Кроме того, вследствие недостаточности у монголоидов фермента, расщепляющего этанол (алкогольдегидрогеназы), эта раса более восприимчива к последнему. Всем известно, что у японцев опьянение — эйфория — похмелье занимает всего ничего времени (у европеоидов же — порядка суток). Не успел японец выпить, а у него уже похмелье. Именно поэтому японцы пьют «наперстками» — им вполне хватает.
Все отмеченное знали еще во времена редактирования книги Н.А. Лопуленко (1987 г.). И фраза Лопуленко (см. выше): "Причины высокого уровня алкоголизма у коренного населения Северной Америки кроются очень глубоко" заставляет вспомнить кино "Деревенский детектив": ""Вы знаете, почему артист пьян?" "Как же, знаю: наверное, потому, что всю поллитру-то выкушали"". (Прим. выполнившего OCR.)
48. Изольда — героиня одной из самых распространенных в средневековой Европе любовной поэмы "Тристан и Изольда".
49. Снегоступы — эскимосские короткие и широкие лыжи-ракетки, помогавшие передвигаться, не проваливаясь в снег. Такой вид лыж (ступательный) был распространен и у других народов Сибири и Северной Америки. Скользящих лыж они не знали.
50. Калевала — карело-финский эпос о подвигах и приключениях героев сказочной страны Калева. Составлен из народных песен (рун) финским поэтом и фольклористом Э. Лёнротом в середине XIX века. Вяйнямёйнен — певец, герой страны Калева.
51. Вторым великим в этом роде в Гренландии был в то время, видимо, сам Рокуэлл Кент. (Коммент. выполнившего OCR.)
52. Ропак — стоящая вертикально отдельная льдина, выделяющаяся на сравнительно ровной поверхности льда. Иногда так называют обломки льда, образующие надводную часть торосов.
53. Палатка на санях — могу сказать с гордостью — была моей собственной конструкции. Полотняный пол, пришитый к боковым полотнищам, простирался во всю длину настила саней и привязывался ремнями к настилу. Поставить эту палатку можно было за одну минуту, и еще через минуту или несколько больше в ней становилось тепло от зажженного примуса. (Прим. автора.)
54. Саргассово море — находится в центральной части Атлантического океана, названо так из-за огромного скопления саргассовых водорослей, плавающих по его поверхности и мешающих судоходству.
55. In vino veritas (лат.) — "истина в вине", соответствует русской поговорке "что у трезвого на уме, то у пьяного на языке".
56. Луи Пастер — французский микробиолог и химик (1822–1895), основоположник современной микробиологии и иммунологии.
57. Профессор В.Г. Хоббс возглавлял в 1931 г. гренландскую географо-геологическую экспедицию Мичиганского университета (США).
58. Подъемные окна — конструкция окон, похожая на употребляемую в железнодорожных вагонах, распространена в США и Англии.
59. Моби Дик — гигантский кит, персонаж романа Германа Мелвилла (1819–1891) "Моби Дик, или Белый Кит".

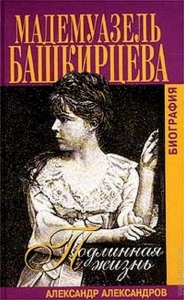


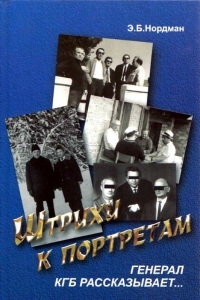

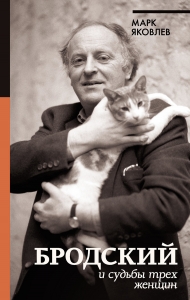

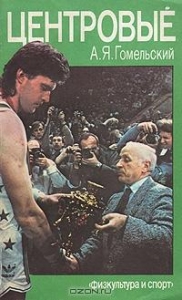
Комментарии к книге «Гренландский дневник», Рокуэлл Кент
Всего 0 комментариев