Вера Звездова Атом солнца
Кажется, что аплодисменты никогда не смолкнут, а цветы никогда не кончатся. Он уже с трудом удерживает огромную благоухающую охапку, и тогда кто-то кладет букет к его ногам. Потом еще. И еще. Словно к подножию памятника. Но он не памятник, и его глаза влажны от слез «Господи, откуда он такой взялся?!» — слышится взволнованный голос где-то в партере…
Сергей Безруков взорвал привычную размеренность театральной жизни столицы вспышкой сверхновой. Мощной и ослепляющей. В 22 года он заставил говорить о себе «всю Москву», сыграв в Театре им. М.Н. Ермоловой роль Сергея Есенина в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?».
С публикой творилось что-то невероятное, в зал можно было попасть только чудом. Даже не попасть, скорее, прорваться, проскользнуть, просочиться. Каждому из зрителей было понятно, что на его долю выпало счастье присутствовать при рождении большого артиста. Даже критики на этом спектакле забывали анализировать и сравнивать. Масштаб и неожиданность увиденного были столь велики, что любые рациональные рассуждения казались нелепыми и банальными. Разве можно объяснить тайну таланта?
Сразу пошли разговоры о том, что никто не припомнит столь яркого театрального дебюта за последние лет двадцать. Конец столетия обнажил циников, а из циников не выходят поэты. Сергей Безруков даже среди учеников О. П. Табакова, получившего славу «селекционера талантов», был на особицу.
Да, он вышел из недр Школы-студии МХАТ. Он насквозь «театральный». И пугающе честный. Он невероятно техничен. Он удивительно чувствует ансамбль. Играть с ним, наверное, легко. Но вот приблизиться к его эмоциям — сложно. Они уникальны. Как бы ни старались партнеры, Сергей Безруков все равно немного выше и немного в стороне. Немного не такой, как остальные. Его игра с трудом поддается описанию. Слишком объемна. Слишком многопланова. Слишком… настояща.
Вот что говорили о нем уже тогда, в 1995-м…
Яблоко от яблони
Откуда что берется… Одно время (в конце 80-х) критика сокрушалась: ну почему это режиссер Эймунтас Някрошюс родом с литовского хутора, а не из безликой московской новостройки? Мол, тогда бы можно было уверенно говорить, что на истинный талант не влияет среда, а так, увы…
Сергей Безруков родом как раз из этой пресловутой «безликой московской новостройки»: вся его сознательная жизнь прошла в кооперативном панельном доме рядом с метро Выхино. Значит, критики могут радоваться «чистоте эксперимента», и талант действительно развивается самостийно, независимо от влияний извне? Конечно, нет. Только наивный может верить, что на скудной почве цветут роскошные цветы, а у мощных деревьев неглубокие корни. Астрология, и та главной платформой человеческой судьбы считает «генетический колодец рода» — исток духовных родовых традиций, которые питают личность всю ее жизнь.
Помню, в 1996 году, дожидаясь Сережу в фойе «Табакерки», я услышала от одной околотеатральной дамы (их в любом популярном театре всегда великое множество) страстный монолог. «Все кричат: Безруков, Безруков! Статьи о нем пишут… А что Безруков? — возмущалась дама. — Родился в Москве. Отец — и актер, и педагог, и режиссер. Родители с любимого ребенка пылинки сдували. Ему не пришлось, как другим, в разном дерьме сниматься только ради того, чтобы купить квартиру».
Трудно было ожидать, что стремительное признание яркого дарования не породит недоброжелателей, однако столь откровенная злоба тогда неприятно удивила. Он еще не получил ничего, кроме восторженных рецензий: ни Государственной премии России (до торжественного момента, когда президент Ельцин прикрепит к лацкану его пиджака лауреатский значок, оставался ровно год), ни именной премии Москвы, ни премии «Кумир», — а ему уже начали завидовать.
Впрочем, не о зависти сейчас речь. Этот взрыв ревнивой досады направил мысли в русло извечного «все мы родом из детства». Талант Сережи Безрукова поражал такой открытостью в век всеобщей замкнутости, такой искренней любовью к миру и к людям в век повального эгоизма, что за всем этим просматривались четкие контуры крепкой «ячейки общества».
Однако журналисты из популярных изданий явно не разделяли столь «старомодных» взглядов (а может быть, им просто не повезло с собственными родителями), и вскоре на страницах глянцевых журналов замелькало снисходительное «Сергей Безруков — папенькин сынок».
Но Сергею было наплевать на мнение полубульварной прессы. Он гордился своей дружбой с отцом, своими корнями, своей родословной. Он знал, что в его жилах течет хорошая кровь.
Крестьянские гены
Его родители с Волги. Отец из деревни Белавино Лысковского района Горьковской области, мать — из прелестного провинциального городочка Лысково. Когда-то в Лысковской слободе прятались беглые крестьяне, которых укрывал князь Грузинский. Примечательно Лысково и тем, что поблизости находится знаменитый Макарьевский монастырь: в XVI веке перед походом на Казань в этих местах останавливался сам Иван Грозный.
Сергей, можно сказать, провел здесь свое детство, потому что на летние каникулы родители неизменно привозили его отдыхать к бабушке и дедушке по материнской линии. По дороге всякий раз делали крюк, чтобы побывать на могиле другого деда. Посидят, помянут, помолчат — и в Лысково.
— Сергей уважает свои корни, — говорил в 1996 году отец актера Виталий Сергеевич Безруков. — Как это воспитать? Только самому уважать. Только личным примером.
— Мы должны держаться за землю, — вторил ему сын, потому что Россия все-таки аграрная страна. Я горжусь тем, что у меня сугубо крестьянское происхождение. Слились два древних рода — Cуровы и Безруковы. В их поколениях были разные крестьяне: и мировые, и крепостные, — но все они были волжане и землепашцы.
Екатерина Алексеевна и Михаил Иванович Суровы в Лыскове люди известные. Однако отнюдь не потому, что у них такой «звездный» внук. Сами по себе. Ведь Екатерина Алексеевна вырастила не только двух собственных дочерей, долгие годы она работала воспитательницей в детском саду, а он в маленьком городке был один-единственный. Ну а Михаил Иванович, тот и вовсе до самой пенсии трудился в Лысковском райкоме партии. И что примечательно, в отличие от многих не нажил себе от партийных трудов ни злата, ни палат каменных. Двухкомнатная квартира в стареньком пятиэтажном доме да сад-огород в пять соток — вот и вся «недвижимость» старших Суровых.
Нет, к богатству они не стремились. Зато внук до сих пор с благодарностью вспоминает, как по утрам дед будил его, и они шли на Волгу — встречать солнышко, а вечером, после русской баньки, за обе щеки уплетали карасей в сметане…
Святая и светлая любовь к «тихой родине» продолжает жить в душе актера Сергея Безрукова и поныне. Каждое лето — хоть на пару дней! — он обязательно выбирается в Лысково. Есть там у него заветное место на Лысой горе: крутой волжский обрыв и белоснежный Макарьевский монастырь напротив. Если встать на самый край, кажется, что зависаешь посередине между землей и небесами.
— «Любил он Родину и землю, как любит пьяница кабак», тихо говорит Сергей, глядя в эти бескрайние дали. — Вот она, Русь. Вот откуда мой Есенин. Я могу часами сидеть и смотреть на эту красотищу.
К слову, на «эту красотищу» он не только смотрит. Крестьянские гены дают о себе знать. Вместе с отцом они сколотили на пятачке общественных рыбачьих бдений небольшой столик из брёвнышек. И почти по Вампилову — помните, у него милая девушка Валентина не уставала забор чинить: выломают доску — она прибьет, снова выломают — она снова прибьет? — так и Сергей перед отъездом не забывает вокруг идеальный порядок навести. Банки-склянки уберет, мусор сожжет, дрова для костра запасет да еще и записку оставит. Мол, не сорите, мужики, берегите землю и Волгу-матушку, которые вас кормят.
В атмосфере любви
Когда сердитая «театралка» напрямую связывала исключительный успех Сережи Безрукова с благополучием его домашнего очага, в самом главном она была права: его всегда любили.
Наталия Михайловна Безрукова:
— Я твердо знала, что детей бить нельзя. Ругать тоже нельзя. А что можно? Самым страшным наказанием считалось, когда я легонько дергала Сережу за челку. Он очень обижался, а я потом сама плакала.
Виталий Сергеевич:
— То, что Сережа в жизни и на сцене такой открытый, сопереживающий, способный к состраданию, это, конечно, от мамы.
А что от папы?
Наталия Михайловна:
— Серьезность и основательность. Когда папа уезжает на гастроли, Сережа меня опекает. И руки у него творческие, в папу. Тот у нас мастер: вырезает из дерева шкатулки, сундучки, подсвечники Сереже на 16 лет «вольтеровское» кресло вырезал, со львами…
Виталий Сергеевич:
— Мы с ним, как настоящие кустарные крестьяне, все делаем сами. Сережа, например, очень хорошо рисует. Особенно ему удаются акварельные миниатюры. Он нарисует, я сделаю рамочку — вот и подарок. Сережа весь свой курс в школе-студии МХАТ такими миниатюрами одарил.
Сергей:
— Батя очень ждал сына, поэтому дарил мне все свое внимание и время.
Виталий Сергеевич:
— Поскольку других детей в семье не было, он общался с нами. Книги и фильмы обсуждались на серьезном взрослом уровне. Кроме того, мы с ним много путешествовали: Петербург, Михайловское, Ясная Поляна, Карабиха. И, конечно, село Константиново Рязанской области, родина Есенина… Он часто бывал у меня в театре: и в зале, и за кулисами, и в гримерной…
— Общепризнанно, что детство накладывает на человека неизгладимый отпечаток. Те, чьи детские годы прошли счастливо, распахнуты навстречу миру, любят жизнь и людей. И наоборот, трудное детство дает некий надлом, замкнутость, недоверчивость, мрачность. Это всегда очень заметно на экране или сцене.
Виталий Сергеевич:
— Пожалуй, вы правы. Был такой артист Костя Григорьев (мой сценический партнер, к сожалению, его сейчас уже нет в живых). Он очень много снимался, был замечательно талантлив, но вместе с тем в нем чувствовалась какая-то однобокость. Гармонии не было. В детстве его маленького бросила мать, он вырос в блокадном Ленинграде и потом всю жизнь не любил женщин, не считал их за людей…
— В Сереже гармония есть. Более того, он обладает редчайшим качеством, которое Мария Владимировна Миронова называла способностью согревать людей теплом своего сердца. Что, кстати, замечательно умел делать ее сын.
Виталий Сергеевич:
— Знаете почему? Андрей тоже рос в атмосфере обожания. Он был любимцем и мамы, и папы, и всех друзей, которые приходили к ним в дом. Ведь человек слабеет, когда его не любят. Недаром в цирке говорят, что животных воспитывают только лаской и пряником, а если иначе, они звереют. Так и человек. Если его не любить, он вырастет либо забитым (не мужиком, а тряпкой), либо озлобленным.
Этот разговор состоялся в 1996 году. В той самой квартире, наличие которой, по мнению злобствующих околотеатральных лиц, уберегло Безрукова-младшего от искушения «сняться в дерьме». Не такой уж шикарной была эта двухкомнатная панельная квартирка (другое дело, что уютной, с любовью, вкусом и выдумкой обставленной), да и от центра не близко. Часто Сереже приходилось выходить из дома с запасом часа в два, чтобы не опоздать на репетицию. До родной «Табакерки» он, как правило, добирался вполне демократичным способом — автобусом и метро (хотя автомобиль в семье тогда уже имелся: с первых заработков Сережа подарил отцу «Волгу»), а вот из театра, после спектакля, Виталий Сергеевич каждый раз увозил уставшего сына, добровольно взяв на себя обязанности его личного шофера.
Отец
Те, кто говорит, что судьба зачастую несправедлива, что, расставляя все по своим местам, она делает это слишком поздно, не то и не так, демонстрируют абсолютную эзотерическую дремучесть. Судьба всегда все делает вовремя и именно то и так, как тому следует быть.
Когда Виталия Сергеевича Безрукова сегодня спрашивают, что самое лучшее удалось ему создать за свою творческую жизнь, он, подобно Борису Николаевичу Ливанову, неизменно отвечает: «Сына!»
Но не зря говорят, что от осины не родятся апельсины. Актер Виталий Безруков в театральном мире фигура тоже не последняя.
«У него не было подготовительного периода, как это нередко встречается в творческой деятельности, когда даже талантливые актеры подолгу остаются незамеченными. Он, как говорится, «пошел» сразу».
«Ах, как лихо, радостно, самозабвенно, каждой клеткой своего молодого существа он пляшет, как отчаянно сжигает себя в танце. Поэзия жизни, ощущаемая героем, передается актером виртуозно. Он словно летает, он весь устремлен навстречу жизни».
«ОН актер большой искренности и цельности, способный переживать чувства действительно высокого накала, не дробя и не измельчая их. Такие актеры — редкость в театре. Он открыт и ему верят. Лицо и голос его подчинены чувству. Он пластичен без тени балетности, патетичен без тени оперности».
Это все — из старых (70-е годы) рецензий на игру молодого премьера московского Театра им. А.С.Пушкина Виталия Безрукова. Не правда ли, впечатляет? Вчерашний мальчик из нижегородской провинции в мгновение ока покорил чопорных столичных критиков и раз за разом срывал бурные овации видавших виды театралов. Ему пророчили скорую и шумную славу…
Взлет Виталия Безрукова в самом деле был головокружительным. Начать с того, что он вышел на профессиональные подмостки в 17 лет, не имея за плечами хотя бы минимального актерского образования. Провалившись на экзаменах в Уральский государственный университет, самолюбивый юноша не захотел «с позором» возвращаться домой и остался в Свердловске. Ночевал на вокзале; чтобы прокормиться, разгружал вагоны. Однажды его попросили помочь разгрузить декорации… И тут волшебница судьба сделала свой первый зигзаг: несостоявшийся студент попадает в Свердловский драмтеатр в качестве рабочего сцены.
Вечерами он сидел за кулисами и с жадным интересом наблюдал, как главный режиссер театра Битюцкий репетирует с актерами «Иркутскую историю» Арбузова. Особенно ему нравился юный студент Родик. Такой же романтик, убежавший из дома на Ангару строить коммунизм. Именно тогда мудрая судьба сделала свой второй зигзаг. Исполнитель роли Родика запил, сорвал одну репетицию, вторую… а до премьеры оставались считанные дни. Режиссер впал в отчаяние: «Что делать? Где взять Родика?!» «Да вон, — говорят ему, — в кулисах сидит. Чем не Родик?»
Безруков сыграл и Родика, и Эроса в трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», и еще около десятка молодых героев. Свердловской публике нравилась его способность оставаться естественным в любых «предлагаемых обстоятельствах» и вдыхать жизнь в самые «концептуальные» построения. Нравилось это и режиссерам. Новоявленную «звезду» даже пытались переманить в другой город, прельщая высокой зарплатой. Но судьба (или ангел-хранитель?) продолжала направлять его.
— Слушай, пацан, — подошел к нему после очередного спектакля народный артист России Михаил Буйный. — Я посмотрел, в тебе есть толк. Это может стать твоей профессией. Но нужно учиться. Поезжай в Москву, в Школу-студию МХАТ. Денег на дорогу я тебе дам…
Шел 1961 год. Еще были живы феноменальные мхатовские старики. Д.Н. Журавлев, А.М. Карев, П.В. Массальский, В.З. Радомысленский, В.О. Топорков, В.Я. Станицин — все они занимались активной педагогической деятельностью, так что каждый предмет в Школе-студии преподавала легендарная личность. Стоило назвать любую из фамилий — и люди, близкие к театру, могли говорить об этом человеке часами. Вот перед какими судьями должен был предстать молодой актер из Свердловска…
Он опоздал, но так понравился, что его зачислили без вступительных экзаменов. Решили, что досдаст как-нибудь потом. И когда Виталий Безруков появился на курсе, студенты долго смотрели на него с недоумением: кто такой? Они-то прошли через все туры, знали друг друга в лицо, а тут… Дружно было решено, что он «блатной».
Потом, конечно, выяснилось, что «в деле Безрукова» всё честно и чисто. Его даже избрали комсоргом Школы-студии. Но главное было не в этом. Творческое мужание Виталия Безрукова проходило столь стремительно, что уже на 4-м курсе на него обратил внимание великий Н.П. Охлопков. Мастер так сильно заинтересовался талантливым юношей, что ввел его в свои спектакли, не дожидаясь, когда яркое дарование перехватят другие. Они начали репетировать «Гамлета»…
Кстати, опасения Н.П. Охлопкова подтвердились. По окончании Школы-студии Безрукова пригласили еще два знаменитых театра: Ленком, где главным режиссером в то время был А.В.Эфрос, и МХАТ. Причем приглашению во МХАТ предшествовала забавная коллизия.
После дипломного спектакля студенты, как водится, подслушивали у дверей, как оценивают их строгие педагоги. И услышали такой диалог:
— Вот вы хвалите Безрукова, а мне кажется, что это не наша школа. Когда он выходит, я прямо вздрагиваю от его темперамента! — возмущался корифей мхатовской сцены В.О. Топорков.
— Вот и хорошо, а то у нас в театре зритель засыпает, парировал Б.Н. Ливанов. — Теперь будет вздрагивать. Подайте на него заявку!
Итак, Охлопков начал репетировать с ним «Гамлета». Эта роль могла стать звездным часом, «моментом истины» актера Виталия Безрукова. Охлопков был художником, раздвигающим привычные рамки сценического искусства. Он слышал образ и писал его, если можно так выразиться, гаммой ритмов, поэтому тяготел к трагедии (что как нельзя более отвечало природе и темпераменту Безрукова). Но… на старте, начавшемся со столь высокой ноты, судьба впервые отвернулась от своего фаворита. Сделала очередной зигзаг.
У него был роман с однокурсницей, эмоциональность которой граничила с истеричностью. Она кричала, что покончит с собой, если они не будут вместе. И он проявил благородство: они поженились…
От Н.П. Охлопкова, к сожалению, пришлось уйти. Как женатый человек, Безруков должен был думать об устройстве семейного гнезда, а Театр им. Вл. Маяковского не мог помочь ему с пропиской. Это было под силу лишь монументальному МХАТу, и он принял приглашение Б.Н. Ливанова. Супружескую чету прописали в Москве, выделили отдельную комнату рядом с Центральным телеграфом — и тут же завалили молодого актера работой. Он пропадал в театре с утра до глубокой ночи, поскольку у руководства были на него большие творческие виды.
Однако его жена не разделяла общего восторга. Она оказалась невостребованной, и успехи мужа вызывали у нее приступы болезненной ревности. Через год Безруков под ее нажимом был вынужден перейти из МХАТа в Театр им. А.С. Пушкина, к Борису Равенских, который якобы выразил желание видеть его супругу актрисой своей труппы. Она не знала о мужском разговоре тет-а-тет, состоявшемся в кабинете главного режиссера накануне. «Она мне не нужна. Мне нужен ты, — откровенно сказал Безрукову Равенских. Хочешь сыграть у меня Есенина?» Против такого предложения Виталий Безруков устоять не смог…
А с однокурсницей они все-таки развелись. И он сделал из своего печального семейного опыта жесткий вывод: «У актера не может быть жены-актрисы! Если она талантлива, она не жена. Если бездарна, то превращается в балласт. Слава Богу, что расстались без детей…»
Второй раз он женился уже по всем стародавним правилам с родительскими смотринами, сватовством, многолюдной деревенской свадьбой. И «Тата, девочка с испуганными глазами олененка», не подвела: подарила ему и самоотверженную любовь, и сына, которым сегодня он так гордится. Она создала ему Дом. Именно в семье Виталий Безруков черпал вдохновение и силы даже в самые черные свои дни. И дело было не только в волшебных пирогах, жюльенах и прочих вкусностях, на которые Наталья Михайловна большая мастерица. Просто с ее появлением в семейной жизни Безрукова возникла атмосфера тепла, понимания и нежной заботы.
Однако актерскую карьеру первая неудачная женитьба сильно притормозила. Пять лет он отказывался от предложений в кино, потому что не мог ссориться с театральным начальством: из страха, что жене откажут от места. Кино обиделось, что актер Безруков не хочет отвечать ему взаимностью, и забыло о нем. Конечно, судьба отчасти компенсировала горечь упущенных возможностей: бесстрашно и дерзко он сыграл Павку Корчагина в знаменитом спектакле Равенских «Драматическая песня», произвел настоящий фурор после трагической роли Карла Моора (на Международном фестивале шиллеровской драматургии в Мангейме Виталий Безруков получил за эту роль первую премию, критика долго удивлялась, как актеру удается создавать образ классической строгости, не впадая ни в ложный пафос, ни в пошлый мелодраматизм, ну а обыкновенная публика, не вдаваясь в театроведческие тонкости, просто ломилась в Пушкинский театр — на «Разбойниках» действительно яблоку было негде упасть). Поклонницы караулили симпатичного премьера у служебного входа, забрасывали цветами и письмами. Даже его мечта о роли Есенина осуществилась. Правда, Равенских спектакль так и не поставил, но молодой композитор Вячеслав Агафонников совместно с режиссером В.Ю. Серковым сняли на ЦТ двухсерийный фильм-оперу «Анна Снегина». Спору нет, в творческой биографии Виталия Безрукова были роли, достойные его таланта. Но разве этой малости достаточно для мастера подобного масштаба?
Мешал еще и характер. С одной стороны, поразительная способность овладевать максимальным количеством жизненного пространства, крепкая крестьянская хватка («В деревне крестьянин должен был уметь все; пахать, сеять, столярить, плотничать, портняжить. Все он должен был уметь, чтобы выжить на этой земле».); с другой, как оборотная сторона медали, невероятная независимость («Спина у меня не гнулась ни перед кем никогда!»). Он ссорился с режиссерами и с размаха рубил правду-матку. После очередного конфликта был вынужден оставить Театр им. А.С. Пушкина, а в Театре сатиры, сыграв главных героев в спектаклях «Гнездо глухаря» и «Бешеные деньги», очень скоро перестал получать крупные роли…
Многие считают, что успех сына явился для Виталия Безрукова поздней сатисфакцией. Мол, он — месть отца за то, что в свое время его самого не оценили, как должно. Но ведь месть — понятие злое и кровожадное, а искусство Безрукова-младшего светло, феерично и солнечно, какая же это месть?..
Неклассический вундеркинд
Видимая легкость и кажущееся отсутствие пота в том, что Сергей Безруков делает на сцене, в кино и на телевидении, с одной стороны, являются несомненными признакам и истинного таланта, но с другой, создают иллюзию, что ему все дается само собой и без малейших усилий. «Баловень судьбы», «золотой мальчик», «везунчик» — эти определения постоянно возникают в беседах с ним и о нем. Поначалу Сергей честно пытался объяснить, что просто так ему с неба ничего не падает, что он вкалывает, как вкалывают все, прошедшие школу Табакова, подразумевающего под мастерством ежедневный и напряженный труд. Но его не слышали (или не хотели слышать), предпочитая милую русскому менталитету сказку о Емеле, который пальцем о палец не ударил, однако получил все, что хотел, «по щучьему веленью».
К счастью, Безруков — не Емеля, ибо реальная жизнь — не сказка, а актерская профессия — вещь довольно жестокая. Когда в 1995 году он одновременно репетировал две главные роли в спектаклях «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» и «Псих», то от перегрузок порой терял голос. В период подготовки к спектаклю «Признания авантюриста Феликса Круля» спал всего 3–4 часа в сутки, ночами напролет просиживая над инсценировкой И. Савельева романа Томаса Манна — переписывал, подгонял ее под свой «размер». Мучительной была и работа над образом Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Роль долго ускользала от него, пока в процесс репетиций не вмешался Безруков — старший…
— Я счастлив, что рядом со мной батя, — говорил Сергей весной 1998 года. — Табаков не так уж часто отсматривает старые спектакли, а батя ходит практически на все. Порой его подсказки бывают очень парадоксальны, но всегда совершенно по-новому помогают ощутить себя в роли.
Ты должен постоянно утверждать себя в профессии, расслабляться нельзя. Нельзя идти на поводу у публики.
К слову, только что закончился спектакль «Последние», и Олег Табаков шутливо возмущался где-то за кулисами: «Все: или Безруков, или я! Поклонницы даже дрянного цветочка мастеру не дали!». Сергей этого словно не слышал.
— Актеру обязательно время от времени нужно смотреть на роль критическим взглядом и «чиститься», — продолжал он. — От собственных штампов, от ненужных «примочек». Нельзя терять чувство неуспокоенности. Искусство не прощает.
Выбор цели
Сегодня лауреат Государственной премии России Сергей Безруков любит вспоминать свой первый сценический выход, случившийся, когда ему было всего пять лет от роду. Отец взял его с собой в Театр им. А.С. Пушкина на спектакль «Аленький цветочек», где играл главную мужскую роль. Объяснив сыну, как пройти в зрительскую ложу, он пошел гримироваться, а маленький Сережа, оставшись один, заблудился. Прозвенел третий звонок, а он все еще плутал в темноте. Неожиданно впереди загорелся яркий свет, обрадованный мальчик пошел на него и… вышел прямо на сцену, где уже началось действие. Актеры попытались спасти положение. «Ванюшка, ты что тут делаешь? Тебя отец по всей деревне ищет», — сказали ему. «Он мне велел идти в первую ложу, а я заблудился», — откровенно признался Сережа. В зале сначала засмеялись, потом захлопали. Испуганный помреж за руку увел малыша за кулисы. Так состоялось «боевое крещение» будущего актера…
Однако, справедливости ради, надо признать, что Виталий Сергеевич поначалу вовсе не собирался готовить сына «в артисты». Сполна хлебнув горечи разочарований (Актер ведь не ради эпизодов идет в театр, только ханжи говорят, что слава им не нужна».), он откровенно опасался, что Сережа захочет пойти по его стопам. Подспудно он, конечно, понимал, что этого, скорее всего, не избежать, но события не форсировал. Ждал, когда сын вырастет, и внимательно к нему присматривался.
Другое дело, что атмосфера театра постоянно присутствовала в семье Безруковых. Среди прочих впечатлений мальчишеской жизни, наверное, достаточно ярко выделялась первая встреча с Анатолием Папановым, «живым волком из мультфильма». Он увидел его за кулисами Театра сатиры. «Здравствуй, Сережа!» сказал Папанов, а он заплакал от страха и спрятался за отца. И хотя Сережа, по общим воспоминаниям, был абсолютно нетипичным актерским ребенком — скромным и застенчивым, детство, проведенное под разговоры в гримерках и гостиничных номерах (отец неизменно возил его с собой во все гастрольные поездки), как бы и не оставляло ему иного выбора.
Впрочем, он увлекался многим. Пел, танцевал, рисовал, играл на гитаре, сочинял стихи. Первый домашний спектакль, где восьмилетний Сережа исполнил роль Звездочета из «Двенадцати месяцев», был лишь одним из эпизодов в его разносторонних интересах, не более. «Хочу быть актером!» — он произнес лишь в 7 классе…
Когда критики с первых же профессиональных шагов Сергея Безрукова заговорили об отточенности его актерской техники, внезапности переходов и блеске игры, которые сделали бы честь любому зрелому мастеру, они не знали, что его действительный сценический стаж исчисляется с 14-летнего возраста. А главное, с каким требовательным учителем он имел дело все эти годы.
Отец начал с того, что без прикрас обрисовал все «за» и «против» актерской профессии:
— Видишь, с чего я начинал и к чему пришел?
— Все равно хочу.
— Тогда держись. Ты должен будешь научиться делать Все!
Не терпящий дилетантства Виталий Сергеевич воспитывал сына, по его собственному выражению, «на чистом сливочном масле». Он сделал в его школе две постановки — «Ромео и Джульетта» и «Мой бедный Марат», к которым сам изготовил декорации и в которых сам играл (профессиональный актер вместе с детьми!). Строгий режиссер во всем добивался правдоподобия: костюмы в школьных спектаклях точно соответствовали эпохе, парики были взяты в театральной мастерской, в печке-буржуйке потрескивал настоящий огонь… Однако более всего он требовал от юных актеров максимальной отдачи чувствам своих героев — не игры, но проживания.
— Не буду кривить душой, — признавался Виталий Сергеевич в 1996 году, — я уже не такой романтик в профессии. И сыну пытался привить реальное восприятие дела и своего пребывания в нем.
Он очень рано привил Сереже ответственное отношение к ремеслу и собственному дару. «Университеты», которые младший Безруков проходил под руководством Безрукова-старшего, отличались творческой бескомпромиссностью, профессионализм здесь понимался как категория нравственная («Иначе человек просто не имеет права выходить на сцену!»). Табаков, исповедующий культ мастерства, лишь довершил начатое отцом. Недаром после триумфа своего ученика в роли Есенина на очередное восторженное восклицание: «Какого актера вы воспитали!» — Олег Павлович обмолвился: «Там все было сделано до меня…»
«Божественный поцелуй»
Надо полагать, необычайно раннюю «профориентацию» юного Безрукова Табаков почувствовал сразу. Опытнейший педагог, он сам еще в 80-е годы настаивал на необходимости создания системы специализированных театральных школ для особо одаренных детей по аналогии с физико-математическими, спортивными, хореографическими. Затянувшийся экономический кризис отодвинул глобальные образовательные реформы в туманное будущее, но в данном частном случае Безруков-старший на практике осуществил то, о чем знаменитому мэтру оставалось только мечтать.
На вступительных экзаменах в Школу-студии МХАТ Сергей читал Зощенко, Шаламова и Есенина. Все, до последнего жеста, здесь было сделано вместе с отцом и даже прошло «обкатку» на публике: по традиции приехав летом в Лысково, Безруковы устроили для жителей провинциального городка настоящий концерт…
— Обычно вот в этот важный отрезок времени — от 17 до 27 — с невероятной интенсивностью живут и трудятся милые моему сердцу лобастые мальчики из провинции. Я сам провинциал из Саратова, я знаю, говорил Олег Павлович Табаков весной 1998 года, когда я спросила его о Безрукове, — а Сережа был московский мальчик из благополучной актерской семьи. Но, видимо, везде встречается «пересортица». Иногда мне даже казалось, что он тратится больше, чем нужно.
Услышать такое из уст Табакова, который не устает повторять, что настоящий актер обязан выдерживать самые жесткие нагрузки и при этом находиться в отличной форме, Табакова, который заставляет своих учеников трудиться, в полном смысле слова, на пределе человеческих возможностей… Это как же нужно работать?!
Олег Павлович не скрывает, что готовит не актеров «вообще», для кого-то и для чего-то, но с вполне конкретной целью — для себя, для «Табакерки», потому и высший критерий его оценки — захочет ли он сам как профессионал встретиться со своим выпускником на сцене. Отсюда одно из самых главных требований Табакова-учителя: современный артист — это не просто безупречное мастерство, но стремление разрушать стереотипы, поиск и мужество в освоении поставленных задач. Чтобы воспитать в учениках волю и сопротивляемость неудачам, два-три раза в год он заставляет их показывать работы, подготовленные без участия педагогов. Смысл этих самостоятельных показов еще и в том, чтобы расширить представление о возможностях каждого студента. Всего за время обучения будущий актер должен подготовить около 12 подобных отрывков. Сергей Безруков подготовил и сыграл 30 (а также успел сняться в главной роли в фильме «Ноктюрн для барабана и мотоцикла», получив за нее приз на кинофестивале «Созвездие», и дважды стать лауреатом Всероссийского конкурса чтецов им. В.Н. Яхонтова).
В домашней видеотеке Безруковых хранятся записи некоторых его студенческих работ. Они производят сильное впечатление. Как писала Анна Вислова в книге «Андрей Миронов» (издательство «Феникс», 1998 год), Мария Владимировна Миронова, придя на выпускной экзамен, где играл ее сын, «не увидела, что его поцеловал Бог». В юном Сереже Безрукове «божественный поцелуй» отчетливо просматривается уже на первом курсе. Да, он еще чуть скован, ему не особенно удаются лирические монологи, его сценическое существование порой грешит излишней театральностью, но в нем уже светится то неуловимое и завораживающее нечто, что принято называть талантом. Особенно ярко этот огонь вспыхивает, когда ангелоподобное 17-летнее создание играет комедию, заставляя зрителей, в буквальном смысле слова, складываться от смеха. В стенах Школы-студии как легенду вспоминают показ Безруковым трилогии по рассказам Чехова («Канитель», «Хирургия», Ведьма»). Говорят, что старейшина критического цеха Виталий Яковлевич Виленкин так смеялся, что упал со стула. И будто бы Табаков крикнул сквозь слезы: «Сережа, подожди, Виленкина поднимем!..»
В первый же год он остроумно использовал и свои пародийные способности, причем замахнулся на святое: роль Расплюева в отрывке из «Свадьбы Кречинского» целиком построена на узнаваемых интонациях Олега Павловича. Если закрыть глаза, создается полная иллюзия, что на сцене — сам Табаков.
Сложнее складывались взаимоотношения с драмой и трагедией. С Достоевским, Шекспиром, Островским. Он был слишком юн, наивен и неопытен, жизнь была к нему благосклонна, да и отец берег свое возлюбленное чадо пуще глазу («После занятий я старался встречать его у метро, чтобы не травмировали. Сейчас на машине вожу, а тогда — на велосипеде».). Сергей излучал радость, и, естественно, нелепые и смешные характеры удавались ему лучше, нежели лирико-романтические. Он с наслаждением выделывал всевозможные трюки, самозабвенно купаясь в стихии комического и рассыпаясь феерическими искрами. Но Табаков и Безруков-старший были достаточно мудры и опытны, чтобы разглядеть за этим каскадом клокочущего оптимизма напряженность духовных исканий — главную составляющую трагического героя. С их подачи он сделал на первом курсе отрывки из «Идиота», «Гамлета», «Гнезда глухаря».
Видеокамера зафиксировала: в 17 лет его драматическое естество было еще совсем незрелым, но что-то в этих отрывках цепляет. Что-то помимо обаяния молодости, пластического изящества и открытого темперамента. Это «что-то» рождает странную, щемящую тревогу: «из-под кожи сочится душа»…
А ведь был еще и голос — глубокий, мягкий, обволакивающий. Его особый, певучий рисунок гипнотизировал и заставлял слушать. В нем словно сосредоточился дар сердечного сочувствия (на мой взгляд, это вообще основное свойство актерской природы Сергея Безрукова). Не сочувствия-жалости, но сопереживания, приятия на себя чужой боли и чужой судьбы. На ту пору голос являлся, пожалуй, самым мощным средством его актерского самовыражения.
Вместе с отцом они готовят рассказ Куприна «собачье счастье», с которым первокурсник Безруков едет в Ленинград на конкурс чтецов им. В.Н. Яхонтова…
— Вышел мальчик и — потряс всех. Абсолютной свободой, невероятной искренностью, неожиданным мастерством. Даже двух мнений быть не могло: конечно, он лучший.
Такой запомнил свою первую встречу с Сергеем председатель конкурсного жюри Владимир Алексеевич Андреев. (Пройдет еще четыре года, и он вспомнит о молодом Безрукове, когда Театр им. М.Н. Ермоловой будет искать исполнителя на роль Есенина в спектакль «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»).
Профессиональное мастерство студента Сергея Безрукова росло словно на дрожжах, раскрываясь все новыми и новыми гранями. На четвертом курсе, когда вовсю шли репетиции дипломных спектаклей («Крыша» А. Галина и «Билокси Блюз» Н. Саймона), в нем неожиданно прорвались недюжинные задатки серьезного драматического режиссера, несколько ошеломившие педагогов. Даже Табаков растерялся: «Ты хочешь заниматься режиссурой?». Нет, он хотел быть актером, но… Но в нервной предвыпускной суете почему-то нашел время, чтобы поставить камерный спектакль на троих, выбрав для этого странную, абсолютно не бытовую, построенную на метафорах пьесу С. Мрожека «Летний день»…
«Мы больше привыкли к вундеркиндам в классических видах искусства: музыке, балете, даже поэзии. А драматическая сцена — дело запутанное, здесь, как правило, выигрывает тот, кто переступил уже черту определенного возраста и жизненного опыта. Поэтому явление молодого серьезного покоряющего таланта на театре — случай чрезвычайно редкий. Так было, наверное, когда-то с Табаковым. Это же происходит сейчас с его учеником Сергеем Безруковым», — напишет позже газета «Известия».
Он спешил взять творческую высоту не с разбега, а сразу, даже собственную молодость используя как одну из актерских красок, «требующий быстрой реализации капитал».
Головокружительная высота
Бойкие журналисты (в отличие от дотошных критиков) долго пытались подогнать Безрукова под попсовый стандарт улыбчивого мальчика-обаяшки, эдакого лубочного идола массовой культуры. Беззаботного и самоуверенного, как мотылек. Почитать их, не Безруков, а солист группы «На-На»! Спрашивается: как такой умудрился сыграть гениального русского поэта Сергея Есенина? Да еще так, что даже старшие коллеги не могли скрыть восхищения, молодому артисту дали Госпремию, а зрители на спектакле «Жизнь моя…» каждый раз не стыдятся собственных слез…
Чем дальше, тем очевиднее становилось, что Сергей Безруков — актер не просто очень талантливый. Он актер умный. Это редкость, и это важно. Гораздо чаще встречаются актеры интуитивные. Они тонко чувствуют форму и безошибочно попадают в стиль того, что играют. Они темпераментны и заразительны. Для большого мастера интуитивные актеры — материал почти идеальный. Мастер может слепить из них что угодно, и они не подкачают. Но вот без крепкой режиссерской руки, увы…
Безруков не растеряется и в отсутствие мастера. Если подвела пьеса или режиссер попался не ахти какой замечательный, он сделает все сам: и текст допишет, и роль выстроит. А главное, он не устает созидать самое себя.
— Вы утверждаете себя в искусстве или искусство в себе?
— Если утверждать себя, то очень скоро начнешь обожать собственное отражение в зеркале. Нет, я все-таки утверждаю искусство в себе, хочу быть профессионалом. Хотя и себя — тоже. В среде театральных критиков. Чтобы ко мне — как к профессионалу — было уважение.
Первые годы после Школы — студии он не чурался никакой работы: эпизоды в спектаклях «Табакерки», закадровое существование в телевизионных «Куклах», театральные и кинокапустники. Он пробовал, он искал себя. В декабре 1997-го года, уже будучи лауреатом Государственной премии, принял участие в Конкурсе актерской песни им. Андрея Миронова. Знакомая московская журналистка, побывавшая на гала-концерте, потом изрекла снисходительно: «Безруков, надо сказать, имел довольно бледный вид». Эти слова примечательны. В современном искусстве все больше ценится эпатаж, скандальность, провокационное прочтение классики, вызывающий «перфоманс». (На том конкурсе, кстати, победил актер, сотворивший черт знает что из дивной народной песни «Окрасился месяц багрянцем».) Безруков же тяготеет к традиционному психологическому театру, внешне зачастую совсем не броскому, зато внутренне… «Он обнаруживает редкий талант максимального сценического присутствия», — заметил однажды журнал «Bazaar». Видимо, разные есть представления о соотношении антуража и актерской наполненности. Другое дело, что на конкурсах обычно заметнее те, кому по тем или иным причинам не удается реализовать себя в театре, и их распирает творческая потенция. Вполне естественно, что на разного рода шоу они в один-единственный номер вкладывают энергетический заряд такой силы, что его, как минимум, хватило бы на моноспектакль длинною в полтора часа. Для них это шанс заявить миру: «Я есть! Я могу!». Сергея Безрукова театральная Москва в 1997 году знала уже очень хорошо. И на сцену Театра сатиры он вышел не ради самоутверждения, но чтобы отдать дань памяти великому артисту Андрею Александровичу Миронову. Да, непритязательная песенка «Оружьем на солнце сверкая» в его исполнении была напрочь лишена какого бы то ни было эпатажа, но «гусарский дух» и искрящаяся радость таланта самым недвусмысленным образом перекликались с характером того, чье имя носило все это действо. И кого публика тоже любила отнюдь не за самодавлеющие эксперименты в области «новых форм»…
Юноши на грани нервного срыва
Конечно, в отличие от многих и многих, Безрукову невероятно, сказочно повезло. Он сам был чертовски талантлив — раз. Он имел Мастера — два. Мастер оказался не просто потрясающим педагогом, но и художественным руководителем собственного театра — три. Наконец, театр был одним из самых «модных» в Москве, и внутри него постоянно бурлила творческая буча, боевая-кипучая.
Табаков взял его в труппу еще студентом, и поначалу Сергей играл роли, перешедшие к нему «по наследству» от Евгения Миронова. Как писал все тот же «Bazaar», «чистых, чувствительных, художественно одаренных юношей, балансирующих на грани нервного срыва». Первые, поставленные специально на него роли в «Последних» и «Психе» не выходили за рамки этого амплуа. Хотя в «Психе» уже наметился прорыв в иную плоскость, так сказать, исчерченную лихорадочными зигзагами современность. Но все же безруковских героев никак не назовешь отражением нашего времени. Наоборот, они в это самое время категорически не вписываются. Слишком тонкая кожа. Слишком ранимая, доверчивая душа. Слишком безоглядная открытость миру.
Вот Давид Шварц в «Матросской тишине» предает отца. Из страха за карьеру и личное благополучие (что, увы, типично, если на дворе — 1937 год). Казалось бы, налицо непосредственное соприкосновение с трезвой расчетливостью и цинизмом сегодняшнего дня. Но взрыв отчаяния, бурные слезы, эмоциональный шок, едва за стариком-отцом закрылась дверь, — это уже отсылка к «русским мальчикам» Достоевского. У современных мальчиков отношение к подлости будничнее и спокойнее. А от истерики Безрукова-Шварца становится не по себе. В ней сквозит страшное предчувствие: искупить вину ему уже не удастся. Не успеет.
Вот нежный гимназист Петя, почти ребенок (спектакль «Последние»), исполненный высоких помыслов и благородных мечтаний, истово допытывается правды. И в этой истовости пронзительная обреченность. Его «гран-канкан» в финале есть самое страшное свидетельство краха семьи Коломийцевых, ибо видеть «срам отца своего» — непосильное испытание для любого человека, а для такого юного и тонкокожего тем более. Кривая усмешка, полная горечи, беспомощности перед судьбой и опустошенности — все, жизнь погублена, только и осталось, что танцевать в «трагическом балагане». Это не частный случай, это — явление. Так написано у М. Горького, и так играет Безруков.
Он вообще замечательно чувствует драматургию, в которую погружается. Бывает, что даже лучше самого режиссера, берущегося ее ставить. Так случилось, например, в телеверсии «Последних» («Умирает душа», РТР), где В.Загоруйко настолько увлекся собственным самовыражением «на фоне Горького», что все драматические коллизии пьесы: нравственно или не нравственно служить дворянину в полиции, можно ли бить заключенных, нужно ли держать слово, за которым стоит человеческая жизнь — отдал на откуп актерам. Они же с этой задачей справляются по-разному. Одни с энтузиазмом окунаются в агрессивную стихию брутальности, другие упиваются самодостаточными соло (говорят, В.Гафт на репетициях хватает таких партнеров за грудки с грозным воплем: «Ты общаться будешь?!»)… Как итог, сокровенный рассказ о распаде семьи (а все лучшие горьковские пьесы именно об этом) получился надрывно мелодраматичным и насквозь фальшивым, потому что как раз семьи-то на экране и нет. Только отец и сын Безруковы (они заняты в ролях Якова и Петра) привносят в отношения дяди и племянника ту сердечную теплоту, которая безошибочно позволяет выделить родных людей в самой разношерстной толпе. И, конечно, Безруков-младший с каким-то немыслимым самосожжением (иначе не умеет) проживает трагедию «поскребышей», последних в роду Коломийцевых…
Кстати, телевизионный фильм был снят раньше, и когда А. Шапиро, к которому О. Табаков обратился с просьбой поставить «Последних», узнал, что Сергей это уже играл, он поначалу хотел взять другого исполнителя. Из боязни, что актер «потащит» за собой в его спектакль чужие режиссерские наслоения. К счастью, потом передумал. За роль Петра в спектакле А. Шапиро Безруков был удостоен премии СТД на первом фестивале «Московские дебюты», сразу став заметной фигурой среди молодых актеров. О нем заговорили коллеги, зрители, критики.
«В своих спектаклях Безруков накидывается на зал, захватывая его азартом игры и внезапностью переходов. По отточенности и легкости актерской техники он, безусловно, превосходит большинство своих ровесников. Невозможно не любоваться законченностью и эффектом жеста, которым он запахивает полу сюртука в «Последних», или же когда в «Матросской тишине», артистически сложив на груди руки и слегка откинув голову, он С мягкой пластикой тенора опирается на дверной косяк, пробуждая ассоциации с 30-ми годами», — писал после фестиваля «Московские дебюты» М. Ратгауз.
Заявка была сделана, и театралы в нетерпеливом ожидании повернули головы в его сторону: что дальше? Нужна была главная роль в спектакле, поставленном в расчете именно на его, Сергея Безрукова, индивидуальность.
Рождение звезды
Что бы там ни говорили, но обвал прессы, последовавший после «Психа» все-таки во многом спровоцирован отсветом безруковского Есенина, сыгранного одновременно (и даже чуть раньше) с очередными вариациями на тему «Палаты N6». Критику гораздо больше вдохновлял масштаб молодого таланта, способного прожить жизнь гения в полном и абсолютном отрыве от «литературного монтажа» (как успели окрестить спектакль «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»), нежели маргинальный мир отечественной психушки. Однако это была новая работа Театра-студии Олега Табакова. Это была режиссура Андрея Житинкина, снискавшего известность неординарным прочтением запретных и скандальных тем. Это был роман диссидента Александра Минчина, эмигрировавшего в США. И все московские СМИ сочли необходимым откликнуться.
Отклики получились пространными, но сдержанными. Что объяснимо. Тема сумасшедшего дома имеет богатую литературную традицию, в том числе и зарубежную. Увы, автор «Психа» по глубине, многоплановости, по захватывающему дух вселенскому трагизму явно уступает не только А. Чехову и Н. Гоголю, но и фильму М. Формана, и В. Ерофееву с его знаменитой «Вальпургиевой ночью». Если текст А. Минчина с набором прописных истин превратился на сцене «Табакерки» в человечную, до боли трогательную историю, то это заслуга исключительно режиссера и исполнителей. Все человеческие черты персонажей идут от актеров, в драматургическом материале их нет.
Согласитесь, перспектива провести два часа в удушающей атмосфере безумия сама по себе вряд ли способна вызвать зрительский энтузиазм. Необходим особо притягательный манок в виде звездного актерского имени, чтобы публика пожелала вступить на зыбкую грань между тем и этим светом, став свидетельницей путешествия героя по «мрачным безднам». На «Последнюю ночь последнего царя» и «Ван Гога» идут, чтобы увидеть Евгения Миронова. «Псих» стал театральным бестселлером только потому, что его беспроглядную темень озаряет свет и обаяние Сергея Безрукова. И в этом смысле критики были единодушны: «В «Психе» Житинкин открыл новую театральную звезду» (газета «Московская правда»), «Все-таки это самый солнечный актер «Табакерки» (газета «Известия»), «Он может стать одним из лидеров молодого театрального поколения» (газета «Вечерний клуб»).
Собственно, Безруков играет здесь то же, что и в «Последних» гибель души, грубо растоптанной окружающими. А то, что его герой писатель, добровольно отправляющийся в дурдом, чтобы собрать материал и досконально изучить эту сферу, есть не более, чем фабула, хитрый ход, позволяющий напомнить: человеческая психика хрупка, тонка и уязвима, душа — взыскует понимания и любви.
Может быть, самая пронзительная сцена спектакля — эпизод прихода в клинику равнодушных, отбывающих некую повинность («так положено») родственников. Словно незримая стена разделяет их и Александра, и напрасно он пытается пробиться сквозь эту преграду со своим страданием, подавленностью, страхом. Их сердца глухи. Стена пружинит. Слезная жалоба падает в пустоту. Что после этого жестокость чужих?
Известна мысль, что творчество, если оно дело жизни, в этом своем качестве бывает спасительно. Художник носит в себе свои муки, сомнения, привязанности, и если ему удается переплавить все это в искусство, он таким образом освобождается — сотворив. Герою Безрукова интенсивность переживаний оказывается не по силам, он выходит из передряг утерявшим всякий интерес и волю не только к творчеству, но и к самой жизни. Его душа из этого безумного мира уже отлетела, осталась пустая формальность, которую он и выполняет, обмотав шею ламповым шнуром…
Говорят, сам автор, специально прибывший на премьеру, был взволнован до сердечной боли. А уж публика-то…
Но только ли свет и безграничное обаяние, удивительным образом передающиеся от актера к персонажу, заставляют зрителей с напряженным вниманием следить за злоключениями Александра? Тем более, что этот внутренний свет постепенно меркнет, и герой физически меняется прямо на наших глазах: из веселого, полного жизненных сил мальчика превращается в несчастное, загнанное существо — заикающееся, перепуганное, нервно-возбужденное. Все это происходит помимо текста (кроме плакатного обвинения системы у А. Минчина там вообще мало что есть) и сценического действия, вынужденного, как ни крути, следовать за драматургией. Это уже сам Безруков играет нечто большее, наполняя и текст, и жесткую конструкцию постановки сумасшедшей энергетикой, делающей заразительным даже то, что при другом раскладе было бы откровенно скучным. Дар глубокого сердечного сочувствия, которым он наделен, похоже, способен растрогать и гранитную глыбу, не то что живых людей. Конечно, пронзительная нежность ко всему и вся есть в человеческой природе самого Сережи Безрукова, но для его творчества важно, что это еще и свойство характера художника.
Наш народ — несчастный народ. С момента прихода советской власти он на долгие годы был обделен добротой. К нему относились по-разному: снисходительно, презрительно, его называли «быдлом»… Но с ним никогда не обращались по-доброму. Вероятно, поэтому в России, как ни в какой другой стране, зрителям важно не просто получить удовольствие от спектакля, но еще и полюбить актера. Да так, чтобы потянуться к нему, как к солнышку, согреться и оттаять сердцем в его лучах. Понятно, что подобные актеры — явление штучное и нечастое. Оттого каждый раз сенсация. Именно такой сенсацией стал Сергей Безруков в довольно посредственной пьесе «Псих».
Что до обязательных рассуждений о политических аллюзиях, возникающих в связи с «Психом» (равно, как и с «Последними»), они, на мой взгляд, мало соотносятся с театром как искусством «жизни человеческого духа». Социальные реалии меняются, а конфликт личности и режима (какого бы то ни было!) остается. Ибо «нормальное» большинство везде и во все времена стремится расправиться с инакомыслящими с тупой жестокостью палача. Вот это уже — категория метафизическая, философская, вечная. И, увы, актуальная при любом раскладе политических сил.
Есенин — это не роль. Это моя душа
Хорошо, что до Есенина я успела посмотреть Сергея Безрукова в других спектаклях. Не потому, что настолько наивна, чтобы идентифицировать актера с его героем (а Сережа рассказывал, как молодые журналисты, приходившие к нему за интервью, вдруг ловили себя на том, что приготовили вопросы не Безрукову, а Есенину!), но потому, что иначе не смогла бы оценить всей глубины и мощи его таланта. В конце концов, бывают счастливые совпадения, когда индивидуальность артиста накладывается на сценический образ столь плотно, что зазоров не видно. Но только после этого он в своей творческой жизни ничего стоящего совершить уже не может, навсегда оставаясь актером одной роли. Про Безрукова я уже знала: как бы ни был достоверен его Есенин, это не единственное, на что он способен. Хотя, спору нет, именно в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» состоялась главная роль его судьбы.
Почему главная? Во-первых, по произведенному эффекту. Десять «Психов» вместе взятых были бы не в состоянии вызвать такую лавину бешеных восторгов и взрыв мгновенной популярности, какие выпали на долю Безрукова после премьеры спектакля ермоловцев. В наше нетеатральное время это уже само по себе событие. Новые «звезды» театрального горизонта нынче зажигаются без лишнего шума, довольно тихо, и свет их доступен лишь немногим посвященным. А слух о том, что какой-то молодой человек на сцене Театра им. М.Н. Ермоловой гениально играет Есенина, в первые же два-три месяца докатился от Москвы аж до самых провинциальных окраин. Столь сильной оказалась волна, поднятая центральной прессой.
Во-вторых, глубинное (то есть духовно-энергетическое) родство актера и великого русского поэта безусловно, оно, что называется, бросается в глаза, и потому роль Есенина для Безрукова, конечно же, исповедальна. Как никакая другая. Неудивительно, что все, писавшие о спектакле, не смогли удержаться от мистических оговорок, типа: «иначе как чудом нельзя назвать это поистине «воскрешение» поэта» (газета «Московская правда»). Да и сам актер в пылу рассуждений об этой работе не раз и не два проговаривался: «Это не роль. Это моя душа».
Воплотить на театре образ реального гения — задача архинеблагодарная. Существует стойкое (и, надо признать, небезосновательное) убеждение, что все биографические пьесы на эту тему заведомо провальны. Исключения вроде Михаила Булгакова, которому удалось передать гений Пушкина, лишь подтверждают правило. Да и то, как писала Ирина Алпатова, цена тому — поэт ни разу не появляется на подмостках. Есенин Сергея Безрукова сцену практически не покидает. Результат?
«На российской сцене впервые за много лет появился живой Есенин». (Журнал «Театральная жизнь»).
«Трудно представить себе еще одного актера, который при обладании в 22 года прекрасной выучкой и техникой, вкусом и чувством меры, мог бы так внутренне совпадать с Сергеем Есениным». (Профессор ВГИКа Вадим Михалев).
«Перед нами Есенин? Не знаем. Но этот актер имеет право на собственное видение поэта и его судьбы. Право это даёт талант, дар исполнительства, нервная загадочность собственного внутреннего мира». (Газета «Культура»).
«Поразительно, неправдоподобно похож. Чувствуется, что у Безрукова с Есениным свои особые «отношения». Он что-то знает о нарочитой простоте сложного, о показной грубости, под которой скрывается нежность, об игре в тщеславие вечно сомневающегося в себе человека». (Газета «Известия»).
«Он производит какое-то ошеломляющее впечатление». (Народная артистка СССР Вера Васильева).
«Подозреваю, что сначала Безруков получил приглашение благодаря своей типажности — внешне он, действительно, ни дать, ни взять — Есенин. Лишь потом открылось, насколько это сильный актер. Он читает есенинские стихи так, будто они являются продолжением спектакля. Это не вставные номера, а продолжение развития образа. Я уже не говорю о том, что Безруков специально научился игре на гармони и играет (очень симпатично) припевки и страдания. И хорошо поет при этом!» (Народный артист России, композитор Юрий Саульский).
Сергей Безруков действительно словно создан для роли Есенина. И дело не только, как единодушно отмечают все, в фантастическом внешнем сходстве актера с поэтом. И не только в его профессиональной дотошности, позволяющей «один в один» копировать есенинскую пластику, тембр голоса, привычку взъерошивать непослушные золотые кудри или манеру читать стихи — то раскатывая звук и почти пропевая сонорные согласные, то с надрывом и рвущимся наружу драматизмом в самых, казалось бы, лирических местах. Безусловно, это признак зрелого мастерства и достойно всяческого восхищения, но с безруковским талантом голосовой имитации этому довольно легко научиться по сохранившимся фондовым записям. Тем более, что монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев» в авторском исполнении на пластинке будущий актер впервые услышал еще в детстве. А вот внутреннему свету, печально-смиренной нежности, трагической открытости всем ветрам, наконец, безжалостному самосожжению как следствию запредельности устремлений — всему этому научиться нельзя. С этим нужно родиться.
Первым внутреннее родство творческой природы Сергея Безрукова с природой есенинского таланта почувствовал его отец. Он же точно угадал время и готовность сына к этой судьбоносной для него роли.
Помню, меня несказанно удивило, когда в беседе после спектакля «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Сережа признался:
— Приближалось 100-летие со дня рождения Есенина…
Я ждал, что вот в столетие-то меня и пригласят.
— Вы были в этом уверены?!
— Не то чтобы уверен, но было предчувствие: вот-вот должно свершиться. И я был готов.
Уже позже я узнала, что Виталий Сергеевич Безруков специально для сына сделал инсценировку поэмы «Страна негодяев», назвав ее «Золотая голова на плахе». Накануне есенинского юбилея он предложил свою пьесу сразу в несколько театров, в том числе в Рязанский драматический. Но в Рязани отказали, сославшись на то, что зрители к такому не готовы и такое не поймут. «Бомба нам не нужна», — сказали Безруковым. (Вспоминая об этом, Сергей горько улыбается: «Правильно Сергей Александрович писал: «Не ставьте памятник в Рязани!»). Таганка, по слухам, отвергла «Страну негодяев» из-за ярых коммунистических убеждений ее тогдашнего лидера, а главный режиссер Театра им. А.С. Пушкина Юрий Еремин, подобно многим, тоже не верил в возможность прожить на сцене жизнь гения, реально существовавшего на этой земле. И только Театр им. М.Н. Ермоловой усиленно искал исполнителя на роль Есенина. Искал, но никак не мог найти, пока художественный руководитель труппы Владимир Андреев не позвонил Безруковым: «Виталий Сергеевич, вы даете Сережу только с вашей инсценировкой? Видите ли, мы уже приняли к постановке пьесу Нонны Голиковой, не могли бы вы дать Сережу для нашего спектакля?». «Конечно! — ответил Безруков-старший. — Для меня важно, чтобы Сережа сыграл эту роль, а в чьей пьесе, дело двадцатое».
Пьеса Н. Голиковой, если честно, довольно слаба. Действующих лиц в ней много, а характеры — не прописаны, так, беглые зарисовки, без имен и биографий, обобщенный безликий фон для любви Сергея Есенина и Айседоры Дункан. Режиссура Ф. Веригиной тоже не отличается ни глубиной прочтения, ни прорывами в неизведанное: мизансцены вялы и монотонны, а действие тянется натужно-тяжело, словно груженая телега в гору. Художественное решение А. Мартыновой… впрочем, едва ли можно считать таковым немногочисленную мебель из подбора и два красных полотнища, протянутых вдоль сцены. Если здесь и есть «погружение в эпоху» и намек хоть на какие-то ассоциации, то, вероятно, это Россия 20-х годов, увиденная расширенными от ужаса глазами приемной дочери Айседоры: ах, разруха, ах, голод, ах, дохлые лошади на улицах, ах… Получается уж слишком в лоб.
Но едва появляется Сергей Безруков, начисто забываешь и о несовершенстве драматургии, и о тривиальности режиссуры, и о сценографическом убожестве окружающего пространства, потому что вместе с этим актером на сцену врывается стихия самой жизни. Не стоит даже пытаться переключить свое внимание на Что-то другое, оно безраздельно принадлежит… Есенину?
Актер уже по сути своей профессии живет сразу как бы в нескольких измерениях. В идеале в каждой его роли должно происходить присвоение чужой биографии и чужого времени — биографии и времени персонажа, который он изображает. Но случается это далеко не у всех и далеко не всегда. Вероятно, отсюда ощущение, что в спектакле «Жизнь моя…» у Сергея Безрукова словно другой пульс, другой отсчет времени, чем у партнеров, играющих с ним рядом. Хотя это вовсе не плохие актеры. Но только Безрукову удается соединять на сцене (и в себе самом) время и судьбу героя с сиюминутностью собственного существования, отчего его игра(?) приобретает объем и пугающую «настоящесть»: «Не покидает магия присутствия живого Есенина, здесь, сейчас» (газета «Московская правда»). Особенно поражает, что это происходит и в пятый, и в тридцатый, и в сотый раз — на каждом спектакле. И происходило на репетициях.
Сергей рассказывал, что прежде чем утвердить на роль, художественное руководство ермоловского театра устроило ему смотрины на дому у автора пьесы. И он проиграл последнюю от и до. Но это был уже не тот текст, который написала Н.Голикова. Отец и сын Безруковы тактично ввели в него реальные высказывания поэта, которые остались в мемуарах его современников, продолжили и углубили разговорную речь стихотворной, дали Есенину в руки его любимую тальянку…
— Неважно, что стихотворение «Пускай ты выпита другим», например, в действительности адресовано не Дункан, а совсем другой женщине, — говорил Сергей, вспоминая о первом этапе работы над ролью. — Здесь есть точное эмоциональное попадание. Спектакль в любом случае — собирательный художественный образ. Да, в пьесе не было гармошки. Не было пляски. Но ведь без них Есенина просто не может быть! Гармошку я вообще считаю символом русской души, вот этот ее разворот — нараспашку… Кстати, именно гармошка подсказала мне решение нескольких ключевых сцен.
…Минута нежности и просветления настигает Есенина в трактире. Плевать, что за соседним столиком похабные пьяные рожи, которые только и норовят, как бы побольнее ужалить. «А вот я прочитал немало ваших стишат. Хорошие стишата. Если их собрать вместе, наверное, неплохой альбом для барышень получится». Сволочи, провокаторы. Ну да шут с вами. Зато народ меня поет. Слышите?! Народ поет!!! «Не жалею, не зову, не плачу…».
Он говорит тихо и с болью: «Разве я такой человек, которого надо ненавидеть?». Но подосланное чекистское быдло (подо-о-осланное!) не унимается. Воздух густеет от словесного яда, и хочется рвануть ворот сорочки: «Ну распните, распните меня!». Душно… К ногам поэта, как затравленная собачонка, жмется белоснежный бюст — подарок Коненкова. Бережно и очень ласково он проводит рукой по гипсовой голове: «Эх ты, Божья дудка…».
А дальше следует невыносимое. Есенин берет гармонь и, выпрямившись во весь рост, начинает медленно подбирать мелодию. «Все мы, все мы в этом мире тленны…» То ли чествует себя, то ли отпевает. Горький комок подкатывает к горлу… Так и есть. Из темноты раздается противное, ехидно-елейное, липкое: «Сергей Алекса-а-аныч!».
Это самые мучительные, до сердечных спазмов, мгновения спектакля. Символическое избиение-расправа вершится не просто над Поэтом, но над всем тем, что в человеке — от Бога. А от Бога в человеке — душа. И вот: «Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?!» Слезы застилают глаза, а во взволнованном сознании лихорадочно проносятся гравюры Гюстава Доре: «Молитва Иисуса в саду Гефсиманском», «Поругание Иисуса», «Пригвождение к кресту»… Господи, что это? — в уши врывается… даже не песня, а отчаянный вопль-крик-вызов. Палачам, режиму, пресловутому «нормальному» большинству и этому на крови возводимому «новому миру»:
Что-то солнышко не светит, Над головушкой туман. То ли пуля в сердце метит, То ли близок трибунал. Эх, доля, неволя, Глухая тюрьма! Долина, осина, Могила темна! На заре каркнет ворона, Коммунист взведет курок. В час последний похоронят, Укокошат под шумок. Эх, доля…И — черная, мертвая тишина. Когда снова вспыхнет свет, он озарит лишь одинокую скамейку, а на ней — умолкнувшую гармонь с перекинутым наискосок красным шарфом, подаренным Есенину Айседорой и похожим сейчас на струйку крови, какая обычно сочится из угла разбитого рта. «Гармошку я считаю символом русской души»…
К счастью, Ф. Веригиной достало чутья и такта не мешать Безрукову. Видимо, она сразу поняла, с актером какого уровня имеет дело. Конечно, это редкость, чтобы артист был одновременно и ярко эмоциональной личностью, и интеллектуалом; аналитиком с недюжинными задатками режиссера. Но уж совсем редкость, чтобы эти качества проявились в молодом человеке, которому едва больше двадцати. Когда проходил первый шок от того, что перед ними только что был «живой Есенин», зрители обычно начинали допытываться у исполнителя, откуда у него «эта мудрость и огромный человеческий опыт». Что он мог ответить? «Не знаю, может быть, сцена делает меня мудрее, чем я есть на самом деле».
Но нельзя вытащить из темного ящика то, чего в нем нет: давно признано, что инструменты актера — его собственные тело, ум и душа. Сергей Безруков сложно устроен. За его белозубой улыбкой прячется и трагическое знание об одиночестве таланта среди земной юдоли, и мужество нести свой крест. Просто:
В грозы, в бури, А житейскую стынь, При тяжелых утратах И когда тебе грустно, Казаться улыбчивым и простым — Самое высшее в мире искусство.Кто знает, каким непостижимым образом уживаются в Безрукове, не противореча друг другу, профессионально — рассудочная въедливость, выверенность каждого произнесенного на сцене слова, каждого произведенного жеста — и буквально вулканический артистизм, порожденный не холодным рассудком, но кипящим вдохновением. Очень трудно, почти немыслимо анализировать его Есенина, пытаться разъять на части-винтики… Между тем, с профессиональной точки зрения сценический рисунок этой роли головокружителен. Однако взяться за подробный критический разбор безруковской работы из театроведов пока что не отважился никто. Спасибо, Надежда Малышева попробовала хотя бы описать, где и какие актер расставил эмоциональные акценты. Вот два отрывка из эссе Н. Малышевой «Поэт», опубликованного в восьмом номере журнала «Театральная жизнь» за 1996 год:
«Белокурый пасынок природы, мальчишка, которого попутным ветром «занесло» в поэзию — и ему просто нравится наших душ «безлиственную осень» озарять светом своего гения… Нравится вскочить на стул и оттуда, с «верхотуры» залихватски-дерзко выкрикнуть ветру: «Я такой же, как ты хулиган!» И вдруг — без перехода:
Устал я жить в родном краю, В тоске по гречневым просторам. Покину хижину мою, Уйду бродягою и вором!Совсем иначе, тихо и серьезно. И только временами проглянет такая отчаянная тоска, такое зрелое понимание земной жизни и предчувствие трагической судьбы… Много раз на спектакле с восторгом наблюдаешь эти метаморфозы — перевертыши, словно медленно поворачивают на свету алмаз, и он играет разными цветогранями, являя нам свою подлинность и неподдельность».
И еще:
«В игре Сергея Безрукова четко намечены грани явления, имя которому Противостояние. Поэт и мир. Поэт и общество. Да и в самом поэте существуют два полюса: с одной стороны — неистовство и отчаянная агрессивность, с другой — ранимость и почти ребяческая незащищенность.
…Поражают своей наполненностью «немые сцены» — например, танец пьяного Есенина в ресторане. Его рисунок предельно выразителен, кристально точен в пластическом выражении того, что не скажешь словами. Того, что улавливается только в трагическом изломе рук, в лихорадочно-стремительном вращении, в том, как он, наконец, бросается на колени, уронив голову на грудь…»
Конечно, филигранная актерская техника Сергея Безрукова базируется на прочном фундаменте мхатовских традиций, мастерство восходит к опыту русского театра. Но даже сам актер не в состоянии внятно объяснить, например, то, как в 22 года, не прибегая к гриму, он выглядел на сцене 30-летним. Разумеется, это мелочь, если вспомнить, что вместо заявленной в пьесе нашумевшей, но достаточно локальной love story он умудрился сыграть всю судьбу Поэта (хотя и love story тоже), но все-таки: как? Тайна таланта.
…В 1999 году спектаклю «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» исполнилось четыре года. За это время в нем произошло много изменений. Был, например, краткий период, когда Безруков вдруг начал неоправданно педалировать комические моменты в подсознательном желании повеселить публику, «сорвать аплодисмент». Видимо, прорывалась клокочущая радость его собственного жизненного мироощущения, и требовал выхода невостребованный эксцентрический дар. Однако он очень быстро почувствовал, что его «заносит», и резко притормозил. Сказалось безукоризненное чувство сцены, способность видеть (и корректировать) себя со стороны. И, конечно, оценка самого строгого судьи — отца.
— Никогда в Есенине не было этого… шутовства! — казнился Сергей потом, уже после того, как безжалостно отодрал от «днища» роли все налипшие «ракушки». — Был постоянный внутренний дискомфорт, постоянные трения с кем-то, все не слава Богу… Нельзя, нельзя терять этот нерв!
Он взрослел и мужал. Его Есенин, может быть, утратил некоторое внешнее буйство, зато неожиданнее, и оттого трагичнее и горше, стали его яростные взрывы, пронзительнее — минуты самоуглубленной тишины.
Но менялись и его партнеры. Когда прошел премьерный энтузиазм, они сначала потихоньку, а потом все откровеннее стали скучать и халтурить. Спектакль разваливался на глазах, и нужно было что-то делать.
Сергей испросил у дирекции «добро» на собственное режиссерское вмешательство. Кое-что ему действительно удалось подправить. Спектакль стал короче, в нем появилась динамика, а сцена у имажинистов обрела объем и жизненную глубину. Однако единого дыхания и цельности по-прежнему не возникало. Окружение Сергея Безрукова и Ольги Селезневой (Дункан) продолжало играть небрежно и весьма вольно, а порой и откровенно развязно. Конечно, справедливости ради следует признать, что иногда все-таки случались всплески почти премьерной самоотдачи. Но ради справедливости же надо отметить, что всплески эти были чрезвычайно редки и, как правило, совпадали с наличием в зрительном зале телевизионных камер. На рядовые спектакли куража уже не оставалось.
Безруковы все чаще стали задумываться о новом есенинском проекте, даже провели переговоры с известной балериной-дунканисткой Лилией Сабитовой. Но для реализации творческих мечтаний требовались деньги. И немалые. На сегодняшний день они еще не найдены, и Сергей продолжает выходить на сцену в спектакле ермоловцев, считая, что добровольный отказ от роли с его стороны будет предательством памяти великого поэта.
«Да, я шут!»
После Есенина все, во-первых, ждали, удержит ли Безруков заявленную творческую высоту, во-вторых, вспоминали его старые работы в естественном желании попытаться прочертить вектор его артистического пути и обозначить столь милую критическому сердцу «тему». Чтобы знать, какие вариации на нее последуют в будущем. Олега Меньшикова, например, критика записала в «Печорины нашего времени», Владимира Машкова нарекла «Дон Жуаном», Сергея Маковецкого — «рафинированным интеллигентом». Каждая их новая роль уже рассматривалась в границах раз и навсегда установленного мэйнстрима. Даже если Машков вдруг играл рохлю (как, допустим, в фильме «Американская дочь»), рецензенты все равно старательно выискивали в его герое пусть растяпистое, «совковое», но суперменство. Было решено, что тема Сергея Безрукова — это «эффект прерванного полета». На том основании, что жизненный конец почти всех его персонажей (начиная с Чибиса в фильме «Ноктюрн для барабана и мотоцикла») наступал неожиданно и рано. Тем самым делалась попытка закрепить за Безруковым трагического героя.
Однако творческие возможности артиста были столь явно шире рамок какого бы то ни было амплуа, что даже внутри одной роли характер его сценического существования мог колебаться от пронзительного лиризма до откровенно эксцентрических эскапад. И если в 1995 году Безруков говорил, что ему интересно попробовать все: и комедию, и драму, и трагедию, — то уже четыре годя спустя признавался, что самым любимым его жанром является трагифарс.
Между тем и чистый фарс, исполненный Сергеем Безруковым оставляет незабываемое впечатление.
В 1996 году на телеканале НТВ была юмористическая программа «Доктор Угол», куда ведущий Игорь Угольников приглашал известных актеров. Кто видел, тот знает: семь новелл с участием Безрукова оказались лучшими в цикле, их потом неоднократно повторяли под рубрикой «На бис».
Что в них поражало? В профессиональной артистической среде чрезвычайно ценится подвижность лицевых мускулов, так вот в этих миниатюрах она у Безрукова — почти за гранью возможного. Кажется, что актеру вовсе не нужен грим, видоизменения физиономии достигаются исключительно ухищрениями мимики, и перед нами предстает яркая галерея колоритнейших типов: простодушно-бесхитростный солдатик, искусно манипулирующий окружающими коммивояжер, богемного вида полусумасшедший художник… Ослепительный каскад трюков и — безжалостная точность характеристик, почти символическое обобщение бессмертных человеческих пороков, как-то: Хитрость, Жадность, Сладострастие, Хамство. И все это — взахлеб, с невероятной исполнительской свободой, с нескрываемой радостью и удовольствием от стихии игры. Сам актер рассказывал потом, что на съемках царила атмосфера импровизации, дух студенческого капустника. Что лишний раз подтверждает: у Безрукова фантастическое чувство логики целого. Ибо в результате его «капустных дурачеств» родилось семь маленьких, безукоризненных по композиции сатирических шедевров. С тем самым классическим «зеркалом», когда поначалу смеешься, а потом становится не по себе: «Над кем смеетесь?».
А популярные «Куклы», где он один озвучивал чуть ли не всех действующих лиц сразу? «Я считаю, что у Сережи — не попадание в голос, а попадание в человеческую суть, — говорил сценарист программы Виктор Шендерович. — Он два-три раза попробует, что-то прикинет — и суть схвачена».
Безруков никогда не скрывал, что «Куклы» для него — полигон оттачивания профессионального мастерства. Действительно, благодаря его голосу наши политические деятели получались очень живыми: Горбачев, например, вызывал откровенную жалость, Жириновский был не просто моторен и смешон, но настораживал, Безруков недвусмысленно давал понять, что за его клоунской личиной скрываются отнюдь не клоунские намерения. Подобным образом актер забавлялся (и забавлял нас) около четырех лет, потом это ему наскучило, и он из «Кукол» ушел. На многочисленные «почему» неизменно отвечал: «Я не желаю всю жизнь быть голосом Ельцина».
Без него программа мгновенно потускнела, потеряв для зрителей больше половины былой привлекательности. На одном из творческих вечеров Сергей даже получил знаменательную в этом смысле записку: «Мы всей семьей так привыкли к вашему Ельцину, что одно время очень хотелось за него голосовать. А вот сейчас вы ушли, и голосовать за него совсем не хочется!». Что кому-то из критиков дало повод написать, что обаяние актера Безрукова из достоинства постепенно превращается в свою противоположность.
Возможно, в чем-то этот критик был и прав. Не случайно же у Сергея однажды спросили:
— Вы не чувствуете, что ваш Жириновский получается симпатичнее, чем есть на самом деле? Такая душка…
Он тогда очень удивился:
— Да? Душка?..
Но запомнил. И решил больше своим личным обаянием с отечественными политиками не делиться. Готовя эстрадную программу «Ностальгия по «Куклам» (некоторое время актер показывал ее а провинции), он расставил акценты очень жестко: ни Жириновский, ни генерал Лебедь «душками» в его исполнении уже никак не воспринимались. Это была прицельная политическая сатира, причем довольно злая.
Хотя обаяние у Сергея Безрукова действительно редкостное. Подобное обаяние дается природой как счастливое приложение к таланту, и далеко не каждому. Но, конечно, нужна еще и голова, чтобы этим роскошным даром по-умному распорядиться. Блестящим Доказательством тому стал Арлекин, сыгранный Безруковым в спектакле Олега Табакова «Прощайте… и рукоплещите!».
Думаю, Табаков отдавал себе отчет в том, что история итальянской труппы, рассказанная А.Богдановичем, мягко говоря, далека от совершенства. Однако ему, человеку сцены, так хотелось произнести Хвалебное Слово во Славу Театра, что он махнул рукой на все длинноты и невразумительности. Зрелище действительно получилось богатым и красочным, но местами зрителям все равно приходилось наблюдать, как актеры отважно борются с зияющими провалами драматургии. Кому-то это удавалось больше, кому-то — меньше. В сценах Сергея Безрукова «дыр» не было вообще.
Он смеется: «Пришлось подсуетиться», — подразумевая под этим кропотливую отделку текста на пару с автором. Однако не столько в тексте здесь дело… В одной из рецензий безруковского Арлекина назвали «резиновым мячиком». В самом деле он похож на мячик в своем веселом костюме из разноцветных лоскуточков — яркий, легкий, прыгучий. Дух захватывает от того, как он ходит по сцене колесом, вертит немыслимые кульбиты, азартно «буффонадит», без видимого труда подчиняя себе пространство и восхищенных зрителей. Особенно впечатляют эпизоды, где актер виртуозно демонстрирует классические приемы комедии дель'арте.
Перед тем, как ставить спектакль, Табаков пригласил в театр Феруччо Салери — знаменитого итальянского арлекина, игравшего у самого Джорджи Стрелера. Три недели прославленный маэстро учил русских артистов работе с масками… Сергей Безруков до сих пор помнит те уроки:
— Это совершенно другая техника, русской школе абсолютно несвойственная, другая пластика. Маска смотрит только перпендикулярно. Плюс Феруччо все время настаивал, что необходима связка: публика — партнер — публика — партнер… Я видел видеокассету с записью стрелеровского «Слуги двух господ», где Феруччо играл Труффальдино. Что он там творил!!! Нервный, импульсивный, летает по сцене легко, как мотылек… Ну и я, не будь дураком, все три недели смотрел, запоминал, вкалывал. Я вгрызся в это.
На одном из занятий у Ф.Салери, наблюдавшим за Безруковым, невольно вырвалось: «Молодой человек, в Италии вы имели бы большой успех…».
Ошеломляющая реактивность, гибкость профессионального аппарата, стремительный ритм при отточенности каждого жеста и — изящная, тонкая ирония, в которую актер умудряется превращать грубость площадного балагана, — вот чем берет безруковский Арлекин. Он сам по себе есть отдельный спектакль и отдельное удовольствие для зрительского глаза. Всегда живой, всегда на подъеме, неистощимый выдумщик, фонтанирующий спонтанными импровизациями, которые так любит и ценит искушенная театральная публика. Способность к постоянному обновлению и обогащению роли — вообще одно из важнейших качеств творческой индивидуальности Безрукова. Он из тех актеров, о работе которых порой нельзя судить по премьерному спектаклю. Сергей и сам признается: «Я должен поиграть какое-то время, чтобы дойти до истинного результата».
Так, первые спектакли «Анекдотов», осуществленных в «Табакерке» Валерием Фокиным, вызвали противоречивые оценки критиков. Постановка получилась очень неравноценной, распавшись на две абсолютно самостоятельные, несоединимые части: завораживающую фантасмагорию «Бобок» по Ф.М.Достоевскому и гротесковую «бытовуху», в которую превратились на сцене пронзительно-трагические «Двадцать минут с ангелом» А.Вампилова. Безруков в вампиловском сюжете играет инженера Ступака.
Почему-то Фокин решил сделать крен в сторону посконной правды нашей жизни, от чего Вампилов, как известно, весьма далек, и актерам, даже таким замечательным, как Табаков и Машков, ничего не оставалось, как пуститься во все тяжкие, смакуя эту сермягу. Видимо, у Безрукова подобная режиссерская установка вызвала мощный внутренний протест, и поначалу он в «Двадцати минутах…» совершенно потерялся. Казалось, что насильственное погружение в плотные слои «бытового театра» противоречит самой его природе: он словно бы погас. Ступак был обыкновенным — хамоватым и довольно примитивным субъектом, которых вокруг считать — не пересчитать, и, глядя на него, думалось: при чем здесь Безруков с его, такой явной, «инобытностью» и нацеленностью на поиск «проклятой гармонии»?..
Но пылкий безруковский темперамент очень скоро дал о себе знать. Те, кто не поленился и посмотрел «Анекдоты» по второму разу, увидели в его роли разительные перемены: из проходного дежурного эпизода она превратилась в яркий острохарактерный номер, неизменно вызывающий аплодисменты в зале.
— Я не умею выходить на сцену и тупо подыгрывать. Это не мой стиль, — говорил актер, объясняя секрет данного «преображения». — И я придумал животик (очень простой актерский трюк, но почему-то он всегда имеет бешеный успех), наглядно обозначив, так сказать, символ благополучия. Когда идет молодой человек с пузцом, сразу понятно, что он очень хорошо кушает… Мгновенная трансформация рядового инженера в мускулистого «Шварценеггера» — это момент его «отвязки», когда он ощущает собственную безнаказанность и может распушить хвост. Но как только Ступак понимает, что перегнул палку, — тут же снова появляется животик, и он униженно ретируется… Другой вопрос, что если бы мы играли настоящего Вампилова, то никакого животика, естественно, и в помине бы не было. Был бы очень осторожный человек, эдакая умница в очках — при богатой девочке и ее автомобиле.
Но бредил он тогда вовсе не «настоящим Вампиловым», а гоголевским Хлестаковым: «Это моя роль. Есть в нем что-то очень симпатичное, открытое, хотя он и пустышка без царя в голове». Однако Табакова актер в тот период гораздо больше интересовал не как виртуоз-эксцентрик, а как лирический герой нового времени.
— Мне представляется очень серьезной работа Сережи в спектакле «Прощайте… и рукоплещите/», но думаю, что какие-то особенные и важные шаги он делает сейчас в комедии Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты», — говорил художественный руководитель «Табакерки» весной 1997 года, приступая к репетициям «Мудреца…», в котором поручил Сергею Безрукову роль Глумова. — Герои ведь меняются, когда меняется общественная этика и нравственные ориентиры. Сегодня и подлец может быть героем.
Так «самый солнечный» актер «Табакерки» в 24 года публично эволюционировал в обаятельного авантюриста, впервые примерив темную личину зла. Впрочем, мечта о Хлестакове у него все равно осталась, а до Глумова он успел удивить своих поклонников еще одним саркастическим поворотом: именно Безруков сыграл в первой — инфернальной — части фокинских «Анекдотов» омерзительного Клиневича.
«Зол, умен и завистлив»
Он серьезный актер с большой амплитудой от Хлестакова (это его прямое дело) до Ричарда III, — сказал о Сергее Безрукове в одном из интервью Андрей Житинкин. — Некоторые уже стали поговаривать, что у него обаяние от Бога, и не более того. А на самом деле его обаяние — это лишь часть айсберга».
Всю глубину и справедливость слов Житинкина московские театралы впервые оценили после сценической фантазии Валерия Фокина «Бобок».
Это была попытка постичь реальность нереального, воплотить — вслед за Достоевским — нечто такое, чего наш театр изобразить долгое время даже не пробовал, прикоснуться к играм подсознания. Для чего подвал «Табакерки» подходил как нельзя более. Пространство общения со зрителем достигает здесь именно той степени интимности, без которой разговоры об ускользающем мире мистического и необъяснимого становятся бессмысленными. Не случайно театр ни разу не показал «Бобок» на большой сцене.
Режиссер создал пульсирующую, изменяющуюся среду, где значимы все детали, все элементы театральной выразительности: декорации, игра «площадок», ритм, смена ритмов, свет, звучащее слово, «зоны тишины». Но особенно важны актеры. В своих последних спектаклях Фокин делает ставку на актеров совершенно определенного дарования — актеров формы, недосказанности, второго плана, беспредельной внутренней подвижности и виртуозной пластики, но в то же время склонных к абсолютной законченности образа.
— Я люблю гибкого актера, — говорил Валерий Фокин в беседе с ныне, увы, покойным театральным критиком Александром Свободиным, — но вместе с тем для меня важна партитура всего спектакля. Поэтому важен звук, идущий от актера и вливающийся в звучание целого, важна его энергетика как составная часть энергетики спектакля. Не каждый актер может в такой партитуре найти свою свободу, далеко не у всех это получается.
В спектакле «Бобок» найти «свою свободу» исполнителям особенно трудно, ибо играть приходится скованных могильной неподвижностью «жмуриков», а потому все, что происходит с персонажами, актерски выражается исключительно через «звук» и «энергетику». Иными словами, через интонацию, через интонационный рисунок роли.
Среди всех мерзопакостных героев фокинской постановки Клиневич Сергея Безрукова самый мерзопакостный. Если окружающие его покойнички просто дурно попахивают (так, по Достоевскому, проявляет себя их внутренняя сущность, недаром, видать, в народе говорят про нехорошее дело, что оно скверно пахнет), то Клиневич смердит. Если они ханжески затушевывают свои прижизненные грехи, грешки и пороки, то он ими громко и нагло хвастается. Если в их останках время от времени еще вспыхивают слабые проблески нравственного стыда, то он делает все, чтобы эти проблески уничтожить, подавить агрессивной стихией плотского.
Здесь нет развития сюжета в привычном понимании, фабула заключается в том, что лежат себе усопшие в своих тесных саркофагах и ведут друг с другом бесконечные разговоры, из которых постепенно выясняется, кто на какой стадии распада находится. Причем речь идет о распаде отнюдь не физическом, что в данной ситуации было бы вполне естественно, но духовном.
Клиневич очень долго молчит, ничем не выдавая своего присутствия, слушает, наматывает на ус. Надо сказать, послушать есть что. Как большинство спектаклей Фокина последних лет, «Бобок» заставляет вспомнить о законах музыкальной полифонии: реплики персонажей звучат, словно ноты, каждая — в определенном месте и в нужной тональности. Да и фон вокруг (многочисленные скрипы, стуки, скрежеты) воспринимается как пусть странная, запредельная, какофоничная, но все-таки мелодия.
Клиневич вклинивается (простите за каламбур) в эту какофонию сначала гнусаво-гаденьким смешком, затем презрительной фразочкой… Его первые реплики вкрадчиво-сладки, а голос приторно-елеен, как у змея-искусителя. Но как только тонкий провокатор чувствует, что «процесс пошел», его бесовский маневр удался, и жажда плотских утех овладела кладбищенскими жителями он — фантом, выморочный тип! — превращается едва ли не в трибуна, пламенно призывающего к блуду и разврату. Идейный вдохновитель потусторонней оргии в своем патологическом раже на какое-то краткое (но жуткое) мгновение становится способным преодолеть даже оцепенение смерти и, дергаясь в конвульсиях встает на колени, пытаясь сбросить крышку гроба.
Агония бездуховной материи отвратительна, но игра Сергея Безрукова затягивает магнетизмом этого страшного зрелища. Вряд ли те, кто видел актера в роли Клиневича, хоть раз вспомнили на этом спектакле о знаменитом безруковском обаянии…
Он тут действительно неузнаваем: существо одновременно реальное и инфернальное, фантасмагорическое и гротесковое, ярко индивидуальное и идеально вписывающееся в актерский ансамбль, в котором каждый из исполнителей, досконально зная свою партию, солирует, где положено по режиссерскому замыслу, но держится хора все остальное время.
Однако роль Клиневича строилась более на принципах лицедейства, нежели углубленного психологизма, требовала более внешней формы, нежели внутреннего перевоплощения, а потому опыт работы с В.Фокиным не мог помочь Сергею Безрукову, когда начались репетиции комедии А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Образ Егора Дмитриевича Глумова был сложен для молодого актера по параметрам не только творческим, но и человеческим. Он признавался, что с Глумовым у него были большие проблемы. Что понятно. Тот, по воле автора, «зол, умен и завистлив», определяющей же чертой самого Сергея Безрукова является бесконечная человеческая нежность и любовь к миру.
Здесь уместно вспомнить, как, например, в свой очередной отпуск отец и сын Безруковы вызволили из зыбучих волжских песков застрявшего «москвичонка». Семь часов несчастный водитель пытался выбраться из песчаного плена, а все равнодушно проезжали мимо. И только Безруковы остановились, зацепили, выволокли да еще и тормозной жидкости долили. Важны ли подобные «мелочи» для того, чем Сергей Безруков занимается на сцене? Мне кажется, что да. Не случайно он много раз говорил, что привык отдавать залу положительную энергию.
Словом, приноровить собственную природу к характеру персонажа ему удалось не сразу, и отголоски этих мучительных творческих поисков явственно слышны в первых рецензиях. Критики единодушно писали, что личное обаяние артиста существует в спектакле само по себе, а характер Егора Дмитриевича Глумова — сам по себе, и пересечений между ними, увы, не наблюдается.
Сергей и сам чувствовал, что ему никак не удается нащупать стержень роли. Он переживал, но не сдавался. После одного из спектаклей они с отцом, который тоже был очень недоволен его Глумовым, долго колесили по Москве, ломая голову над тем, как найти нужный ключ и открыть неподдающийся ларчик. Приехав домой, полночи пили чай на кухне, а наутро Безруков-старший сказал: «По-моему, ключевая фраза пьесы — «Мама, мы пойдем другим путем». Заметь, Островский написал ее задолго до Ленина. Что-то случилось в жизни Глумова, и теперь держитесь все!».
— Батя сделал мне бесценный подарок, — говорил Сергей, вспоминая ту отцовскую подсказку, — я вдруг понял: да, действительно, и Ленин, и многие наши сегодняшние политики, являясь людьми очень молодыми, во-первых, изо всех сил стремятся встать на уровень «взрослых» воротил, а, во-вторых, невероятно обаятельны. Посмотрите на Сергея Владиленовича Кириенко: улыбнулся — и все на это откликаются, а что там у него на уме? О, люди, которые занимаются политикой, очень непросты…
Разумеется, подобные соображения не превратили спектакль в агитку на злобу дня с актуальными политическими аллюзиями. Безруков играет не грубо осоциализированную классику, но именно Островского — мощную пьесу, написанную дивным русским языком и уходящую корнями в московскую землю, но в силу бессмертия типажей понятную всем, везде и всегда.
Табаков задумал «Мудреца» как актерский спектакль. Веселый, легкий, динамичный, изначально не настраивающий зрителей на поиск каких-либо глубоких философских выводов и обобщений. Спектакль-шутка. Спектакль-игра. Весь мир — театр.
Соответственно ведут себя на подмостках и персонажи: все они (за исключением Мамаевой в неожиданном исполнении Марины Зудиной) спокойны даже в финале, когда обман раскрыт, а злосчастный дневник обнародован. Однако Глумов Сергея Безрукова играет в эти игры всерьез, и вместе с ним на сцену врывается жизнь — наша, а не времен Александра Николаевича Островского.
Нет, он не пытается сделать своего героя «парнем из нашего города». Он абсолютно верен духу автора и опирается на текст Островского. С восхищением следит он за мыслительным процессом и лицедейством Глумова, как будто хочет, подобно одному из персонажей, отметить про себя: «Вот и это бы кстати записать». И режиссерских установок актер не нарушает, честно живет в комедийных законах спектакля. Но его Егор Дмитриевич так истово рвется к победе, с таким неудержимым азартом отдается каждой новой авантюре, так искренне плачет, стуча зубами от страха и бессилия, обнаружив пропажу дневника, что в зрительском мозгу само собой происходит смещение времен: эпоха Островского и сиюминутность соединяются, и зал реально ощущает, как трудно противостоять обаянию и напору этого юного демона.
Ему понадобилось мужество. Во-первых, чтобы вырваться из плена своих привычных приемов и приспособлений. Во-вторых, чтобы разрушить устоявшийся театральный стереотип, по которому Глумова следовало изображать хладнокровным циником, рассчитывающим свои действия на сто ходов вперед. Думаю, прежде всего, именно это имел в виду Олег Табаков, говоря об «особенных и важных шагах», сделанных Безруковым в «Мудреце».
Разрушать стереотипы тяжело, и мало у кого получается. Помимо того, что актер должен еще и еще раз перечитать литературный материал, пытаясь увидеть его чистым, «незамыленным» взглядом, нужны силы — психические, духовные, нервные, — чтобы не просто нарисовать в воображении контуры будущего образа, но вдохнуть в них жизнь. Нужен талант, как ни банально звучит. Ибо новая трактовка всякой роли — а классической особенно — без яркой актерской индивидуальности немыслима.
Сегодня о Глумове, сыгранном Сергеем Безруковым, можно смело говорить как о большой удаче. На мой взгляд, недооцененной искусствоведами. Вероятно, потому, что лепка образа шла непосредственно в недрах спектакля, законченность и глубину он обретал от представления к представлению, а театральный бомонд обычно посещает только премьерные показы. Между тем Безруков, кажется, впервые за всю сценическую историю «Мудреца», играет… трагедию перерождения, трактуя судьбу Егора Дмитриевича Глумова как развернутую иллюстрацию к утверждению о том, что нищета убивает душу.
Видимо, для Табакова было очень важно показать, что герой молод и завораживающе обаятелен. Не тем «отрицательным обаянием», за которым сразу угадывается циничный деляга и прожженный мошенник, но солнечным обаянием юности, еще неискушенной в искусстве интриг. За эти солнечность и неискушенность окружающие многое готовы не замечать и прощать, на многое закрывать глаза. Может быть, потому, что Егор Дмитриевич напоминает им самих себя — тех, какими они были, «ах, много лет тому назад»?..
«Глумов Безрукова слишком молод для того, чтобы называться мудрецом. В нем еще мало хитрости, ловкости, циничной опытности — один азарт и абсолютная уверенность в себе. Он настолько захвачен самим процессом перевоплощения, что иногда как будто просто забывает о цели, которую перед собой поставил, и то и дело увлекается гораздо больше, чем того требует очередная роль. Он еще не так хорошо умеет сдерживать эмоции и в самозабвении нередко теряет чувство меры. Главная причина успеха Егора Дмитриевича в его молодости, в ней же, впрочем, и причина первой неудачи. Но его неопытность пройдет быстро, благо начал он рано, и времени у него впереди предостаточно», — писала критик Марина Гаевская в еженедельнике «Экран и сцена».
Выбор Безрукова на роль Глумова оказался попаданием в десятку. А то, что подчинение актерского инструмента намеченному замыслу происходило трудно и мучительно, ну так только в муках и рождается мастер — человек, способный управлять собственным организмом, настраивать его на нужный лад и тон. И нет для профессионального самосовершенствования материала более благодатного, чем проверенная временем классика.
Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» вывел Сергея Безрукова на новый виток его актерской судьбы: после Глумова он получил предложение сыграть Феликса Круля в инсценировке знаменитого романа Томаса Манна. Опыт подлаживания собственной природы под природу «очаровательных каналий» здесь был как нельзя кстати.
Режиссер Житинкин, по обыкновению, решил эпатировать общественность и с немецким классиком не церемонился, смело фантазируя в рамках предложенных писателем обстоятельств, И Безруков его в этих фантазиях охотно поддержал, в частности, введя в текст своей роли письма, которые Феликс пишет обожаемому им крестному и которые позволяют зрителям заглянуть в святая святых его души. Эти письма актер сочинил сам.
— Честно говоря, роман Томаса Манна не произвел на меня особенно сильного впечатления, — признавался он накануне премьеры, в июне 1998 года. — Большее впечатление, например, на меня произвел Жюльен Сорель, Феликс Круль рядом с ним отдыхает. Играть Томаса Манна в чистом виде? Ну это был бы второй Глумов. Причем у Островского хотя бы есть неожиданные повороты, есть какие-то яркие, смешные вещи, а тут… Получалось эстетская, очень легкая пьесочка. Чего не хотелось. И поскольку Томас Манн роман так и не закончил, мы позволили себе дорисовать будущие события в жизни Феликса. В нашем спектакле он в итоге приходит к нацизму.
Надо заметить, что затея «дописать недописанное Т.Манном» не так уж и оригинальна. В свое время Патриция Хаскит повторила основные коллизии «Признаний авантюриста Феликса Круля» в романе «Талантливый господин Рипли» (так сказать, в «облегченном» криминальном варианте), а Рене Клеман снял по ее книге знаменитый фильм «На ярком солнце» с Аленом Делоном. Кстати, критики тогда сошлись в мнении, что именно Делон придал мастерски сделанной, однако в меру банальной картине черты подлинной драмы.
На мой взгляд, с постановкой Андрея Житинкина случилась та же история: рваную фрагментарность его спектакля в мрачную притчу о соблазнительности и даже неотвратимости зла в условиях этической анархии превращает игра Сергея Безрукова, чей темперамент в роли Круля неожиданно беспощаден и холоден, Ни намека на сердечную теплоту, словно не этот актер мгновенно растопляет самый черствый зрительный зал, выходя на сцену в образе Есенина.
Не знаю, как Андрей Житинкин и автор инсценировки Иван Савельев, а Безруков фильма с Делоном не видел. Но два актера удивительным образом совпадают, являя зрителям «сатанинское в ангельском» — внешнюю лучистость при внутренней жестокости. Люди так легко покупаются на внешность, даже если она обманчива, так жаждут чужой «светости» (от слова свет), что грех не воспользоваться природным обаянием, когда ты задался целью вынести себя из грязи в князи.
Делон играл конформиста, которому удобнее и психологически проще быть не личностью. Круль Безрукова бунтует против четкой регламентации социума, где человек востребован лишь как определенная функция — лифтер, кельнер, мальчик для развлечений, еtс.
Поначалу его бунт — это акт протеста и самоутверждения. Само собой, что, отвергая социальные рамки, герой неизбежно отвергает и рамки моральные. Однако в бунт ради идеи, когда личность снова сливается с безликой массой, он вовлекается почти помимо воли. Феликс, подобно Фаусту, просто не в состоянии справиться с духами, которых сам вызвал.
В финале Круль, захлебываясь в экстазе, выкрикивает в зал знаменитую «Майн кампф» (кстати, личная задумка актера). У него уже нет собственного лица, оно стерто (как это достигается — тема отдельного разговора: Безруков, не прибегая к гриму, может быть на сцене красавцем и уродом, юнцом и зрелым мужчиной), зато есть интонации, мимика и истерия Адольфа Гитлера.
«Они все хотят быть похожими на фюрера, непременно — на фюрера», — помнится, констатировал Штирлиц в культовом телесериале «Семнадцать мгновений весны». Сегодня орлы из ЛДПР все, как один хотят быть похожими на Жириновского… Впрочем, на спектакле «Признания авантюриста Феликса Круля» ассоциации возникают не только с Владимиром Вольфовичем, но и с Владимиром Ильичом. В тот момент, когда Феликс, походя растоптав двух женщин — дочь и жену профессора палеонтологии Кукука, презрительно бросает человеку, вдвое старше него: «Каждому — свое», — сознание автоматически выдает вольный перевод с немецкого: «Интеллигенция — не мозг, а г… нации». И тогда становится окончательно понятно, почему юный Феликс, наведываясь в мастерскую своего крестного, так любил позировать для его картин в облике Калигулы. Круг замыкается: легкомысленное человечество веками играет в одни и те же жуткие игры, в которых гибнут и жертвы, и палачи…
В роли Круля у Сергея Безрукова совершенно другая пластика, другой взгляд, а главное, другая энергетика, которой не было ни в одной из прежних работ. Актер рассказывал, что в своих поисках отталкивался от эстетики натурализма, свойственной немецкому театру: «Мне хотелось показать, что мы играем немецкую драматургию. Это не Чехов. Это не Теннеси Уильяме. Это Томас Манн».
Порывшись в Центральной библиотеке иностранной литературы, он нашел не только текст «Майн кампф», но и фашистские плакаты, где «истинные арийцы» в железных касках и с мечами в руках гордо демонстрировали накаченные мускулы. От плакатов исходила мрачновато-давящая мощь и скрытая агрессивность, до поры до времени сдерживаемая в социально приемлемых рамках. Такое же напряжение исходит и от Безрукова-Круля.
«Несмотря на скачущую эпизодичность действия, Житинкин, вероятно, хотел все-таки показать «процесс» — вольно-невольного превращения ангела в беса. Этого пока не получилось. Безруков весьма удачно предстал в двух крайних состояниях: стартовой непорочности и финального злодейства», — напишет после премьеры критик Ирина Алпатова.
Возможно, на премьере именно так оно и было. Но я увидела спектакль уже через год, и в нем жил совершенно иной Феликс. Во всяком случае, создание, являвшееся в мастерскую к Шиммельпристеру, я бы не рискнула назвать ни «ангелом», ни «юношей беспорочным», как сделала это газета «Культура».
Да, Феликс красив, как античное божество. Но в его красоте нет теплоты и лиризма. Он, безусловно, одарен, страстен и честолюбив. Но при этом до крайности эгоцентричен. Актер с первых же секунд весьма недвусмысленно демонстрирует нарциссизм своего героя, получающего почти сладострастное удовольствие от процесса позирования — ни дать, ни взять те самые немцы с библиотечных плакатов. Приковывая к себе взоры зрителей, Сергей Безруков впервые(!) не становится им близким: между залом и Феликсом сразу же возникает некое отчуждение, словно публика смутно догадывается, что его духовная сущность не отвечает ее нравственному чувству. Неслучайно Алпатова в своей рецензии усомнилась, есть ли у этого Феликса душа вообще.
Тут на ум приходит соображение, не связанное непосредственно с театром. Феликс Круль стоит в одном ряду с такими литературными персонажами, как Растиньяк, Жорж Дюруа, Жюльен Сорель. Прямо скажем, эта литература не особенно настаивает на том, чтобы переживания главного героя вызывали в читателе соответствующие душевные движения, ибо герой — вненравственен. Не вульгарно бессовестен, не грубо бессердечен, нет. Он расчетлив. Расчетливостью одновременно холодной и вдохновенной. Его искренняя убежденность в том, что абсолютно ничто — ни в твоей душе, ни в окружающем мире — не способно помешать добиться славы и власти, если ты отважен, умен и энергичен, завораживает. Собственно, именно в ней, в этой убежденности, и заключается «формула чарующего зла», о которой не уставал повторять в своих интервью Житинкин. Другое дело, что подобный герой идет вразрез с русской культурной традицией, но, как мы помним, Безруков изначально отдавал себе отчет, что играет отнюдь не Чехова.
Понятно, почему режиссеру понадобился именно он, «безусловный в своем обаянии, в которого влюбляются все» (А.Житинкин). Обаяние — это то, что в молодом актере использовали всегда. Но Житинкин первым сделал ставку на его природную элегантность, что называется, органическую неспособность к вульгарным поведенческим проявлениям. Культ здорового тела, пропагандируемый в фашистской Германии, возник не только из соображений национальной безопасности. Идеологи нацизма прекрасно понимали, что телесная красота и раскрепощенность тренированных мышц дают почти аристократическую свободу поведения, внешне сводя на нет дистанцию между разночинцам и высшим светом. Античный красавец Круль, неизменно сдержанный и корректный, невольно облагораживает собою и низкий обман, и презренное воровство, и жестокое злодейство. В его «исполнении» они уже не выглядят безобразными. Даже когда в любовный шепот героя резким диссонансом врывается парочка хлестких немецких ругательств, не покидает ощущение, что этот малый отменно воспитан и читал Шиллера, Гете, а, быть может, даже Камю.
Душа у Феликса-Безрукова все-таки есть. Просто ее томит и жжет одна, но пламенная страсть — желание пробиться наверх, перед которым бледнеет даже горячая привязанность к по-настоящему любимому крестному. Чем дальше, тем сильнее всепожирающий огонь этой страсти. И вот наступает момент, когда кончается то, что до поры сдерживало, и Феликс обретает всю полноту и силу желанной свободы, на деле оказавшейся свободой обманывать, насиловать и убивать. Не успев даже осознать ужаса открывшейся перед ним бездны, он становится заложником им самим пробужденной стихии. Она подхватывает его, словно щепку, и несет, чтобы в конце концов швырнуть под нож гильотины. С тем же равнодушием, с которым он сам сеял смерть вокруг себя…
«Мне нужно было развенчать этот миф. Миф немецких светловолосых красивых мальчиков», — говорил Андрей Житинкин. Сергей Безруков этот миф блистательно развенчивает. И хотя можно спорить о режиссерских достоинствах постановки, одно в этом спектакле Житинкину удалось безусловно: он сумел обнаружить в актере Безрукове возможность сдвига, второй природы, неожиданной и очень опасной, противной тому, что бросается в глаза. «На самом деле его обаяние — это лишь часть айсберга»…
«Ты, Моцарт, бог»
Посмотрев спектакль «Признания авантюриста Феликса Круля», люди, любившие Безрукова, говорили ему: «Серега, сейчас тебе обязательно нужно сыграть положительную роль!». Он и сам понимал, что это было бы кстати. Круль выматывал и опустошал. В машине, по дороге из театра домой, он не узнавал себя в зеркале: прилизанные волосы, чужие холодные глаза. Дома долго стоял под душем — «чтобы смыть всю кровь, которая осталась на лице и руках». Но после Круля ему снова и снова приходилось выходить на сцену в «Психе», «Мудреце», «Анекдотах»… Поэтому легко представить, с каким энтузиазмом Безруков воспринял предложение Табакова ввестись на роль Моцарта в спектакль МХАТа им. А.П.Чехова «Амадей» (постановку Марка Розовского решено было возобновить после годичного перерыва). Его не смутили ни рекордно короткие сроки, отпущенные на репетиции (меньше месяца); ни печальный опыт трех предшественников, которые, по единодушному признанию критики, так и не сумели составить достойного ансамбля Олегу Табакову. Это был его герой, его природа. Это была его роль.
Как-то один известный и популярный актер высказался в том духе, что сегодня достучаться до зрительских сердец можно лишь в случае, если играешь на разрыв аорты. Иначе — вежливое внимание рассудочные оценки, иногда восхищение мастерством, но не более. С одной стороны, вроде все так и есть. Но с другой — потрясений от искусства не может быть много (даже когда художники рвут собственную душу в клочья). Каждый из нас легко пересчитает таковые по пальцам. Например, для меня потрясениями стали Георгий Тараторкин в спектакле «Бесы», исполнение Юрием Башметом «Монолога для альта и оркестра» А. Шнитке, первое впечатление от киношедевра Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» и Есенин, обретший второе рождение в лице Сергея Безрукова. А теперь вот еще и его Моцарт.
М. Розовский поставил пьесу П. Шеффера в 1983 году. Но при неизменно впечатляющем Сальери Олега Табакова спектаклю никак не удавалось найти того единственного Моцарта, который действительно мог бы взволновать холодную кровь придворного маэстро до градуса противобожественного бунта. Актеры менялись, а пресса продолжала писать, что Табакову приходится играть трагедию в одиночку и чуть ли не на пустом месте. Не складывалось. Но вот появился Безруков…
Именно с этого момента можно говорить о подлинном рождении спектакля. Ибо только с этого момента все встало на свои места, обретя необходимое противостояние: гений и злодейство, талант и посредственность, тепло и холод, искренность и расчетливость.
Думается, главная закавыка пьесы П.Шеффера, о которую спотыкались все предыдущие исполнители, сокрыта в том, что ликующую природу моцартовского гения нельзя сыграть. Исполнитель сам должен быть слеплен Господом Богом из того же теста, когда даже самое глубокое в творчестве достигается, как кажется, легко и как бы шутя. Так, что у окружающих создается иллюзия, будто на художника сыплется манна небесная. На самом-то деле за этим стоят и пот, и боль, и сомнения, и железная воля, но… «Гуляка праздный», — кричит толпа, а завистливые ремесленники вопрошают: «За что, Господи? Почему он, а не я?!»
Сергей Безруков с инерцией подобного мышления знаком непонаслышке. Он уже давно ничего никому не объясняет, а лишь устало улыбается: «Да знаю я, знаю, что меня коллеги не любят». Вот и Сальери в спектакле недоумевает: за какие заслуги, Господи, этот мальчишка Моцарт снискал Твою любовь и покровительство, почему Ты выбрал его сосудом для чудесного дара и нашептываешь Свои гармонии, чтобы тот, не страдая и не мучаясь, без единой помарки просто записал их на бумагу?
Нет, Безруков играет, конечно, не себя. Но и не Моцарта. 0н играет тему моцартианства, и в его исполнении эта тема звучит мощно и полифонично. Она исполнена света, который затопляет все вокруг и, согревая зрительские сердца, остается в них памятью о проявленной Божественной любви, то есть о том, что на Земле испокон века называли чудом.
Его успех в «Амадее» предсказать было нетрудно. Еженедельник «Новое время» писал: «Сергей Безруков получил все права на роль Моцарта, играя Есенина, создав образ этого поэта именно таким, каким определял его Пастернак: «… живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем моцартовским началом, моцартовской стихиею». Так что произошло счастливое совпадение: театр не упустил возможности обновить атмосферу спектакля ароматом и бурлением молодого вина, а артист дождался своего моцартовского часа».
На следующий день после премьеры Безрукову позвонил Табаков: «Мы победили в одном, — сказал он, — теперь в спектакле два главных героя».
Надо знать Олега Павловича, невероятно скупого на похвалу, чтобы понять, сколь значима в его устах подобная оценка.
Дуэт действительно получился отменный: глубокий, тонкий, изящный, я бы даже сказала, ажурный. Причем достойного партнера обрел не только Табаков, но и Безруков. Впервые за пять лет, прошедшие после Школы-студии МХАТ.
Между Сальери Олега Табакова и Моцартом Сергея Безрукова существует теснейшая внутренняя связь, быть может, даже более крепкая, чем кровные узы. Их сближает музыка. Она сметает все наносное, разницу в чинах и почестях, имущественное неравенство, возрастной барьер… Пусть один ремесленник, а другой гений, но оба они — «единого прекрасного жрецы», оба одинаково не мыслят своей жизни вне таинственного и завораживающего мира звуков. И в этом не похожи на окружающих, для которых музыка пусть самое совершенное, но развлечение, и только.
Сальери слишком профессионал, чтобы не испытывать божественного трепета, вслушиваясь в моцартовские гармонии. Да, он умен и понимает, что его собственные сочинения «не стоят и ломаного гроша», а имя останется в истории как синоним заурядности, в то время как имя Моцарта потомки возвеличат до символа неудержимого вдохновения. Но всякий раз, когда звучит волшебная музыка ненавистного соперника, зависть умолкает в его измученной душе, уступая место возвышенному благоговению. Он ясно видит, как за музыкальными фразами которые вызывают волнение и восторг, граничащие с экстазом проступают черты Абсолюта.
А что же Моцарт? Он отдает себе отчет в том, что талантлив, но не осознает собственного величия. Он пылок, наивен, искренен и абсолютно не обучен ни придворной дипломатии, ни хорошим манерам. Молодой Вольфганг Амадей вопиюще «не форматен» среди сухой чопорности австрийского двора и может «брякнуть» все, что угодно, нимало не заботясь о произведенном эффекте. Выслушав марш Сальери, сочиненный в его честь, он тут же усаживается за фортепьяно и… принимается «исправлять» (!) опус. В радостном опьянении творчества даже не замечая, как больно ранит самолюбие автора.
Моцарт Безрукова вообще похож на большого ребенка. Как в его музыке «слишком много нот», так в нем самом слишком много жизни. Он раздражающе чрезмерен в глазах спесивых вельмож, привыкших к мере всегда, во всем и во всех. Щенячья непосредственность юного дарования их шокирует, но одновременно и привлекает. Видимо, подсознательно император и его окружение все-таки понимают, что пламя истинного искусства никогда не горит там, где властвует норма.
Однако линия внутренней жизни Моцарта прихотлива; Безруков виртуозно проводит роль на тонкой грани гасконады и исповедальности. Стоит зрителям с головой погрузиться в стихию комического, увлекшись артистическим озорством и пластическим колобродством исполнителя, как в его игре неожиданным трагическим наплывом прорывается глубоко запрятанная горечь гениального художника, никем не понятого и бесконечно одинокого в этом мире.
Чем ближе к финалу, тем сильнее ощущается масштаб моцартовской личности. Вот он уже не дурашливый мальчишка, он больше не порхает по-над землей счастливой, беззаботной походкой, нищета и болезнь скрутили его, и он утратил былую телесную легкость. Но не утратил мощи творческого духа. Напротив, недоумевающий Сальери, который сделал все, чтобы уморить «хрупкого сочинителя» голодом, с испугом и изумлением слышит в его новых произведениях обретенный Вольфгангом Амадеем светлый покой.
Жизнь своего героя в Боге, то есть в абсолютной убежденности, что все свершаемое по воле Его, даже разрыв с женой и смерть близких, мудро и единственно правильно, Безрукое передает великолепно. Его Моцарту как раз труднее понять, почему к нему так не по-доброму относятся здесь, на земле.
«Кажется, Сергей Безруков сумел внушить растроганной до слез публике, что моцартианство — это не только талант ликующего жизнелюбия, но и в не меньшей мере мужественное принятие смерти», — напишет после премьеры еженедельник «Новое время».
Раньше сказали бы: спектакль умиляет. То есть делает публику милее, добрее, податливее. Во всяком случае, этот «Амадей» — весомый аргумент в споре о греховной и божественной природе искусства. Моцарт Сергея Безрукова заставляет поверить в древнюю легенду о том, что когда-то с Олимпа спустились боги и любили земных женщин. Позже от этой любви родились дети-полубоги, выросли и придумали музыку, чтобы посредством нее говорить простым смертным правду о Небе.
Поход в антрепризу
Театральную антрепризу обычно ругают. Актеры выступают в ней много слабее, чем в стационаре; уровень режиссуры изобилует образчиками примитивизма, ибо антреприза провоцирует постановщиков на грубость и стандартность решений; играя здесь, мастера обрекают себя на небрежение качеством, демонстрируя абсолютное отсутствие критической самооценки и т. д. и т. п. Словом, антреприза есть источник сугубо материального благополучия, творчеством в ней и не пахнет.
В конце 1999 года Сергей Безруков впервые соблазнился антрепризными благами. В тот момент он действительно нуждался в деньгах (только что купил квартиру и влез в долги), но, думаю, главная причина была не в этом. Он хотел играть. Полтора года у него не было новых работ в родном театре, где он привык выпускать, как минимум, по две премьеры в год, а после этой затянувшейся паузы художественный руководитель предложил ему полуэпизодическую роль Алешки в спектакле «На дне»…
Ни единого слова упрека в адрес Олега Павловича Табакова, на чьих плечах держится сложное театральное хозяйство. У него свое видение перспектив труппы, где каждый требует внимания и заботы. Но и творческая жадность Безрукова, жгучее желание реализации, которое владеет настоящим актером, как голод, — тоже понятны и оправданны.
Алешку он, конечно, сыграл. И сделал это замечательно с прекрасной естественной безоглядностью и бесшабашной удалью. Но недоумение и горечь остались. Он повзрослел, а Мастер этого не заметил. Или не захотел замечать.
Между тем на гастролях в Нижнем Новгороде, куда «Табакерка» в феврале 2000 года привезла спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», Безрукова-Глумова было не узнать. Куда подевался солнечный юноша, неискушенный в сложном искусстве плетения интриг? Вчерашний гимназист, ведомый к цели одним лишь самозабвенным азартом? Неопытный авантюрист, стучащий зубами от страха, что теперь, когда украден злосчастный дневник, все его труды пойдут прахом?
Новый Глумов действительно был и зол, и умен, и завистлив. Задумав выбиться в люди, он приказал замолчать чувствам, положившись только на расчет и разум. Талантливый лицедей-психолог, Егор Дмитриевич мгновенно ориентировался в любой ситуации и легко поворачивал ее себе на пользу. Даже собственная беспечность, грозящая неминуемым разоблачением, выбивала его из колеи на пять минут, не больше. Было очевидно, что этого Глумова общество уж точно и простит, и примет назад, и постарается обласкать, ибо он — опасен.
Безруков радикально скорректировал смысл роли, сознательно отказавшись от прежней трактовки, к которой шел долго и мучительно. Почему? По мнению газеты «Нижегородские новости», по одной из двух причин — «то ли время сделало нас более циничными и жесткими, то ли актер слишком увлекается, педалируя расчетливую сущность своего героя».
«Слишком увлекается» — это не про Безрукова. У него достаточно хорошая школа, чтобы не помнить о такой тонкой материи, как дистанция между художником и ролью: не теряя живой вибрации образа, он всегда как бы смотрит на себя со стороны.
Однако актер не только скульптор, но и глина. И любой сценический характер он проецирует через собственные тело и душу. Душевное же состояние Сергея Безрукова в тот период было довольно смутным.
— Я ловлю себя на том, что во мне говорит обида, — признался он, когда зашла речь о резко «повзрослевшем» Глумове. — Почему, допустим, Меньшиков, а не я, сыграл в «Сибирском цирюльнике»? Я бы сделал это лучше… Почему Алешка? Я больше Пепел… Вот такие вещи. Это то, чего нельзя допускать. Конечно, я стараюсь себя сдерживать, но обида все равно прорывается. В ролях, во всяком случае. Это то, что возникло в Глумове. То, что, может быть, появилось в Есенине. А Круль, тот вообще на этом построен. Кстати, Круля я сейчас могу играть бесконечно много, что меня пугает. Зато каждый раз заставляю себя выходить на сцену в «Последних»: опять мальчик, опять истерить…
А я вспомнила, как на творческом вечере в Выборге в августе 1999-го Безрукову пришла из зала записка: «Сергей! Не переросли ли вы свою «Табакерку?». И как он тогда отшутился: «Да нет, я роста невысокого, так что места мне хватает».
Наступил момент, когда места хватать перестало. И не потому даже, что маленькая «подвальная» сцена сдерживала его недюжинный темперамент (возможность проявлять себя в «большом стиле» Безрукову охотно предоставляли Театр им. М.Н.Ермоловой и МХАТ), но потому, что ему вдруг стало тесно в рамках творческих планов художественного руководства. Вот тогда и возникла в его жизни антреприза.
Пьеса Андрея Яхонтова «Койка» привлекла актера возможностью сыграть не исключительность судьбы, с напряженным и испепеляющим накалом внутренней жизни, свойственной мироощущению гения (Есенин, Моцарт) или одаренной личности (Глумов, Круль), но абсолютную ординарность. Ни белого, ни черного — сплошь серое: беспросветная погруженность в быт и плотная материальность глухих первобытных инстинктов. Подобного героя в творческой биографии Сергея Безрукова действительно еще не было.
Оставив в стороне прекраснодушные зрительские порывы типа «дайте нам духовность и антибыт» (многие с «Койки» уходили, я сама с трудом досидела до конца), зададимся вопросом: зачем ему, «проглотившему атом солнца», понадобилось рисковать своей «солнечной» репутацией, не боясь отпугнуть и разочаровать публику?
Безрукову вот-вот должно было исполниться двадцать семь. Юрский в этом возрасте получил роль Чацкого в спектакле, где Товстоногов порвал заколдованный хрестоматийный круг, предложив актеру необычный, неправдоподобный, как писала критика, Двойственный способ сценического существования: одна часть текста — окружающим партнерам, другая — другу-залу.
Даль в двадцать семь сыграл Ваську Пепла в спектакле «Современника». По воспоминаниям очевидцев, ярко и неожиданно выстроив весь образ как единый и стремительный порыв к счастью.
Двадцатисемилетний Андрей Миронов взволновал общественность своим Фигаро в знаменитом спектакле Плучека, принципиально противостоявшем общему направлению развития тогдашней театральной мысли.
Неудивительно, что Безрукову тоже захотелось проб экспериментов, поиска остроты жанра, безусловности в условных средствах выражения… Вот только с режиссером ему повезло меньше, чем некогда его старшим коллегам.
«Из спектакля смысл и качество пьесы понять невозможно. Андрей Соколов попытался использовать приемы откровенной условности, но не прояснил этого актерам. Бедняги блуждают в дебрях своих ролей, произнося одну фразу «условно», другую «бытово», а третью и вовсе «съедая», — писала после премьеры «Койки» газета «Культура». «Однако Безруков, — отмечали «Известия», — умеет и в родной условной режиссуре существовать искренне и органично, высекая в зале сочувствие».
Актер действительно заставляет зрителей непрерывно следить за рядовым, неприметным человеком, жизнь которого — от детства и юности до старости и смерти — проходит перед нашими глазами: коллажный калейдоскоп обычной, заурядной судьбы, трагической в своем бездумном автоматизме и шаблонной заданности. Дети повторяют ошибки своих родителей, чтобы позже эти же ошибки повторили уже их собственные дети…
Тема не нова, чтобы не сказать, банальна. И дабы публика не заскучала, одних только пластических этюдов а-ля Роман Виктюк, выбранных Соколовым в качестве главного режиссерского приема, здесь явно недостаточно. Но антреприза разрушила миф об актерах — сознательных творцах, и потому тонкая и умная работа Сергея Безрукова в «Койке» — приятное и, увы, не поддержанное другими исполнителями исключение.
В течение спектакля он словно «тренирует», во всяком случае, фокусирует внимание зрителей на социальной психологии. Слепое следование общепринятой морали, смешивающей в одно мещанское ханжество и вседозволенность, делает человека несчастным и ведет к духовной катастрофе. Ибо на смертном одре на заданный самому себе вопрос: «Зачем жил?» — ему приходится в ужасе и смятении отвечать: «Не знаю».
В игре Безрукова нет указующего перста. Виртуозно переходя из одного эмоционально-психологического состояния в другое, он просто вплотную приближает к зрителям явления их собственной жизни. Так, что хочется закрыться, спрятаться, на худой конец — уйти, чтобы не видеть этой непереносимой близости и плотности. Актер почти физически дает почувствовать, как уродует личность примитивизм социальных клише. Решать, что лучше: тернистый путь духовной самореализации или стандартное «самовыражение» в рамках рутинной схемы родился-учился-женился — дело публики…
«Талантливый актер, зачем он играет в плохих спектаклях?» — довелось услышать о Безрукове после «Койки». Затем, что хороших сегодня вообще случается не очень-то много. И, кстати говоря, в стационарах — не больше, чем в антрепризе. Может быть, у последней даже выше шансы перевести количество в качество, позволив себе роскошь пригласить для работы образцово-профессионального режиссера, не поскупившись при этом на костюмы и декорации.
Так, комедия «Искушение», поставленная в театральном агентстве «Арт-партнер XXI» Валерием Ахадовым, при всей своей незатейливости даст сто очков вперед многим неуклюжим попыткам «сделать зрелище», которые время от времени предпринимаются неповоротливыми академическими мастадонтами.
Здесь все на месте: остроумно-праздничная режиссура, буйство красок, намеренно преувеличенная театральность, бурные итальянские диалоги, кипение страстей и — эффектная развязка под занавес. Спектакль идет на едином дыхании, кажется, что он сам собой ожил в руках постановщика и блестящего актерского трио.
В роли Бруно — симпатичного интеллигентного парня, в жизнь которого, перевернув ее с ног на голову, врывается эксцентричная Эва (Любовь Полищук) — находит выход искрящийся комедийный талант Безрукова. Вместе с ним на сцену словно выплескивается радостная стихия свободного актерского творчества, сотканного из спонтанной импровизации, волшебной легкости общения с партнерами, соединения иронии с открытым темпераментом, а изящного гротеска — с психологизмом. В который раз ловишь себя на мысли, что профессиональная оснащенность Сергея Безрукова остается счастливой редкостью. У зрителей восхищенно загораются глаза, когда прозаический ерш для чистки унитаза походя обыгрывается им то как расческа, то как полосатый жезл дорожного регулировщика; когда Бруно с комическим отчаянием демонстрирует Новоиспеченному другу Марио (Борис Щербаков) полосатые носки, которые постоянно носит в карманах своего элегантного пиджака как память о былой «мужской независимости»; когда с непринужденностью заправского меломана он весело напевает арии из популярных итальянских опер…
Незатейливая «безделушка» драматурга Альдо Николаи сделанная живо, обаятельно и со вкусом, на мой взгляд, куда больше отвечает мечтам и чаяниям современного зрителя чем модная нынче «шоковая терапия» с нагромождением всевозможных ужасов. Публика просто уже не в состоянии реагировать на эти ужасы адекватно. Она голосует ногами, стыдливо покидая откровенно конъюнктурные спектакли после первого действия. Или отважно досиживает до конца из соображений престижности (да и деньги за билет, как правило, заплачены немалые), но при этом неимоверно страдает от душевной тоски.
Вряд ли критики справедливы, априори списывая в разряд заведомо слабых и неудачных все антрепризные актерские работы скопом. Мол, актеры бы и рады сыграть в полную силу, да никому это там не нужно.
Конечно, ни в «Койке», ни в «Искушении» Сергей Безрукое не достиг каких-то особых вершин. Но зато получил возможность попробовать себя в тех ролях и жанрах, которых не дождался в родных театральных стенах. А поскольку халтуру он не приемлет и «между прочим» ничего не делает, то и эти работы получились весьма достойными.
Шумахер за рулем «Запорожца»
Кто-то из критиков написал, что если бы сегодня было живо кино — то великое советское кино, которое в одну секунду делало знаменитым Табакова и Гурзо, Куравлева и Смоктуновского, — Сергей Безруков был бы звездой экрана. В этом нет преувеличения. Помню, моя знакомая, посмотрев «Ноктюрн для барабана и мотоцикла», сказала о Безрукове: «Завораживает!». Вообще-то она довольно сдержанная женщина, это 19-летний актер на экране пленял какой-то пьяняще-праздничной раскованностью. Недаром ему тут же вручили приз актерского кинофестиваля «Созвездие» с исчерпывающей формулировкой «За обаяние и непосредственность». Кажется, именно тогда Табаков и обронил об ученике ставшее крылатым: «Он словно проглотил атом солнца».
Во время просмотра «Ноктюрна…», особенно первой части, где еще не сгустились драматические тучи, испытываешь непреходящее изумление. Не оставляет ощущение, что кинодебютант по органике не только не уступает детям, кошкам и собакам, с которыми традиционно принято сравнивать степень актерской достоверности, но существует в кадре даже естественнее, чем они. Хотя подобное, вроде бы, невозможно…
Здесь следует сделать важное отступление. В кино органика нынче почитается пуще мастерства, обаяние — пуще профессионализма. Умеешь ли ты играть, особого значения не имеет. Недаром Бодров-младший, ведать не ведающий ни о каких актерских системах, сегодня чуть ли ни главная звезда отечественного кинематографа. Но если все-таки относиться к кино как к полноценному виду искусства, хотелось бы лицезреть органику в сочетании с каким-никаким, но профессионализмом.
Думаю, однако, что поначалу голову матерым киношникам вскружила именно магия безруковской суперестественности. Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что ради крошечной роли в «Крестоносце» продюсеры с готовностью выложили за юного артиста кругленькую сумму администрации «Табакерки». Уж очень хотели, чтобы Сергей у них снимался. И, конечно, в первых картинах авторы сознательно делали ставку на внутреннюю окрыленность, свойственную его человеческой и творческой природе. Безруков на экране словно бы светился. Двигался, подчиняясь поющему внутри него ритму.
Но концовки всех киноисторий неизменно были одинаковыми: пригласив Безрукова на небольшую роль, режиссер после работы с ним сокрушался; ах, если бы были деньги (силы, здоровье), обязательно бы поставил фильм специально на вас. Купившись на свет его обаяния, кино постепенно открывало для себя вулканический артистизм и темперамент актера. Однако до сих пор не смогло предложить ему ничего, достойного того материала, который Сергей играл и играет в театре.
Впрочем, и сам он первые годы интересовался кино гораздо меньше, чем сценой. Театральная работа поглощала его целиком, а редкие встречи с десятой музой оставляли чувство разочарования.
Вот какой разговор состоялся у нас по этому поводу в июле 1999 года.
— Сережа, что вы почувствовали, когда критики в пух и прах разнесли фильм «Крестоносец-2»?
— Это не стало для меня неожиданностью. Фильм действительно получился никакой. Хотя у меня там заявка интересная.
— Ну вас-то как раз хвалили. «Как не оценить самоиронию кумира романтических девушек Сергея Безрукова, сыгравшего эдакого эстрадного красавчика, душку, которому в равной мере идет и защитный камуфляж, и облик вульгарной эстрадной же красотки-секси», — писала газета «Культура».
— Но кино-то все равно плохое!
— Лучше бы наоборот? Безруков сыграл так себе, но зато фильм — ого-го!..
— Нет. Хорошо бы, чтоб я там — не ах! но — нормально И кино хорошее. Тогда это посмотрят все. А так — выложился, а картины нет. Какие-то находки из этой роли я, конечно, потом все равно где-нибудь использую…
- Странно, Иван Дыховичный — отменный профессионал. Почему же столь сокрушительная неудача?
— Иногда профессиональные качества не стыкуются с профессиональными возможностями. Я имею в виду хорошие деньги на картину, аппаратуру, технику и так далее.
— В «Китайском сервизе» у Виталия Москаленко все это было, однако результат тоже, увы, отнюдь не блестящий.
— Конечно, хотелось бы, чтобы это было лучше, точнее, мощнее. Слишком много песен, что выбивает. Евгения Смольянинова гениально поет, но когда идет карточная игра, тут уже не до песен. А игра показана мало…
— Но вам роль, опять-таки, удалась.
— Она выигрышная. И неожиданная. После такой роли профессиональные ставки повышаются. Сегодня режиссерам, как никогда, важно получить одобрение критики. Все заняты самовыражением и ориентированы на актерские типажи. Даже Никита Михалков себе изменил. Раньше он каждого актера из своей команды в каждом своем фильме поворачивал к зрителю новыми гранями. Сейчас — нет. Некогда. Поискать, подумать, покрутить… Значит, искать, думать и крутиться нужно самому.
До «Китайского сервиза» меня использовали как актера комедийного плана: вышел, покривлялся — ну и молодец! И в «Крестоносце-2», и в «На бойком месте». А в «Китайском сервизе» — роль-оборотень: в начале сочная характерность, а потом — раз! — переход в иное качество. Герой-авантюрист.
— Но ведь были еще и телевизионные работы: спектакль «Брегет» по Куприну, сериал «Петербургские тайны». Небольшие по объему роли поручика Чекмарева и корнета Стевлова сыграны с той искренностью и непринужденным мастерством, которые искушенному режиссерскому глазу сразу открывают незаурядный талант. А это роли уж никак не из разряда комедийных.
— Да, они трагические. И Чекмарев, и Стевлов решают добровольно уйти из жизни, потому что поставлены перед выбором: либо смерть, либо позор бесчестия. Будучи русскими Офицерами, они, естественно, предпочитают умереть.
Но телефильмы любит смотреть зритель, а режиссеры даже в театр-то не всегда ходят. Работы своих коллег они видят только на фестивалях, поэтому я так дорожу ролью в «Китайском сервизе». Но еще больше — работой в картине «Вместо меня».
Фильм «Вместо меня» на сегодняшний день самый важный в кинобиографии Сергея Безрукова. И самый серьезный. Наконец-то широкая аудитория (картина растиражированна на видеокассетах) получила возможность убедиться, что он способен демонстрировать не одни лишь чудеса и парадоксы смеховой культуры.
Во-первых, герой Безрукова здесь — талантливый актер и режиссер из разряда «не для всех»: с собственным видением мира и своеобразием эстетических позиций, которым не грозят массовое поклонение и успех. Обозначенная пунктиром эта тема тем не менее многое дает для понимания характера персонажа, движимого вперед вечными надеждами и сомнениями и воспринимающего актерство не как самодостаточную деятельность, а как способ разговора о жизни и о человеке. Это сообщает роли дополнительный объем и теплоту невольной исповедальности.
Во-вторых, молодая звезда существует в кадре на равных с Олегом Стриженовым — легендарным мастером (чей талант общепризнан и всенародно любим), делом подтверждая свой звездный статус.
В-третьих (и главных), Ольга и Владимир Басовы попытались снять философскую притчу и обратить зрительские взоры в экзистенциальную глубь человеческой души, что для современного отечественного кинематографа уже само по себе событие.
К сожалению, история взаимоотношений английского старика-миллионера и молодого художника, готового на унизительную сделку во имя исполнения своих творческих замыслов, но не сразу осознающего, что цепь компромиссов ведет к утрате собственного «я», в фильме постоянно соскальзывает в мелодраму. Лишь героические усилия дуэта Стриженов — Безруков не позволяют мелодраматическому духу одержать верх. Однако на протяжении всего действия не покидает ощущение, что этим двоим слишком тесно в рамках «женского» сценария Виктории Токаревой, а в кульминационных сценах «мужских разговоров» и вовсе возникает вопиющая дисгармония текста (он воспринимается как откровенно мелкотравчатый) и глубины актерского перевоплощения.
Вспоминается работа Сергея Безрукова в фильме Игоря Апасяна «Притяжение Солнца», где он озвучил последнюю роль Смоктуновского, виртуозно передав сложнейшую гамму знаменитых голосовых модуляций. Зрители ни секунды не сомневались, что слышат самого Иннокентия Михайловича, и всякий раз испытывали нечто, похожее на потрясение, читая заключительные титры. Тут была в своем роде роль в роли: от Безрукова требовалось понять механизм творчества гения, да еще и войти вместе с ним в образ умирающего… Задача из области высшего пилотажа с явным мистическим оттенком.
— Сережа, говорят, что голос — это звук души. Что вы поняли после этой работы о душе Смоктуновского? — спросила я после просмотра картины.
— Я понял, что он действительно гениальный актер. Очень непростой, со своим особым внутренним миром, даже, я бы сказал, несколько чуждый другим людям. Бывает игра в гениальность. Смоктуновский не играл. И голос его… он жил: вздыхал, переходил на хрип, сердился, страдал — передавал все, что может чувствовать человек.
Нет, недаром один режиссер, не удержавшись, сказал, что Сергей Безруков в кино — это Шумахер, которого посадили за руль «Запорожца». Пресловутая актерская зависимость от разнообразных внешних факторов (творческих ресурсов режиссуры особенно) сводит на нет результат его киноработ. Можно сколь угодно много рассуждать о таланте Безрукова, сверкающем в самом крошечном экранном эпизоде, но сами фильмы всерьез анализировать не хочется. Вот разве что несостоявшийся проект Бориса Бланка «По щучьему веленью», где Безруков должен был сыграть Емелю, мог бы стать заметным явлением в киноискусстве. Во всяком случае, отснятый материал, выдержанный в стилистике русского лубка, обещал необычное зрелище. К тому же Емеля, в качестве классического представления о русском национальном характере, идеально ложится на индивидуальность Сергея. Но картину «заморозили» по банальной причине безденежья.
Видимо, остается только ждать, надеяться и верить, что в отечественном кино все-таки настанут времена, когда Безруков-Шумахер пересядет с «Запорожца» на «Феррари»…
Наедине с собой
Для актера счастье, когда много работы», — Безруков часто произносит эту фразу. Словно заклинает судьбу, чтобы та от него не отвернулась. Он ведет жизнь заядлого трудоголика: дай Бог, если в месяц у него выпадет три-четыре дня, свободных от спектаклей, съемок или концертов. Но когда однажды зашел разговор о том, что художнику, как воздух, необходимы тишина и уединение, Сергей обмолвился: «А я всегда наедине с собой».
И стало окончательно ясно, что при всей искренней распахнутости навстречу людям и миру он наделен той душевной застенчивостью, которая не позволяет посторонним чересчур глубоко проникать в его внутренний мир.
Это существенное свойство у него в равной степени как человеческое, так и артистическое, поскольку таит талант, нелегко и не сразу разгадываемый в своих просторах.
На языке вертится банальное: талантливый человек талантлив во всем. Но неновая эта мысль действительно верна, и любые «побочные» пристрастия характеризуют Безрукова как творческую личность ничуть не менее, чем его театральные и киноработы. Иногда, быть может, даже более. В конце концов, в театре он играет то, что ему предлагает режиссер, а в собственной жизни роли выбирает только он сам.
Приют спокойствия
Он до сих пор чуть ли не ежедневно наведывается к родителям в скромную двухкомнатную квартиру, не скрывая, что атмосфера родительского дома по-прежнему дает ему ни с чем несравнимое ощущение крепкого тыла, покоя и уюта.
Это действительно очень симпатичный дом, в котором нет ничего показного, рассчитанного на эффект. Никакого сногсшибательного дизайна или музейного антиквариата. Книги, разнообразная аппаратура, несметное количество мягких игрушек, подаренных поклонницами, и множество значимых для хозяев мелочей: маски с острова Родос, шляпа из Австралии, «кепка Жириновского», настоящий цыганский кнут с хитроумно запрятанным ножом внутри — атрибут из спектакля Театра сатиры «Прощай, конферансье», в котором играет Виталий Безрукое… Куда ни взглянешь, всюду фотографии — сцены из спектаклей, кадры из фильмов, семейные портреты. Акварели на стенах. Зачехленная гитара в углу. Гармошка, бережно упрятанная в футляр. И почему-то очень много часов… Дома Сергей утихает, превращаясь из вулканического творца в гостеприимного хлебосола; разливает чай, готовит бутерброды. Но мучить его расспросами жаль. Да и какой он собеседник после того, как только что прошел все круги ада в «Психе». Роль гида благородно берет на себя Безруков-старший.
— Вот тут у нас есенинский «иконостас».
Виталий Сергеевич демонстрирует книжный шкаф в комнате сына, правая половина которого целиком отдана «экспонатам» о Сергее Есенине: толстые тома, подарочные книжки-малышки златокудрый парик, в котором Безруков-младший играет в спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»…
— Здесь собрано все, что когда-либо было издано о Есенине в нашей стране. Книга Хлысталова. Книга Коробова. Роман Паркаева. Книга о Дункан. Дореволюционное издание «Радуницы». Парижское издание есенинских стихов 1924 года. Полное собрание сочинений, выпущенное к 100-летию со дня рождения Сергея Александровича. Кроме того, что мы сами покупали, книги нам дарят. Иногда бывает уже в третьем экземпляре, но иногда — неожиданные издания.
Внимание привлекает необычный ковер на стене. С вытканным есенинским ликом.
— Изделие знаменитой Люберецкой ковровой фабрики, — поясняет Виталий Сергеевич. — Награды, полученные за роль Есенина: и медаль лауреата Госпремии, и медаль от Лужкова — сам Сережа не носит. Он приколол их к этому ковру — видите, поблескивают? — потому что считает, что основная заслуга принадлежит не ему, а Сергею Александровичу. Каждый раз после спектакля «Жизнь моя…» он едет на Тверской бульвар, к памятнику поэта, и кладет к его ногам все зрительские цветы. Я уже знаю, что памятник на Тверском Сергею Безрукову гораздо более по душе, чем тот, что поставлен в Рязани. Что культ Есенина в доме Безруковых издавна (даже фокстерьера — всеобщего семейного любимца — зовут, конечно же, Джим). Что, готовясь к роли обожаемого поэта, Сергей изучил его биографию досконально, с навыками настоящего исследователя. Даже раскопал в каком-то старом журнале песню «антоновцев», услышанную Есениным заграницей и долгие годы бывшую под запретом советской цензуры. Ту самую, которая стала финальной точкой спектакля — «Что-то солнышко не светит»…
Впрочем, столь серьезный подход у Безрукова — к любой роли. Больше того, чем бы он ни был поглощен: музыкой, стихами, путешествиями или любовью — все оказывается причастным к его актерскому творчеству. Все пригождается.
— Я закончил только музыкальную школу и не могу сказать, виртуоз, — говорил он, сыграв «Амадея» в МХАТе. — По фортепиано у меня была всего лишь «четверка». Но, правда, «с плюсом». «Плюс» поставили «за отношение»: я играл Баха по-своему, по-безруковски. Делал какие-то совершенно невозможные паузы, остановки, непредусмотренное крещендо. То есть «баловался» над Бахом. Точно так же мой Моцарт в спектакле «балуется» над маршем Сальери.
Надо ли упоминать, что записи музыки Моцарта в доме Безруковых появились задолго до того, как Сергей поступил в Школу-студию МХАТ?
Он замечательный рассказчик. Очень эмоциональный и с тонким чувством образности. В его повествовании о поездке в Австрию (в 1994 году студенты Табакова проходили стажировку в театре Макса Рейнхарда) оживают старинные улочки Зальцбурга, скрипят рассохшиеся ступени, по которым молодой Моцарт взлетал к себе на третий этаж, и даже слышится веселая песенка Папагено из «Волшебной флейты». Но и в эти минуты под маской увлеченного лицедея угадывается натура отчаянно серьезная и самоуглубленная. Ох, неслучайно отец подарил ему в день 16-летия знаменитое «вольтеровское» кресло — предмет жгучей зависти коллег-артистов!..
«Чтобы было где посидеть, подумать о жизни», — заговорщически улыбается Безруков-старший.
Нет, в ролях Сергей Безрукое никогда не играет себя, даже в самой близкой и любимой, о чем не устает повторять журналистам: «Есенина я чувствую и понимаю, как никого. Но все равно я другой. Я не скандалист. Я не того буйства энергии и темперамента, которые были у него в жизни. Я могу воссоздать это на сцене, сделать реальным и настоящим. Но только на сцене».
Он играет себя, точнее, остается собой, не прячась за чужими характерами, в своих акварелях и песнях.
Без маски
Все мои так называемые авторские песни — это песни-настроения. Они родились от каких-то потрясений в жизни: воспоминание о первой любви, очарование от мимолетной встречи с девушкой — никакого развития, просто ощущения от того, что ты ее увидел… Еще у меня есть песни на есенинские стихи: «Хулиган», «Может, поздно, может, слишком рано»…
Песни он начал сочинять еще в студенческие годы. Тогда же записал их на магнитофон — видимо, считая необходимой частью профессионального тренажа — и благополучно забыл об этой кассете, а потом и вовсе ее потерял.
Кассета обнаружилась энное количество лет спустя совершенно неожиданным образом — ее как подарок молодой театральной звезде преподнесла поклонница. Оказалось, что когда-то Виталий Сергеевич взял магнитофонную запись в Театр сатиры: похвастаться. И песни Безрукова-младшего имели успех. Кто-то из монтировщиков дал переписать их знакомым. Те — своим знакомым… Словом, дебютный альбом новоиспеченного барда пошел гулять по Москве, чтобы в конце концов вернуться к удивленному автору, никак не ожидавшему народного признания.
Прослушав собственные песни заново, Сергей пришел к выводу, что они действительно неплохи — и время от времени стал включать в программу творческих вечеров. Сейчас он даже всерьез подумывает о выпуске сольного компакт-диска.
— В пику нынешним эстрадным звездам? Кстати, почему актеры, как правило, очень критически к ним (эстрадным звездам) относятся?
— Актер — человек профессиональный, а эстрадных звезд у нас выдувают, как мыльные пузыри. Чаще всего они нигде не учились. Хотя в ГИТИСе, например, есть музыкальное отделение. Которое, кстати, закончила Кристина Орбакайте. Можно спорить о том, как она поет, но она всегда старается обыграть песню актерски. Большинство же наших звезд — непрофессионалы, и это раздражает.
Ну, Орбакайте — это так, к слову. Истинные музыкальные пристрастия Сергея Безрукова лежат совсем в иной плоскости: фольклор, классика, настоящий рок («Битлз», «Куин», Шевчук, Гребенщиков, «Наутилус») и… хиты 70-х («Из вагантов», «Не надо печалиться», «Синий-синий иней»…). Он неисправимый романтик и лирик, поэтому в музыке для него важна душа. Во всем многообразии ее проявлений — «от печали до радости», от падения до полета, от тоски до разудалого веселья. Не оттого ли гармошку (помните; «Гармошку я вообще считаю символом русской души, вот этот ее разворот нараспашку…») Сергей освоил меньше, чем за месяц… Абсолютно самостоятельно… И, конечно же, задумчиво-тихие наигрыши волнуют его намного сильнее, чем залихватские частушки. «Потому что в них есть пронзительная русская боль», — говорит он.
Эта же боль и щемящая печально-смиренная нежность — в его акварелях. Он никогда не рисует портретов и не погружается в мир театральных фантазий. В профессиональной работе — да, только дай волю, и бурное воображение художника-декоратора Сергея Безрукова вырастит фиолетовые листья на разлапистом дереве (дипломный спектакль «Летний день») или затянет все пространство сцены серой мешковиной с прорезями — для рук, для ног, для головы (эпизод репетиций «Короля Лира» в фильме «Вместо меня»). Но вне образа, оставаясь один ни один с чистым холстом…
За горами, за желтыми долами Протянулась тропа деревень. Вижу лес и печальное полымя, И обвитый крапивой плетень.— Сережа, понятно, что живопись для вас — хобби. Но в каждой шутке только доля шутки. Глядя на ваши акварели, во-первых, понимаешь, что вы просто сердцем прикипели к пейзажу средней полосы России. С другой стороны, некоторые из ваших работ были опубликованы в специализированном журнале «Художественный совет», чего удостаивается отнюдь не всякий. Давно началось это увлечение?
— С детства. Сколько себя помню, я всегда рисовал. Причем очень хотел рисовать маслом, но первая работа получилась неудачной: мне не хватило белил, и картинка вышла очень темной. Со временем она еще больше потускнела, поэтому я решил сделать стиль «под масло», используя акварель и гуашь. Думаю, что с профессиональной точки зрения в моих работах можно найти массу огрехов. Но это тоже, как песни, — пейзажи-настроения.
По-настоящему талантливый человек — бездонный колодец, поэтому нельзя понять личность актера, разбирая лишь его роли. Когда-то было принято считать иначе. Еще недавно Сергей Безрукое и сам был убежден, что сцена не прощает артисту увлеченности жизнью, требуя от него полной самоотдачи. В противном случае подмостки начнут мстить, отторгая изменника. И могут даже вытолкнуть его вон из искусства. Теперь он уже не столь категоричен.
— Делу — время, потехе — час. Нельзя быть монахом. Монах — это человек, у которого для потехи нет ни минуты. Только профессия. Да, надо делать дело, ради которого человек приходит в мир. Но помимо этого человек должен жить.
На мой взгляд, подобная позиция гораздо более продуктивна. Для искусства в том числе.
Талант и поклонники
Но сколько бы умных фраз ни писали критики, анализируя творчество человека, решившегося посвятить себя театру и кино, отношения актера с публикой строятся на иных, не рассудочных основах. Они, эти отношения, носят сугубо эротический характер. Актер в каждой своей роли соблазняет публику заново и, как водится при соблазнении, либо одерживает убедительную победу, либо терпит сокрушительное поражение. Соответственно и публика делится на две неравные категории. Первая, довольно немногочисленная, ведет себя, как любящая и мудрая жена, готовая понять и простить неудачу и безусловно верящая, что в следующий раз все будет иначе. Вторая непредсказуема, как поведение капризной и взбалмошной любовницы, никогда не знаешь, чего от нее ждать; то ли чашечки утреннего кофе в постель, то ли дикого скандала, после которого, громко хлопнув дверью, она уйдет к другому.
Конечно, актер свою публику не выбирает, это публика выбирает актера. С одной стороны. А с другой…
— Сережа, насколько работает формула: «Скажи мне, кто твоя публика, и я скажу, какой ты артист»?
— Актер не должен задумываться над этим, он должен играть — и все. Иногда смотришь, что происходит на сцене, жутко становится: хуже, чем на первом курсе актерского факультета, — а зал сходит с ума. И тут говорить о том, допустим, что у этих конкретных зрителей хороший Вкус, не приходится. Но какой бы ни была публика, ее нужно любить.
— Наверное, это не всегда получается. Одна известная актриса признавалась, что иногда испытывает к публике чувство ненависти.
— Человек говорит «ненавижу», когда не может с чем-то совладать, когда у него нет сил и эмоций бороться.
— Вы часто вынуждены вступать в борьбу с залом?
— Бывает. Например, в Новосибирске, куда я ездил с программой «Ностальгия по «Куклам», ко мне после концерта подошла довольно экзальтированная девушка. «Безруков, я не думала, что вы такой пошлый!» — мелодраматически сказала она. Я попытался ей объяснить, что политики интересны только тогда, когда они «спускаются» на наш уровень и говорят обычным человеческим языком. Когда они разговаривают тем языком, который мы слышим по телевидению, — это скучно.
— Разочаровали зрительницу?
— Надеюсь, что в итоге она все-таки приняла условия игры. Публика всегда должна принимать условия игры. «Ностальгия…» — это же не спектакль, это концерт, шоу, поэтому я старался ориентироваться не на театральных эстетов, а на простых людей. Которые пришли отдохнуть и посмеяться.
— Ваших поклонниц журналисты окрестили «безруковка-ми». Есть среди них самые-самые верные?
— Ну, вот есенинские… Есть, например, девушка Оля. Она ходит почти на все мои спектакли и потом пишет замечательные стихи:
Стиснув сердце, боль не отпускает, Холодом седым скользит по коже. И опять, душою оживая, Я спешу к Есенину Сереже. Вечно молодой и синеокий… А за то, что сердцем был безгрешен, Кем-то подлым, мерзким и жестоким Был убит цинично и повешен. Страшно представлять, как жутко били, Васильковых глаз гасили пламя, Золото волос в крови топили. Нелюди с железными сердцами. В чем виновен? В том, что пел Россию? Пел о том, что слишком наболело? Не хватило мудрости и силы, Подлость разозлила до предела. И от боли острой, невозможной Никуда не спрятаться, не деться. От тоски и памяти тревожной Никогда душой не отогреться.— Это помогает?
— Помогает. Потому что родители родителями, но когда есть люди, которые абсолютно бескорыстно… А проверяются настоящие поклонницы, наверное, знаете чем? Когда у тебя появляется романтическое увлечение, о котором знают все, для поклонниц, имевших на тебя виды, это, конечно, удар. Те же, кому ты был интересен прежде всего как артист, реагируют спокойнее: а неважно, люблю — и все. Когда в прессу впервые просочились слухи, что я женюсь, у меня даже был разговор с батей. Он сказал: «Ты понял, что ты сделал? Наговорил-наговорил во всех интервью… Поклонницы-то — разбегутся».
— Разбежались?
— Нет, принимают по-прежнему искренно. Но визга-писка стало меньше. С другой стороны, это очень полезно. Голова-то от успеха начинает кружиться, а тут — бах! — понимаешь, что тебе порой аплодировали не только из-за того, что ты такой замечательный актер Сергей Безруков, а еще и из-за того, что ты был холост и представлял собой, так сказать, «реальное брачное лицо».
Сегодня принято сетовать на деградацию зрительских интересов. Мол, публика перестала приходить в театр за ответами на бередящие душу вопросы, не включается в творческий процесс сценического действия, «не слышит» психологических нюансов, реагирует только на сильно действующие грубые акценты… В массе своей это действительно так. Но многие ли из современных актеров отваживаются утверждать мессианское предназначение искусства? Многие ли тратятся так, будто каждый выход на сцену — последний в их жизни?
Не все спектакли и не все роли Сергея Безрукова одинаково ценны по своему художественному уровню. Но по степени самоотдачи и глубине погружения в материал он по-прежнему выделяется на фоне других. По-прежнему, потому что уже его первые шаги поражали техническим совершенством и пугающим вдохновением, что рождало смутное беспокойство, неясно было: куда — выше?.. Оказалось, можно и выше, и виртуознее, и точнее. Даже в пределах одной роли, исполняемой несколько сезонов кряду.
Видимо, поэтому и публика, приходящая «на Безрукова», явно не из числа деградировавшей. Среди вопросов, которые задают актеру на творческих вечерах, постоянно мелькают те, что выходят далеко за рамки суетности и моды:
«Пожалуйста, расскажите подробнее о своей работе в театре. Есть ли у вас любимая роль?»
«Уважаемый Сергей, хотелось бы узнать ваше мнение о душе, о смысле жизни, о вечности».
«Очень просим, почитайте что-нибудь из Есенина».
Да, отношения актера и публики строятся не на рассудочных основах. Но популярность популярности рознь. Приятно, когда широкое признание и любовь у зрителей находит талант трепетный и своеобычный. Приятно, что торжествует чувство справедливости — минуя временные сенсации и поветрия, люди отдают должное тому, что истинно и непреходяще.
Конечно, и критика, и зрители обожают «открывать» таланты. Яркий актерский дебют обязательно сопровождается многочисленными рецензиями, фотографиями, интервью. Но вспыхивают новые «звезды» и «звездочки» — и внимание к вчерашнему дебютанту ослабевает, несмотря на то, что его последующие работы порой бывают и сильнее, и пронзительнее предыдущих. Подобное «охлаждение» испытал даже великий Смоктуновский. Рассказывают, что после премьеры «Иванова» во МХАТе, где Иннокентий Михайлович блестяще сыграл заглавную роль, он спросил критика Свободина: «Будете писать о моем Иванове?». И тот ответил: «А что о тебе писать — о тебе уже все написано…»
Сергею Безрукову еще предстоит пройти через это. Но думаю — уверена! — обязательно останется часть публики, которая будет следить за его творчеством всегда.
Ноябрь 2000 года.
Автор выражает благодарность за помощь в работе над книгой
Наталии Михайловне и Виталию Сергеевичу Безруковым, Олегу Павловичу Табакову, Николаю Федоровичу и Андрею Клещевым, Ольге Викторовне Эрзютовой.

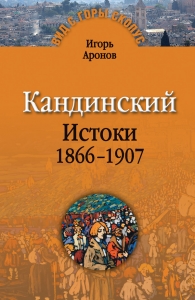



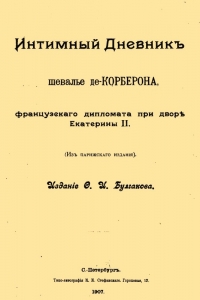


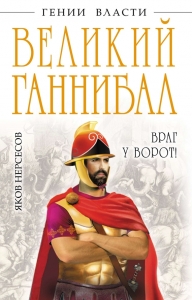
Комментарии к книге «Атом солнца», Вера Звездова
Всего 0 комментариев