1
Светлое северное небо слабо озаряла туманная луна. Две лодки плыли по озеру.
Ленин сидел на корме первой лодки и все время, напрягая зрение, вглядывался в белесый сумрак далекого берега. Он размышлял о том, что если там, на заозерном сенокосе, будет спокойно и безопасно, он сможет выписать туда синюю тетрадь с заметками и закончит давно наболевшую и чрезвычайно важную брошюру.
Он вглядывался в туманную даль настороженно и пристально, потом подумал, что это вглядывание ни к чему и что можно, в сущности, закрыть глаза. Такая мысль не приходила ему в голову раньше. Закрыв глаза, он теперь только услышал скрип уключин, бормотание и всхлипы воды, теперь только почувствовал себя сидящим в лодке под необъятным небом, на котором лунный лик в дымке легкого тумана неторопливо отплывает все влево, все влево.
Его обволокло ощущение глубокого покоя, впервые за долгое время. Было похоже на то, как если бы он много месяцев подряд бежал, бежал быстро, то в гору, задыхаясь, то под гору, еле сдерживая бег; мимо проносились дома, улицы, города, страны, людские толпы; бесконечное множество слов, выкрикиваемых на разные голоса и произносимых жарким шепотом – слова русские и иностранные, ученые и простецкие, жесткие и мягкие, дорогие и ненавистные, – напирали, сталкивались, били в него, как струи ветра в бегущего. И вот он сразу остановился. И оказался в маленькой лодке, плывущей под светлым небом по темной воде. Оборвалось завихрение слов, мелькание лиц, замерли в мозгу молоточки-головоломки почти неразрешимых проблем. Уключины тихо поскрипывали, вода безмятежно бормотала.
Между тем берег приближался. Не было бы ничего сверхъестественного, если бы у самого берега лодку встретил винтовочный залп. Стоило одному из десятка людей, знавших местопребывание Ленина, проговориться или нарушить правила конспирации, и здесь могла очутиться засада юнкеров и казаков. За каждым деревом на берегу мог прятаться юнкер или казак. Ленину вспомнилось виденное им в прошлое воскресенье у Таврического дворца лицо одного казака – тупое и безглазое, такое же красное, как и лампасы на его штанах. И Ленин представил себе, что именно этот бравый казак и может стоять за одним из деревьев на берегу – с узкими глазами, не способными ничего видеть, способными только прицеливаться.
Ленин не чувствовал никакого страха и подумал о том, что, в сущности, мало дорожит жизнью Ульянова. Этот Ульянов, родившийся сорок семь лет назад в городе Симбирске, прочитавший горы книг и исписавший горы бумаги, очень устал, страдает бессонницей и головными болями. Быстрая и безболезненная смерть не пугала его, человека ох как твердо знающего с отроческих лет, что он смертная частица неумирающей природы! Но жизнь Ленина, вождя самой революционной партии в России, следовало сохранить обязательно.
Видно, жизнь его была нужна революции, если его смерть так понадобилась врагам ее. Разумеется, долгие годы готовя революцию, он готовил и себя к ней. Право же, он даже ходил помногу в городах и горах Европы, плавал подолгу в ее реках и озерах, бегал на коньках и ездил на велосипеде – ради революции: чтобы не сломаться физически, когда она грянет, чтобы выдержать ее напряжение, когда настанет час действий. Однако о значении собственной личности он задумывался редко и только недавно, три месяца назад, вернувшись в Питер после десяти лет эмиграции, впервые полностью осознал свою роль в событиях.
С юмористическим удивлением, как о чем-то доисторически давнем, вспоминал он переезд через финскую землю – последний этап своего нашумевшего на весь мир дерзновенного возвращения в Россию. Они с женой были тогда озабочены проблемой: каким образом, если поезд придет в Петроград ночью, смогут они добраться на Широкую улицу, к Анне Ильиничне, – найдется ли извозчик поздно вечером на Финляндском вокзале, тем более в пасхальный день. Когда же он увидел на перроне почетный караул военных моряков и толпу встречающих, массу людей на Привокзальной площади, броневики у выхода из царского подъезда вокзала и военные прожекторы, осветившие красные флаги и надписи «Привет Ленину», он ощутил всем сердцем, как слабо чувствовал за рубежом размах революции и как много сделано в эмиграции, в повседневной, лишенной внешних эффектов, изнурительной работе, иногда казавшейся ничтожной по результатам, комариными укусами на огромном теле царского исполина. Как живое воплощение этой негромкой и будничной работы промелькнул в рядах встречающих питерский рабочий Чугурин[1], воспитанник партийной школы в Лонжюмо, близ Парижа. Лицо Чугурина было мокро от слез.
Поднявшись на броневик, Ленин увидел море кепок и картузов и немножко устыдился своего черного заграничного котелка, такого несуразного на броневике, среди толп восставших рабочих. Он снял котелок как вещь, которая уже никогда не понадобится, спрятал его за спину, потом положил на сиденье рядом с шофером – солдатом броневого дивизиона. Когда броневик тронулся по улицам Петрограда, сопровождаемый тысячной толпой, Ленин вспомнил о своих тревогах насчет извозчика и подумал не без некоторой грусти, что, вероятно, никогда больше не будет ездить на извозчике, никогда больше не будет «частным лицом», что наступила пора либо возглавить революционную Россию, либо умереть. Эта мысль, несмотря на все возбуждение и восторги тех дней, иногда мелькала у него в голове.
Тогда же он вспомнил глубокомысленное иносказание «Одиссеи»: полжизни стремясь к родной Итаке, Одиссей не узнал ее, когда очутился на ее берегу. Он, Ленин, сразу узнал свою Итаку, но не сразу понял, что он – ее Одиссей.
В те дни он это понял. Он понял, что является человеком, который способен чрезвычайно тонко чувствовать пульс революции, ее приливы, отливы, подспудные течения. Никогда еще не был он так проницателен, не видел так ясно внутренние пружины, двигающие людьми, группами людей, собраниями и учреждениями, с такой легкостью не отличал важное от второстепенного.
Он тогда с особо пристальным вниманием наблюдал своих партийных товарищей и, отдав должное их опыту, революционному пылу и разнообразным талантам – ораторским, литературным и организационным, – пришел к выводу, что некоторые из них могли бы заменить его, если бы его не было. Но поскольку он был, никто из них не мог его заменить. Русская революция не зависит от одного человека, но она, по-видимому, выдвинула именно его, чтобы он выразил ее наиболее ясно и последовательно.
Ленин неподвижно сидел в лодке, закрыв глаза. Отдаваясь ощущению покоя, он, конечно, сознавал, что покой этот мнимый, что вот сейчас, сию минуту, все проблемы дня опять встанут перед ним во весь свой гигантский рост. Еще мгновение – и снова с неотвратимостью кровообращения прихлынут к сердцу переживания и тревоги последних дней, глухое беспокойство за Надежду Константиновну, сестер, партийных товарищей, сдержанная, но тем более сильная нежность к ним – людям его партии, жизнерадостным и аскетическим, пылким и суровым, преданным общему делу до последнего дыхания; снова ранит его острое как бритва чувство ответственности за жизнь и душу рабочих, матросов, солдат, чьи лица сейчас опять замелькают перед его умственным взором. Он мягко сопротивлялся возврату трудных мыслей и сложных политических расчетов, ему надо было отдохнуть от них, и он отдыхал сколько мог. И когда уже нельзя было от них уйти, он открыл глаза, чтобы встретить их возвращение, как пловец встречает грудью волну.
Открыв глаза, Ленин увидел совсем близко неподвижные кусты. Стена низкорослого леса стояла у самой воды. О борта лодки начали царапаться камыши. Лодка ткнулась носом в берег.
2
Емельянов сложил весла, мгновение посидел, прислушиваясь, потом встал, вышагнул на берег и вытянул за собой лодку. Коля соскочил. Рядом пристала вторая лодка. Там зашептались, засуетились. Недалеко человеческим голосом закричала выпь.
Ленин нащупал у своих ног баул с бумагами, взял его под мышку и сошел на берег. Подошли четверо из другой лодки. Емельянов окинул хозяйским взглядом людей, лодки, озеро и кивнул Ленину:
– Двинулись.
Он пошел вперед, Ленин за ним. Зиновьев[2] и сыновья Емельянова – Коля, Александр, Кондратий и Сергей – пристроились сзади друг за дружкой. Вначале ноги ощущали влажную, чуть посапывающую под тяжестью шагов низину, затем почва стала тверже. Пахло болотом и луговыми травами.
Емельянову была знакома эта тропинка. Он досконально изучил местность перед тем, как везти сюда Ленина, однажды даже приезжал сюда ночью. Поэтому он шел уверенно, немножко вразвалку, довольный тем, что все так точно продумал, и желая, чтобы Ленин это заметил. Мешок с вещами легонько оттягивал его правое плечо. Уверенный в безлюдье этих мест, он все-таки огорчался тем, что Ленин запретил ему брать с собой какое бы то ни было оружие. У него были припасены три винтовки. Хорошо смазанные, с несколькими десятками снаряженных обойм, они лежали в одном потайном месте. Но Ленин и слышать об этом не хотел. Он только засмеялся, махнул рукой и сказал:
– Очередь для винтовок наступит позднее, берегите их. Вы говорите, они смазаны? Это хорошо. Они будут нужны. Не три штуки, а три миллиона; на меньшее я не согласен. А три нас не спасут. В случае осложнений они нас только сделают смешными. Смешными людьми или смешными трупами. Сегодня мы с вами политики, а не бойцы.
Емельянов был старым партийным боевиком, через его руки в 1905 году и позднее прошло немало винтовок. Он считал, что оружие никогда не может оказаться излишним. С наганом в кармане или с винтовкой за спиной он чувствовал бы себя уверенней. Но он, поворчав, смирился.
Несмотря на то что Ленин несколько дней жил у него в сарайчике на чердаке, спал там на соломе и ел вместе со всей семьей картофельный суп, селедку и пшенную кашу с молоком, охотно беседовал с детьми и Надеждой Кондратьевной и частенько помогал ей мыть посуду – одним словом, жил общей с ними жизнью, Емельянов и теперь с трудом представлял себе, что ровное дыхание человека над самым его ухом – дыхание Ленина. О Ленине говорила вся Россия. Нельзя было проехать в пригородном поезде, не услышав это имя, еще три месяца назад известное не слишком широкому кругу большевикам-партийцам, самым передовым рабочим и, конечно, активным деятелям враждебных большевизму партий. С его приездом в Питер в разноголосом хоре взбудораженной России зазвучал новый голос поразительной силы и звонкости, все нарастающий и нарастающий, так что он вскоре стал заглушать все другие голоса. Это было похоже на могучий призывный клич трубы среди верещания свистулек, визга губных гармоник и теньканья балалаек. Не то чтобы рабочие, а тем более рабочие-большевики, не понимали до апреля своих классовых интересов. Но их захлестнуло ощущение непривычной свободы, их время занимала охота за переодетыми в штатское жандармами и шпиками, митинговщина, бесконечные выборы и депутации. Рабочие Сестрорецкого оружейного завода, где служил Емельянов, собственной властью уволили начальника завода генерал-майора Гибера и его помощника генерал-майора Дмитревского; Главное артиллерийское управление скрепя сердце утвердило решение рабочих. Все были страшно довольны этим, ходили веселые и гордые. Еще 21 марта рабочие на общем собрании, после доклада представителя питерских большевиков, постановили, что «все меры Временного правительства, уничтожающие остатки старого строя, укрепляющие и расширяющие завоевания народа, должны встречать поддержку рабочего класса». Две недели спустя такая резолюция была бы уже невозможна.
Многие большевики, в том числе сам Емельянов, и до приезда Ленина выражали примерно те же мысли, что Ленин, но это были только разговоры, они не имели обоснования, в них отсутствовали твердое знание и убежденность. Хотелось всех поздравлять, всем верить, – по крайней мере всем, кто носил на груди красный бант. Пока не раздался тот призывный клич трубы.
Луна пропала за тучей. Емельянов слышал за собой легкие шаги Ленина. И душа Емельянова преисполнилась восторга и веселого злорадства оттого, что он спрячет Ленина в этой чащобе от всех врагов[3] – Керенского и Половцева, Рибо и Ллойд-Джорджа, от всех двенадцати казачьих войск, от всех чуек и поддевок всех губерний России, от разведок всех стран Антанты. Так он шел и радовался и немножко удивлялся тому, что этот «трубный глас» во плоти идет вслед за ним в рыжем пальтишке с плеча Сергея Аллилуева[4], в потертом емельяновском картузе, с баулом под мышкой.
Среди деревьев показался светлый прогал.
– Здесь, – сказал Емельянов.
Ленин остановился, осмотрелся, увидел стожок сена с приткнувшимся к нему сбоку шалашом, положил баул на траву, сделал несколько шагов в темноту, пропал в ней и, вынырнув снова, сказал, потирая руки, словно собирался приняться за косьбу:
– Косы, грабли есть?
– Есть, – ответил Емельянов. – Утром сами посмотрите.
– Надо, чтобы все было, как у настоящих косарей.
– А как же! Обязательно. Костер развести?
– А не опасно?
– Нет. Тут кругом ни души.
Ленин сказал после краткого раздумья:
– А все-таки не надо сегодня. Поспим без костра. Завтра оглядимся и начнем правильную жизнь.
Старшие мальчики – Александр, Кондратий и Сергей – пошли осматривать окрестности. Младший – тринадцатилетний Коля – остался: он любил быть среди взрослых. Зиновьев сел на траву и начал разуваться: левую ногу терла неумело намотанная портянка.
Ленин подошел к шалашу, заглянул в него, потом влез и крикнул оттуда:
– Чудесно! Замечательное жилье! Тепло, мягко и хорошо пахнет. – Он развалился на сене, негромко смеясь, потом сказал: – Конечно, хорошо бы тут иметь спрятанный в сене беспроволочный телефон для связи с Питером… Надежда на вас, Николай Александрович. Смотрите, газеты доставляйте аккуратно…
– Все будет сделано, – отозвался Емельянов, гремя в темноте котелками и чугунками. – Так. Все на месте. Ну, ребята, пошли. Запоминайте дорогу, чтоб в случае чего могли сюда попасть в любое время. Провожу вас к лодке. Завтра утром, Сашка, твой черед привозить газеты.
Ленин сказал из шалаша:
– Вы там на берегу поговорите погромче, а мы послушаем. Проверим, как слышно с берега. Коля, залезай сюда.
Коля залез в шалаш и уселся рядом с Лениным. Емельянов со старшими сыновьями ушел. Шуршание их шагов по траве вскоре затихло. Ленин обнял мальчика за плечи и сказал:
– Слушай.
Прошло минут пятнадцать. Ничего не было слышно. Ни голосов, ни плеска весел. Ленин удовлетворенно кивнул головой и спросил:
– Будем спать, Григорий?
– Неужели вы сможете заснуть, Владимир Ильич?
– Вне всякого сомнения, – ответил Ленин уверенно, хотя точно знал, что не заснет.
– Я не смогу.
– Напрасно. Мы теперь вроде затравленных зверей. Надо засыпать быстро, спать чутко… Что у вас там с ногой?
Зиновьев жалобно ответил своим тонким голосом:
– Да все эта тряпка… Завернулась… Натерла.
– Относитесь к неприятностям по-философски. Ночь под старой луной располагает к философствованию. Эта луна уже все видела… Наверно, и скрывающихся от полиции интеллигентов, не умеющих завертывать портянки.
– Вы все шутите…
Послышались шаги.
– Это я, – сказал Емельянов из темноты.
Ленин и Коля вылезли и сели у входа в шалаш. Емельянов уселся возле них. Ленин спросил:
– Вы разговаривали?
– Да.
– И громко?
– Да.
– О чем же вы говорили?
– Хе-хе… Я сказал: «Чухонцы уже спят, наверно. Завтра с утра начнут работать. Как будто люди неплохие, опытные косцы…» Саша ответил: «Только жалко: по-нашему не понимают…» И еще в этом роде.
– Молодцы. Конспираторы. Значит, на берегу нас не слышно. Это хорошо.
Зиновьев влез с одеялами в шалаш и начал там устраивать постель.
– Папа, а костер утром будем разжигать? – спросил Коля.
– Будем, будем, – ответил Емельянов.
– Я разожгу.
– Ладно. Пока залезай, спи. Уже поздно.
– Можно, я еще немножко посижу?
– Тебе бы все сидеть…
Зиновьев в шалаше повертелся и затих.
– Тут один недостаток, – негромко сказал Ленин.
– Комары? – Емельянов виновато развел руками. – Да, комарья много, особенно ночью.
– Нет, не то. Нельзя работать по ночам, вот что худо.
– Может, оно и лучше, – заметил Емельянов. – Отдохнете.
– Хорошо курильщикам, – сказал Ленин после короткого молчания. – В такую вот ночь без света сидят и курят трубочку… И безделье, в сущности, и все-таки какое-то занятие.
– А вы давно не курите?
– Никогда не курил. Времени не было, и потом – лишний расход. Жили более чем скромно, каждую копейку приходилось рассчитывать. Помимо того отвлекает. Страстишка хоть и небольшая, а все же страстишка. Привыкнешь замучаешься без табака, не сможешь работать. А в нашем ссыльном да эмигрантском бытии остаться без табака было весьма нетрудно. Так и прожил скучную жизнь: не курил, не пил вина, за барышнями почти не ухаживал… Он рассмеялся. – Но интересную все-таки жизнь, как вы думаете? А теперь так уж совсем как в авантюрном романе! Шалаш в глуши за озером… Страшные заговорщики под личиной финнов-косарей… Григорий, вы спите? Спит. Устал. Ему отдохнуть надо всерьез, он совсем измотался.
3
Но Зиновьев не спал. Его поташнивало, голова легонько кружилась. Он только что в лодке испытал странное чувство. Передняя лодка, на которой находился Ленин, была еле видна, а за ней простирался белесый мрак. И Зиновьеву вдруг померещилось, что передняя лодка приближается к отвесной бездне, а он на второй лодке, как привязанный, безвольно следует за Лениным. Ему захотелось крикнуть: «Стойте! Не надо! Остановитесь!»
После разгрома июльской демонстрации, анализируя события, приведшие к июлю, Зиновьев переживал целую гамму сомнений и опасений. Сегодня, в эту теплую сырую ночь на туманном гниловатом озере, эти сомнения с особой силой одолевали его. «Верно ли мы плывем? Не сгинем ли в этом тумане? Нет ли в отваге и непримиримости Ильича элемента сектантства или, что еще опасней, жертвенности, обреченности?» Ленин занимает слишком крайнюю позицию, все хочет довести до конца, недостаточно расчетлив, не способен на разумные компромиссы, не учитывает колебаний масс. В конце концов, размышлял Зиновьев, поеживаясь от сырости, ведь они-то всего-навсего кучка интеллигентов, а кругом простирается бескрайняя Россия, полная жадных хуторян и корыстолюбивых лавочников, пьяных мастеровых и юродивых богомольцев, Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей, чудотворных икон и животворящих крестов. Ведь эта Россия никуда не делась, она существует, хотя и в полуобморочном состоянии. Массы же необразованны, анархичны, как они доказали третьего и четвертого июля, на них трудно полагаться. Получив видимость свободы, они готовы все ломать и кромсать, как бурсаки у Помяловского. Неудача приводит их в уныние. Представители некоторых восставших полков пришли к Керенскому с повинной. Иные корабли Балтийского флота осудили большевиков как агентов Вильгельма. Кронштадт выдал «зачинщиков». Арестованы Каменев, Коллонтай, Раскольников, Рошаль, Сиверс[5] и многие другие. «Правда» и «Солдатская правда» разгромлены.
А Ленин сидит теперь возле шалаша и разговаривает так, словно приехал сюда на дачу. Он осведомляется у Емельянова, может ли рабочая семья прожить с огорода, сколько стоят овощи на рынке и, наконец, какой породы рыба водится в Сестрорецком Разливе, и говорит при этом, что «уха без ерша или хотя бы окуня – пустое дело».
Вчера Зиновьев, читая свежие газеты, с горечью сказал Ленину:
– Как быстро массы склоняются перед силой!
Не обернувшись к нему, Ленин быстро ответил:
– Это пока они сами не стали силой! – Сказав это, он обернулся, заглянул в газету, которую Зиновьев читал, пробежал ее глазами и продолжал: – Массы – народ практический, они не станут понапрасну лезть в петлю. Они не одиночки-интеллигенты. Эффектный жест и громкая фраза не по их части. Жест и фразу они уступают разным Керенским и Авксентьевым[6], кончившим классические гимназии и прочитавшим старика Плутарха[7], который не одного гимназиста уже свел с ума… Массы поймут, что провалились потому, что действовали неорганизованно. Они это учтут в следующий раз.
Зиновьев слабо улыбнулся: говорить о «следующем разе» при нынешних обстоятельствах – значило предаваться самообольщению.
Зиновьев понимал, что следовало сказать Ленину ясно и недвусмысленно о своей точке зрения. Но он молчал. Он боялся. Его мысли, выраженные вслух, были бы восприняты как проявление слабости и нерешительности качеств, презираемых Лениным и всей партией больше всего на свете. Ведь Зиновьев, повторяя настойчиво и добросовестно, с истовостью почти молитвенной, ленинские формулировки, слыл среди товарищей последовательным и стойким; расхождения, бывавшие у него с Лениным, никогда не доходили до конфликта. Если он теперь, в сложнейший момент, проявит слабость и нерешительность, то ему тут нечего делать с Лениным, нечего скрываться, нечего числиться ближайшим сподвижником, нечего поедать емельяновский ржаной хлеб и пшенную кашу. Тогда он нуль. Разве мог он на это согласиться? Он не мог.
Он питал к Ленину любовь почти женскую, полную ревности, безотчетную и расчетливую в одно и то же время, – любовь, которую Ленин умел внушать, сам о том не подозревая, всегда относя привязанность к себе только за счет привязанности к своим партийным воззрениям.
Бодрость Ленина вызывала в Зиновьеве одновременно и зависть и раздражение. Но в последние два дня перед переездом сюда, на заозерный сенокос, эти два противоречивых чувства сменились третьим, еще более сложным: Зиновьеву стало казаться, что Ленин только искусно притворяется бодрым и неунывающим, а в действительности знает, что революция не удалась, что они обречены, что палачи Временного правительства при злорадном молчании современных пилатов[8] – Плехановых, Потресовых и Черновых – казнят неудавшегося русского Робеспьера и его товарищей. Почти с торжеством ловил Зиновьев мгновения, когда Ленин задумывался, становился рассеянным и печальным. Эта рассеянность, этот скорбно-сосредоточенный взгляд вызывали в Зиновьеве приливы острого страха перед будущим и в то же время чувство приятного самоуспокоения: значит, он, Зиновьев, не так уж плох, значит, его безрадостные мысли не являются признаком ничтожества, слабости…
Верно, Ленин сразу опоминался; спохватившись, что молчит и что все кругом тоже молчат, он тотчас же начинал говорить о событиях, размышлять вслух о вероятных поворотах революции, насмехаться над близорукостью эсеро-меньшевистских деятелей, шутить по поводу неудобств подполья и т. д. Но Зиновьев не был склонен принимать его оживление за чистую монету.
Торжественный лунный свет вдруг полился в треугольное отверстие шалаша, стволы деревьев вдали затеплились, как свечи. Это напомнило Зиновьеву виденную им в венском музее картину на евангельский сюжет. В том состоянии духа, в каком он находился сейчас, он не мог не подумать, что Иисус, если он существовал как историческое лицо, тоже, вероятно, перед тем как его схватили, притворялся веселым, смеялся и шутил, а не плакал и сетовал, как это изобразили наивные и чувствительные авторы евангелий.
В этот момент Ленин рассмеялся.
– Вот и луна опять появилась, – сказал он. – И как видите, Николай Александрович, она отплывает все влево, все влево… Ни дать ни взять, как Россия в ближайшем будущем. Гм, гм… Григорий спит. Коля клюет носом. Попытаемся заснуть, а, Коля? Николай Александрович, а знаете, когда мы сделаем революцию, нашу, настоящую, придется вам переменить имя-отчество. Уж очень по-царски звучит!
Послышался смех Емельянова. Потом Емельянов спросил:
– А скоро мы сделаем революцию, Владимир Ильич?
Короткая пауза. Зиновьев ясно представил себе, как задумался Ленин, как сощурил глаза, как лицо его стало сосредоточенно и деловито.
– Скоро. Дело в том, что ни одна из коренных задач революции не решена. Если бы буржуазия могла немедленно прекратить войну, немедленно дать крестьянам землю, немедленно установить восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль над производством, немедленно ограничить прибыли капиталистов и военных спекулянтов, – она могла бы предотвратить революцию. Но тогда она не была бы буржуазией! Рябушинский и Бубликов[9] могли бы тогда спокойно вступить в нашу партию… Скоро, теперь уже скоро!.. Тогда и ваши три винтовки пригодятся.
4
Проснувшись утром, Зиновьев не сразу понял, где находится. Он очумело высунул голову из шалаша и слева, среди густых зарослей ивняка, увидел Ленина. Ленин сидел на пеньке перед круглым чурбаком и быстро писал. Нежаркое утреннее солнце освещало его склоненную голову. Вокруг него вились зеленые и желтые стрекозы, и он то и дело отмахивался от них, иногда провожая их рассеянным взглядом и снова опуская глаза к бумаге. Вот на бумагу заползла гусеница, и он так же рассеянно взял ее пальцами, большим и указательным, и, не глядя, кинул в кусты. Он уже и здесь чувствовал себя как дома – завидное свойство, не раз удивлявшее Зиновьева.
Лицо Ленина было, как всегда во время писания, сосредоточенно. Не изменив выражения лица и не глядя на Зиновьева, он сказал:
– Проснулись, Григорий? Вы спите по-городскому, забыли, что вы финн-косарь и что пора приступать к делу, а то не заработаете на зиму ни гроша… А детей куча! Я вот уже полторы статейки написал. Поработал пером, как косой… Умоетесь – почитаете.
Емельянов возился у горящего костра. Котелок и чайник висели над костром на железном стержне. Котелок уже кипел. Коли не было видно, но вот он появился из-за деревьев, предварительно свистнув по-птичьи.
– Все спокойно, – выпалил он. – Лодок не видать.
– Тише, не мешай, – негромко сказал Емельянов, кивая на Ленина.
Коля не мог удержаться, чтобы не сообщить, – правда, понизив голос:
– Ежиху с ежатами видел!
– Как она? Верная ежиха? Не выдаст? – деловито спросил издали Ленин, по-прежнему ни на кого не глядя и продолжая быстро писать. Казалось, он посмотрел на Колю только своим виском, где на мгновение собрались усмешливые морщинки.
– Своя! – воскликнул Коля, улыбнувшись во весь рот.
– Не мешай, – шепнул Емельянов сердито. Он подошел к Зиновьеву с ведром. – Умоетесь тут или к озеру сходите?
– Не знаю, – замялся Зиновьев. – Лучше здесь, пожалуй. Ничего, ничего, я сам.
– Солью вам. Так будет удобнее.
Зиновьев достал из чемодана мыло и зубную щетку, а порошка никак не мог найти. Говорили они вполголоса, но Ленин услышал и сказал, не меняя позы:
– Возьмите мой порошок. У изголовья, завернуто в полотенце, там увидите.
Котелок с картошкой вскоре закипел вовсю, Емельянов потыкал вилкой, пробормотал «готово» и шепнул Зиновьеву:
– Позовите его… Или, может, не надо мешать?
– Владимир Ильич, завтрак готов.
– Иду, иду, – быстро сказал Ленин, подняв голову, но пошел не сразу, посидел, подумал, его лицо приняло скорбное выражение, как раз то самое, которое вызывало в Зиновьеве сложное чувство.
Без бороды и усов лицо Ленина очень изменилось, стало суровее и проще: борода и усы обычно скрадывали волевое, твердое очертание губ, теперь же большой, решительный рот обнажился. Только когда Ленин улыбался, он становился прежним: кожа натягивалась на скулах, суживала глаза, собиралась под глазами и на висках в хитрые и добрые морщинки.
Посидев с минуту, он присоединился к остальным у костра. Ел он быстро и молча, только время от времени спрашивая:
– Саши с газетами не слыхать?
– Рано еще, – отвечал Емельянов, при этом неизменно доставая из кармана большие серебряные часы. – Газетные киоски открываются в восемь. Да пока купишь, да вернешься, да на лодке полчаса…
Ленин постарался скрыть свое нетерпение, но это у него не очень получалось. Он то и дело оглядывался на тропинку, ведущую к озеру, постукивал пальцами по колену. Он, без сомнения, не замечал теперь ни окружающих, ни приятного тепла, идущего от костра, и уж, во всяком случае, ел, не имея никакого понятия, что именно он ест.
– Как получим газеты, – сказал он, наконец вставая, – садитесь, Григорий, заканчивать свою статью о третьеиюльских событиях.
– Да, обязательно, – ответил Зиновьев, но тут же развел руками: – Но куда? Газеты закрыты…
– Наши что-нибудь придумают. В Кронштадте напечатаем. Кронштадтцы-то, надеюсь, свой «Голос правды» сохранили? Там люди решительные… И возможности большие…
– Трудно сказать, – пробормотал Зиновьев. – При этих обстоятельствах сохранить газету?.. Более чем сомнительно. – Стараясь скрыть свое уныние, он все-таки заставил себя встать и произнести довольно бодро и даже несколько игриво: – Писать, писать, писать.
– Десять часов, – объявил Емельянов, посмотрев на свою серебряную луковицу. – Саша вот-вот появится.
Ленин и Зиновьев пошли к расчищенному Емельяновым пространству среди зарослей ивняка и расположились там. Они некоторое время молча поработали, каждый за своим пеньком, каждый со своей чернильницей-невыливайкой. Солнце подымалось все выше, стало тепло. Ленин писал быстро. Иногда он вставал и прохаживался взад-вперед, шепча почти вслух слова статьи, затем снова садился. Наконец он поднял глаза на Зиновьева. Тот сидел, задумавшись, его большие глаза навыкате смотрели в пространство. Ленин улыбнулся.
– Не пишется? – спросил он. – В таком случае почитайте.
Он сложил листочки рукописи, перегнулся через чурбак и подал их Зиновьеву.
Это была еще не законченная статья, называвшаяся «К лозунгам». Зиновьев лег на траву и начал читать. Он лежал и читал и восторгался необычайной энергией, прямотой и глубиной изложения. «Достойно самых лучших работ Маркса, – думал Зиновьев, умиляясь все больше, – Маркса эпохи „Новой Рейнской газеты“, того периода, когда он находился в средоточии революции и ему казалось, что революция эта будет победоносной…» Его мягкие, несколько рыхлые черты лица отвердели, но по мере чтения лицо все больше вытягивалось. Он покачал головой, сложил листочки, долго и старательно укладывал их в ровную стопочку.
– Что? Не понравилось? – спросил Ленин, взметнув на него левую бровь.
– Статья замечательная… только…
– Что только?
– Совершенно неожиданная по постановке вопроса. Как? Снять в нынешний момент популярнейший лозунг «Вся власть Советам!»? Ленинский лозунг! Ваш лозунг! – Он встал, недоумевающий, почти испуганный. – Лозунг, вами излюбленный, вами разработанный! И вы так спокойно от него отказываетесь! Непостижимо! Невероятно! И, мне кажется, невыгодно! К этому лозунгу массы привыкли! Да, да, и с этим надо считаться!
Ленин усмехнулся:
– Ах, так! Значит, вы за статью, но против того, что в ней написано?
Зиновьев замахал руками:
– Совсем не то, совсем не то! Я согласен по существу ваших рассуждений, но сомневаюсь в тактической целесообразности. Я похвалил вашу статью…
– Как образцовое, но не имеющее практического значения произведение большевизма?
– Подождите, не прерывайте меня. Может быть, дело в формулировках. Надо их смягчить. У меня такое впечатление, это эсеры и меньшевики из ЦИКа начинают понимать ошибочность своего поведения, опасность для них же самих травли большевиков… Они начинают догадываться, что стоит дать буржуазии палец, и она отхватит всю руку… Есть ли смысл при этих обстоятельствах…
– Ах, вот что! Вы хотите дать возможность мелкобуржуазным деятелям исправить ошибку! Вы все еще никак не можете забыть, что меньшевики и эсеры считают и именуют себя социалистами? Это детская наивность или просто глупость, это внесение мещанской морали в политику. Нынешние Советы – пособники контрреволюции. Как можно при этих обстоятельствах говорить о какой-то их «ошибке»? Они умыли руки, выдав нас контрреволюции. Они сами скатились в яму контрреволюции. В лучшем случае они похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат. Милюков и тот[10] это знает. Вы напрасно морщитесь. Враги иногда лучше видят и точнее понимают обстановку. У них не грех поучиться. Бульварное «Живое слово»[11] верно писало о теперешних Советах, что они, как пошехонцы[12], заблудились в трех соснах. Вдруг кто-то сказал: надо позвать казаков. И Советы облегченно вздохнули и позвали казаков… Вот они что, ваши нынешние Советы!
– Мои Советы, – слабо усмехнулся Зиновьев.
– Для меня в итоге июльских событий стало ясно одно: власть должна быть взята революционным пролетариатом самостоятельно. Тогда снова появятся Советы, но не эти, не теперешние, не предавшие революцию, не старые Советы, а обновленные, закаленные, пересозданные опытом борьбы.
– Это все правда. Но стоит ли…
– Стоит ли говорить массам правду? Обязательно стоит. Массы должны знать правду. Нет ничего опаснее обмана.
– В принципе да…
– Раз в принципе, значит – и в частностях, и всегда, и при любой обстановке!
– Ах, Владимир Ильич, зачем вы мне говорите общие места, известные мне не хуже, чем вам! Вы говорите вообще, а я говорю о тактике.
– Превосходно. Наша тактика – говорить массам правду. Правду надо им говорить даже тогда, когда это нам невыгодно; только тогда они будут нам верить. Мы будем непобедимы в том случае – и только в том случае, – если всегда, при всех поворотах истории будем говорить массам правду, не будем выдавать желаемое за сущее, не будем врать из так называемых «тактических соображений»… Ибо тактика от стратегии вовсе не так сильно отгорожена, как это кажется некоторым товарищам… Я раскричался, забыл, что мы в подполье.
– Именно забыли, – усмехнулся Зиновьев не без ехидства. – А мы в подполье! И поэтому мне кажется неверным говорить и писать сейчас о взятии власти революционным пролетариатом самостоятельно, как вы сказали только что. Такая постановка вопроса послужит поощрением для разрозненных выступлений, которые помогли бы контрреволюции, как это и случилось…
– Надеюсь, что последние события научили рабочих не поддаваться на провокацию в невыгодный момент. Неужели вы не видите, что этап мирного развития революции окончился бесповоротно и наступил новый, в котором все будет решаться силой оружия? Не видите? Странно! А я вижу. И я все это напишу, обязательно!
Зиновьев угрюмо помолчал, уселся, снова полистал странички рукописи и сказал своим тонким голосом:
– Подумайте все же о формулировках. Мне кажется, статья написана в раздражении… В абсолютно законном раздражении против Дана и Церетели…[13] Церетели… Но раздражение – плохой советчик.
– Ничуть не худший, чем перепуг!.. Кадетская «Речь»[14] называет нас удалыми ушкуйниками типа Васьки Буслаева. Что ж, на научной основе, вооруженные знанием и пониманием процесса развития общества, ушкуйники не худшая категория россиян. «Смелость, смелость и еще раз смелость» – это сказал уже не Васька Буслаев, а Дантон[15] – величайший революционный тактик в истории человечества.
Голоса спорящих то понижались, то разносились так далеко, что Емельянов даже несколько встревожился. Он выслал Колю дозором к озеру и вправо в лес, а сам, возясь со своим несложным хозяйством, прислушивался к спору. Он всей душой был на стороне Ленина, – он, старый партийный боевик, всегда был на стороне решительных действий.
«Ну и песочит, ну и песочит!» – одобрительно, во весь свой ослепительный рот улыбался Емельянов, слушая Ленина, и при этом, чтобы не обидеть Зиновьева, если тот оглянется, заслонял свою улыбку поглаживанием черных усов. Ленин на этом маленьком лужке казался ему немного похожим на их заводскую динамо-машину, прикованную к стене и подрагивающую от заключенной в ней энергии, как бы желая сорваться с места, и пойти, и пойти!
5
И все-таки Зиновьев, хорошо знавший Ленина, был не совсем неправ в своих догадках насчет его душевного состояния. Действительно, к сердцу Ленина то и дело приливало чувство горечи и одиночества.
Это чувство, не часто посещавшее его душу, широко открытую для общения с людьми, может быть, было следствием многомесячного напряжения, чрезвычайной усталости от выступлений на митингах и собраниях и от постоянного внешнего спокойствия и собранности, стоивших ему немало сил. Его равнодушно-насмешливое отношение к бесчисленным нападкам и клеветам даже удивляло товарищей, но оно было не более как выработанным в течение жизни умением отметать чувствования ради дела. Впрочем, это умение и посейчас давалось с большим трудом.
Как ни странно, но совсем мелкий случай, которому он вначале не придал никакого значения, вывел Ленина из равновесия.
Третьего дня, находясь еще на чердаке емельяновского сарая на станции Разлив, он попросил Емельянова подыскать среди рабочих-большевиков Сестрорецкого завода умного, расторопного парня, способного выполнять несложные, но требующие выдержки и сметки обязанности связного. Из Питера к Ленину приезжал связной ЦК, но не мешало иметь под рукой человека, которого можно в срочных случаях посылать туда.
Емельянов пообещал привести такого человека, и Ленин, подумав, предложил устроить для предполагаемого связного нечто вроде испытания. Емельянову следовало подвести его поближе к сараю или завести вовнутрь и затеять с ним разговор, а Ленин послушает, и затем, если человек окажется подходящим, Ленин спустится и откроется ему.
На следующий день к Емельянову пришел молодой рабочий. Через одну из щелей чердака Ленин следил за обоими, смотрел прищурясь, как они медленно шли по дворику, как остановились возле дачи, как подошли к сараю. Парень, выбранный Емельяновым, Ленину понравился. Это был крепкий русый человек, смирный, улыбчивый, с хорошим правильным лицом; он относился с какой-то приятной уважительностью к Емельянову и его жене Надежде Кондратьевне, которая в тот момент подошла поздороваться и затем исчезла в садике по своим многочисленным хозяйственным делам.
Емельянов завел парня в сарайчик, и оба они уселись за столик. Ленин же, страшно заинтересованный, прилег на сено и стал слушать.
Емельянов кашлянул, прислушался к чердаку и спросил:
– Ну, Алексей, как дела в заводе?
– Дела! – ответил Алексей. – Дела плохие. Совсем нас прижали. Проходу нет. Хоть беги куда глаза глядят.
– Это почему же?
– Спрашиваешь! Жить не дают. «Германские шпионы, агенты Вильгельма»… Все разладилось.
– Ну, дело естественное, – сказал Емельянов, беспокойно заворочавшись на лавке, – понятно, враги пролетариата…
– Враги!.. Если бы одни враги. Все говорят! Хоть беги куда глаза глядят.
– Заладил: беги, беги… Обыватели болтают чепуху, а ты раскис.
– Или вот про Ленина… Разве одни обыватели толкуют? Старые революционеры и те… Им-то какой расчет? Нехорошо все. Некрасиво.
– Глупый ты, глупый, глупый! Веришь всякой дряни… Ну, ладно, пошли, пошли…
– Не то что верю… А мы с тобой в душе у него не были. Кто его знает? Мы люди рядовые, рабочие. А он за границей всю жизнь прожил. Что ты, возле него был все время? Сам знаешь – Азеф[16], Малиновский. Им тоже верили. А Малиновский – тот был даже большевиком, членом ЦК… Мне от этих разговоров муторно, я ночами не сплю. А сам-то Ленин? Скрылся? Если бы не скрылся, явился бы на суд, оправдал себя – тогда дело другое. А то скрылся. Пишут, на аэроплане перелетел в Германию.
Емельянов сидел подавленный. Его сердце учащенно билось. Он уже не слышал, что говорит Алексей, он прислушивался к чердаку. За окошком на улице пропел петух и пролаяла собака, и Емельянову хотелось, чтобы собака лаяла, а петух пел громче и дольше, чтобы ничего не слышно было на чердаке. Он резко встал, опрокинув лавку, и сурово сказал:
– А я думал – ты человек… Эх!.. Ладно, пошли, пошли…
– Ты напрасно обижаешься, Николай Александрович, – зачастил Алексей, – совсем напрасно! Тут душа болит. Делюсь с тобой, как с товарищем.
– Ладно. Пошли.
Алексей помолчал, потом сказал, отвернувшись:
– Болеешь все?
– Да.
Они вышли из сарая. Алексей неловко кивнул головой и ушел. Емельянов постоял минуту, потом медленно вернулся в сарай, постоял и здесь минуту, прислушался. Было очень тихо. Он густо покраснел, обдернул рубашку и стал подниматься по лесенке на чердак. Ленин сидел за столом и писал. Когда голова Емельянова показалась в отверстии чердака, он вскинул на Емельянова глаза, пронзил его довольно долгим проницательным взглядом, потом неожиданно повеселел и сказал:
– Ну, батенька, и выбрали вы связного! Ну и выбрали! Ничего, ничего, не огорчайтесь… Рабочий класс, он ведь, к сожалению – и к счастью, и к счастью! – не состоит из однородной массы. – Он подошел к отверстию чердака, присел на корточки и ласково хлопнул Емельянова по плечу. – Не огорчайтесь.
Емельянов просветлел, вздохнул с облегчением и, помолчав, проговорил виновато:
– Плохо я, оказывается, знаю людей…
Ленин повторил так же ласково, но уже рассеянно:
– Не огорчайтесь.
Однако позднее вечером, работая над статьей «Политическое положение» в прохладной баньке на берегу озерка, примыкавшего ко двору Емельяновых, он призадумался и сам огорчился. Именно потому, что парень-то был в общем хороший, искренний. В нем чувствовалась начитанность, культура, свойственная лучшим питерским рабочим. Правда, Ленину парень не понравился, когда уходил, – не понравилась его круглая, чуть сутулая, жирноватая спина. Но он понимал, что спина тут ни при чем, что неприязнь к спине – просто маленькая компенсация за пережитое во время разговора.
В баньке было чисто, прохладно и сумеречно. Ленину взгрустнулось. Он опустил голову на руки, скрещенные на столе, – поза, ему несвойственная. Он понял, что им овладевает то состояние нервного перенапряжения, которое заставляло его в Швейцарии и под Краковом немедленно бросать работу, уходить в горы, бродить там пешком, изнурять себя физически. Здесь это было невозможно. Он был прикован к этой баньке и к чердаку, и не так к ним, как к событиям в Питере, к столбцам газет различных направлений, орущих, клевещущих, пытающихся сбить с толку рабочий класс и солдатские массы, опорочить в их глазах партию большевиков.
Он поднял голову. Газетные страницы лежали веером на столе, источая яд каждой своей строчкой. Вот кадетская «Речь»: «Партия народной свободы требует, чтобы немедленным арестом Ленина и его сообщников свобода и безопасность России были ограждены от новых посягательств».
«Они не провокаторы, но они хуже, чем провокаторы: они по своей деятельности всегда являлись вольно или невольно агентами Вильгельма II… Народ имеет право требовать от правительства свободной республики исчерпывающего расследования всей деятельности Ленина. К изучению большевизма мы не раз еще вернемся в ближайшем будущем». Это пишет Владимир Бурцев.[17]
«Господа, когда слышишь голоса прошедших через Германию лиц, когда вдумываешься в то, что они проповедуют, то для меня явственно звучит: продолжительное пребывание среди немцев, пропитанность их идеями – вот это что. Тут русского ничего нет». Это речь октябриста Савича.
Речь Милюкова: «Во всех случаях, связанных с именем Ленина, я отвечал только тремя словами: арестовать, арестовать, арестовать!»
«В зале Первого Кадетского Корпуса (Университетская набережная, 15, церковный вход) лекция С. А. Кливанского (Максим), члена Совета Р. и С. Д., „Революционеры или контрреволюционеры?“ Критика ленинизма. Вход 30 коп.».
«Кабаре Би-Ба-Бо. Итальянская, 19. Сегодня – съезд к 10 1/2 ч. веч. Лекарство от девичьей тоски. Песенка о Ленине. Кусочек пляжа. Песенка о большевике и меньшевике. Сказка о дедке и репке. Человек запломбированный и мн. др. Вход 10 рублей».
«Родные братья-казаки, к вам, свободные сыны привольных степей, дорогая мать-Россия протягивает руки и горько плачет. Найдите среди себя Ермака или Минина, а гражданина Керенского возьмите себе за Пожарского и спасите Россию. Довольно предательств, анархии и ленинского позора, скажите: руки прочь, принесите на ваших шашках мир и получите в награду мировой орден».
Глаза Ленина презрительно сощурились. «Нет худа без добра», – подумал он, глядя в крошечное окно баньки на серое озерко. Кадеты и Керенский пересолили. Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады порочащие большевиков, помогают втянуть широчайшие массы в оценку большевизма. А когда они его оценят по достоинству, тогда крышка и кадетам и Керенскому. Эсеры и меньшевики, как и полагается мелким буржуа, мечутся из стороны в сторону. То они выступают в защиту Ленина от клеветы, устами самого Церетели объявляют, что Ленин «ведет идейную, принципиальную пропаганду», образуют следственную комиссию для разбора «дела Ленина», то поддерживают клевету, распускают следственную комиссию, требуют явки Ленина на суд буржуазии.
Обидно только за рабочих, за этого Алексея с его жирноватой спиной, который поддается вражеской агитации, все еще верит в благородство «старых революционеров» из нынешних Советов и в справедливость буржуазного суда. «С его жирноватой спиной». Да будь она неладна, эта спина!
Этот Алексей ненароком упомянул и Малиновского и разбередил свежую рану, еще не зажившую в душе Ленина. Роман Вацлавович Малиновский, кооптированный в 1912 году в члены ЦК партии, лидер фракции большевиков в IV Государственной думе, оказался провокатором, получавшим от охранки пятьсот рублей в месяц – высший провокаторский оклад. Буржуазная печать после Февральской революции злорадно поносила большевиков в связи с делом Малиновского, обвиняла Ленина в «выгораживании» провокатора. Правда заключалась в том, что Ленин действительно не верил в предательство Малиновского до самого последнего времени, когда были опубликованы точные и неопровержимые доказательства из архива департамента полиции. Не верил, хотя некоторые товарищи предостерегали его, хотя Надежде Константиновне Крупской с ее тонким чутьем на людей Малиновский не нравился, хотя Малиновский вел себя странно, отказался внезапно и самовольно от мандата члена Государственной думы и уехал за границу. Не мог верить, не хотел верить. Почему? Не потому ли, что Малиновский был рабочим, слесарем? Ленин питал к рабочим людям особого рода слабость – не только к рабочему классу в целом, а к каждому сознательному и еще несознательному рабочему в отдельности. Он терпеть не мог тех социалистов, которые, наподобие Плеханова, обожали «пролетариат», клялись «пролетариатом», но не больно жаловали Ваню, Федю, Митю, Ивана Ивановича и Пелагею Петровну, не верили в их разум, не ставили их ни в грош. «Пролетариат» постепенно превратился для таких социалистов в нечто расплывчатое, неопределенное, беспочвенное, стал формулой, сухой, как скелет, пустопорожней, как бог.
Да, Ленин гордился искусными выступлениями рабочего в Думе, его начитанностью, любознательностью, его талантом рассказчика и надеялся, что со временем из этого человека выработается настоящий рабочий вождь, «русский Бебель»[18]. Даже узнав, что жена Малиновского совершила попытку самоубийства, – теперь казалось вероятным, что ей стало известно предательство мужа, – и позднее, когда Малиновский появился в Поронине испуганный и развинченный, Ленин не допускал возможности его предательства и относил все за счет надломленной нервной системы и чувства обиды на подозрения, о которых Малиновский знал. Между тем Малиновский, рабочий лидер, наводивший страх на председателя и товарищей председателя Думы, произносивший в Думе с таким пылом речи, написанные для него Лениным, давал, оказывается, эти речи на предварительный просмотр директору департамента полиции Белецкому!
– Так что, уважаемый Алексей, – сказал Ленин вслух, – рабочий рабочему рознь…
Ленин с сокрушением подумал, как, в сущности, легко заслужить бурное одобрение этого Алексея и таких же доверчивых недоумков, как он. Еще не поздно отдаться в руки полиции. Алексей не понимал, что никакого суда не будет, в лучшем случае Ленина упрячут за решетку, лишат возможности влиять на события, а в худшем – и это почти несомненно – убьют по дороге в тюрьму. (Прекрасный повод для Алексея покаяться в своих заблуждениях и поплакать Емельянову в жилетку!) Пойдя на это, он, Ленин, поддался бы непростительным для пролетарского революционера мелкобуржуазным иллюзиям.
И тем не менее – слаб человек! – хотя все это было ему совершенно ясно, Ленин заметил, что не перестает все время сочинять в голове свою речь перед буржуазным судом. Он, казалось ему, слышит выступления прокуроров и отвечает на них, излагая пятнадцатилетнюю историю большевизма, его идеологию, его цели. Что касается болтовни о шпионаже, то ее глупость и бездоказательность были ясны самим обвинителям. Все обвинение основывалось на показаниях пойманного русской контрразведкой свежеиспеченного немецкого шпиона – прапорщика Ермоленко, который якобы сообщил: завербовавшие его офицеры германского генштаба сказали ему, что, кроме него, в России действуют в качестве агентов Германии Ленин и другие большевики. Поверить в то, что офицеры генштаба германской армии раскроют перед только что завербованным рядовым агентом свою агентуру, могли только совершенно темные люди. Все эти «показания» были инспирированы русской контрразведкой и ее руководителем генералом Деникиным еще в мае и не были обнародованы тогда только за их полной абсурдностью. Лишь в июле, напуганный вооруженной демонстрацией, министр юстиции Переверзев решил при помощи ренегата Алексинского[19] пустить в ход эту убогую клевету, чтобы дискредитировать большевиков в глазах солдат.
Разбить доказательства клеветников в судебном заседании было проще простого. Ленин видел перед собой лица «свидетелей» – пожираемого неутоленным честолюбием Григория Алексинского, скользкого и омерзительного, как все ренегаты; видел засыпанный перхотью пиджачок Бурцева, «революционера-террориста», как он величал себя, хотя никогда никого не убил, человечка с острыми глазками на заросшем грязноватой бородкой лице; видел честолюбца и позера, анархиствующего денди Бориса Савинкова[20]; видел бывшего марксиста Потресова и бывшего большевика Мешковского[21]; видел всех этих бывших людей, их профессорские бородки и обвислые щеки, слышал их слова, полные ненависти и страха, и отвечал им, ловил их на передергиваниях, лжи, невежестве, ненависти к революции, страхе перед массами, презрении к русскому рабочему классу, неуважении к пролетарской демократии и сладеньком преклонении перед демократией европейской, буржуазной, с ее рабочими певческими союзами и «марксистскими» пивными! Он был готов встретиться с ними в судебном зале и где угодно и высказать им все свое презрение. И, может быть, больше всего мечтал он сойтись лицом к лицу с Плехановым, посмотреть ему в глаза, сцепиться, схватиться с ним теперь, когда сам вырос вместе с революцией. Чудовищное превращение Плеханова-интернационалиста в заурядного российского ура-патриота, Плеханова-революционера – в смятенного обывателя-либерала до сих пор, несмотря на весь опыт прошлых лет, огорчало и удивляло Ленина. История – сложная штука. Возможно, что Вольтер и даже Руссо были бы противниками вдохновленной их идеями Великой французской революции, если бы они дожили до нее. Какое счастье суметь умереть вовремя! Плеханов этого не смог.
Увлекаясь, Ленин в своем одиночестве все сочинял и сочинял свою речь – вернее, свои речи – перед судом. Его глаза начинали задорно посверкивать, губы кривились в усмешку. Презрение его к политическим противникам из лагеря мелкой буржуазии вовсе не было агитационным приемом: он действительно воспринимал их статьи, их речи, их стиль, их повадку, их слюнявые проповеди и громкие клятвы с чувством глубочайшего неуважения. Они даже временами удивляли его своим полным непониманием происходящего. Керенский казался ему попросту невзрослым человеком, шумливым недорослем. Дан и Церетели были злыми, вороватыми мальчишками, Мартов – мальчишкой[22] слабым и несчастным, Чернов – мальчишкой гадким и самовлюбленным. Они все оказались настолько недостойными размаха и значения русской революции, что Ленин, право же, удивлялся своему прежнему серьезному к ним отношению.
Впрочем, они были скроены по образу и подобию российского обывателя, выражали его колеблющуюся природу, говорили на его половинчатом языке. Их посулы и фразы туманили обывателю голову. Свести на нет их влияние насущная задача дня. Без этого нельзя было дать бой главным противникам, представителям крупной буржуазии, откровенной и полуоткровенной контрреволюции[23] – Милюкову и Маклакову, Рябушинскому и Терещенко. Эти знали, чего хотели. Это были деловые люди, люди крупного торгового расчета, привыкшие подходить к вопросам политики строго деловым образом, с недоверием к словам, с умением брать быка за рога. Сражение шло именно с ними, после июля именно они осуществляли власть в государстве, и суд, на который Ленина призывал явиться этот Алексей, был их судом.
Следовало во что бы то ни стало показать рабочим вредность иллюзий о нынешних соглашательских Советах и о правосудии Керенских и Переверзевых.
В маленькой прохладной баньке Ленин задумал тогда две статьи, названные впоследствии «К лозунгам» и «О конституционных иллюзиях».
6
Первую из этих статей он уже кончал, сидя у шалаша среди зарослей, когда раздался условленный свист и на лужке появился старший сын Емельянова – семнадцатилетний Саша. Ленин рванулся ему навстречу и взял у него из рук увесистую пачку газет. Не произнеся ни слова, он сел на траву возле потухшего костра рядом с Зиновьевым и Емельяновым и начал перелистывать газеты, время от времени похмыкивая в разнообразных интонациях либо многозначительно и быстро произнося: «Так, так», «ага», «так, так». Казалось, он ведет с кем-то молчаливый яростный спор, в его глазах появлялись то презрение, то уныние, то страсть, то удовольствие, то азарт.
– Разговор пошел о восстановлении смертной казни, – сказал он, наконец подняв голову. – Вот телеграмма Корнилова[24], смахивающая на ультиматум: «Армия обезумевших, темных людей, не ограждаемых властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. Или это бегство будет прекращено и этот стыд снят революционным правительством, или если оно это сделать не может, то неизбежным ходом истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестье, вместе с тем уничтожат завоевания революции и потому не смогут дать счастья стране…» Вы слышите, Григорий, эти глухие угрозы? Очень интересно! Очень показательно! Дальше хлеще: «Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого с первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет… Необходимо немедленно, в качестве временной меры…» Временной? Боится все-таки сказать всю правду, виляет «беззаветно служащий» родине – «…вызываемой исключительно безвыходностью создавшегося положения, введение смертной казни и введение полевых судов на театре военных действий». Вот это разговор серьезный. Без виляний. Почти без виляний. И тут же – глядите! уже указ правительства о восстановлении смертной казни за подписями Керенского, Ефремова и Якубовича. Ультиматум принят. С небольшим изменением, очень характерным для краснобая Керенского: введены, видите ли, не полевые суды, а военно-революционные. Для пущей красоты, чтоб массы приняли сие мероприятие за революционное. Корнилова поддерживает другой ужасный революционер – Борис Савинков, террорист-беллетрист: «Смертная казнь тем, кто отказывается рисковать своей жизнью за родину, за землю и волю». Фразеология ух какая революционная, а внутри труха, ибо нет земли и нет воли! А что тем временем делает ЦИК Советов? Что поделывают наши социалисты? Ага! Так, так! Вот они, «вожди полномочных органов российской демократии». Отчет об объединенном заседании ЦИК Советов Рабочих и Солдатских Депутатов и Исполнительного Комитета Крестьянских Депутатов. Речь Керенского: «Правительство спасет Россию и скует ее единство железом и кровью, если доводов разума, чести и совести окажется недостаточно». Это намек на нас. Аресты, убийства и подлая клевета считаются доводами разума, чести и совести. Ему отвечает сам Николай Семенович Чхеидзе[25]. Он обещает полную поддержку Временному правительству. Так, так, Керенский обнимает Чхеидзе, они целуются. Как они любят целоваться! История России должна записать на своих скрижалях, что, восстанавливая смертную казнь, мещане любили целоваться. Господин Федор Дан вносит – весьма кстати в связи с восстановлением смертной казни, весьма кстати! – резолюцию с требованием, чтобы я и вы, Григорий, явились на суд. Тот самый Федор Дан, который пятнадцать лет назад повез в своем чемодане с двойными стенками из Мюнхена в Белосток мою книжку «Что делать?», книжку, которой он безмерно восхищался и в которой, кстати, уже тогда ясно провозглашалась наша цель социалистическая революция. Зигзаги истории!.. А вызванные правительством войска для подавления большевиков продолжают прибывать в Питер. Прибыли сто семьдесят седьмой Изборский полк, Венденский пехотный полк, девятая команда Кольта с пулеметами, третья школа прапорщиков… Четырнадцатый Митавский полк в полном боевом вооружении прошел на Дворцовую площадь, здесь его приветствовал – ха-ха! – не кто иной, как Виктор Чернов, вождь эсеров и министр буржуазного правительства… Дело катится к бонапартистской диктатуре, а социалистические министры служат для нее ширмой. Чрезвычайное собрание офицеров Петроградского гарнизона. Эти неплохо понимают обстановку, получше, чем бывшие марксисты. Капитан Журавлев говорит, что «профессиональной организации, какой является Совет, не по силам заниматься государственными делами». Капитан Милованов предлагает ввести смертную казнь и в тылу, и для штатских. Еще лучше и точнее выражается сотник Хомутов: «Нужен хирург. Хирург – единая военная диктатура». О! Договорились. А вот статейка некоего Арбузьева, псевдоним, разумеется. Разумеется, кадет, несомненно, кадет. Называется статейка кратко, но многозначительно: «Он». Лирическая статейка с очень ясной политической подоплекой. «За последний месяц, – пишет этот кадет (несомненно, кадет!), – я часто думал о нем. Старался его себе представить. Искал его лицо среди встречных прохожих, пробовал угадать его имя в длинных вереницах неизвестных прежде имен, которые ежедневно преподносит нам газетная пресса. Потому что я с каждым днем все меньше и меньше сомневаюсь в его приходе. Кто он? Конечно, военный. Офицер. Поручик или, может быть, молодой капитан. Чин в настоящее время не имеет значения. Дорога открыта талантам. Он, должно быть, желчен, упорен в труде, чудовищно самолюбив, но умеет скрывать это. Ум у него совершенно холодный, трезвый, свободный от всяких иллюзий, гибкий и острый, как шпага. Такие слова, как „отечество“, „свобода“, „пролетариат“, „равенство“, „демократия“, „социализм“ и „всеобщее счастье“, не имеют для него никакого обаяния. Он смотрит, выжидает, рассчитывает. 3 июля после стрельбы на Садовой мне одну минуту чудилось, что я вижу его. Взволнованная толпа шумела, как море. И вот, словно пловец на гребне волны, на плечах группы людей появился офицер в кожаной куртке, с тремя нашивками, обозначающими число ранений, на рукаве. Через плечо его была перекинута винтовка, которую он только что отнял у красногвардейца. Он был невелик ростом, грациозен и гибок. Пристально и зорко глядели блестящие черные глаза. Его профиль напоминал… ну да, конечно, призрачное, неверное сходство, – но он напоминал Наполеона в молодости. Вам не кажется ли, читатель, что вы слышите отдаленное эхо его поступи? В голубом мерцании белой петроградской ночи не замечаете ли вы, как чья-то исполинская тень поднимается от земли к небу?..» Вот она, мечта буржуя! Буржуй прекрасно видит, что в голубом мерцании белой петроградской ночи от земли к небу поднимается исполинская тень победившего пролетариата. Он это видит, и дрожит от ужаса, и мечтает, чтобы эта тень была заслонена другой, милой его сердцу тенью российского бонапартия с винтовкой, отобранной у красногвардейца, тенью возлюбленного диктатора, циника, для которого такие слова, как «отечество», «свобода», «пролетариат», «социализм» и «всеобщее счастье», не имеют никакого обаяния… Насчет поручика или молодого капитана буржуй говорит так, зря, для красного словца. Тут не поручик, тут полный генерал найдется. Может быть, тот самый, «вся жизнь которого проходит в беззаветном служении» и который в «качестве временной меры» ввел смертную казнь. Но все эти Арбузьевы ведут счет без хозяина. Эти профессора и присяжные поверенные все еще думают, что массы, толпа – навоз истории. Они все еще уверены, что смогут Достигнуть своих целей министерскими комбинациями и распределением портфелей!.. Ну-с, а вот и поэзия, слушайте:
Я с кухаркою на кухне Песню пел гусарскую. Эй, Расеюшка, не рухни В яму луначарскую… Мне не надобно ханжи, Поцелуя женина. Ты мне лучше покажи Спрятанного Ленина.Гм, гм… А вот и плохие известия. В Ревеле разгромлены большевистские газеты «Утро правды» и «Кийр»… В Гельсингфорсе закрыта «Волна». В Кронштадте запрещен «Голос правды»… Статью свою кончили, Григорий? Не кончили? Все равно – кончайте. И я свою сейчас закончу. Ничего, где-нибудь напечатаем. Чего ты, Саша, так приуныл? Не бойся. Они ведут счет без хозяина. За газеты спасибо, хотя ты и привез дурные вести. Дурные вести укрепляют характер… Уже уходишь? Передай привет матери. До свидания, Саша. Кто завтра привезет газеты?
7
В полдень стало очень жарко. Зной лежал на лужке, как нечто весомое и неподвижное, и даже тень, обманчиво темная, не могла побороть его, превратилась в одну видимость, прокалилась насквозь. В тени напрасно искали убежища тучи комаров, ящерицы и стрекозы. Ленин все чаще отрывался от работы и глядел на полуголого Емельянова, косившего траву неподалеку.
Емельянов косил только ради конспирации, с тем чтобы стог поднимался выше, как на порядочном сенокосе. Но делал он это споро, умеючи и с удовольствием. Он вообще был мастером на все руки. Косить здесь было трудно. Ленин разок попробовал и чуть не сломал косу: в траве торчало много мелких пеньков. Еще будучи на чердаке в сарае, Ленин иногда любил глядеть через щели на то, как Емельянов плотничает и копает, как Надежда Кондратьевна с двухгодовалым Гошей на руках готовит обед у очажка, сложенного во дворе. Ее чистый лоб покрывался каплями мелкого пота, милое лицо румянилось. Ленин думал о том, что эти рабочие люди – настоящие революционеры, готовые отдать жизнь за освобождение рабочего класса. Так они безропотно, несмотря на смертельную опасность, согласились укрыть у себя Ленина. Но семья есть семья. Пока суд да дело, они справляют свои хозяйственные дела расторопно и любовно, поливают грядки, готовят пищу, поправляют завалинку дома, растят своих семерых детей, воспитывая их незаметно, без нотаций и криков, силой собственной честности перед собою и людьми, неизменной правдивостью и постоянным трудом.
Это была первая русская рабочая семья, в жизнь которой Ленин вошел за последнее время. Ему нравилось слушать русскую речь из детских уст – а то он вообще мало общался с детьми, а если и общался, то с детьми эмигрантов, которые разговаривали по-французски или по-немецки. На рассвете, мучимый бессонницей, он слезал с чердака и неслышными шагами пробирался среди спавших на сене детей. Дети лежали разметавшись, румяные, теплые, детский храп и ровное дыхание умиляли его. Ему хотелось, чтобы их видела Надежда Константиновна. Он испытывал в эти мгновения тихую зависть к Емельяновым, к их семейным заботам и радостям, которых он, профессиональный революционер, был лишен раньше и будет лишен всегда.
Проснувшись, вся семья принималась за дело – каждый в меру своих сил работал для общего благополучия.
Ленину нравилась эта неторопливая человеческая деятельность большой семьи. Когда он глядел на них, на их труд, как теперь на Емельянова с косой, им овладевала страсть к физическому труду, ему хотелось копать, строгать, носить землю, мыть полы. Он скоро забывал об этом желании, возвращался к своим статьям и газетным полосам, и его снова захватывали всего целиком кипения других страстей, страдания и чаяния масс, коварные происки партий.
Когда Коля вернулся со своего «обхода» по берегу озера, он застал Ленина снова ушедшим целиком в работу. Сев у шалаша, он долго смотрел на Ленина, как тот пишет, думает, встает, прогуливается, размышляя, взад и вперед, не обращая внимания на страшную жару. Коле хотелось позвать Ленина купаться, но он не посмел прервать его работу: отец за это сердился.
Посидев, он снова ушел к озеру. Здесь в укромном месте были спрятаны удочки. Он достал одну и сел удить, но рыба не клевала: было слишком жарко. Поэтому он спрятал ее, из того же укрытия достал лук и стрелы и пострелял в цель. Все утро ходил он вокруг шалаша, добросовестно исполняя свои обязанности разведчика. Он тихо ступал по тропинкам, бесшумно раздвигал ветки деревьев, вглядывался в причудливые очертания сухостоя, замирал, прислушиваясь к неясным звукам леса и звону комарья в зарослях.
Углубившись в чащу, он вскоре услышал отрывистый свист косы и крадучись добрался до лесной поляны, где находился сенокосный участок Рассолова, тоже сестрорецкого рабочего, живущего в поселке Разлив, неподалеку от Емельяновых.
Коля лег, пополз и замер за деревом. Рассолов косил, то и дело вытирая пот со лба, косил мелкими, осторожными взмахами, негромко бормоча проклятия в те мгновения, когда коса задевала за скрытый в траве пенек или кочку. Коля смотрел на него, сощурив глаза, как Ленин, и хотя отлично знал Рассолова и его сына Витю, но для интереса воображал, что это не Рассолов, а шпик Временного правительства, прикидывающийся косарем для слежки за Лениным. Сжав правую руку в кулачок с вытянутым указательным пальцем наподобие револьвера, Коля старательно прицелился Рассолову в лоб, затем в грудь, соображая, куда лучше стрелять, чтобы покончить с «гадюкой» одним выстрелом, не затевая перестрелки, так как она может привлечь других шпиков, скрывающихся повсюду, за каждым деревом.
Рассолов между тем кончил работать, обтер косу травой, приставил ее к стенке шалаша, покряхтел и сел обедать. Он вынул из мешка каравай хлеба, бутылку постного масла, связку зеленого лука и несколько огурцов. Он сидел к Коле боком, привалившись к стогу, и Коля, сменив гнев на милость, решил, что на сей раз стрелять не будет, так как теперь стрелять невыгодно, несподручно. Коля попятился в глубь леса и пошел влево, по-прежнему бесшумно, замирая на месте при каждом звуке. Вскоре он наткнулся на большой муравейник, застыл возле него, приник к земле и, затаив дыхание, стал наблюдать муравьев так, словно и они могли оказаться шпиками. Муравьи сновали вверх и вниз, взад и вперед, переползали один через другого. Присутствие Коли они все-таки заметили: в куче поднялась большая беготня, муравьи задвигались быстрее, заторопились, словно делая революцию. Вероятно, у них был и свой Керенский. Один муравей тащил за собой красный стебелек, – наверно, большевик. Только митинговать они не умели, делали свое дело молча. И не лузгали семечек, как солдаты на Невском.
Коля обошел муравьиную кучу и направился к берегу. Он уже немножко устал прятаться, приникать к земле, замирать при каждом шуме, воображать всех шпиками и казаками. Но, выйдя к озеру, он сразу лег плашмя на землю: по озеру плыла лодка. У Коли замерло сердце. Он рванулся было к шалашу, но потом раздумал, решил понаблюдать. Вскоре он различил фигуры двух людей, а минуту спустя узнал брата Кондратия. Брат сидел на веслах. Коля улыбнулся, но из кустов не вылез, а, постаравшись забыть, что узнал брата, сделал серьезное лицо и стал напряженно следить за лодкой. Все-таки это было кое-что, не муравьиная куча! «Сюда плывут», – пробормотал Коля озабоченно. На корме сидел человек в кожаной куртке. «В кожаной куртке в такую жару», – подозрительно подумал Коля. Лодка врезалась в прибрежный камыш. Коля узнал человека в кожаной куртке – это был рабочий Сестрорецкого завода Вячеслав Иванович Зоф[26], несколько раз приезжавший к Ленину.
Не показавшись брату и Зофу, Коля отполз от берега в кусты и побежал к шалашу. Отец уже кончил косьбу и возился у костра. Приятно-горьковатый дымок шел оттуда. Ленин и Зиновьев, чуть видные за густым ивняком, по-прежнему писали. Коля громко просвистел снегирем и затаился в зарослях, не выходя на лужок для пущей таинственности.
Через минуту на залитом солнцем лужке появились Зоф и Кондратий. Ленин быстро пошел им навстречу, но затем остановился, скосил голову набок, окинул Зофа усмешливым взглядом и сказал, подмигнув Зиновьеву:
– Вот он самый, в кожаной куртке… Грациозен, гибок. Пристально и зорко смотрят блестящие глаза… – Он засмеялся и снова пошел навстречу Зофу, который был смущен и обескуражен непонятными ему словами. – Вам никто не говорил, что вы похожи на Наполеона в молодости? Нет?.. Ну и слава богу. Скидайте куртку, товарищ Зоф, в ней можно изжариться.
– Я взял ее ради подкладки, – сконфуженно объяснил Зоф.
Он снял куртку, распорол подкладку и вытряхнул целый ворох бумаг. Внезапно набежавший ветерок их подхватил, Ленин бросился ловить, Зоф помогать. Ленин смеялся, а Зоф, вторя ему несколько неуверенно, удивлялся его непосредственности и поразительному самообладанию в такой тяжелый момент.
Но когда бумаги были пойманы, Ленин нахмурился и негромко спросил:
– Значит, все наши газеты закрыты? Кронштадтский «Голос правды» тоже? Как это кронштадтцы допустили?..
– Вместо него выходит «Пролетарское дело». На следующий день после запрещения «Голоса правды» уже выходила новая газета. Редактирует Людмила Николаевна Сталь.
– Прекрасно! – воскликнул Ленин и повернулся к Зиновьеву. – Видите, как мы с вами и предполагали, кронштадтцы не опозорились. – Он пошел к своему рабочему месту среди зарослей и тотчас вернулся с листками рукописей. – Садитесь, товарищ Зоф. Я вам сейчас все растолкую. Вот вам две только что написанные статейки – «Политическое положение» и «Благодарность князю Львову». Тут у меня еще одна статейка, написанная раньше, в Питере, насчет ухода кадетов из министерства. Эти три статейки передайте в «Пролетарское дело». Вместо «вооруженное восстание» я всюду в тексте написал слова «решительная борьба», чтоб власти не придрались и не закрыли газету – она теперь у нас единственная… Надеюсь, что рабочие правильно поймут это выражение… Каков тираж газеты?
– Не знаю, вышел только один номер. Точнее сообщу в следующий раз… Вот письма. Надежда Константиновна и товарищ Лилина[27] здоровы. Бельишко и кой-какую снедь пришлю с Токаревой[28] завтра.
– Очень хорошо, с ней я отошлю еще одну статью, которую постараюсь закончить сегодня. Очень важная статья. А сейчас я напишу письмо в редакцию «Пролетарского дела» – за нашими двумя подписями, Григорий. Надо, чтобы Кронштадт, и не только Кронштадт, но и Питер знали, что мы живы, что мы работаем и отвергаем гнусную клевету.
Ленин сел писать. Зоф смотрел, как быстро и сосредоточенно он пишет. Вокруг него роилась мошкара и летали стрекозы. Он отгонял их рассеянным движением левой руки. Иногда на бумагу заползала гусеница, он брал ее и, не глядя, бросал в кусты.
– Что в Питере? – спросил Зиновьев. – Революционные части разоружены?
Зоф отвел глаза от пишущего Ленина и начал рассказывать:
– Да, я сам побывал рано утром на Дворцовой площади, когда разоружали Первый пулеметный полк. Площадь была вся оцеплена войсками. Вдоль Зимнего стояли казачьи и кавалерийские части, возле Главного Штаба – самокатчики, по фасаду министерства финансов и министерства иностранных дел – части Первой гвардейской дивизии, а вокруг Александровской колонны – батальоны Егерского и Семеновского и прибывшие с фронта контрреволюционные части. На Певческом мосту было полно грузовиков с пулеметами… Наши пулеметчики стали подходить отдельными командами и складывать оружие в центре площади… После разоружения солдат отправили под конвоем в Соляной Городок.
Зиновьев, покачав головой, спросил:
– Что им конкретно угрожает?
– Наверно, их отправят на фронт по третьему разряду. Как штрафников…
– А скажите, они сдали все оружие? – спросил издали Ленин, подняв голову от бумаг. – Неужели все оружие сдали?
– При сдаче обнаружена большая недостача пулеметов. Там был большой шум в связи с этим. Поручик Козьмин кричал и возмущался.
– Значит, припрятали оружие! Рабочим передали, ясно! Молодцы! Вы точнее узнайте про это все, это очень важно, чрезвычайно важно. А настроение, разумеется, тяжелое среди солдат? Вам не удалось побеседовать с ними? Ни с одним из них?
– С Борисовым я разговаривал. Настроение ожесточенное. Они оскорблены и обозлены… Борисов – очень сознательный крестьянин, из Владимирской губернии. Он, увидев меня, заплакал, но потом усмехнулся злобно, погрозил кулаком и сказал: «Ладно, пусть они нас пошлют на фронт, мы там, на фронте, тоже Поработаем – не обрадуются!..»
Ленин задумчиво спросил:
– Борисов? Это какой Борисов? Я его знаю?
– Да нет, вряд ли…
Ленин повеселел.
– Вряд ли, – сказал он. – Это хорошо, что вряд ли. Значит, их много таких. – Он нагнулся над бумагой, снова стал быстро писать, потом встал с места и протянул написанное Зиновьеву. Пока Зиновьев читал письмо в редакцию, Ленин подошел к Зофу. – Теперь у меня к вам еще одно важное поручение. Очень важное. В Стокгольме – Надежда Константиновна знает, где именно, – находится одна моя тетрадка. Это синего цвета тетрадка в твердом переплете. Она озаглавлена «Марксизм о государстве». Надо ее как можно скорее переправить сюда, ко мне. Запомните: синяя тетрадь. Это архиважно. Запомнили?
– Запомнил.
– Вы куда сразу отсюда направитесь?
– В Выборгскую управу. Передам Надежде Константиновне статьи, машинистки тут же их перепечатают, и не позже завтрашнего утра они будут в Кронштадте, у товарища Сталь.
– Отлично. Надежде Константиновне передайте, чтобы ко мне не ездила: за ней, несомненно, следят. Про синюю тетрадь не забудьте.
Зиновьев, углубленный в чтение, немало удивился, когда услышал просьбу Ленина насчет синей тетради. Эта тетрадь была ему знакома: в Поронине и позднее в Цюрихе Ленин вносил в нее все главное, что Маркс и Энгельс высказывали по вопросу о государстве. Просьба Ленина о доставке синей тетради сюда, в шалаш, удивила Зиновьева ничуть не меньше, чем разговоры Ленина с Емельяновым о ценах на капусту и качествах ухи с окунями и без окуней; после июльского разгрома и разоружения большевистских полков углубляться в чисто теоретические изыскания казалось Зиновьеву совершенно бессмысленным занятием. Разве что Ленин хочет оглушить себя, занять свое время и мысли сложными диалектическими хитросплетениями? Или он действительно верит, что тетрадка, превращенная в брошюру, даже если допустить, что она попадет из этой заозерной глуши к людям, сможет теперь сыграть какую-нибудь роль, будет иметь теперь какое-нибудь значение? И снова Зиновьеву показалось, что бодрость Ленина деланая, что он бравирует ею перед Зофом, Емельяновым и перед ним, Зиновьевым. Зиновьев подписал письмо, отдал его Зофу и посмотрел на Ленина исподлобья. Ленин стоял босиком в траве, темная косоворотка на нем была расстегнута, а в глазах зажигались и гасли искорки, знакомые искорки, появлявшиеся там в минуты волнения и азарта. Вот он пошел провожать Зофа, и Зиновьев слышал издали, как Зоф говорит ему, что арестованы Крыленко, Мехоношин и Арутюнянц[29], а Ленин, словно не расслышал дурных известий, толкует свое:
– Материал в тетрадке весь подробно выписан, довольно стройно изложен и частично проработан. Написано мелко, но разборчиво, так что не придется угадывать и расшифровывать. Актуальнейшие вопросы диктатуры пролетариата…
Голос его замолк в отдалении.
«Нет, мне надо встряхнуться, – подумал Зиновьев, закусывая губу. Может быть, я слабый человек, расстроенный поражением и потерявший бодрость. А он? Кто он? „Мировой дух“, как выражался Гегель[30]?»
Вернувшись, Ленин сказал:
– Жара страшная. Работать нельзя: в голове какая-то каша. Пойти полежать, что ли?
Он влез в шалаш и вскоре затих.
«„Мировой дух“ пошел спать в шалаш», – подумал Зиновьев, перефразировав известный афоризм Гегеля[31]. Он сказал Емельянову:
– Надо встряхнуться, а, Николай Александрович? Пойдем искупаемся?
Они пошли к озеру, оставив Колю на всякий случай сторожить у шалаша. Коля уселся на пенек, где обычно сидел Ленин, и стал клевать носом, однако старался не спать, помня вечные предупреждения матери и отца: быть начеку. Он вдруг вспомнил мать и затосковал по ней – вещь, недостойная разведчика, как он тут же решил про себя. Он встал и начал ходить взад и вперед, как Ленин.
8
Надежда Кондратьевна Емельянова в продолжение всего этого времени находилась в необыкновенно приподнятом настроении. Чем бы она ни занималась, что бы ни делала – мыла посуду, готовила похлебку, стирала белье, полола грядки, штопала чулок, укладывала спать детей, – она мысленно все время стояла на краю своего двора, у пруда, соединяющегося протокой с озером Сестрорецкий Разлив, в одной и той же неподвижной позе: спиной к озеру, с раскинутыми в обе стороны руками, как бы защищая озеро и заозерный лужок с шалашом от всего враждебного мира.
Ее глаза стали зорче, слух изощреннее. Она начала замечать все, что творилось кругом и чего не замечала раньше. Она различала женские и мужские шаги за заросшим сиренью забором; голоса людей, раздававшиеся по соседству и на улице, привлекали теперь ее внимание и служили пищей для размышлений.
Она ловила себя на том, что стала меньше думать о муже и сыновьях, которым в случае провала грозили величайшие беды. Она думала только о Ленине и о том, что от нее и ее близких зависит его безопасность.
Эти неясные, но сильные ощущения пронзали ее до самого сердца. Она не могла бы объяснить свои ощущения словами, но она чувствовала, что находится в самом средоточии великого, и сильнее, чем ее муж, чутьем материнским, женским, понимала личность Ленина. Николай Александрович прекрасно знал, что означает Ленин для партии, но он подходил к нему, как партиец к своему лидеру, как солдат к командиру. Он больше думал о деле, чем о личности.
Так же относилась к Ленину и Надежда Кондратьевна до того, как узнала его. Она восприняла поручение партии укрыть вождя партии не то чтобы равнодушно, но совершенно практически и сразу начала соображать, где его поместить, чем кормить, что стелить, высказала много верных замечаний о недостатках сарая, находившегося у самой изгороди, рядом с улицей, о политических настроениях соседей и т. д. – словом, делала все так, как привыкла делать в качестве большевички, Жены боевика, укрывавшей во время революции 1905 года оружие и всякую нелегальщину, переживавшей не раз обыски, аресты мужа, всегда готовой на все неприятности и беды, связанные с ее положением.
Ее хладнокровно-деловое отношение переменилось вскоре после появления Ленина в их сарае. Он оказался не похожим ни на какие ее представления. Его простота и необыкновенная деликатность, живость и общительность поразили ее. Она, по-видимому, не ожидала, что знаменитый человек может быть так прост и безыскусствен. Ее удивил его пристальный и почти жадный интерес к ней, ее мужу, ее детям, ее дневным заботам. Он, этот интерес, был и самым простым, Житейским интересом к людям, и не совсем простым, не совсем житейским. Он относился именно к ней, именно к ее мальчикам – Коле, Саше, Кондратию, Сереже, Гоше, Леве, Толе, – к их маленьким делам и жизненным потребностям, но в то же время интерес этот был частью интереса к чему-то гораздо большему – ко всем трудящимся людям, их заботам и жизненному опыту. Часто, когда ему о чем-нибудь рассказывали, он задумывался и говорил:
– Это интересно…
– Это очень важно…
– Это надо будет учесть…
Видно было, что он любое сообщение – самое мелкое – о жизни людей и их нуждах немедленно взвешивает на особых весах, думает о применении в гораздо большем масштабе того, что узнал, о чем услышал. Он был весь с ними, с людьми, среди которых жил, и был весь не здесь, а с огромным множеством других, незнакомых ему лично людей. Так художник любуется местностью или рассматривает людей, как и всякий человек, но в то же время в отличие от других соображает: «я это напишу», «я это могу написать», «это мне может пригодиться».
Глядя, как она делает все по дому правой рукой, а на левой руке все время держит Гошу, он качал головой и как бы мимоходом говорил:
– Нам нужно будет добиться создания таких детских очагов, которые могли бы хоть немного освободить матерей от тяжести домашних забот.
Она по нескольку раз в день мыла посуду, делала эту привычную работу бездумно, механически и очень удивилась, когда он как-то раз неожиданно сказал:
– Мы создадим дешевые общественные столовые, чтобы женщины могли заниматься большими, а не только маленькими делами.
Ей льстило это непривычное внимание к ее домашним заботам, хотя она понимала, что это внимание относится не только к ней.
Однажды он произнес слова, особенно поразившие ее:
– Та революция непобедима, которую поддерживают и в которой участвуют женщины.
Вечером, после трудового дня, он спускался вниз по лесенке с чердака. Заслышав его шаги на лесенке, все домашние преображались, глаза детей загорались любопытством, предвкушением предстоящей занимательной и живой беседы.
Надежда Кондратьевна, штопая чулок, подметая угол или подавая чай, слушала его разговор с мальчиками, и ее материнская душа радовалась тому, что дети общаются с ним и от этого станут умнее и образованнее. Он рассказывал им о сибирской ссылке, о западных столицах, о швейцарских ледниках и озерах, о жизни людей в разных странах.
Мальчики сидели неподвижно, а Надежда Кондратьевна старалась двигаться как можно бесшумнее и тихо улыбалась, когда все смеялись.
Однажды он рассказал о своем детстве и о старшем брате, повешенном ровно тридцать лет назад в Шлиссельбургской крепости. Все сидели серьезные, а Надежда Кондратьевна, нагнувшись в углу над чулком, незаметно поплакала.
В другой раз он начал шутливо предсказывать будущее мальчиков. Кондратия, недавно увлекшегося анархизмом и похаживающего в анархистский клуб, он прочил в генералы будущей пролетарской армии или, «еще лучше, в адмиралы революционного флота: море рядом, отец – почти моряк, отлично знает Финский залив. Да, будешь адмиралом!» Александра, паренька умного и смышленого, лучшего помощника матери, он определил в инженеры или даже («почему бы нет? Управлять будут рабочие!») в управляющие гигантского завода земледельческих орудий, «который мы обязательно построим. Будешь выпускать железные плуги и тракторы (не знаешь, что это? Это американские машины для быстрого и легкого возделывания земли). Они перепашут всю русскую землю, сровняют все межи». Коля, с его вдумчивыми и ясными глазами, будет ученым, который придумает аэроплан для полета на Луну и первый же туда полетит. Сказав это, Ленин повернулся к Надежде Кондратьевне и стал ее уверять, что учиться дети пролетариев будут бесплатно, «поэтому, – сказал он, смеясь, – вам не надо беспокоиться, Надежда Кондратьевна, расходов – никаких».
– А я? – спросил десятилетний Толя застенчиво.
– А я? – осведомился шестилетний Лева деловито.
– Не знаю, что и придумать для всех, – комично развел Ленин руками. Кем захотите, тем и станете!
Он говорил в шутку, но не совсем. Глядя на него и на детей жаркими от нежности глазами, она готова была молиться богу, в которого не верила, за его здоровье и благополучие и, разумеется, за сидящих вокруг него детей.
Иногда же Ленин задумывался, становился молчалив, рот его твердел и лицо менялось почти до неузнаваемости. В таких случаях все замолкали, начинали, как по уговору, заниматься каждый своим делом, читали книжки, газеты или выходили из сарайчика во двор.
Зиновьев был тоже человеком образованным, вежливым и разговорчивым. Но он был несколько рассеян, невнимателен. На детей не обращал внимания. Иногда при всех заговаривал с Лениным по-французски или по-немецки, видимо, чтобы никто не понял, – а Ленин явно сердился на него за это и обязательно отвечал по-русски.
Привыкнув к Ленину, Надежда Кондратьевна с трудом верила (настолько был он смешлив, оживлен и любезен), что за ним погоня, что тысячи людей рыщут, отыскивая его след, и их отделяет от него, в сущности, только тонкая стенка сарая. А заглянув в газету, где шла бешеная травля, или послушав в лавке разговоры о нем, она приходила в ужас от своей внутренней беспечности. Тогда она ловила во дворе и по углам детей, в сотый раз напоминала об их обязанности: молчать, ни словом, ни взглядом не выдавая присутствия в доме посторонних, забыть про обитателя чердака. Когда они собирались вместе, она глядела на каждого по очереди пронизывающе и властно. За Кондратием она следила особенно упорно, почти враждебно. Она не могла ему теперь простить его увлечения анархизмом – раньше она не обращала на это никакого внимания. Он смущался под ее пристальным взглядом, конфузливо улыбался. И тогда она, зная его честность и стыдясь своей подозрительности, быстро трепала его по щеке. Она была бы рада вместить всех семерых детей в себя, не зная, как иначе передать им чувство тревоги и ответственности, проникающее насквозь все ее существо.
9
Утром, как обычно, Надежда Кондратьевна отослала старших детей за газетами для Ленина. Ради конспирации они покупали газеты в разных местах: на станции Сестрорецк, на курорте, в Тарховке и на Раздельной. У каждого из мальчиков был постоянный список. Саша покупал газеты эсеровские и меньшевистские – «Рабочую газету», «Известия Петроградского Совета», «Новую жизнь», «Волю народа», «Единство», «Землю и волю», «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» и «Дело народа». Кондратию были поручены газеты и журналы большевистские – «Пролетарское дело», московский «Социал-демократ», «Работница» и какие появятся. Черносотенные и бульварные газеты – «Живое слово», «Новое время», «Новую Русь», «Народный трибун» Пуришкевича и другие – покупал Сережа. Буржуазные газеты – питерские «Речь», «День», «Русская воля» и «Биржевые ведомости», московские «Утро России», «Русские ведомости» и «Русское слово» оставались тоже за Кондратием. Иногда их покупала на станции Разлив сама Надежда Кондратьевна.
Сегодня она собралась в лавку за покупками и решила заодно купить на станции свою долю газет.
Когда старшие мальчики разъехались, Надежда Кондратьевна надела шляпку с вишнями и накидку – материно наследство – и, оставив десятилетнего Толю нянчиться с Гошей и Левой, отправилась в поселок. Знакомый приказчик в лавке незаметно спроворил ей покупку без очереди, и она пошла на станцию к газетному киоску. Она очень спешила. Кто-нибудь мог приехать из Питера, да и вообще ей казалось страшно оставить свой пост на берегу пруда. Однако, уже уходя со станции, она наткнулась на своего родственника Фаддея Кузьмича, владельца галантерейной лавки в Сестрорецке. Он был сильно навеселе. Картузик его торчал на самой макушке, рыжеватые усы были залихватски закручены. Он любил поговорить о политике. До 9 января 1905 года он был рьяным монархистом, но после расстрела рабочих в Петрограде возненавидел царя и стал таким же рьяным республиканцем, а теперь всюду прославлял Керенского и только что не молился на него.
– А, Кондратьевна, сколько лет, сколько зим! – сказал он, снимая картуз. – Наше вам с кисточкой! Давненько не видались! – Заметив торчавший из ее кошелки сверток газет, он ехидно усмехнулся: – Почитывает Николай Александрович? – Вытащив газеты из кошелки, он удивленно протянул: Э-э-э, вижу, поумнел твой супруг… Вот что стал читать! Правильно. Кончились большевички… Наш великий вождь Керенский Александр Федорович пристукнул их!
Она промолчала и пошла по направлению к дому. Он, однако, увязался за ней и, шагая по песку чуть сзади, не переставал говорить без умолку. А она тем временем не без удивления вспоминала, что еще каких-нибудь две недели назад считала его умным и интересным человеком, а теперь видит, что он петушист и глуп до отвращения. Впрочем, она почти не слушала его, а думала свою думу и по-прежнему с той же силой воображения представляла себя стоящей с распростертыми руками на берегу пруда спиной к озеру. Она мечтала отвязаться от Фаддея Кузьмича и поскорее очутиться дома, словно ее отсутствие могло сказаться на безопасности тех, в шалаше. На людях она даже и в мыслях не называла Ленина его именем, а именно так: «те, в шалаше». Она стремилась выжечь из собственной памяти это имя как бы из опасения, что оно может быть прочитано на ее лице. Слушать Фаддея Кузьмича она стала только тогда, когда услышала имя Ленина из его уст.
– А про Ленина слыхала? Уже известно, где Ленин! Нашелся, сударик!
Она приостановилась на мгновение, Фаддей Кузьмич догнал ее и повернул к ней свое большое рыжеусое глупое лицо.
– В Швеции! – выпалил он и прищелкнул языком.
Она пошла дальше, и он снова пустился за ней.
Возле своей калитки она замедлила шаг, надеясь, что он отстанет, но он не отставал, может быть надеясь на рюмку вина или просто тосковал о собеседнике, хотя бы молчаливом. Они вошли во двор. Она между тем оправилась от потрясения и даже спросила слабым голосом:
– В Швеции? Вы откуда знаете?
– Все знают. На подводной лодке бежал. Поминай как звали.
Он уселся на крылечке дачи, вынул красивую папиросную коробку «Сэръ» и взял из нее тонкую и чересчур короткую папироску явно не по размеру коробки; Надежда Кондратьевна подумала, что раньше никогда не заметила бы эту подробность.
Пока он разглагольствовал о том о сем, Надежда Кондратьевна вошла в сарай, сняла шляпку и накидку, прихватила с собой ведро картошки, вышла во двор и начала чистить картошку возле очажка. Малыши куда-то исчезли, вероятно, ушли к соседям. Она чистила картошку и тревожно думала о том, что надо будет предупредить старших мальчиков, чтобы они не заходили: большое количество газет, да еще разных направлений, могло навести Фаддея Кузьмича на подозрение. Она неторопливо подошла к калитке и посмотрела на улицу, ведущую к станции. Улица была пустынна. Она вернулась обратно.
– Где Николай? – спросил Фаддей Кузьмич. – В заводе?
– Отпуск взял. Участок заарендовал. Косит.
– Ну?.. И впрямь, скоро сеном будем питаться, доведут Россию немецкие шпионы.
– Корову покупаем.
– Вот это хорошо, это по-хозяйски… А чего это вы в сарае живете, а дом заколочен? Дачников, что ли, нету?
– Ремонтируем.
– Сами или рабочих наняли?
– Сами. – Надежда Кондратьевна снова подошла к калитке и снова вернулась. – Может, поедете к Николаю за озеро? Лодка есть. – Она знала, что Фаддей Кузьмич без памяти боится воды, даже не купается в озере. – Там и весла.
– Нет уж… Некогда кататься.
Он поднялся с места, стал деловит. Она обрадовалась, что он уходит. А в это время на тропинке, ведущей с пруда, показался Емельянов с мешком на плечах. Увидев гостя, он остановился, сделал движение назад, но было поздно: Фаддей Кузьмич уже заметил его.
– Сколько лет, сколько зим! – произнес Фаддей Кузьмич свое избитое приветствие. – Слышал, сенокосничаешь?
– Да, вроде.
– То-то. А Ленин-то нашелся!
Емельянов несколько опешил. Он спросил, кладя на землю мешок:
– Какой Ленин?
– Какой? Твой. В Швеции обнаружен.
– Надя, дай умыться.
– По ресторанам там ходит, всех угощает, денег – куры не клюют.
– Принеси полотенце, Надя. Значит, богатый он?
– А ты что думал? Он и в Питере кутил почем зря.
– Надя, там уже огурчики есть крупные. Хорошо бы собрать. Значит, в Швеции? А я слышал – улетел в Швейцарию на аэроплане.
– Врут. В Швецию на подводной лодке – это точно. Ходит по Стокгольму с серебряной палкой, а в палке нож. Пьет только французский коньяк марки «Мартель», никаких других вин не употребляет.
– Ишь ты! Надя, рубашку дашь переодеть?
– А папиросы курит только высшего сорта, по семи рублей сотня, богдановские по особому заказу.
– Только богдановские?
– Именно. А ты никак из евонных был? Или одумался?
– Чего там… Я сам по себе.
– Брось! Знаю.
– У меня заботы другие. Корову вот задумал купить.
– Слыхал. Правильно! Постой, есть на примете. В Тарховке знакомые телка у них подросла, красавица. Хочешь, поедем? Недорого возьмут. Мне за комиссию бутылку спирту… Ну, ладно, полбутылки.
– У меня уже дело слажено. Сейчас вот собираюсь туда идти. Так что извини…
– Пойти с тобой? Я здорово торгуюсь, ты так не сможешь. Все-таки я купец, не то что ты – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Полцены выторгую, ей-богу! И продавщик самогону нам выставит. Я шепну.
– Нет. Уж извини. Пойдем, Надя.
– Как угодно, мил-сдарь…
Фаддей Кузьмич разочарованно бросил окурок и наконец распростился.
Надежда Кондратьевна, стоявшая у калитки в ожидании сыновей, вздохнула с облегчением. Она подняла окурок с таким видом, словно это был сам Фаддей Кузьмич, и выкинула его в помойное ведро. Емельянов рассмеялся, потом обнял жену быстрым и нежным объятием и спросил:
– Газеты купили?
– Я купила. Мальчики сейчас приедут. Как там?
– Все хорошо. Нравится ему. Говорит, лучше не надо.
Она улыбнулась.
– Если что надо ему постирать или заштопать, вези сюда.
– Ладно.
– Что Коленька?
– Молодец! Разведчик!
– Вот, селедки достала. Отвезешь.
– Ладно. Французского коньяку марки «Мартель» не достала?
Оба рассмеялись. Она продолжала расспрашивать:
– Как там ночью? Не холодно?
– Ничего. Сыровато, конечно. И комары. Но ничего. Не жалуется.
– Ты загорел, Николай.
– Кошу понемножку.
– А на вид усталый.
– Не знаю с чего.
– Душа неспокойна.
– Верно, так.
– Как спали?
– Так себе. Он долго не засыпал.
– Ворочался?
– Нет, лежал тихо. Но не спал, я заметил.
– Опасается?
– Нет. Думает. С утра опять сел писать. Как всегда, газет ждет не дождется.
Вскоре появились мальчики с газетами. Картошка была уже готова, все уселись завтракать. Когда поели, подсела к столу и Надежда Кондратьевна она всегда завтракала простывшими остатками, вечно боясь, что детям не хватит. В последнее время она, завтракая, просматривала привезенные мальчиками газеты.
Емельянов начал укладывать вещички и газеты в мешок.
– Мерзавцы, чистые мерзавцы! – услышал он восклицание Надежды Кондратьевны.
– Что там?
Он не привык слышать от жены даже таких невинных ругательств и поднял голову.
– Что пишут! Подлецы, чистые подлецы! – Она протянула ему газету.
Он, посмеиваясь над ее негодованием, взял газету, начал читать, похохатывая.
В газетной заметке, которая называлась «Ленин и шведская шансонетка», рассказывалось, что Ленин пользовался популярностью щедрого поклонника у опереточных примадонн «Летнего Буффа» и «находится в тесной связи» со шведской шансонеткой-певичкой Эрной Эймусти. «Никому неизвестны попойки, устраиваемые „мучеником“ Лениным в Стеклянном Театре „Буффа“. Но лакеям памятны те дни, когда Ленин платил по 110 рублей за бутылку шампанского, давал по „четвертной“ на чай. Помнят и еще один случай, в котором Ленин выявил свой „пролетарский“ характер. Однажды, заняв со своей дивой Эрной Эймусти отдельный кабинет № 4, он позвал лакея, чтобы заказать ужин. На звонок в кабинет вошел старший официант, массивный мастодонт „Казбек“. Увидев его, дотоле спокойный Ленин вдруг пришел в ярость, затопал каблуками, неистово крича: „Пошел вон, буржуй! Пришлите другого лакея“. Толстый и высокий, с солидным брюшком „Казбек“ убежал, тем более что заметил в руке Ленина бомбу».
– Ну и врут, просто уму непостижимо! – искренне удивился Емельянов, затем, взглянув на Надежду Кондратьевну, ласково сказал: – Чего ты расстраиваешься?! На него и похлеще врали…
Но она не могла успокоиться. Ее почти трясло от отвращения и обиды. Ей, чисто по-женски, казалось, что эта клевета, касающаяся нравственности Ленина, серьезнее и опаснее всех других. Она тихо сказала:
– Ты ему эту газету не показывай. Зря расстроится. Оставь ее тут.
– Ну, что ты!..
– Оставь ее тут, – упрямо повторила Надежда Кондратьевна.
Емельянов не мог этого понять, говорил, что Ленин и не то еще видел, но газету все-таки с собой не взял. Так Ленин и не узнал, что находится «в тесной связи» с шансонеткой Эрной Эймусти.
10
Посетители приезжали редко, – очевидно, в Питере опасались навести сыщиков на след. Только раз в три-четыре дня появлялся «Берг» – он же Александр Васильевич Шотман[32]. С каштановой бородкой, в пенсне и белой панаме, он выглядел настоящим барином, и это обстоятельство, в интересах конспирации, было очень по душе Надежде Кондратьевне. Еще реже приезжал Зоф. Иногда в калитку бесшумно проскальзывала молчаливая женщина в черном вдовьем платке, привозившая то каравай хлеба, то смену белья.
Все они появлялись и исчезали только с наступлением темноты.
Когда Шотман однажды пришел со станции утром, Надежда Кондратьевна удивилась. Шотман торопился. Он расспросил, не замечено ли вокруг дачи чего-нибудь подозрительного; успокоившись же на этот счет, он предупредил, что вечером привезет двух товарищей («членов ЦК», – прошептал он в самое ухо Надежде Кондратьевне). Затем поспешно ушел обратно на станцию.
Действительно, часов в шесть вечера Надежда Кондратьевна увидела возле своей калитки двух людей. Они постояли с полминуты как бы в раздумье, затем толкнули калитку и вошли. Она пошла им навстречу. Один был щуплый человек в пенсне, с клочковатой темной бородкой и очень темными печальными глазами, другой – сухощавый, тонколицый, с остроконечной бородкой.
– Как поживает Карпович? – спросил человек в пенсне густым и грустным баском, будто и впрямь спрашивал о здоровье какого-то очень близкого и очень исстрадавшегося человека.
– Врачи говорят, здоров, – быстро ответила Надежда Кондратьевна и добавила уже естественным голосом: – Сейчас вас переправлю.
Человек в пенсне представился:
– Андрей.
– Юзеф[33], – представился второй, с остроконечной бородкой.
Оба приезжих уселись на лавку и сидели размягченные, видимо очень усталые, глядя мечтательными глазами на куст жасмина, росший возле забора.
– А? – спросил «Андрей», кивая на жасмин с полуулыбкой, блуждавшей на его лице.
– Да, – ответил «Юзеф», улыбаясь точно таким же образом.
– Забыли, что этакое есть на свете, – сказал «Андрей» полувопросительно.
– Да, – согласился «Юзеф».
Надежда Кондратьевна молча отломила ветку жасмина и подала «Андрею». Он приник лицом к ветке, затем, не выпуская ее из рук, спросил:
– Дождемся темноты?
– Нет, – возразила Надежда Кондратьевна. – Переправитесь сразу. Возьмете с собой удочки, вроде как бы рыболовы.
Она пошла искать кого-нибудь из мальчиков. Кондратий читал в саду книжку. Он отдал книжку матери и пошел за веслами и удочками, лежавшими в баньке на берегу. Оба гостя молча пошли за ним. В конце двора перед ними открылось неширокое озерко. Лодка, привязанная к столбику веревкой, стояла под ветками ветел.
Кондратий сел за руль, «Андрей» – за весла. Лодка поплыла по озерку и вскоре очутилась на широком раздолье огромного озера, чьи берега терялись вдали. Волны ходили здесь почти морские. «Юзеф» держал удочки вертикально, чтобы их было видно со стороны. «Андрей» сильно и ладно работал веслами.
Им повстречалась лодка с дачниками. Красивая женщина полулежала на корме, обрывала листья с ивовой ветки и кидала их за борт с задумчивым видом. «Андрей» сложил весла и некоторое время смотрел вслед лодке и плывущим по воде листьям. Он усмехнулся, снова взялся за весла и сказал:
– Люди живут так, словно на свете ничего особенного не происходит. Так, как год, и два, и десять тому назад. У Толстого еще это где-то отмечено, и весьма справедливо.
– Может, просто хотят забыться, – заметил «Юзеф».
Некоторое время плыли молча.
– Какая тишина! – сказал «Андрей». – С непривычки оглушает.
«Юзеф» заметил одобрительно:
– Вы хорошо гребете.
– Навык ссыльных времен. Три года назад, в туруханской ссылке, я арендовал крохотную лодочку. На ней, кроме меня, никто не смел отправиться по Енисею. А я посмеивался над пророчествами товарищей, которые уверяли меня, что рыбы давно дожидаются, когда попаду к ним на обед. Но я-то знал, что не буду для них лакомым куском: слишком я тощ и невкусен. Потому и ездил. Хорошо мне было, я забирался подальше вверх, а потом, когда течение само несло лодку вниз, сидел и мечтал. Стихи читал вслух. Я увлекался тогда стихами.
Тонкое, очень белое лицо «Юзефа» приобрело задумчивое выражение, он усмехнулся, но ничего не сказал.
«Андрей» тоже замолчал. По мере приближения берега он все больше волновался. Это волнение от предстоящей встречи с Лениным усугублялось еще одним обстоятельством. Дело в том, что «Андрей» вез в боковом кармане пиджака начатую им еще в ссылке работу «Очерки по истории международного рабочего движения». Уже несколько месяцев как он мечтал показать Ленину свою рукопись, но не решался, каждый раз робел и умолкал на полуслове. Сегодня он решился взять рукопись с собой: авось ему хватит смелости оставить ее Ленину. Может быть, Ленин на досуге почитает. «Андрей» был самоучкой, в ссылке самостоятельно изучил немецкий и французский, прочитал там множество книг, и ему очень хотелось писать, но не было времени и не было уверенности в собственных способностях. Он посмеивался над своим «литературным зудом», жаждая и боясь показать Ленину рукопись.
Кондратий направил лодку к берегу. Она вошла как нож в стену прибрежного камыша. Рядом в камышах качнулась вторая, привязанная к берегу лодка.
– Здесь? – спросил «Андрей».
Они выпрыгнули на берег и начали с любопытством озираться. В это время из кустов появился мальчик лет тринадцати. Он внимательна посмотрел на приехавших и неожиданно пустился от них наутек в глубь леса.
– Что такое? – насторожился «Юзеф».
– Мой брат, – улыбнувшись, объяснил Кондратий. – Бежит предупредить. Разведчик.
Они пошли по тропинке и вскоре очутились на поляне, уже утонувшей в предвечернем сумраке. Посреди ее возвышался высокий лиловатый стог. Рядом мерцал небольшой костер. Никого не было видно. Вдруг из густых зарослей справа раздалось весело и укоризненно:
– Товарищ Свердлов!.. Товарищ Дзержинский!.. Вы?.. Э-э, это неконспиративно.
Свердлов развел руками:
– Ничего не поделаешь, Владимир Ильич! Надо!
Ленин стоял среди зарослей ивняка, широко расставив ноги, словно врос в эту пустынную болотистую землю. В предвечернем свете, придающем очертаниям предметов резкую определенность, он казался отлитым из темного металла.
Вокруг него валялись газеты, прижатые к земле от ветра то камешком, то веткой.
– Что ж! Милости прошу к нашему шалашу, – сказал он. – Тут эта поговорка удивительно уместна.
Он говорил в шутливом тоне, хотя глаза его светились необыкновенной радостью и волнением. Ему не хотелось слишком откровенно проявлять свои чувства, чтобы Свердлов и Дзержинский, а по их рассказам Крупская и другие товарищи не заподозрили, что ему бывает трудно и тоскливо в этой заозерной глуши.
– Ну, раз приехали, – сказал он, – то уж рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте все.
– Погодите, Владимир Ильич, – улыбнулся Свердлов. – Вы всегда так не даете опомниться.
– Что ж, садитесь, опоминайтесь. Григорий, где вы? К нам гости. Наконец-то мы узнаем все из первых рук.
Зиновьев появился из шалаша заспанный, но при виде гостей оживился, побежал за чайником.
– Сейчас угостим вас чаем, – сказал он, суетясь. – Разумеется, кипятком, чаю нет, заправляем листом смородины.
Ленин сел на пенек, его лицо стало очень серьезным и озабоченным.
– Рассказывайте.
Ярко вспыхнул и разгорелся костер, возле которого Емельянов с Колей и Кондратием начали готовить ужин.
Свердлов сказал:
– К съезду все готово. Заседания будут происходить на Выборгской стороне, в здании Сампсониевского общества трезвости. На случай слежки имеем в виду еще одно помещение. Всем делегатам съезда будет роздана ваша брошюра «К лозунгам». Сегодня ее кончают печатать в Кронштадте. Шотман привезет вам пробный экземпляр.
Лицо Ленина от волнения потемнело.
– А вы читали брошюру? – спросил он.
– Читал. Все члены ЦК и ПК ее читали.
– Ваше мнение?
Свердлов сказал:
– С вашей оценкой положения совершенно согласен. Мирный период кончился.
– Надо готовиться к взятию власти, – кивнул головой Дзержинский.
Ленин покосился на Зиновьева, потом снова весь устремился к приехавшим из Питера и спросил:
– А вас не смущает снятие лозунга «Вся власть Советам!»? – и замер, ожидая ответа.
– Единственно правильный вывод из июльских событий, – сказал Свердлов.
– Хотя и неожиданный для многих, – усмехнулся Дзержинский.
– И вам не кажется, что написано в раздражении? Слишком остро?
Басок Свердлова рокотнул негодующе:
– Слишком остро? А штыки, на нас направленные, не остры?
– Так, так… – Ленин от удовольствия потирал руки. – И вы думаете, все поймут?
– Нет, не думаю.
– Вот хорошо! Не думаете. Правильно. – Ленин лукаво прищурился. – Вот и Григорий думает, что не все поймут.
– С докладчиками у нас трудности, – продолжал Свердлов. – Вы в подполье, многие товарищи арестованы. Как-нибудь обойдемся.
– Обойдетесь, конечно. Слава богу, у нас достаточно сильных, знающих товарищей.
– Политический доклад ЦК поручен Джугашвили. Он полностью разделяет вашу точку зрения на текущий момент и будет решительно защищать ее на съезде.
– Что ж, хорошо. Сталин дельный и твердый человек.
– Организационный отчет поручен мне. Затем пойдут доклады с мест: Питер, Москва…
– Кронштадт, обязательно!
– Ага. Есть!.. Далее – Финляндия, Центральная промышленная область, Север – Вологда, Новгород, Псков, – Поволжье, Донецкий бассейн, Юг Одесса и Киев, – Урал, Кавказ, Прибалтика – Ревель, Рига, – Литва, Польша, Минск с Северо-Западом…
– Звучит внушительно. Как бы смотр сил. Хорошо! Не забудьте послать приветствие от имени съезда всем арестованным товарищам.
– Арестованным и скрывающимся в подполье. Оно уже написано. Свердлов продолжал: – Имеем вам сообщить еще одну новость. Вот она, эта новость, в натуре. – Он достал из кармана небольшого формата газету. – В Питере снова выходит большевистская газета «Рабочий и солдат». Вот первый номер. От имени редакции прошу сотрудничать.
– Превосходно! – воскликнул Ленин. – Как вам это удалось?
– Наша «военка» – Миша Кедров с Подвойским[34] все устроили. Их работа. Сначала Кедров попробовал было сунуться в «Новую жизнь», но Ладыжников набросился на него: «К вашей организации примазались шпионы, провокаторы, всякий сброд. Мы убеждены, что и Подвойский провокатор». Тогда Кедров с Подвойским высмотрели маленькую типографию на Гороховой, «Народ и труд» называется, и уговорили администратора, пообещав ему, что газета будет тихая, спокойная, почти «Задушевное слово». Тираж первого номера двадцать тысяч. Он был раскуплен за несколько часов.
– Молодцы! – Ленин нагнулся к чурбаку, служившему ему столом, и взял стопку исписанной бумаги. – Вот ответ на «разоблачения» Петроградской судебной палаты. Напечатайте за моей полной подписью. А вот еще статейка «О конституционных иллюзиях». Завтра постараюсь ее закончить и вам прислать. По-моему, статейка очень важная. Я писал ее, кроме всего прочего, и ради самоуспокоения. Да, не удивляйтесь. Я этой статейкой окончательно подчинил чувство разуму. Я доказал себе – и, надеюсь, всем товарищам по партии – правильность решения о неявке на суд. Вы прекрасно знаете, как трудно далось мне это решение. Казалось верным и весьма революционным явиться на суд и сказать все, что полагается говорить в таких случаях революционеру… Месяца два назад я бы при тех же обстоятельствах обязательно явился. Теперь я уже слишком взрослый, чтобы явиться. В революции люди быстро созревают… Очень рад, что удалось наладить газету. На днях смогу дать еще одну статью – «Уроки революции» или что-то в этом роде. – Он пристально посмотрел на Свердлова и Дзержинского, его глаза потеплели. – Завидую вам, что вы можете вернуться в Питер, окунуться в эту кашу, быть среди товарищей. Мне бы хоть одним глазком посмотреть на наш съезд. – Хитрые морщинки собрались под его глазами. – А, как вы думаете? Ведь я неузнаваем. Вы меня не видели в парике. Вот я достану парик – мне привезли несколько штук на выбор, – и вы сами взглянете… Ей-богу, это безопасно.
Дзержинский медленно проговорил в свойственной ему сдержанно-патетической манере:
– Владимир Ильич, вы не имеете права подвергать себя риску. Положение остается исключительно сложным. Вы тут слишком успокоились. Идут аресты. За вашу поимку назначена награда. Не только милиция и контрразведка, но и тысячи добровольцев ищут вас. На днях пятьдесят офицеров ударного батальона дали торжественную клятву найти вас или умереть. Позавчера в Кронштадте комендант порта Тыртов, получив шифровку от контрразведки, что вы скрываетесь на линейном корабле «Заря свободы», прибыл на борт корабля и попытался произвести обыск. Правда, обыска команда не позволила ему произвести и только официально заверила его, что вас на корабле нет. Повсюду на станциях ходят сыщики с вашими фотографиями. Фотографии розданы станционным жандармам. Не знаю, читали ли вы в газетах, что по вашему следу пущена знаменитая собака-ищейка Треф… Вы не смейтесь, Владимир Ильич, умоляю вас, тут совсем не до смеха. Знайте, во всяком случае, что если мы вас не убережем, я пущу себе пулю в лоб.
Ленин при последних словах перестал улыбаться, пытливо посмотрел в сверкающие глаза Дзержинского и подумал: «А что? Этот – пустит… И очень даже просто». Однако он сказал сердито:
– Товарищ Дзержинский! Пулю в лоб! Какие-то анархистские эффекты… Нехорошо, нехорошо! Разве русская революция может зависеть от одного человека?! Ну, ладно, не кукситесь, не поеду.
Он по-детски приуныл и отвернулся. Потом вздохнул и сказал:
– Ну, показывайте, что там у вас, тезисы, резолюции, повестка дня, докладчики… Показывайте.
11
Совсем стемнело. Работу закончили при свете костра. Затем поужинали свежей рыбой. Рыбу эту обитатели шалаша наловили в мережи прошлой ночью.
Ленин и за ужином не переставал без конца расспрашивать о положении на питерских заводах, в Москве, Гельсингфорсе и Кронштадте, на Северо-Западном фронте, в Сибири и южных губерниях. На вопросы отвечал главным образом Свердлов. Он отвечал скупо, но исчерпывающе, наизусть называя цифры, без труда вспоминая множество фамилий, имен и партийных кличек. Ленин слушал с величайшим вниманием и вспоминал, где находится, только иногда, отвлеченный то клубом дыма, ударявшим в лицо при перемене ветра, то приглашением Емельянова есть поживее; тогда он рассеянно усмехался и незаметно веселел при мысли о том, что вот напротив него сидят скромные, немного застенчивые люди, в руках которых сосредоточены все нити большевистской организации – буржуи сказали бы: «большевистского заговора»…
Затем все пошли провожать Свердлова и Дзержинского к лодке. Постояли на берегу. Взошла туманная луна. Не хотелось расставаться.
Свердлов сказал:
– Тут, наверно, охота хорошая. Места глухие. Почти тайга.
– Да, – подтвердил Емельянов. – Глухарей и тетерок много. Чирок, утка…
– Охотники, наверно, сюда забредают, а?
– Бывает, когда сезон.
Свердлов покачал головой.
– Надо подумать о смене квартиры к началу охоты.
Ленин был молчалив. Лишь прощаясь, он сказал:
– Я поручил раздобыть некую синюю тетрадку. Надежда Константиновна знает. Напомните ей. Дело очень срочное.
При этом упоминании Лениным какой-то тетрадки Свердлов вспомнил о своей рукописи в боковом кармане, но и на этот раз не решился передать ее Ленину. «Не до того ему теперь, – подумал он. – Потом. Позднее. После революции. А может быть, уже при социализме, когда будет вдоволь свободного времени. Да и сочинение не ахти какое, нечего с ним соваться».
Он погрустнел, помахал Ленину фуражкой.
– Пожалуйста, дайте мне посидеть на веслах, – попросил Дзержинский.
Они отплыли. Некоторое время все молчали. Кондратий сидел за рулем. Свердлов рассеянно нюхал веточку жасмина, ранее оставленную в лодке. Она уже увяла, и к ее благоуханию примешивался легкий запах сырости и тления.
Он все думал о Ленине и, вспоминая о нем, улыбался той долгой и доброй улыбкой, какая появляется на лицах людей, увидевших что-то необыкновенно приятное.
Дзержинский, по-видимому, тоже думал о Ленине. Он вдруг сказал из темноты как бы про себя:
– Сломить его нельзя.
Свердлов живо отозвался:
– Вот именно! Луначарский мне рассказывал, что буквально то же самое он говорил французскому писателю Ромену Роллану: «Сломить Ленина нельзя, его можно только убить»… – На минуту воцарилось молчание, потом Свердлов закончил несколько изменившимся голосом: – Вот этого я и боюсь. Мне даже, признаюсь, снятся в связи с этим разные страшные сны.
Они все продолжали говорить о Ленине, и каждый из них говорил о нем то, что ценил и в себе.
– Он скромен и совершенно лишен честолюбия. Это большая редкость для вождя, – сказал Свердлов.
– Он горит, как факел, чистым светом, – сказал Дзержинский.
– Он человечен и добр, – сказал Свердлов.
– Он суров к врагам, но только к врагам, – сказал Дзержинский.
Снова воцарилось молчание. Лодка летела как стрела.
– Вы гребете отлично, – заметил Свердлов.
– Все та же ссылка, – улыбнулся Дзержинский. – Три раза пришлось бегать, из них два раза на лодке… В девяносто девятом – из Кайгородского, в девятьсот втором – из Верхоленска… У меня потом долго держались мозоли от этой дикой гребли.
– Спортсмены поневоле, – усмехнулся Свердлов.
Кондратий сидел за рулем молча, и ему казалось, что корни его волос холодеют от восторга и любви к этим людям.
12
Проводив взглядом лодку, Ленин сказал:
– Какие люди! Их не сломишь.
Он уселся на берегу, остальные последовали его примеру. Было тихо. Легкий туман, предвестник осени, стлался над озером. В камышах слышались всплески и шумы. Неподалеку, свистя крыльями, пронесся стремительный чирок. Из мрака донеслась безмерно печальная, надрывающая душу перекличка отправляющихся на юг куликов.
С легкой завистью Ленин еще раз перебрал в уме все, что ему рассказали товарищи. Жизнь в здешней глуши показалась ему в этот момент нестерпимой. Его мысли унеслись далеко – в Питер и дальше – в Москву и другие края, откуда съехались делегаты на съезд, и он огорченно подумал о том, как мало пришлось ему ездить по России; он ни разу не бывал на Украине, в Туркестане, не видел Кавказа и Крыма, а в привольной Сибири был ссыльным, подневольным человеком, прикованным к одному месту. Его пронзило до боли острое желание побывать повсюду, быть среди людей, говорить с ними, смотреть им в глаза, чувствовать себя частицей этой силы.
Он тихонько вздохнул и повернулся к Коле:
– Искупаемся, Коля?
– Вот здорово! – воскликнул Коля. Он втянул свой тощий живот, штанишки сами с него свалились, и он бросился в воду.
– Он вас очень любит, – вполголоса сказал Зиновьев.
– Amor d'amor si paga[35], – быстро ответил Ленин.
Все разделись и полезли в воду.
– Не уплывайте далеко, – взмолился Зиновьев, когда Ленин пропал во мраке.
– Ничего, собака Треф на воде следов не чует, – последовал ответ уже издалека.
Потом стало тихо. Зиновьев озабоченно вглядывался в темноту.
– Увлекается, – пробормотал он беспокойно.
Вскоре забеспокоился и Емельянов.
– Поплыть за ним, что ли? – сказал он и, пустившись вплавь, исчез во тьме.
Вернулся Коля. Он запыхался, но был очень весел и не переставал восхищаться:
– Ох, как плавает! А ныряет до-о-лго!..
В темноте раздался всплеск. Это вернулся Емельянов.
– Уплыл… в темноте не найдешь.
Они все трое постояли с минуту в воде, прислушиваясь. Наконец Ленин появился из мрака, лихо работая саженками.
– Владимир Ильич, – укоризненно протянул Емельянов, – разве так можно?
– А что такого? Я знаменитый пловец, Григорий это отлично знает.
Они вышли на берег и уселись на траву. Всеми овладело приятное оцепенение. Было очень тепло. Над землей плыл комариный звон.
Зиновьев, разомлев, начал рассказывать о первых днях войны, заставших Ленина в Поронине, под Краковом, об аресте Ленина австрийскими властями по обвинению в шпионаже; Зиновьев тогда жил недалеко, в Закопане. Узнав об аресте Ленина, он сел на велосипед и в проливной дождь поехал за десять километров к польскому революционеру доктору Длусскому с просьбой о заступничестве.
– Тогда было плохо, а теперь еще хуже, – пробормотал Зиновьев.
Ленин сказал глуховатым голосом:
– Для русского революционера быть обвиненным в шпионаже в пользу царской России – вещь в высшей степени отвратительная и тяжкая… Скажу вам по секрету, что для него есть только одна вещь столь же отвратительная и тяжкая – это быть обвиненным в шпионаже в пользу кайзеровской Германии.
Эти слова вырвались непроизвольно – Ленин ни разу не касался в разговорах этого вопроса, Емельянов впервые за все время понял, что всю шумиху с «германским шпионажем» Ленин переживает вовсе не так легко, как казалось. Впрочем, Ленин тут же перевел разговор на другое, но тотчас умолк: откуда-то с озера послышалось пение и теньканье гитары. И это теньканье и пение на лодках в темноте под звездами, среди тихих всплесков воды и комариного звона, навевали спокойствие и грусть.
– Да-а, – произнес Ленин. – Хорошо в глуши сидеть, созерцать красоты природы… Что может быть лучше с точки зрения поэта или художника? Как там сказано?.. «Бежит он, тихий и суровый[36], и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы…» А мне, грешному, хочется в Питер, в гущу событий, в кипение масс… Я ведь Питер даже толком и не рассмотрел на этот раз. Даже Медного всадника не видел! А сюда бы Горького прислать… Пусть посидит, подумает. Зря он увлекся чисто политической деятельностью. В политике он путает. Он лучше видит и понимает человека и тонкости человеческих взаимоотношений, чем столкновения классов и тонкости классовых взаимоотношений… Горький и меня защищал в своей газете в статейке «Не трогайте Ленина» и в других статейках скорее как Ульянова-Ленина, то есть некую известную ему и уважаемую им личность, нежели как представителя и защитника интересов определенного класса. Политика – область человеческих отношений, имеющая дело не с единицами, а с миллионами… Он-то, наверно, сердился бы, если бы мы мешались в его творчество, указывая ему, как описывать звездную ночь или озерную зыбь… Вот такую, как сейчас… Да, для художника одиночество часто необходимо. Нам, политикам, людям земным, одиночество возбраняется. Наша стихия массы. Поэты тоже, вероятно, несмотря на их вдохновенное ремесло, сознают, что творят для масс. Но это у них не так грубо, не так непосредственно. Возможно, что лучшие свои вещи они создают тогда, когда забывают об этом хотя бы ненадолго. А для нас такое забвение – верная гибель… Коля, ты не замерз?
– Нет.
Ленин рассмеялся:
– А ведь мы тоже ведем теперь далеко не прозаическую жизнь. Шалаш, уединение, подполье, переодевание, ищейка Треф… Нешуточное дело для ортодоксальных марксистов, знающих «Капитал» вдоль и поперек, как мужик свой двор. Эсеры считали себя всегда романтиками, а нас, социал-демократов, – сухарями… Очевидно, Бакунин так же относился к Марксу[37]. А поглядите-ка на эсеров! Выветрилась мужицкая романтика, поблекла. Ничего от нее не осталось. Смирные, пузатенькие… Крестьянская партия, а землицу мужику не дает, а мы, сухари, дадим! Власти хочется, а боятся. А мы, сухари, не боимся. «Мужицкого министра» Чернова обвинили вслед за мной в шпионаже, а он смиренно ушел из министерства, ждет, видите ли, законного расследования! Плюнули ему в рожу, а он утерся и сказал: «Божья роса». А мы ушли в подполье. А в подполье комары кусаются. Коля, искупаемся еще раз!
– Только, чур, далеко не заплывать, – сказал Емельянов.
Ленин и Коля снова полезли в воду, пошумели там, повозились, затем выскочили на берег и стали одеваться.
– Тебе скоро в школу, – сказал Емельянов. – Придется перекочевать обратно домой, мама велела.
Коля сказал угрюмо:
– Никуда я не уйду. Я здесь буду!
Емельянов спокойно возразил:
– Как так здесь? Учиться надо.
Ленин сказал из темноты:
– А ведь нам скучно будет без Коли… Пусть остается. Достаньте учебники, тетрадки, я с ним буду заниматься. Коля, согласен?
– Да, – буркнул Коля, стараясь скрыть свое ликование.
– Ш-ш-ш, – прошипел Емельянов: к берегу приближались две лодки с дачниками. Теньканье гитары и голоса раздались совсем близко.
– Неужели пристанут к берегу? – зашептал Зиновьев.
Мужской голос на одной из лодок пел:
Дитя, не тянися весною за розой. Розу и летом сорвешь. Ранней весною фиалки сбирают, Помня, что летом фиалок уж нет. Летом захочешь фиалок нарвать ты, Ан уж фиалок-то нет. Горько заплачешь, весну пропустивши, Но уж слезами ее не вернешь…Другой, пьяный голос со второй лодки вмешался невпопад:
Теперь твои губы, что сок земляники, Щеки, как розы «Глуар де Дижон»…– Замолчите, несносный!.. – игриво произнес женский голос.
– Молчи, балда! – поддержал даму мужской голос.
Первая лодка загнусила, захлебываясь:
Сначала модель от Пакэна, Потом пышных юбок волна, Потом кружева, точно пена, Потом, потом… она!Вторая лодка, улюлюкая, отозвалась:
Мадам Клоц! Заберите Борю, Ведь ребенок сам не рад, На поле он сделал морю…и, похохотав, перешла на другое:
Германщики-чики, Шпионщики-чики, Вильгельмовы трепачи!– Это уже про нас, – шепнул Ленин и тихонько-тихонько засмеялся.
Лодки удалялись.
«Белые, бледные, нежно-душистые[38], грезят ночные цветы», – несся издали нестройный хор, затем пропал, истаял. Стало тихо.
– Если бы они знали, что вы здесь! – с веселым злорадством воскликнул Емельянов.
– Ах, пошляки, ах, пошляки! – весь закачался от негодования Зиновьев.
– Да, – с задумчивой усмешкой сказал Ленин. – «Щеки, как розы „Глуар де Дижон“…»
Обратно с озера в шалаш шли молча. На всех, даже на Колю, подействовала эта пошлая и ничтожная жизнь, дохнувшая винным перегаром и похабщиной на их тихое убежище. Каждый думал свою думу. Зиновьев думал о том, что старая Россия жива, она поет, разглагольствует, пьет самогон и политуру, декадентствует, торгует, похабничает, ей наплевать на революционеров, преследуемых, вынужденных скрываться; а сознательных пролетариев мало, и они теряются в огромном мещанском болоте.
Емельянов думал о том, как хорошо, что дачники не вздумали пристать к берегу; однако, когда начнется охотничий сезон, здесь вправду станет небезопасно, и, пожалуй, Свердлов верно сказал.
Коля все не переставал восхищаться тем, как Ленин плавает, и по этой причине еще больше негодовал на дачников за их частушку о «шпионщиках-чиках», и ему казалось, что эти частушки больно задели Ленина, и ему было жаль Ленина, и от этого он готов был заплакать в темноте.
Ленин же думал совсем не о том. Он думал о том, что делать революцию и строить социализм так или иначе придется также и с этими маленькими людьми, которые пели и визжали в лодках, что нельзя сделать специальных людей для социализма, что надо будет этих переделать, надо будет с этими работать, ибо страны Утопии нет, есть страна Россия. Это будет нелегко, трудно, чертовски трудно, труднее, чем сделать самое революцию, но другого выхода нет; потом подрастут вот такие, как Коля, с ними будут свои трудности, но все-таки с ними будет легче. Он положил руку Коле на плечо, и Коле показалось, что Ленин понял, о чем он, Коля, думает, и от этого у Коли сжалось сердце.
13
Купание это было последним. Ночи становились все холоднее. Надежда Кондратьевна слала теплые вещи, но все равно по утрам было страшновато вылезать из шалаша: ветер ранней осени посвистывал среди деревьев и кустов, кружил не пожелтевшие еще листья, морщил невысокую водичку на скошенном лугу. Впрочем, Ленин как будто не замечал холода, как раньше не замечал жары. Он работал теперь над своей очередной статьей, озаглавленной «Уроки революции», и вел оживленную переписку с президиумом происходящего в Питере съезда партии.
Однажды на закате солнца Сережа привел к шалашу худощавого человека, невысокого, складного, с пышной черной шевелюрой и черными усами под большим нерусским носом. Стог и верхушки деревьев были залиты ослепительно-красными лучами заходящего солнца. Вечер был холодный и ветреный.
Человек с усами пересек поляну, оставляя за собой длинную тень, и на опушке остановился, недоуменно озираясь. Ленин, стоявший возле стога, подошел к нему и сказал:
– Здравствуйте.
Человек обернулся и посмотрел на Ленина равнодушным взглядом.
– Что, не узнаете, товарищ Серго? – спросил Ленин насмешливо, очень довольный тем, что его нельзя узнать.
Лицо Серго вдруг расплылось в улыбке. Он кинулся к Ленину, обнял его, отступил на шаг назад и снова обнял, приговаривая:
– Владимир Ильич!.. Ай, дорогой дачник!.. Ай, дорогой человек!..
Он огляделся. Все кругом было пустынно, и дул ветер. Ленин выглядел так одиноко на этом залитом лучами заката лугу и так непривычно было Серго видеть Ленина одного, без товарищей, что он не знал что сказать.
Он думал, что увидит Ленина в большой уединенной даче, вокруг которой расставлена охрана из проверенных рабочих, может быть с пулеметами. Он теперь понимал сам, что глупо было так предполагать, и в то же время был очень огорчен тем, что вождь партии, за которого сотни людей отдали бы свою жизнь, по сути дела беззащитен.
Алый закат настраивал на торжественный лад и на тихий разговор. А Серго это было трудно при его южной экспансивности. Узнав, что Ленин живет в стогу, он возмущенно всплеснул руками:
– Нехорошо! А я думал, что вы на даче за озером! Как вы тут работаете?.. У вас же нет стола!
Ленин спросил:
– Что на съезде?
– Сейчас расскажу.
Из шалаша между тем вылезли Коля и Зиновьев. Емельянов в это время был в Разливе. Сережа передал Коле кошелку с картошкой и старую овчину и начал разжигать костер.
– Оставайтесь на ночь, – сказал Ленин. – Утром уедете и к началу заседания будете уже в Питере. Условились? Вот и хорошо! Сережа, отправляйся домой. Пораньше приезжай за товарищем.
Сережа ушел к лодке.
Поели хлеба с селедкой и полезли в шалаш. Коля долго слушал их разговор, борясь с дремотой. Но слушать было неинтересно: Ленин, а иногда Зиновьев спрашивали, Серго отвечал, но называл больше фамилии и числа: «Столько-то за, столько-то против… Такой-то за, такой-то против…»
Ленин слушал с вниманием и азартом, то и дело переспрашивал, смеялся, мрачнел, произносил свое многозначительное «гм, гм», а Колю от этих имен и чисел ужасно клонило ко сну. Он еще слышал, как Серго сказал:
– Я Чхеидзе сказал все, что про него думаю. Я ему по-грузински сказал, чтобы он лучше понял: «Ты тюремщик, вот ты кто!»
После этого Коля уснул, а проснувшись на рассвете, опять услышал то же самое – Ленин задает вопросы, а Серго отвечает.
– Вы мне про делегатов расскажите, про рядовых делегатов, с мест. Что они? Какое настроение? Нет ли растерянности? Нет ли упадка духа?
– Ай, Владимир Ильич, какие могут быть сомнения! Люди полны бодрости и веры в победу. Все выросли, возмужали… Вожди! Честное слово, вожди! Артем из харьковской организации, Ворошилов из Луганска, Джапаридзе из Баку, Шумяцкий из Сибири, Бубнов из Иваново-Вознесенска, Цвилинг из Челябинска, Мясников из Минска… А наш выборжский Калинин!.. Души пролетарские – головы министерские…
– Молодежи много?
– Средний возраст делегатов – двадцать девять лет.
– А Минин так и не приехал?
– Арестован по дороге в Питер.
– И Антонов из Саратова не прибыл?
– Тоже арестован. Сняли с парохода вместе с Мининым.
– Сколько, вы сказали, рабочих на съезде?
– Семьдесят человек.
– Больше половины! Разве мы могли мечтать об этом еще полгода назад! – Помолчав, Ленин спросил: – Какое же письмо прислал Мартов?
Серго сердито буркнул:
– Нехорошее письмо! Половинчатое письмо!
Коля снова заснул, а когда проснулся во второй раз, было уже тихо. Все спали. Неяркое солнце всходило на сером небе. Коля вылез из шалаша, побежал к озеру, умылся. Затем он пошел в свой ежедневный обход.
Прежде всего он проверил, как там обстоят дела у Рассоловых на сенокосе. Он пробрался к сенокосу и, затаившись в кустах, стал наблюдать. Из шалаша торчали босые ноги. Вскоре они стали тереться одна о другую, видно замерзли, но еще не знали, что замерзли, начали шевелить пальцами, подрагивать, потом одна нога скрылась в шалаше, за ней другая, затем обе высунулись снова и опять начали тереться одна о другую. Коля чуть не рассмеялся вслух: так они были смешны, эти мерзнущие ноги. Наконец они исчезли, и спустя минуту из шалаша вылез Рассолов. Он постоял-постоял на этих же самых ногах, уже потерявших свою особность, позевал и пошел в лес. Коля хотел было отправиться дальше, но вдруг увидел, что из шалаша вылезла еще одна пара босых ног, поменьше, и вслед за ними появился заспанный Витя, сын Рассолова, друг и соперник Коли. Коля тихо хихикнул при виде его растрепанной головы и заспанного лица. Он обрадовался, что будет с кем поиграть в разведчиков или индейцев здесь, в лесу, и уже приготовился оглушить Витю пронзительнейшим кличем племени команчей, но сразу же вспомнил о своих обязанностях и осекся: Витя, узнав, что Коля здесь, неподалеку, мог повадиться к нему в гости. Коля с ужасом подумал о том, что мог бы натворить ненароком! Он отодвинулся в глубь леса с таким страхом, словно действительно увидел перед собой шпика.
Очутившись возле уже знакомой ему муравьиной кучи, Коля сел на траву и задумался. Все-таки жаль, что не придется побегать с Витей и что нельзя открыться ему! Вот бы он ошарашил Витю, рассказав, что творится здесь, в болотистом лесу у озера, под самым носом у Рассоловых! И вдруг пожалел Витю, вспомнив его скучное, заспанное лицо. «Скучно ему», – улыбаясь с чувством превосходства, подумал Коля.
– Ай, как ему скучно! – сказал Коля вслух, подражая тому веселому человеку с усами, который был теперь у Ленина.
Он обошел окрестности и, снова вернувшись к шалашу, замер в кустах, наблюдая. Отец уже приехал. С ним был Сашка. Они сидели с Лениным возле ярко горевшего костра и о чем-то разговаривали. Вскоре из шалаша вылез Серго.
– Заспались, заспались, – сказал ему Ленин. – Опоздаете на утреннее заседание. А резолюции я уже пробежал. Я там сделал некоторые поправочки. Покажите товарищам.
Серго блаженно щурился на солнце. Из шалаша вылез Зиновьев. Он выглядел оживленным и бодрым и позвал Серго к озеру умываться. Они ушли. Коля подумал о том, что Зиновьев в присутствии приезжих людей оживляется, обычно же он теперь молчалив и как-то ленив. Коля в этом ощущал некую маленькую фальшь. Он смутно думал о том, что Зиновьев на людях старается быть, как Ленин, показать людям, что он точно такой, как Ленин, что он думает, как Ленин, не менее Ленина бодр, уверен и дружелюбен. Коля не умел делать выводов из своих наблюдений, да и не очень задумывался над их смыслом, он только примечал: если бы не было Серго, Зиновьев никогда не пошел бы в это холодное утро умываться на озеро, не шагал бы так размашисто, помахивая полотенцем, не говорил бы так громко.
Вернувшись с озера, Серго отказался пить чай и ушел с Сашкой к лодке. Перед уходом он крепко пожал руку Зиновьеву, долго тряс руку Ленину, потом пошел, но остановился на опушке, обвел глазами шалаш, стог и всю поляну, развел руками, хохотнул и пропал среди деревьев.
Зиновьев сразу увял, уселся и стал разуваться: ногу терла плохо намотанная портянка.
Коля подошел к костру и спросил у отца:
– Книжки привез?
Он спросил это довольно громко, чтобы Ленин услышал и еще раз подтвердил свое обещание. Но Ленин был, по-видимому, занят своими мыслями и смотрел отсутствующим взглядом на огонь костра. А Емельянов забыл про обещание Ленина и диву давался, почему Коля все пристает к нему насчет школьных учебников и с чего это он стал таким прилежным.
– Не мешай, – шепнул Емельянов, кивая на Ленина. – Через несколько дней сам поедешь в Питер с Сашей или Кондратием и купишь. Там тетка Марфа будет тебе шить костюм.
14
Шотман, в золотом пенсне и черной шляпе, с тросточкой в руках – ни дать ни взять прогуливающийся дачник, – приехал вечером и застал Ленина очень обеспокоенным последними новостями. Ленин сидел у костра. Отсветы пламени тревожно метались по его лицу. Газеты, полученные утром, исчерканные красным и синим карандашом, валялись окрест, как после побоища. Без этих яростно раскиданных газет пылающий костер с кипящим чайником и сидящими вокруг тремя мужчинами и мальчиком имел бы вполне мирный вид.
Ради конспирации Шотман молча собрал и сложил в кучу газеты. Затем он сел к костру и стал рассказывать. Обычно уравновешенный и сдержанный, Шотман сегодня был взволнован: в газетах появилось сообщение о происходящем съезде большевиков и цитировалось заявление Свердлова о том, что Ленин, не имея возможности присутствовать на съезде, тем не менее находится поблизости и незримо руководит съездом. В связи с этим засуетились прокуратура и контрразведка, по Питеру ходят слухи, что они собираются запросить съезд о местонахождении Ленина и в случае отказа сообщить, где он находится, возбудят против участников съезда уголовное обвинение в укрывательстве. А в вечерних газетах – Шотман привез их с собой – была напечатана сенсационная статейка: «Новые улики против Ленина». Некий Семен Кушнир, «случайно задержанный милицией в Киеве», оказался «одним из мелких немецких шпионов, работающих в России». «По вопросу о своей шпионской работе он имел личную беседу с Гинденбургом. В делах шпионажа им руководил австриец Фридерис. О Ленине Фридерис говорил ему, что для Ленина касса в Германии всегда открыта и он может получать сколько хочет денег».
Об этих новостях Шотман возбужденно рассказал Ленину и Зиновьеву. Ленин быстро просмотрел вечернюю газету и махнул рукой:
– Расчет на стопроцентных идиотов! «Один из мелких немецких шпионов» имел личную беседу с главнокомандующим германской армией фон Гинденбургом… Весьма убедительно! Все это ерунда. Вот что важно, вот где гвоздь политического момента: буржуазия решила сорганизоваться против революционного пролетариата. Решено провести «государственное совещание». И, конечно, в Москве, древней столице… Под трезвон сорока сороков… Туда съедутся крупнейшие фабриканты, биржевые и банковские воротилы, помещики, царские генералы и святители православной церкви, а наши эсеры и меньшевики – за ними, петушком, петушком, как покойный Петр Иванович Бобчинский! Контрреволюция готовится к решительной борьбе. У них в арсенале кое-что есть. Вот Рябушинский на торгово-промышленном съезде провозглашает, что для выхода из положения «потребуется костлявая рука голода, которая схватила бы за горло лжедрузей народа – демократические советы и комитеты». Вот их первый союзник – голод. Второй бонапартистская диктатура. А в крайнем случае – и мы должны всегда помнить об этом! – они пустят немцев в революционный Питер. Думаю, что русская буржуазия не забыла господина Тьера[39]… Как только дело доходит до кармана, весь патриотизм буржуазии идет насмарку… Вот, Александр Васильевич, какие дела.
– Да, дела серьезные, – согласился Шотман, нахмурившись.
– Пожалуйста, передайте в ЦК: сейчас многое зависит от московских товарищей. Надо поднять всю пролетарскую Москву против «государственного совещания»… Вплоть до всеобщей забастовки.
– Передам, обязательно.
Чайник между тем вскипел, Емельянов разлил кипяток по оловянным кружкам и роздал всем по маленькой конфете. Ленин, устремив пристальный взгляд в огонь, взял было кружку, но затем отставил ее.
– Все-таки удивительно ничтожна дорвавшаяся до «свободы слова» буржуазная пресса! – сказал он. – Газеты полны очередной сенсацией: Временное правительство переводит Николая Романова из Царского Села в Тобольск. «Все труды по организации переезда бывшего царя взял на себя министр-президент Керенский…» Царя сопровождают четыре повара, пятнадцать лакеев… С бывшим наследником Алексеем отправляется его дядька – кондуктор флота Деревянко, матрос Нагорный и француз-гувернер Жильяр. В поезде царя три вагона международного общества, вагон-ресторан и запасный вагон. С каким смакованием, с каким распущением слюней пишет кадетская «Речь» о царе, хотя бы и бывшем! «Первым сел в мотор…», «Императрица вышла в сопровождении статс-дамы Нарышкиной…», «Николай Романов был молчалив и в угнетенно-подавленном состоянии духа… Семья же царя, напротив, проявляла оживление и большой интерес к переезду»… Все рассчитано на сочувствие и слезы лабазников и дворников… Да и сам профессор Милюков, вероятно, украдкой смахнул слезу, сказав латинскую пошлость, вроде «Sic transit gloria mundi»[40]. Газеты полны этой чепухой. А вот о событиях действительно выдающихся пишется мельчайшим петитом: в Свияжском уезде, Казанской губернии, захвачена крестьянами мельница помещицы Обуховой, в Василькове – мельница графа Браницкого, Перечицкий комитет постановил распределить между крестьянами луговую землю, принадлежащую Александро-Невской лавре. В имении помещика Прозаркевича Рославльского уезда крестьяне самовольно вспахали помещичьи поля, вырубили часть леса, захватили сенокосы. В Курском уезде у помещика такого-то крестьяне скосили и свезли к себе тридцать тысяч пудов сена, у помещика имярек захватили пар и луга… и так далее. Происходит аграрная революция по всей стране, а о ней сообщается петитом! Рабочие после непродолжительного замешательства подтверждают свою верность большевистским лозунгам; собрания рабочих Кабельного, Путиловского, Франко-Русского, Порохового заводов, Монетного двора, Путиловской верфи, «Новый Лесснер», собрание домашней прислуги в цирке «Модерн» и так далее, до бесконечности, принимают большевистские или почти большевистские резолюции, корабли Балтийского флота требуют освобождения большевиков, – а об этом буржуазные газеты ни гугу! Зато они печатают жирнейшим шрифтом изречения господина Милюкова: «Большевистский бунт столкнул Россию с пути стихийности на путь разумного прогресса. Большевизм уже не опасен». Не опасен? Ну, это мы еще посмотрим. – Ленин вдруг рассмеялся. – Не помните, Григорий, в какой газете это самое?.. – Он стал ворошить кучу газет, достал одну и прочитал, смеясь: – «Товарищ благочинный, доводим до вашего сведения, что если вы и подвластные вам иереи не согласитесь на новый дележ церковных доходов, то все постепенно будете убиты. Боевая организация городских и сельских псаломщиков…» Революция докатилась и до церковного клира, – правда, в довольно своеобразной форме!
Ленин взял кружку и начал прихлебывать горячую воду.
Шотман сказал, роясь в привезенных им бумагах:
– Вот, возьмите тетрадь, которую вам послала Надежда Константиновна.
Ленин на мгновение оцепенел от неожиданности, потом неторопливо поставил кружку на землю и взял тетрадь. Да, это была та самая синяя тетрадь! Он подержал ее в руках, потом быстро перелистал, захлопнул и положил рядом с собой, но не надолго. Спустя минуту он снова взял ее в руки. Он то читал ее, то захлопывал, то поглаживал задумчиво, то снова читал. Ему смутно вспомнилось, что однажды он вот так же гладил, открывал и закрывал какую-то другую тетрадь и испытывал такое же спрятанное от посторонних, но острое чувство счастья. Да, это происходило двадцать с лишним лет назад. Только тогда была не синяя, а желтая тетрадь гектографированное издание брошюры «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» – его первая «напечатанная» крупная работа.
Он даже к газетам потерял обычный интерес, не стал просматривать привезенные Шотманом вечерние газеты, то и дело брал в руки тетрадь, листал ее, удовлетворенно хмыкал, иногда лукаво взглядывал на Зиновьева и Шотмана, разговаривавших о положении в Питере.
Шотман сказал, смеясь:
– Вчера в ПК Лашевич сказал: «Вот посмотрите, Ленин в сентябре будет премьер-министром».
Ленин, листая синюю тетрадь и прихлебывая кипяток, спокойно отозвался:
– В этом нет ничего удивительного.
Шотман улыбнулся несколько растерянно. Ленин внимательно посмотрел на него и, поставив кружку на траву, сказал:
– Неужели вы не видите, что мы идем на всех парах ко второй революции, которая создаст новое государство рабочего класса и полупролетариев деревни?
И, не дожидаясь ответа, он углубился в свою тетрадку.
Емельянов молча подкинул в костер хворосту, чтобы Ленину было светлее.
15
Читая свои выписки из Маркса и Энгельса, Ленин ощутил подъем, сравнимый, может быть, только с тем подъемом, какой он испытал 3 апреля у Финляндского вокзала, увидев на площади вооруженный питерский пролетариат с красными знаменами. Он почти забыл о том, где находится, забыл о Сестрорецком Разливе, о сидящих рядом товарищах, о своем подполье – ему казалось, что он снова стоит на броневике и перед ним миллионы уже не восторженных, а строгих глаз, устремленных на него не с ликованием и надеждой, а скорее с вопросом: «Что ты нам скажешь? что ты можешь для нас сделать? вырвешь ли ты нас из бедности и слепоты? куда нам идти? скажи, если знаешь!»
Когда он в библиотеке «Музейного общества» и в читальном зале на Зайлерграбен, 31, в Цюрихе, выписывал из сочинений Маркса и Энгельса места, посвященные вопросу о государстве и диктатуре пролетариата, он прекрасно сознавал их значение; он собирался о них писать, их комментировать, вылущить их из наслоенной усилиями мещанских социалистов шелухи и опубликовать статью на эту тему в 4-м номере «Сборника социал-демократа», задуманном им в 1916 году и не осуществленном из-за отсутствия денег. Но тогда это были все-таки размышления в библиотечной тишине тихого швейцарского городка, они были все-таки обращены непосредственно лишь к сотням людей, большею частью знакомых ему лично или по именам и партийным кличкам, все-таки их ближайшим адресатом были группы подпольщиков в России, группы ссыльных в Туруханском и Нарымском краях, группы эмигрантов в Париже, Берне, Женеве, Нью-Йорке, Лондоне, Вене. Эта работа и была, собственно говоря, задумана как ответ на неверные суждения Бухарина и еще кого-то из русских марксистов, как опровержение подделок и мещанских иллюзий Каутского и еще кого-то из ожиревших немецких социал-демократов. Теперь все эти намерения казались уже мелкими до смешного, как заботы об извозчике в апреле 1917 года, как заграничный котелок среди кепок рабочей толпы. Теперь эти выписки и выводы из них имели то же значение, что хлеб, и соль, и спички, и ситец для миллионных масс людей.
Именно это изменение масштабов того же самого замысла потрясло его. То было ощущение, какое мог бы испытать человек, смастеривший первое колесо, если бы ему при жизни показали, к чему приведет, во что сумеет развиться, какой размах приобретет его первоначальный топорный замысел.
Разумеется, Ленин отмахнулся от этих высокопарных сопоставлений, сделал озабоченно-деловитое лицо, исподлобья взглянул на товарищей – не заметили ли они его «воспарения к небесам», столь неподходящего для практика-революционера. Но они сидели по-прежнему у костра, словно ничего особенного не произошло. На всякий случай он бросил им подчеркнуто будничные слова:
– Полезная, очень полезная тетрадка.
Он не любил патетики, побаивался ее и всегда старался ее избегать.
Но все равно он был полон ликования. Он думал о Марксе и Энгельсе так, как думают о близких знакомых, пожалуй что родственниках, ему казалось, что оба старика сидят рядом и беседуют с ним мудро и благосклонно, словами бездонной глубины и прометеевской дерзости наполняя его сердце теплотой и буйным молодым весельем.
– Ах, какие же вы молодцы! – говорил он им. – Как мы с вами утрем носы рабовладельцам и филистерам земного шара! Какую кашу мы с вами заварим на нашей окаянной планете! Мы им покажем «щеки, как розы „Глуар де Дижон“»!
Оба старика представлялись ему не в обычном портретном сходстве, а как сошедшие с рисунков Доре два бородатых гиганта, всезнающих, проницательных, буйно хохочущих над малютками-мещанами, тоже бородатыми, но совсем крошечными, которые взгромоздились на высокие подмостки и взялись за ручки, чтобы заслонить тех, огромных, от взглядов человеческих толп.
Еле дождавшись утра, он начал набрасывать план брошюры (он нарочито называл свою новую книгу этим обыкновеннейшим названием, опять-таки чтобы избежать витийства, патетики). У него было при этом неясное, но знакомое, почти физическое ощущение: словно он двумя пальцами правой руки, большим и указательным, вырывает из хоровода малюток-мещан одного за другим и бросает, не глядя, в кусты.
16
Последующие дни Ленин все время был занят работой над своей «брошюрой». Он почти не замечал окружающего, стал есть еще меньше прежнего, чем приводил в отчаяние Емельянова на этом и Надежду Кондратьевну на том берегу, не проявлял нетерпения по утрам, дожидаясь газет.
Набросав план брошюры, Ленин рассказал Зиновьеву содержание своей новой работы. Они находились вдвоем у шалаша, Емельянов уехал зачем-то на другой берег, а Коля, вероятно, был в лесу, собирал грибы на ужин.
– Это будет полезная штука, – говорил Ленин, прохаживаясь взад и вперед, по своему обыкновению. – Ясная программа действий на ближайшее время после захвата власти, да и не только на ближайшее. Речь здесь пойдет о характере, даже, если угодно, о стиле жизни пролетарского государства, государства типа Коммуны, причем совсем не в утопическом плане, так как нам достаточно ясны трудности и сложности строительства социалистического общества с тем человеческим материалом, который имеется налицо… Это будет государство диктатуры пролетариата, которое, собственно говоря, имеет две ипостаси: демократия для гигантского большинства народа и беспощадное подавление угнетателей народа и вместе с ними таких бессознательных, но упорных «любителей» капитализма, как тунеядцы, баричи, мошенники, хулиганы, черносотенцы… Это будет небывалое государство, такое, которое стремится к собственному отмиранию. Оно отомрет, когда люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям. Это будет государство, где нет места высокооплачиваемым чиновникам, где все чиновники будут выборны и сменяемы в любое время, где функции учета и контроля будет выполнять большинство населения; а так как вооруженные рабочие не сентиментальные интеллигентики и шутить с собой едва ли позволят, то уклонение от всенародного учета и контроля станет редчайшим исключением, а соблюдение правил человеческого общежития станет привычкой… В этой брошюре будет дан бой обеим равно опасным формам политической слепоты: размашистой анархистской дальнозоркости, то есть неумению и нежеланию видеть реальную действительность, и трусливой оппортунистской близорукости – неумению и нежеланию видеть цель, перспективу, будущее. Да, прав Энгельс. Государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу. Победивший пролетариат отсечет худшие стороны этого зла, но вынужден будет сохранить его до тех пор, пока новые поколения, выросшие в свободных общественных условиях, окажутся в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности… В моей брошюре будет, помимо того, доказана необязательность старой схемы: что-де французы начнут, немцы закрепят… Начнет Россия! Это не мессианство, а историческая необходимость… Брошюру я назову «Государство и революция».
Зиновьев слушал, и его бросало то в жар, то в холод. Он сидел на корточках, опустив голову, перебирая руками спутавшиеся мокрые травинки. Он не понимал, как Ленин мог настолько потерять чувство реальности, что всерьез, совершенно всерьез говорит о захвате власти в ближайшее время, да еще и о типе того государства, которое будет создано в России после захвата власти. Это уже становилось опасным для самого существования партии, для судьбы революции. Но допустим, что Ленин прав, что власть можно захватить, что режим Керенского не сможет оказать сопротивления. Удача была бы для партии еще более гибельна, чем неудача. Что они будут делать, взяв власть? Быть в оппозиции к существующей власти было так понятно, так привычно. Но самим быть властью? Не митинговать, а распоряжаться? Не критиковать, а приказывать? Кто теперь будет выполнять приказы? Разложившаяся армия отдаст Россию немцам или Антанте. Крестьяне не дадут хлеба, заводы не получат сырья. Чем мы накормим голодных? Рабочие мало разбираются в том, что такое экономика, рынок, валюта и т. д. Но Ленин ведь разбирается в этом отлично. Как же он может идти на такой величайший риск, как может он всерьез говорить о взятии власти как о ближайшей перспективе?
Зиновьев чувствовал, что настала пора поговорить с Лениным начистоту, удержать его от опрометчивых шагов, чреватых тягчайшими последствиями. Надо было это сделать как можно хладнокровнее, как можно спокойнее, чтобы не выдать невзначай своего смятения.
Он встал на ноги и сказал с улыбкой:
– Вы в самом деле согласны с Лашевичем насчет близкого премьерства?
– Какого премьерства? – удивленно спросил Ленин и, вспомнив, расхохотался. – А… Конечно, согласен! Уверен.
– Ох-ох-ох… Боюсь, что вы так углубились в свой труд о будущем пролетарском государстве, что не видите, что творится в реальном государстве российском.
– Вы так думаете? – Глаза Ленина потемнели.
– Я не хотел об этом говорить…
– Почему? Говорите… То-то я вижу, что вы все молчите в последние дни.
– Вы были слишком увлечены своей брошюрой. Вы вообще перестали со мной разговаривать. Вы оживляетесь только тогда, когда кто-нибудь является из Питера… Может быть, я надоел вам на этом необитаемом острове? Вероятно, и Пятница временами надоедал Робинзону…
– Помилуйте… Вы же собирались сообщить мне что-то серьезное!
– Я думаю, что вы и за вами ЦК совершаете ряд тактических ошибок. Вы жонглируете лозунгами!
– Я не жонглирую лозунгами, а говорю массам правду при каждом новом повороте революции, как бы ни был он крут. А вы, как мне сдается, боитесь говорить массам правду. Вы хотите вести пролетарскую политику буржуазными средствами. Вожди, знающие правду «в своей среде», между собой, и не говорящие эту правду массам, так как массы, дескать, темны и непонятливы, не пролетарские вожди. Говори правду. Если терпишь поражение, не пытайся его выдавать за победу; если идешь на компромисс, говори, что это компромисс; если ты легко одолел врага, не тверди, что тебе это было трудно, а если трудно – не хвастай, что тебе было легко; если ты ошибся признайся в ошибке без страха за свой авторитет, так как подорвать твой авторитет может только замалчивание ошибки; если обстоятельства заставили тебя менять курс, не пытайся изображать дело так, словно курс остался прежним; будь правдив перед рабочим классом, если веришь в его классовое чутье и революционный здравый смысл, а не верить в это для марксиста позор и гибель. Более того, даже врагов обманывать – дело исключительно сложное, обоюдоострое и допустимое только в самых конкретных случаях непосредственной боевой тактики, ибо наши враги отнюдь не отгорожены железной стеной от наших друзей, имеют еще влияние на трудящихся и, искушенные в деле одурачивания масс, будут стараться – и с успехом! выдавать наше хитроумное маневрирование за обман масс. Быть с массами неискренними ради «обмана врагов» – политика глупая и нерасчетливая. Пролетариат нуждается в правде, и нет ничего вреднее для его дела, чем благовидная, благоприличная обывательская ложь.
Зиновьев раздраженно рассмеялся.
– Правда правде рознь, – сказал он. – Нельзя доходить до наивности. Я помню, в апреле, сразу после приезда, вы в своей речи в Таврическом дворце сказали, что у вас еще неполное представление о событиях, так как вы успели поговорить только с одним рабочим. Это заявление вызвало гомерический смех среди меньшевиков и порядочный конфуз среди наших товарищей…
– Прекрасно. Я так сказал с умыслом. Я сказал так, потому что это правда. Зато когда я в следующий раз сказал, что встречался с многочисленными рабочими Путиловского, Трубочного и других заводов и хорошо знаю их настроение, – мне все поверили… Не дай бог дожить нашей партии до того, чтобы ее политика делалась втайне, где-то наверху, келейно, – мы-де умные, мы знаем всю правду, а массам будем говорить полправды, четверть, осьмушку правды…
– Все это очень мило, но ведь вы теперь, в условиях разгрома и разброда, не устаете призывать к вооруженному восстанию, к взятию власти пролетариатом вопреки всей расстановке сил в стране… Это – витание в облаках!
– Ах, вот оно в чем дело! Вы боитесь ответственных решений!
– Я боюсь безответственных.
– Вы боитесь того, к чему мы оба стремились всю жизнь, о чем мы писали, о чем мечтали, – пролетарской революции.
– Я боюсь вооруженной вспышки при невыгодных условиях, революции, обреченной на поражение. Мы можем потерять все.
– Все нельзя потерять. Все могут потерять отдельные лица – Ульянов, Зиновьев, Крупская, Лилина. Пролетариат не может потерять все. В одном известном вам сочинении сказано, что он ничего не может потерять, кроме своих цепей. А совершенно идеальных условий, без всякого риска, для революции не бывает… Ваши слова напомнили мне внешне простодушное, но, по сути, очень тонкое замечание старика Тацита об одном римском заговорщике, кажется, о Пизоне[41]: «Его удерживало желание безнаказанности, всегда служащее препятствием для важных предприятий». Вы кажетесь мне, Григорий, похожим на этого – гм, гм – робкого римлянина. Совершать важные предприятия при гарантии безнаказанности невозможно.
– Вы, если не ошибаюсь, обвиняете меня в трусости? Мне кажется, вы достаточно хорошо меня знаете…
– Дело тут не в личной трусости…
– Посмотрите, что делается в армии! Темные солдаты на митингах голосуют против «ленинцев-провокаторов»…
– Вот-вот! Они голосуют против «ленинцев-провокаторов» и тут же требуют мира и земли – то есть того же самого, что требуют «ленинцы-провокаторы». Все очень просто. Мы выражаем коренные интересы масс, и с этим ничего не смогут поделать Милюков и Керенский.
– Коренные интересы масс выражали многие партии, потерпевшие тем не менее поражение. То, что вы говорите, – философия, а не политика.
Глаза Ленина вспыхнули, но он сдержал себя и сказал спокойно, даже поначалу шутливо:
– Еще Платон говорил[42], что если в государствах не будут властвовать философы или если властители не научатся быть философами и государственная власть и философия не совпадут воедино, то ни для государства, ни вообще для рода человеческого невозможен конец злу. Когда мы возьмем власть в свои руки, – а это будет скоро… Вы напрасно пожимаете плечами, Григорий… Когда мы возьмем власть в свои руки, наша власть будет основываться на марксистской философии, и если мы будем ее держаться не на словах, а на деле, вовлекая в строительство массы, их творчество, их разум, то построим новое общество без серьезных ошибок.
– Но я боюсь, что вы как раз отрываетесь от масс, вы забегаете вперед, вы нетерпеливы, вас надо держать за фалды… Нам следует теперь маневрировать и ждать.
Ленин, шагавший все время взад и вперед, при этих словах Зиновьева остановился и круто повернулся к нему:
– Ждать? А кто еще так умеет ждать, как мы, русские марксисты? Разве мы мало ждали? Разве, овладев научным социализмом, выстрадав его, поверив в рабочий класс и его победу, мы не научились ждать так, как никто никогда не умел? Разве мы не подавляли в себе приступов ненависти и отчаяния, инстинктивного, вполне человеческого при виде несправедливости и подлости врагов, позыва к терроризму, к немедленным действиям – подавляли потому, что знали, как важно, работая, собирая силы, убеждая, веря, уметь ждать? Разве даже в Апрельских тезисах, вначале воспринятых многими у нас в партии как самое крайнее бунтарство, ушкуйничество, анархизм, бланкизм, я не признал главной задачей «разъяснение» – то есть опять-таки, указав направление работы, не призвал ждать? Каменев тогда, как вы помните, даже критиковал меня «слева», утверждая, что «разъяснение», дескать, не политика; вести политику, по его мнению, значит плести политические комбинации, интриги с другими партиями, блокироваться и деблокироваться, витийствовать на парламентской трибуне! Разве, наконец, во время июльских событий и после них я не настаивал – хотя и недооценив, быть может, революционного настроения масс, – на немедленном прекращении выступления, на превращении его в мирную демонстрацию? Это ли значит не уметь ждать? Но бывают моменты, когда ждать – преступление. Такой момент может скоро наступить, он, несомненно, скоро наступит, и если мы и тогда уклонимся от немедленного действия, то мы окажемся дюжинными мелкобуржуазными социалистами, болтунами и фразерами, и рабочий класс отвернется от нас. Если мы и тогда будем ждать, если и тогда не предадим проклятию «терпение», как некогда Фауст[43], – мы трусы и ничтожества, и история нам никогда этого не простит.
Зиновьев затих, потрясенный трагическим пафосом, так непривычно прозвучавшим в устах Ленина. Затем он в отчаянии воскликнул:
– Но вы понимаете, что значит взятие власти теперь, в нынешний момент, в нынешней России?
– Понимаю ли я? – переспросил Ленин, неожиданно успокаиваясь и окидывая лицо Зиновьева долгим взглядом. – Хорошо понимаю. Я об этом предмете думал днем и ночью, так что голова пухла. «Нынешняя Россия», говорите вы. Для того, чтобы создать Россию будущую, надо сделать революцию в России нынешней – другого пути нет. Да, темнота. Да, лапотность. Да, дикость. Что ж, взяв власть, мы сможем искоренить эти мрачные черты российской действительности вдвое, вдесятеро, в сто раз быстрее. Да, наши рабочие сплошь да рядом недостаточно культурны, недостаточно просвещенны по сравнению с западными… Это усугубляет наши трудности. Однако это имеет и свои положительные стороны: русские рабочие не отравлены повседневной, превосходно организованной на Западе, растлевающей душу буржуазной пропагандой собственничества, страсти к наживе, к мещанскому благополучию. В сердцах наших рабочих пылает великая ненависть к эксплуататорам. А такая ненависть есть поистине «начало всякой премудрости», основа всякого революционного действия… – Помолчав, Ленин добавил сухо: – Впрочем, у нас есть партия, есть ЦК, и они примут решение в нужный момент.
– Это все слова! – подавленно проговорил Зиновьев. – Слова! Вы прекрасно знаете, что ваше мнение имеет решающее влияние на ЦК.
– Что ж, я горжусь тем, что умею убеждать товарищей. Руководитель тот, кто умеет убедить при наличии абсолютной свободы мнений. Но вот после решения свободы мнений уже быть не может. Вы помните, некий римский полководец много веков назад велел казнить собственного сына за то, что тот ослушался приказа во время сражения. Доимператорские римляне знали, что такое дисциплина. Поэтому этот латинский посад стал Римом.
Зиновьев еще что-то говорил, цитировал Маркса, Энгельса и Прудона[44], но Ленин, словно потеряв интерес к разговору, замолчал.
Тем временем наступил вечер, серый и ненастный. Урывками шел дождик, с озера тянуло холодом. Молчание становилось тягостным. Стук дождевых капель казался Зиновьеву тиканьем больших туманных часов, отсчитывающих время этого тяжкого молчания. Он смотрел вниз, в землю, ожидая. Ленин прошелся по поляне, вернулся, остановился возле шалаша, потом снова пошел от него к лесу. И Зиновьеву показалось, что он ушел, чтобы никогда не вернуться. Зиновьев поднял голову. Ленин стоял на опушке в характерной для него позе – несколько расставив ноги, словно врос в землю, наклонив голову немного набок, заложив большие пальцы рук за проймы жилета. Он словно прислушивался к чему-то – к шуршанию листьев, к мерному постукиванию капель. Потом он вернулся. Казалось, он готов был обрушить на голову Зиновьева тонны новых доказательств. Но он ничего не сказал, снова ушел к опушке и там начал шагать взад и вперед, сначала медленно, потом быстрее от шалаша к лесу, от леса к шалашу. Зиновьев постоял, постоял и ушел в шалаш.
17
В это время из лесу появился Коля с полным ведром грибов. Зиновьев слышал издали, как Ленин оживленно разговаривал с Колей. По-видимому, они перебирали грибы, и Ленин громко восхищался удачным сбором и говорил:
– Ну и красавцы! А завтра после дождика их будет еще больше.
Коля сказал с некоторой грустью:
– Завтра я еду в город.
– Неужели?.. Завидую тебе.
– Я там книжки и тетрадки куплю.
– А когда вернешься?
– Через три дня. Тетя Марфа будет мне шить костюм.
– Превосходно. Завидую тебе вдвойне… А гляди-ка, какой подосиновик! Это ведь подосиновик? Весу в нем не меньше чем полфунта… А это какой гриб?
Дождь усилился, и Ленин с Колей побежали к шалашу. Они влезли, улеглись рядом, снова заговорили о грибах, и Зиновьеву казалось, что Ленин говорит о грибах ему назло. Впрочем, вскоре стало тихо. Коля уснул. Ленин лежал неподвижно, – может быть, тоже задремал.
Но Ленин не спал. На душе у него было смутно и тяжело. Разговор с Зиновьевым поразил его. Он считал Зиновьева партийным товарищем, полностью разделяющим его взгляды на все важнейшие вопросы политики. Зиновьев был образован, необыкновенно усидчив, обладал прекрасной памятью и глубоким знанием марксистской литературы. На каждый случай жизни он мог вспомнить подходящую цитату. Для литературной работы это штука удобная, а вот для политической борьбы, где нужны быстрые и самостоятельные решения, – тут нет вещи более противоречивой и коварной, если цитирующий не способен учитывать переменчивость времен, когда та или иная «цитата» появилась на свет божий. К примеру, нет ничего легче, чем во время наступления найти убедительнейшую цитату о важности организованного отступления, а при спаде движения – зарываться, подтверждая свое шапкозакидательство фейерверком отличнейших цитат времен наступления. Цитата! Каких бед способна ты наделать в качестве орудия догматического ума!
Вспоминая весь разговор, Ленин все больше сердился, досадовал и на себя: за то, что как-то проморгал колебания и сомнения товарища, не пытался повлиять на него, был слишком в нем уверен, – и на Зиновьева: за то, что тот отмалчивался, вел себя неискренне и так мало, оказывается, вник в сущность переживаемого момента.
Сколько потерь за эти двадцать лет! Соратники по старой «Искре» блестящий Плеханов, талантливый Мартов, деятельный Аксельрод, милая, добрая Вера Засулич, – они теперь были врагами, непримиримыми и беспощадными. Хорошо было успокаивать себя тем, что они стали врагами постольку, поскольку отражают половинчатую идеологию класса мелкой буржуазии, – это было верно, но нисколько не утешительно. Ломались дружбы и привязанности, приходилось отрезать от себя людей, как куски собственного тела. И как радостно было, несмотря на все ученые рассуждения о половинчатой идеологии мелкой буржуазии, как весело становилось на душе, когда намечалось сближение с ними – с Плехановым, с Мартовым! Нынешняя революция, очевидно, отдалила их навсегда.
Ленин прислушался к дыханию Зиновьева и с внезапной безмерной горечью подумал: «Неужели предстоит и такое? как там сказано? „Не успеет трижды пропеть петух…“» [45]
Его больно кольнуло в сердце, и он тихонько вылез из шалаша, чтобы освежить голову под дождем.
Дождь вскоре превратился в грозовой ливень. Ломаные молнии то и дело безжалостно впивались в покатую твердь огромного неба, и казалось, что, вкусив его, напившись его огненной крови, зажигались и отпадали от него и мгновенно гасли, сытые, и пропадали в невидимом громовом полете, чтобы через минуту впиться в его плоть в другом месте. Дрожащие деревья и кусты то ярко освещались, то пропадали в густейшем мраке. Прямой ливень огромной силы, тяжелый, как свинец, бил и бил по земле и отражался от нее миллионами мельчайших брызг, похожих в свете молний на медленный дым, относимый в сторону ветром.
Ленин стоял, втиснувшись в стог. Холодные брызги достигали его, но он этого почти не чувствовал. Он все думал о потерях, понесенных партией. Он теперь вспоминал погибших товарищей. Он вспомнил Николая Евграфовича Федосеева, гениального юношу, которого он в молодости считал своим учителем и надеждой русской революции. В минуту отчаяния Федосеев застрелился в Верхоленской ссылке; ему было тогда 27 лет. Ленин вспомнил Ивана Бабушкина, умнейшего петербургского рабочего-слесаря, беззаветного революционера, расстрелянного карательной экспедицией в 1905 году; Иосифа Дубровинского, человека необыкновенной проницательности и доброты, покончившего самоубийством в Туруханском крае – месте своей последней ссылки; обаятельнейшего Николая Баумана, настоящего революционного вождя, убитого черносотенцами; Виргилия Шанцера, умершего в полицейском приемном покое для душевнобольных, и даровитого Сурена Спандаряна, кончившего свою честную, многострадальную жизнь в Красноярской тюремной больнице; екатеринославского рабочего Вилонова, погибшего в эмиграции от туберкулеза; рабочего-большевика Якутова, расстрелянного в Уфимской тюрьме, и многих других.
Вспоминая этих людей, Ленин жалел, что их нет теперь, в решительный момент, и в приступе тоски ему на какое-то мгновение показалось, что они были бы сильнее и мудрее, чем те, кто остался в живых. И он в своей ревнивой и страстной придирчивости вспоминал о недостатках своих нынешних товарищей: о властолюбии одного, тяжелом характере другого, нерешительности третьего, легкомыслии четвертого – и думал о том, что после взятия власти эти черты способны развиться до уродливых размеров. «Самое трудное и страшное, – думал он, – это драться беспощадно не с врагами, а с близкими людьми, с единомышленниками. А не драться никак нельзя… Надо только никогда не забывать, что нет ничего прекраснее, чем убедить товарища в его ошибке и вернуть на верный путь. Нет, нет, власть не должна, не может развратить людей, помнящих, для чего она взята, знающих твердо, что движение само по себе ничто, если оно не имеет великой и ясной цели. Нет, нет, в лице большевиков появился, употребляя выражение Герцена, „новый кряж; людей“, который способен на великое самопожертвование, на растворение своей личности в воле и чаяниях рабочего класса. А со всем мелким, личным, корыстным надо бороться общими силами, и каждый из нас должен с этим бороться в себе самом».
В это мгновение Ленин при свете молнии увидел возле отверстия шалаша Колю. Сонный мальчик тер глаза, еще не понимая, что его разбудило и что происходит вокруг, и, очевидно, думая, что видит сон. Когда же он понял, что все это наяву, он смешно испугался, раскрыл рот и заморгал глазами. Он долго не мог опомниться от ужаса и очарования этой ночи, и при свете молний Ленин то видел, то не видел, но ясно представлял себе лицо мальчика, испуганное и очарованное. Так или иначе, но вид мальчика подействовал на Ленина успокоительно, и он мысленно поблагодарил Колю за его комично-испуганное лицо, вернувшее Ленина на милую землю с ее заботами и делами.
Ливень стал утихать. Ленин закрыл глаза, постоял так с минуту, глубоко вздохнул, вытер руками мокрое лицо и, словно стерши вместе с водой свое тяжелое настроение, почти весело прошептал:
– Коля.
Мальчик встрепенулся:
– Кто там?
– Треф.
– Кто там?
– Собака Треф.
Коля радостно засмеялся и, стараясь разглядеть Ленина в темноте, высунул голову под дождь, затем выскочил из шалаша.
– Ты куда полез? Промокнешь насквозь…
Они взялись за руки и постояли так с полминуты молча. Коле было непонятно, почему Ленину вздумалось стоять под грозой, в его голове пронеслась странная и смутная мысль о том, что вождю революции к лицу стоять в одиночестве среди молний и что он должен себя чувствовать среди бушующей природы уютнее, чем обыкновенный человек. Но Ленин, словно бы нарочно, с целью опровергнуть Колины вдохновенные догадки, сказал:
– Ну и продрог же я, зуб на зуб не попадает! Скорее в шалаш, под крышу, под одеяло!..
18
Зиновьев слышал шум ливня, раскаты грома, разговор Ленина с Колей. Он знал, как решительно Ленин рвет с людьми, которые расходятся с ним по важным вопросам политики, и чувствовал, что деревенеет от неприятного чувства одинокости.
Ленин улегся рядом, от него повеяло запахами дождя и мокрых трав. Зиновьев все собирался заговорить, но не решался; он был полон сознания своей правоты и отчаяния от невозможности убедить в ней Ленина. Он почти враждебно прислушивался к ровному дыханию Ленина. «Он поймет, что я был прав, но это будет слишком поздно», – думал он, закусывая губу.
Вскоре Зиновьев заснул тяжелым сном. Проснулся он довольно поздно и, сразу вспомнив то, что произошло накануне, замер и долго лежал с закрытыми глазами, словно не решаясь посмотреть на свой осиротевший мир. Наконец он приоткрыл веки. Ленин лежал в шалаше головой к выходу и писал. В отверстии шалаша виднелся треугольный кусочек дождя, уже не бурного, а ленивого и, казалось, нескончаемого. И пахло дождем и мятой.
Коли уже не было, – по-видимому, он отправился на другой берег, с тем чтобы уехать в Питер.
Ленин, по своему обыкновению не отрываясь от работы, спросил:
– Проснулись? Кругом – всемирный потоп…
Он больше ничего не сказал, только еще энергичнее заскрипел пером, но этот скрип был очень выразителен. Снова воцарилось молчание.
Когда приехал Емельянов, Ленин встрепенулся, устремился ему навстречу. Емельянов был спокоен, бодр, широко улыбался, по-хозяйски осматривал залитый водой лужок, потемневший стог и угрюмое небо. Он соскучился по Ленину и беспокоился за него по случаю наступившего холода и ненастья.
– Не протекает шалаш? – спросил он прежде всего.
И сразу же взял топор, принялся рубить ветки и укрывать шалаш еще одним слоем. И от его деятельного спокойствия Ленину стало приятно и радостно. Он сказал почти с сожалением:
– Придется съехать с этой квартиры. Для людей непогода не страшна, а вот для бумаги… У меня все тетрадки отсырели…
Емельянов замер на месте с топором в руке и заметно погрустнел.
– Да, – проговорил он. – Действительно…
В тот же вечер Сережа привез Шотмана. Поеживаясь от сырости и то и дело протирая пенсне, Шотман сказал:
– Все. Больше вам тут жить нельзя.
Еще с неделю тому назад Емельянову удалось раздобыть у себя на заводе несколько бланков заводских удостоверений личности. Ленин выбрал удостоверение на имя рабочего Константина Иванова. Теперь оставалось сфотографировать Ленина, наклеить карточку взамен содранной карточки подлинного Иванова и поставить на фотографии недостающую половинку печати. Все это должен был устроить Шотман.
– Есть проект, – сказал он, – переправить вас в Финляндию. Товарищ Зиновьев может поехать или с вами, или в Лесной – там есть подходящая конспиративная квартира.
Зиновьев вылез из шалаша и сказал своим тонким голосом:
– Я поеду в Лесной… Думаю, что буду более полезен ближе к Питеру. Да и для Временного правительства я не представляю такого интереса, как Владимир Ильич. Значит, решено. – Он ждал, что скажет Ленин, но Ленин писал список поручений товарищам; казалось, он был уже не здесь, а где-то в новом, финляндском, еще ему самому неведомом убежище. Зиновьев продолжал: – Пожалуй, сегодня и отправлюсь, а, Александр Васильевич? – Он обращался к Шотману, но смотрел на Ленина.
Ленин ничего не сказал и продолжал писать:
«…хлеба
план Гельсингфорса
клей: маленькая трубочка
иголку и черн. нитку
конвертов простых
„С-Дт“ № 47
красн. и син. крдш
пероч. ножик
химич. крдш
ручка
мои тезисы о полит. положении (съезду)
полиглот шведский и финский…»
Начали укладывать вещи Зиновьева. Ленин развеселился, пошучивал.
– Мы перепутали все вещи, – сказал он. – Не знаю, где ваше, где мое. Попадет вам от Златы Ионовны…
– А вам от Надежды Константиновны.
– Мне нет, вы же знаете, она не от мира сего… Да и вещички ваши получше, кажется. Нет? Чужие всегда кажутся лучше…
Зиновьев хмурился, он понимал, что Ленин избегает серьезного разговора.
Емельянов и Сережа отнесли вещи в лодку. Когда стемнело, Зиновьев с Шотманом собрались в путь. Ленин пожал Зиновьеву руку и сказал:
– Будьте осторожны, Григорий… Кто знает, когда удастся свидеться. Надеюсь, что скоро. И в добром согласии.
Зиновьев поспешно сказал дрогнувшим голосом:
– Ну, конечно, конечно…
Ленин обрадовано поднял на него глаза. Но Зиновьев уже пожалел о своем примирительном тоне и с досадой подумал: «Опять я ему уступаю? Вместо того чтобы решительно бороться с гибельным для партии экстремизмом, я опять поддаюсь воле и обаянию Ленина? Нет, я не имею на это права».
Он сухо добавил:
– Будем надеяться.
Ленин ничего не сказал, только потемнел лицом. Все-таки он пошел провожать отъезжающих к берегу, а когда лодка отчалила, долго следил за ней, иногда покачивая головой. Погода была нехорошая, дул порывистый ветер, и лодка то поднималась на пенистые гребни, то почти пропадала из глаз. Вскоре она слилась с темнотой.
– Ну, что ж, – сказал Ленин и повернулся к Емельянову, оставшемуся с ним на берегу. – Лодки уплывают, жизнь идет своим чередом. – И добавил: Пошли разжигать костер.
– Пошли, – добродушно отозвался Емельянов, притворившись, что не заметил, как Ленин низвел тайную свою мысль к бытовому шалашному разговору. Емельянов, человек сдержанный, не высказывался вслух, но он кое-что понимал в сложных взаимоотношениях последних дней и втихомолку негодовал и огорчался вместе с Лениным.
На следующий день поздно вечером приехал с фотоаппаратом Дмитрий Ильич Лещенко, старый партийный товарищ, некогда сотрудник «Звезды» и «Правды». Теперь он работал вместе с Надеждой Константиновной Крупской в культурно-просветительной комиссии Выборгской районной управы. Проговорили до утра о питерских делах, о Надежде Константиновне, о Луначарском, который был арестован на квартире Лещенко, где жил последнее время.
На рассвете Ленин разбудил только что уснувшего Лещенко и нетерпеливо сказал:
– Ну, снимайте, снимайте меня!
Он уже был в парике и кепке. Лещенко посмотрел на туманное небо и покачал головой: было темновато. Все-таки он стал снимать. Но у него не было штатива, а держа аппарат в руках, он никак не мог поймать лицо Ленина в объектив.
– А может быть, мне сесть? – спросил Ленин.
– Это было бы отлично!
Ленин молча присел на корточки и терпеливо ждал, пока Лещенко сфотографирует его. Потом он проводил Лещенко к лодке и, прощаясь, сказал несколько сконфуженно:
– Вы Надежде Константиновне, пожалуйста, не говорите про весь этот гм, гм – антураж… Сырость, мокрый стог и прочее. Условились? Скажите, что все хорошо, удобно, сухо… Не забудете? Смотрите!
Через два дня удостоверение было готово. Ленин внимательно осмотрел его и остался доволен: кажется, оно не могло вызвать никаких подозрений.
Наконец настал день отъезда. Ленин и Емельянов ждали Шотмана. Тот почему-то запаздывал. Вдруг из леса раздался предупреждающий свист Сережи, который заменял теперь Колю в качестве «разведчика». Ленин решил, что идет Шотман, и пошел ему навстречу. Но вместо Шотмана на опушке появился незнакомый мальчик, а за ним показался мужчина в рабочей одежде. Ленин остановился, затем начал медленно отходить к шалашу. Емельянов побледнел, весь подобрался, но тут же обмяк, вздохнув с облегчением. Он узнал Рассолова и его сына Витю.
– Здравствуй, Николай Александрович, – сказал Рассолов, бросив быстрый взгляд на стог, затем на Ленина, усевшегося на корточки возле шалаша. – Хорош стожок, да… Никак, ты кончил косьбу?
– Да, вроде так, – ответил Емельянов неопределенно.
– Может, пойдет ко мне твой чухонец поработать? Хоть денек или полдня… Один я никак не управлюсь. Хвораю, а Витька еще слабоват.
Емельянов с трудом сдержал улыбку и ответил:
– Не пойдет он.
– А может, пойдет?
– Не пойдет, говорю тебе.
– Он по-нашему понимает?
Емельянов покосился на Ленина. Ленин сидел с каменным лицом. Глаза его совсем исчезли, превратились в тусклые, равнодушные щелки.
– Нет, – сказал Емельянов. – Он только по-своему. Я финский язык немного знаю, вот и объясняемся кое-как. – Он уже опомнился и нес напропалую: – Не пойдет, и не пробуй. Я вот сам просил его покосить на берегу, не хочет, спешит домой, что-то у него там стряслось.
Рассолов повздыхал, поохал и ушел вместе с Витей.
Пока их шаги окончательно не замерли и еще минуту после того Ленин оставался в той же позе. Потом он стремительно встал и рассмеялся, в глазах у него заходили искорки. Он сказал:
– Спасибо, Николай Александрович, что меня в батраки не отдали!
– Невыгодно, – засмеялся и Емельянов.
Они еще долго смеялись над этой историей, и только приход Шотмана настроил их на более серьезный лад. Шотман, необыкновенно взволнованный возложенной на него ответственностью, не мог взять в толк, как может Ленин смеяться перед предстоящим ему опаснейшим путешествием.
Шотман пришел не один. Вместе с ним был невысокий крепкий финн. Поздоровавшись с ним, Ленин назвался:
– Иванов.
– Рахья, – ответил финн[46], не моргнув глазом.
Емельянов к Сережа отнесли вещи Ленина в лодку. Затем Емельянов вернулся один: Сережа повез вещи на тот берег.
Пока Емельянов с Шотманом окончательно уславливались о пути следования до Финляндской железной дороги, почти совсем стемнело.
– Ну, как говорится, в добрый час, – сказал Емельянов. Его голос прозвучал торжественно. – Двинулись, Владимир Ильич.
Он пошел вперед, за ним Рахья, а Ленин с Шотманом сзади.
Коля как раз в это время вернулся с Кондратием из Питера. Не застав дома никого, кроме малышей, – мать куда-то ушла по делу, – Коля недолго думая сгреб учебники и тетрадки, купленные в Питере, сел в лодку и отправился за озеро. С Сережей он разминулся.
Пристав к берегу, он выскочил из лодки и пустился к шалашу почти бегом, с бьющимся сердцем. На знакомом лужке было тихо и безлюдно. Кругом царило полное запустение. Железная перекладина для котелка валялась в остывшем пепле костра. В шалаше не было ни подушек, ни одеял – ничего. Вмятины в сене были холодны и остылы. Коля вначале задрожал от ужаса, решив, что Ленина выследили и арестовали. Но потом он обнаружил в известном ему месте под сеном кипы газет, да и сам стог и шалаш стояли нетронутые, целые. Тогда он понял, что Ленин просто уехал.
Все кругом было пустынно, словно прошедшие дни были сном, чудесным и коротким, словно ничего этого не было – ни Ленина, ни радостных ночей у костра, ни птичьего свиста, ни разведки, ни обещания заниматься с Колей ничего. Уехал, даже не простился, обманул. Коля посмотрел на свои книжки и тетрадки и горько всхлипнул. Потом обида прошла, но осталась печаль, слишком большая для маленького сердца Коли. Коля долго сидел у остывшего костра, наконец поднялся и медленно пошел обратно, к озеру, к прежней своей жизни, казавшейся ему теперь пустой и неинтересной.
А Ленин и его спутники в это время уже были далеко.
Выбравшись на проселочную дорогу, они затем свернули на тропинку. Им преградила путь речка. Емельянов хотел было, сделав крюк, обойти препятствие, но Ленин решительно разделся и перешел речку вброд, а за ним то же сделали и остальные. Спустя некоторое время наткнулись на обширное болото, обошли его и незаметно очутились среди торфяного пожара. Кругом тлел кустарник, дым ел глаза. Под ногами горел торф. Наконец Емельянов нашел тропинку. Побродив в темноте еще полчаса, они услышали отдаленный гудок паровоза.
– Вышли, кажется, – виновато сказал Емельянов.
– Эх вы, – язвил всех троих Ленин. – Карты-трехверстки не имеете, дорогу не изучили… Так с вами и войну проиграешь…
– Научимся, товарищ Иванов, – негромко и лукаво отозвался из тьмы дотоле молчавший Рахья.
Ленин сказал серьезно:
– Скорее учитесь, время дорого.
Затем Емельянов и Рахья отправились в разведку на станцию, а Ленин с Шотманом уселись под дерево. Ночь была темная, безлунная, время тянулось медленно. Ленин нащупал в боковом кармане синюю тетрадь.
«Ага, – улыбнулся он. – Синяя тетрадка. Хорошо бы поскорей закончить брошюру. Удастся ли? Посмотрим, что ждет меня на этой станции и на других остановках на пути к цели… И сколько их еще будет, этих остановок…»
Когда Емельянов и Рахья вернулись и сообщили, что поблизости находится станция Дибуны, а не Левашово, как предполагалось, Шотман похолодел: Дибуны были расположены всего в семи верстах от финской границы, здесь легко напороться на пограничные разъезды. Однако выбора не было. Пошли к станции. Издали замерцали станционные огни. Ленин, напрягая зрение, некоторое время пристально вглядывался в их туманное мерцание. Потом он неожиданно ускорил шаг, догнал Емельянова и тронул его за плечо.
– Ну, так, Николай Александрович, – сказал он. – Мало ли что приключится за суматоха. Значит, вот что. Передайте нижайший поклон Надежде Кондратьевне, сыновьям привет, а Коле – особый.
– Передам. Спасибо.
– Я очень благодарен вам и вашей жене за все. Причинил я вам немало хлопот. Не поминайте лихом.
– Что вы, что вы, Владимир Ильич… Мы всей душой…
– Ну и прекрасно… Да, денег у меня с собой очень мало. Моя жена, Надежда Константиновна, знает… Она вам возместит расходы при первой возможности.
– Да полно, Владимир Ильич. Обижусь, ей-богу, обижусь.
– Ладно уж! «Обижусь»! Вы не такие богачи, чтобы содержать беглых революционеров… Да, чтоб не забыть. Алексея, того самого, помните, «связного»… Не обижайте его. За ошибку не надо взыскивать. Он сам поймет. События, революционный опыт помогут ему понять… Так вот, – не обижайте его.
– Хорошо, Владимир Ильич.
– А то я наших товарищей знаю. Будут его шпынять без надобности… Не забудьте, пожалуйста.
– Хорошо, Владимир Ильич, не забуду.
– Ну, вот и все… И спасибо.
Емельянова глубоко и радостно потряс этот разговор, он сам не знал почему. Лишь позднее он понял, что дело тут было не только в человеческой чуткости Ленина и даже не в том, при каких обстоятельствах эта чуткость проявилась; дело было в беспредельной уверенности Ленина, что события будут обязательно развиваться так, что Алексей поймет, не сможет не понять свою ошибку. Может быть, только в этот момент Емельянов по-настоящему понял, что рабочая революция действительно дело ближайшего будущего, и со всей полнотой осознал, какого человека скрывал он у себя в Разливе.
Станционные огни между тем приближались. Ленин приостановился, дождался Шотмана, и они пошли дальше в прежнем порядке: Емельянов и Рахья впереди, Шотман с Лениным сзади.
1961КАК Я ПИСАЛ «СИНЮЮ ТЕТРАДЬ» (Ответ читателям)
I
После того, как была опубликована моя повесть «Синяя тетрадь», я получил много писем от читателей различного возраста и разных профессий. Эти письма, помимо лестной оценки моего труда, содержат и разнообразные вопросы насчет того, как я писал это свое произведение, каким образом сумел воссоздать образ Ленина, какими материалами пользовался и т. д.
На первые письма я старался отвечать, но затем писем стало приходить все больше, и так как вопросы, задаваемые читателями, в общем сводились к одному и тому же, я решил ответить своим читателям в печати, не каждому отдельно, а всем вместе. Признаюсь, что делаю я это не только потому, что хочу угодить моим читателям, ответить на все их недоумения и не потому, что рассчитываю своим отчетом о работе над образом Ленина помочь другим, менее опытным писателям, – хотя я был бы, разумеется, рад, если бы статья моя оказалась кому-нибудь полезной – но и, главным образом, для себя самого. Мне самому хочется подытожить свою работу, оглянуться назад, подумать над проблемами, которые поставила предо мной моя тема, осмыслить те трудности, которые встретились мне на моем пути и, может быть, еще раз пережить то несравненное наслаждение, какое испытывает писатель при соприкосновении с описываемым им героем, открывая в нем все новые и новые черточки, восторгаясь от любви к нему и содрогаясь от страха за него.
* * *
Над повестью о Ленине, которая была позднее названа мною «Синяя тетрадь», я работал почти два года. Работа эта принесла мне много счастья. Бывали дни и ночи, когда мне казалось, что я нахожусь с глазу на глаз с Владимиром Ильичем Лениным, человеком, под чьей звездой мы родились и росли. Бывали минуты, когда мне казалось, что я слышу его голос, вижу, как он смеется, задумывается, страдает.
Всю мою жизнь меня больше, чем другие люди на свете, интересовал Ленин. Разумеется, в этом смысле я не одинок, все мое поколение, миллионы людей думали о нем с пристальным, жгучим интересом. В годы детства и юности мы не знали, и не могли понимать Ленина, но нам хватало веры в него, веры почти религиозной и не нуждавшейся в анализе. Он был олицетворением справедливости и правды. Мы это понимали своими незрелыми умами, но незрелый ум ребенка иногда более чуток, чем изощренный мозг взрослого. Взрослый понимает – ребенок знает.
Начал узнавать Ленина я значительно позднее, когда мне было за двадцать и когда я с истовостью и непримиримостью молодого человека стал подвергать сомнению все на свете, иначе говоря – проделывать в собственном мозгу опыт поколений, усвоенный мною раньше «на веру» […]
[…] Так как я художник, а не историк, то моя задача могла заключаться только в том, чтобы показать Ленина – человека.
Начиная свою работу, я точно знал, что трудности воплощения образа Ленина в литературе необыкновенны. Задача эта несколько проще в кино и на театре – не потому, что повесть о Ленине труднее написать, чем пьесу, а потому, что в пьесе о Ленине на сцену выходит актер, загримированный под человека, которого мы любим. Увидев его лицо, походку, жесты, услышав милый нашему сердцу картавящий говорок, мы готовы многое простить. Мы испытываем искреннее удивление и благодарность чудесным людям, давшим нам возможность как бы видеть и слышать умершего гения. Литература не может дать эту иллюзию. Что же она может? Она может показать ход мыслей. Согласитесь, что когда речь идет о мыслителе – ход мыслей играет некоторую роль. Но задача эта необыкновенно сложна, и именно потому, что речь идет о мыслителе.
«Ленин весь в словах, как рыба в чешуе», – потрясающе точно выразился некогда Горький. Это обстоятельство необычайно затрудняет художественное воплощение личности Ленина. Верно, личность его отображена с поразительной силой в его произведениях, но писатель ведь не может писать произведение о произведениях! Прибавьте к этому органическую ненависть Ленина к позам и внешним эффектам, к заготовленным заранее остротам, ко всей мишуре внешнего блеска и треска…
Вряд ли найдется другой человек, который бы так полно подчинял (и старался подчинить) чувство – разуму, всю жизнь – одной цели. Описывая такого человека, столь целеустремленного и как бы рассудочного, научно-мыслящего, почти каждую минуту рискуешь стать пресным и представить своего героя пресным и суховатым, каким Владимир Ильич никогда не был, ибо сочетал ум великого ученого и мощь непобедимого бойца с сердцем ребенка.
И наконец, – последнее препятствие: я люблю его. Его любят миллионы людей. Восторг не содействует объективному изображению, любовь слепит глаза, лишает твердости пишущую руку. Ее надо глубоко прятать, чтобы читатель не заподозрил тебя в том, что ты хвалишь Ленина, потому что принадлежишь к его партии, а не потому принадлежишь к его партии, что любишь Ленина.
Итак, приступая к работе, я видел буквально глазами всю почти вогнутую крутизну этого замысла, всю многоступенчатость предстоящих препятствий. Я знал наперед, что не смогу исчерпать сокровища этого необычайно целенаправленного, изощренного и чуткого интеллекта, сложнейший ход его мыслей, чаще всего слишком глубоких для «беллетризации», иногда же слишком злободневно-политических, чтобы они могли вполне войти в таинственные, изменчивые, чуть туманные края искусства.
…И вот повесть написана и даже напечатана, – а напечатать ее было не легче, чем написать, – и я ставлю перед собой вопрос: что мне удалось? Что мне не удалось?
На этот вопрос могут ответить только мои читатели. Я же опять болею своей застарелой болезнью – неудовлетворенностью и недовольством собой. И перед моими глазами маячат еще зыбкие очертания другой повести о Ленине, нашем учителе, нашем великом спутнике. Может быть, в той повести я сумею досказать то, что не досказано в этой. До свидания, Владимир Ильич.
[1961]КОММЕНТАРИИ
Синяя тетрадь. – Впервые: «Октябрь», 1961, № 4. Работа над повестью была начата в 1957 и закончена осенью 1958 года. Летом 1957 года Казакевич жил на Клязьме, в гостях у бакенщика Алексея Ефимовича Бударина на бакене № 108. Там, в условиях, приближенных к быту В. И. Ленина (стол и лежак для сна были сбиты из досок), несколько дней прожившего в сарайчике Н. Емельянова, Казакевич и начал писать повесть «Ленин в Разливе» (так она поначалу называлась). Писатель продолжал работать над ней и в Магнитогорске, куда уехал в начале 1958 года, а закончил в Подмосковье на станции Отдых.
Замысел повести находится в прямой связи с общественной атмосферой после XX съезда КПСС.
В 1956–1958 годах на страницах журналов «Коммунист», «Вопросы истории КПСС», «Исторический архив» и др. систематически публиковались (с перепечаткой в республиканских журналах) новые документы В. И. Ленина, его не обнародованные ранее автографы. В 1958 году по специальному постановлению ЦК КПСС начало выходить Полное собрание сочинений В. И. Ленина. В нем впервые включаемые в Собрание документы составили по объему около 20 томов. Выход этого издания в свет явился большим событием в жизни партии и народа.
Одновременно в газетах и журналах публиковались или перепечатывались воспоминания старых большевиков, соратников В. И. Ленина. «Воспоминания о В. И. Ленине» в 2-х томах (М., Госполитиздат, 1956–1957), сборник «Ленин – вождь Октября. Воспоминания петроградских рабочих» (Л., Лениздат, 1956), «Ленин в 1917 году» (М., Госполитиздат, 1957), «Ленин в Октябре» (М., Госполитиздат, 1957), «Памятные встречи» (М., Госполитиздат, 1958) и другие издания.
Работе над повестью предшествовал большой подготовительный период, в течение которого писатель заново тщательно изучал труды Ленина, знакомился с огромной литературой о нем, в том числе и с теми материалами, которые появились в печати по постановлению ЦК КПСС.
Не довольствуясь опубликованным, Казакевич поспешил войти в контакт с большевиками старого поколения, чья живая память сохранила образ вождя, события предоктябрьских лет и месяцев. Он много общался с Николаем Александровичем Емельяновым и его женой Надеждой Кондратьевной. Н. А. Емельянов (1871–1958), рабочий Сестрорецкого оружейного завода, был активным участником революционного движения, членом партии с 1904 года. После Февральской революции 1917 г. избирался депутатом Петроградского Совета. Когда Казакевич встретился с ним, за его плечами была трудная, но достойная жизнь, отмеченная высокой наградой – орденом Ленина. Писателю были хорошо известны его опубликованные воспоминания, весьма одобрительно оцененные Н. К. Крупской (см. рецензию: Исторический архив, 1957, № 2).
Но они не могли заменить личных бесед с человеком, который организовал и реально обеспечивал вместе с женой и сыновьями «шалашное» подполье В. И. Ленина.
Казакевич пользовался также устными свидетельствами Фофановой Маргариты Васильевны (1883–1976), старой большевички, участницы революционного движения с 1902 года. Ее петроградская квартира многократно использовалась товарищами, возвращавшимися из ссылок, тюрем, эмиграции. После июльских дней 1917 года у нее некоторое время скрывался В. И. Ленин. В 1964 году в связи с выходом фильма «Синяя тетрадь» Фофанова писала: «Я хорошо была знакома с писателем, который в течение полутора лет не раз консультировался со мной…» (Советский экран, 1964, № 8).
Общественная, острополитическая направленность повести осознавалась самим писателем очень четко, и именно это подсказало ему выбор фактов для сюжета и обязало быть предельно верным исторической правде.
Подполье с Лениным делил Г. Е. Зиновьев. Его разрыв с Владимиром Ильичем и предательство ленинской политики еще впереди. За хронологическими рамками повести остаются колебания Зиновьева, его несогласие с резолюцией ЦК партии о вооруженном восстании, выраженное в выступлении вместе с Каменевым в полуменьшевистской газете «Новая жизнь». За пределами произведения остаются и более поздние выступления Зиновьева против ленинской политики партии. Повесть отражает момент, который объясняет это будущее. Разрыв Ленина с Зиновьевым предрешен, но это разрыв с бывшим единомышленником, с человеком, который много лет был лично близко связан с Лениным. В этом драматическая сложность исторического момента. В большевистской партии Зиновьев (Радомысльский) состоял с 1901 года. С V съезда РСДРП он – член ЦК, входил в редакции газет «Пролетарий» и ЦО партии «Социал-демократ», издававшихся за границей. В эмиграции (1908 апрель 1917) Ленин и Зиновьев жили поблизости друг от друга – и в Женеве, и в Париже (в известной школе в Лонжюмо Зиновьев читал лекции по истории партии), и в Кракове, и в Закопане (неподалеку от Поронино). Все это хорошо известно из «Воспоминаний о Ленине» Н. К. Крупской. Вместе с Лениным и другими большевиками-эмигрантами вернулся в Россию и после июльских событий также должен был скрываться от преследований Временного буржуазного правительства.
Казакевич использовал реальную ситуацию для того, «чтобы разоблачить сущность оппортунизма, развенчать любых предателей революции, даже если они находятся в близком окружении Ленина». Свой замысел писатель прямо связал с задачами, выдвинутыми Совещанием коммунистических и рабочих партий в 1957 году. Он был уверен, что, «утверждая ленинские взгляды на диктатуру пролетариата, „Синяя тетрадь“ бьет и по ревизионизму, склонному обелять оппортунистов прошлого, частенько ссылаясь на их личную близость к Ленину, и по догматикам, боящимся правдивого изложения фактов истории, поскольку эти факты не влезают в их сухие, упрощенные, бесплодные схемы».
«Синяя тетрадь» строится на подлинных фактах и событиях. В ней действуют или упоминаются реальные исторические лица. Речь идет также о подлинных статьях, написанных Лениным в Разливе, о продолжении работы над книгой «Государство и революция». Заготовки для нее содержала та самая, вполне реальная синяя тетрадь, которую Ленин просил доставить ему в Разлив и которая подсказала писателю окончательное название повести.
Сделав ленинские статьи объектом изображения, Казакевич использовал их и как опору для исторически правдивой обрисовки политической обстановки в стране после 3–4 июля 1917 года, когда в Петрограде была расстреляна мирная демонстрация. При попустительстве эсеров и меньшевиков, имевших большинство в Советах рабочих и солдатских депутатов, ожесточилась травля В. И. Ленина и большевиков. В черносотенной газете «Живое слово» была опубликована заведомая ложь о связи Ленина с германским штабом. Буржуазная печать подхватила эту клевету, называя Ленина германским шпионом, агентом кайзера Вильгельма II. В добавление к этой лжи на Ленина и большевиков, вопреки фактам, возвели обвинение в подстрекательстве масс к вооруженному выступлению против Временного правительства, хотя, как известно, именно большевики, не имея возможности предотвратить выступление 3–4 июля, попытались придать ему мирный характер. По оценке Ленина (см. статью, написанную 10 июля и опубликованную в кронштадтской газете «Пролетарское дело», – «Политическое положение»), наступил кризис, показавший, что контрреволюция организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в свои руки. Рассеяны надежды на мирное развитие революции. Вожди Советов из партий эсеров и меньшевиков во главе с Церетели и Черновым отдали дело революции в руки контрреволюции. В этих условиях Ленин предлагает снять лозунг «Вся власть Советам». Обстановка вынуждала партию, соединяя легальную и нелегальную работу, собирать силы, реорганизовывать их и готовить к вооруженному восстанию; его цель – переход власти в руки пролетариата, поддержанного беднейшим крестьянством.
Важную опору для себя нашел писатель и в статье «К лозунгам», где Ленин объяснял, почему прежде верный лозунг «Вся власть Советам» перестал им быть и объективно ведет к обману народа. «Нет ничего опаснее обмана»[47], – писал Ленин. – «Народ должен прежде всего и больше всего знать правду – знать, в чьих же руках на деле государственная власть. Надо говорить народу всю правду…»[48].
Справедливо увидел здесь Казакевич важную черту ленинской тактики общения с массами и на этом построил в повести дискуссию Ленина с Зиновьевым о правде.
Исторически правдиво освещен в «Синей тетради» и вопрос о неявке Ленина на суд. Вопрос был непростой. Ленин сам сначала склонялся к тому, чтобы явиться на суд и воспользоваться им для открытого публичного разоблачения Временного правительства, клевещущего на большевиков. Так же поначалу думали и некоторые большевики. Но на совещании членов ЦК и ряда партийных работников на квартире С. Я. Аллилуева в присутствии В. И. Ленина, В. П. Ногина, Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталина, Е. Д. Стасовой было принято решение – не являться. Комиссия по расследованию клеветнических обвинений, образованная меньшевистско-эсеровским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов по настоянию большевистской фракции, сложила свои полномочия, как только стало известно, что Временное правительство передало дело расследования прокурору Петроградской судебной палаты, а 13(26) июля меньшевики и эсеры на объединенном заседании ЦИК Советов признали даже недопустимым уклонение от суда. В то же время – 13 14(26–27) июля вопрос о явке на суд обсуждался на расширенном совещании ЦК РСДРП(б) с представителями Петербургского комитета, Военной организации при ЦК РСДРП(б), Московского областного бюро, Московского комитета и Московского окружного комитета. Было принято решение – не являться. Против явки высказывался и VI съезд партии, вернувшийся к этому вопросу. В ряде статей той поры («Где власть и где контрреволюция?», «Гнусные клеветы черносотенных газет и Алексинского», «Новое дело Дрейфуса», «К вопросу об явке на суд большевистских лидеров», «О конституционных иллюзиях») В. И. Ленин объяснил наивность расчетов на то, будто Временное правительство заинтересовано в расследовании истины и доведет дело до суда. Позднее стало известно, что юнкера, которые должны были арестовать Ленина, получили приказ убить его по дороге.
Повесть передает реальный драматизм момента, реальные опасности. На поиски Ленина были брошены большие силы полиции вместе со знаменитой ищейкой по кличке «Треф», появились и добровольные помощники. Необходимость скрываться в подполье осложняла связи Ленина с товарищами по партии в трудные месяцы 1917 года, делала невозможным его присутствие на VI съезде, вынуждала руководить съездом заочно.
Вместе с тем в полном согласии с правдой Казакевич сумел передать ленинский оптимизм, его уверенность в том, что скоро будет новая революция, которую большевики доведут до победы. Об этом свидетельствуют статьи Ленина и его настроение, зафиксированное общавшимися с ним товарищами.
Весьма примечательно, что Казакевич включил в повесть подлинный факт, рассказанный старым большевиком А. В. Шотманом. Перед тем, как ехать к Ленину в Разлив, он зашел в Петербургский комитет партии большевиков. Там шла беседа о дальнейшем развитии революции. В противовес опасениям некоторых товарищей, думавших, что Керенскому удалось загнать партию в подполье на продолжительный срок, М. М. Лашевич, председатель большевистской фракции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, сказал: «Вот увидите, тов. Ленин в сентябре будет премьер-министром».
«…Сообщая т. Ленину петербургские новости, – вспоминает А. Шотман, – я передал ему и слова т. Лашевича, на что т. Ленин очень спокойно ответил: „В этом ничего нет удивительного“[49]. Тот же факт зарегистрирован и в воспоминаниях С. Орджоникидзе „Ильич в июльские дни“».
Строгое подчинение исторической правде ставило Казакевича перед немалыми трудностями. Ведь в передаче подробностей разговоров, которые ведут между собой реальные персонажи, известные деятели партии, писатель в подавляющем большинстве случаев не располагал фактами. Тем более это относится к невысказанным мыслям героев. И все же художник с основанием утверждал: «Все это правда, чистая правда и только правда, но правда художественная, дающаяся в руки не всегда и не всем». Здесь и не факт, и не вымысел, а воображение и догадка художника, ориентирующаяся на знание событий тех дней, биографического материала, писем, воспоминаний современников, теоретических работ, статей и огромного количества других материалов, изученных писателем перед началом работы над повестью о Ленине.
В одном частном письме по этому поводу Казакевич писал: «Я при разговоре Ленина с Зиновьевым не присутствовал. И тем не менее этот разговор мог быть и мог быть именно таким, потому что такими были эти люди, таковы были их позиции в событиях, которые тогда разворачивались…» Для писателя художественное воображение «подчас оказывается достовернее всяких фактов». Вот один пример, дающий сразу психологическую характеристику приехавшего в Разлив Свердлова. Он хотел показать Ленину рукопись своей работы, но так и не показал. Известно, что Свердлов действительно написал эту работу еще в ссылке, но не закончил (в печати она появилась после смерти Свердлова и Ленина). Казакевич проанализировал черты характера и биографию Свердлова, в частности, то, что он был самоучкой и поэтому стеснялся своих литературных опытов (подтверждением тому служат его письма). В связи с этим писатель счел возможным предположить, что Свердлов мог поступить именно так, как он сделал это в повести.
Конечно, без художнической свободы нельзя было обойтись и при изображении живого Ленина. «То, что рассказывается, могло и не быть в действительности; но оно могло и быть; более того, оно должно было быть»[50]. Вся проделанная подготовительная работа давала Казакевичу уверенность, и он смело взял на себя ответственность за точность и достоверность изображения.
Меру своей ответственности перед великой темой писатель понимал очень хорошо. Об этом свидетельствует задуманный им конспект статьи-доклада для Союза писателей под названием «Как я писал „Синюю тетрадь“» (см. наст. том, с. 99).
Усилия автора «Синей тетради» были поняты и одобрены как читателями, так и критиками. Казакевич гордился тем, что повесть приняли старые партийцы, что диапазон признания был сверх ожиданий велик. Критики оценили и умелое использование художником избранной страницы биографии для воссоздания образа Ленина (Панков В. На тихом озере. – Знамя, 1961, № 9), и новаторский подход к ленинской теме (Златова Ел. Похож! Литературная газета, 1961, 22 апреля), стремление писателя изобразить неустанную работу ленинской мысли, приоткрыть внутренний мир гениальной личности (Кузнецов М. Новое в жизни и литературе. – Новый мир, 1961, № 10; Светов Ф. Нравственный кодекс героя. – Вопросы литературы, 1962, № 3). Особенно порадовала статья Н. Погодина «Ново, талантливо, интересно» (Известия, 1961, 1 июня). Писателю было дорого, что сторонником его повести является автор известных пьес о Ленине, один из зачинателей великой темы.
Еще при жизни Казакевича началась работа над сценарием для фильма. Автор сценария Лев Кулиджанов. Он же режиссер фильма, поставленного на киностудии им. Горького в 1964 году.
Примечания
1
…питерский рабочий Чугурин… – Чугурин Иван Дмитриевич, партийный государственный деятель (1883–1947), в 1917 г. член Выборгского райкома партии. На Финляндском вокзале вручил Ленину билет № 600 большевистской организации Выборгской стороны.
(обратно)2
Зиновьев (Радомысльский Григорий Евсеевич, 1883–1936) политический деятель, участник революций 1905–1907 годов, член ЦК в 1907–1927, член ЦИК и ВЦИК СССР.
(обратно)3
…от всех врагов – Керенского и Половцева, Рибо и Ллойд-Джорджа… – Керенский А. Ф. (1881–1970) после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. был министром юстиции, военным и морским министром, а затем министром-председателем буржуазного Временного правительства и верховным главнокомандующим. После Октября вел борьбу против Советской власти и в 1918 г. бежал за границу, где вел антисоветскую пропаганду. Рибо Александр Феликс Жозеф – в это время премьер-министр Франции. Ллойд-Джордж Дэвид – с конца 1916 г. премьер-министр коалиционного правительства Англии, вдохновитель вооруженной интервенции против Советского государства.
(обратно)4
…с плеча Сергея Аллилуева… – Аллилуев Сергей Яковлевич (1866 1945) – один из первых российских рабочих социал-демократов, с революционным движением связан с 1896 г., участник трех российских революций и гражданской войны. В июне 1917 г. в его квартире в Петрограде несколько дней скрывался Ленин, откуда и отправился в Разлив.
(обратно)5
Арестованы Каменев, Коллонтай, Раскольников, Рошаль, Сиверс… – Каменев (Розенфельд) Лев Борисович, член партии с 1901 г. На VII Всероссийской конференции избран членом ЦК. В 20–30-х гг. за антипартийную деятельность неоднократно исключался из партии. Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) – партийный деятель, дипломат, в социал-демократическом движении с 1890-х гг. После Февраля 1917 г. вела работу среди матросов Балтийского флота и солдат Петроградского гарнизона. Раскольников Федор Федорович (1892–1939) – в большевистской партии с 1910 г. После Февраля 1917 г. член кронштадтского комитета РСДРП(б), редактор газеты «Голос правды». Рошаль Семен Григорьевич (1896–1917) – в революционном движении с 1910 г., член большевистской партии с 1914 г. В марте 1917 г. избран председателем горкома РСДРП(б) в Кронштадте, убит контрреволюционерами. Сиверс Рудольф Фердинандович (1892–1918) – член партии с 1917 г., командир Красной Армии, один из создателей и редакторов большевистской газеты 12-й армии «Окопная правда».
(обратно)6
…и Авксентьевым… – Авксентьев Николай Дмитриевич (1878 1943), один из лидеров партии эсеров. После Февральской революции председатель исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр внутренних дел во втором коалиционном Временном правительстве, позднее председатель контрреволюционного Временного совета Российской республики, белоэмигрант.
(обратно)7
…старика Плутарха… – древнегреческий философ и писатель (ок. 45 ок. 127), автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» и «Этических сочинений», представляющих собой богатейший источник сведений о древнем мире.
(обратно)8
…современных пилатов – Плехановых, Потресовых и Черновых… – Пилаты – от ставшего нарицательным имени Понтия Пилата, римского наместника Иудеи в 26–36 гг. н. э., отличавшегося жестокостью, массовыми насилиями и казнями без суда. В Евангелии говорится, что он утвердил смертный приговор Христу. Плеханов Георгий Валентинович (1856 1918), деятель русского и международного революционного движения, философ, создатель первой русской марксистской группы «Освобождение труда» (Женева), один из основателей РСДРП и газеты «Искра», после Второго съезда РСДРП – один из лидеров меньшевизма. Вернувшись после Февральской революции в Россию, возглавил крайне правую группу меньшевиков-оборонцев, выступал против большевиков и социалистической революции, считая, что Россия для нее не созрела. Потресов Александр Николаевич (1869–1934) – с 1896 г. – член РСДРП, с 1900 г. – член редакции «Искры», с 1903 г. – один из лидеров меньшевизма. В 1917 г. редактировал газету «День», ведущую злобную кампанию против большевиков. После Октября – белоэмигрант. Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) – один из основателей и теоретиков партии эсеров, в мае – августе 1917 г. – министр земледелия в буржуазном Временном правительстве, сторонник репрессий по отношению к крестьянам, захватывающим помещичьи земли, белоэмигрант.
(обратно)9
Рябушинский и Бубликов… – Рябушинский Павел Павлович (1871–1924), банкир и промышленник, лидер русской контрреволюционной буржуазии, руководитель корниловщины и калединщины, белоэмигрант. Бубликов – политический деятель, связанный с торгово-промышленной буржуазией.
(обратно)10
Милюков и тот… – Милюков Павел Николаевич (1859–1943), лидер партии кадетов, в первом составе буржуазного Временного правительства министр иностранных дел, в августе 1917 г. один из вдохновителей корниловского мятежа и иностранной интервенции, белоэмигрант.
(обратно)11
Бульварное «Живое слово»… – ежедневная газета черносотенного направления, издавалась с 1916 г. в Петрограде под редакцией А. М. Уманского. Вела клеветническую кампанию против большевиков. В октябре 1917 г. была закрыта Военно-революционным комитетом.
(обратно)12
…они, как пошехонцы… – Имеются в виду герои «Пошехонской старины» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889).
(обратно)13
…законном раздражении против Дана и Церетели… – Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871–1947), один из лидеров меньшевизма, после Февраля 1917 г. член Исполкома Петроградского Совета и Президиума ЦИК первого созыва, поддерживал Временное правительство. В 1922 г. выслан за границу за антисоветскую деятельность. Церетели Ираклий Георгиевич (1881 1959), один из лидеров меньшевизма, в мае 1917 г. вошел в буржуазное Временное правительство в качестве министра почт и телеграфов, после июльских событий – министр внутренних дел, один из вдохновителей травли большевиков, с 1921 г. белоэмигрант.
(обратно)14
Кадетская «Речь»… – центральный орган партии кадетов, издавался в Петербурге в 1906–1918 гг.
(обратно)15
…а Дантон… – Дантон Жорж Жак (1759–1794), деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев. В октябре 1917 г. Ленин дважды цитирует приведенные в повести слова Дантона и отзыв Маркса о Дантоне как о величайшем в истории мастере революционной тактики (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 8, с. 100–101).
(обратно)16
Сам знаешь – Азеф… – Азеф Е. Ф., член партии эсеров, тайный агент департамента полиции. Разоблачен в 1908 г.
(обратно)17
…пишет Владимир Бурцев. – Бурцев В. Л., участник революционного движения, близкий народовольцам, перед 1905 г. – эсерам, после него – кадетам.
(обратно)18
«…русский Бебель». – Бебель Август (1840–4913), один из основателей и руководитель германской социал-демократии и II Интернационала. Ленин считал его речи против реформизма и ревизионизма «образцом отстаивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей партии» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 369).
(обратно)19
…Переверзев решил при помощи ренегата Алексинского… – Переверзев П. Н., министр юстиции в первом коалиционном буржуазном Временном правительстве. Алексинский Г. А., поначалу социал-демократ, примыкал к большевикам в период революции 1905 г. В 1917 г. занимал контрреволюционные позиции. В июле совместно с военной разведкой сфабриковал фальшивку, клевещущую на Ленина и большевиков. 5 июля в газете «Живое слово» за его подписью и подписью В. Панкратова появилась статья с ложным обвинением Ленина в его связи с германским генштабом. В апреле 1918 г. бежал за границу.
(обратно)20
…анархиствующего денди Бориса Савинкова… – Савинков Борис Викторович (1879–1925), деятель контрреволюции, один из лидеров партии эсеров, после Февраля 1917 г. товарищ военного министра, затем военный генерал-губернатор Петрограда, после Октября организатор шпионско-диверсионной деятельности и ряда контрреволюционных мятежей против Советской России, белоэмигрант, арестован после нелегального перехода советской границы и осужден.
(обратно)21
…бывшего большевика Мешковского. – Мешковский И. П. (Гольдберг), в период первой русской революции входил в редакции большевистских изданий, на V съезде РСДРП от большевиков был избран в ЦК, в 1917–1919 гг. примыкал к полуменьшевистской группе «Новая жизнь».
(обратно)22
…Мартов – мальчишкой… – Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873 1923), участник российского революционного движения. С 1895 г. член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 1900 г. член редакции «Искры», с 1903 г. один из меньшевистских лидеров. После Февраля возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов, входил в Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, с 1920 г. эмигрант.
(обратно)23
…откровенной и полуоткровенной контрреволюции – Милюкову и Маклакову, Рябушинскому и Терещенко. – Маклаков Василий Алексеевич (1869 1957), один из лидеров кадетов, адвокат, с июля 1917 г. посол буржуазного Временного правительства в Париже, затем эмигрант. Терещенко Михаил Иванович (1886–1956), русский капиталист сахарозаводчик, министр финансов, затем министр иностранных дел во Временном правительстве, белоэмигрант.
(обратно)24
…телеграмма Корнилова… – Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), генерал царской армии, один из руководителей российской контрреволюции. В июле – августе 1917 г. верховный главнокомандующий русской армии. Глава контрреволюционного мятежа в 1917 г. Впоследствии один из организаторов белогвардейской Добровольческой армии.
(обратно)25
…отвечает сам Николай Семенович Чхеидзе (1864–1926) один из лидеров меньшевизма. Во время Февральской революции – глава Временного комитета Государственной думы, затем председатель Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, председатель ЦИК первого созыва, активно поддерживал буржуазное Временное правительство. С 1921 г. белоэмигрант.
(обратно)26
…Вячеслав Иванович Зоф (1889–1937) – советский военный деятель, член партии с 1913 г., один из связных В. И. Ленина с ЦК.
(обратно)27
…товарищ Лилина… – жена Г. Е. Зиновьева.
(обратно)28
…с Токаревой… – Токарева А. Н. – петроградская работница, возившая белье и провизию из города в Разлив в период подполья В. И. Ленина.
(обратно)29
…арестованы Крыленко, Мехоношин и Арутюнянц… – Крыленко Николай Васильевич (1885–1938), советский партийный и государственный деятель, член РСДРП с 1904 г. После Февраля 1917 г., сотрудник редакции газеты «Солдатская правда», участник конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). Мехоношин Константин Александрович (1889 1938), советский партийный и государственный деятель, член партии с 1913 г., в 1917 г. член Петроградского Военного Революционного Комитета.
(обратно)30
«Мировой дух», как выражался Гегель. – Представление о «Мировом духе» изложено в работе немецкого философа, идеалиста и диалектика Гегеля Г.-В.-Ф. (1770–1831) «Феноменология духа», которую Маркс назвал «истинным истоком и тайной гегелевской философии» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 624). По Гегелю, духовная культура человечества в ее закономерном развитии есть творческая сила Мирового духа и одновременно познание им самого себя, причем сокращенно стадии этого самопознания воспроизводятся духовным развитием индивидуума. В последнем «дух» просыпается к самосознанию сначала в виде слова, речи, языка. Орудия труда, материальная культура – позднейшие, производные формы воплощения творческой силы «духа».
(обратно)31
…известный афоризм Гегеля… – Возможно, имеется в виду формула, которую Гегель отнес к Наполеону, французскому императору, – «Мировой дух на коне».
(обратно)32
«…Берг» – он же Александр Васильевич Шотман (1880 1937) – советский государственный и партийный деятель, профессиональный революционер с 1899 г., большевик, активный участник первой русской революции в Петербурге и Одессе. С июня 1917 г. член Петроградского окружного комитета партии; в августе того же года по заданию ЦК организовал переезд Ленина из Разлива в Финляндию. Участник Октября. Оставил воспоминания «В. И. Ленин в подполье», впервые изданные в 1924 г.
(обратно)33
Андрей, Юзеф… – партийные имена Свердлова Якова Михайловича (1885–1919) и Дзержинского Феликса Эдмундовича (1877 1926).
(обратно)34
Наша «военка» – Миша Кедров с Подвойским… – Кедров Михаил Сергеевич (1878–1941), советский государственный и партийный деятель, участник революционного движения с 1899 г., член РСДРП с 1901 г. С мая 1917 г. – член Военной организации при ЦК РСДРП(б) и Всероссийского бюро большевистских организаций. Подвойский Николай Ильич (1880–1948) советский партийный и военный деятель. В период от Февраля до Октября 1917 г. – член Петербургского комитета РСДРП(б) и Петроградского Совета, один из руководителей Военной организации при Петербургском комитете и ЦК партии. В октябрьские дни – председатель Петроградского Военно-Революционного комитета.
(обратно)35
За любовь платится любовью (ит.).
(обратно)36
«Бежит он, тихий и суровый»… – не точно процитированная заключительная строфа стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827). У Пушкина: «Бежит он, дикий и суровый…»
(обратно)37
Очевидно, Бакунин так же относился к Марксу. – Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), русский революционер, один из основателей и теоретиков анархизма и народничества.
(обратно)38
«Белые, бледные, нежно-душистые…» – цыганский романс «Ночные цветы», слова Е. Варженевской, музыка А. Шиловского.
(обратно)39
…не забыла господина Тьера… – Тьер Адольф (1797–1877), французский государственный деятель, стяжал позорную славу кровавого палача деятелей Парижской коммуны, опирался на поддержку немецких оккупационных войск.
(обратно)40
Так проходит слава мира (лат.).
(обратно)41
…замечание старика Тацита об одном римском заговорщике, кажется, о Пизоне… – Тацит Публий Корнелий (ок. 58 – ок. 117), римский писатель, историк, автор «Анналов» и «Истории». Кальпурний Пизон Гай, один из организаторов неудачного заговора против императора Нерона. О нем «Анналы», кн. XIV–XV и «История», кн. IV.
(обратно)42
Еще Платон говорил… – Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ. Далее воспроизводится мысль, высказанная Платоном в диалоге «Государство», кн. 5, 473. (См. его «Сочинения в трех томах», т. 3, ч. I. М., Мысль, 1971, с. 275.)
(обратно)43
…если и тогда не предадим проклятию «терпение», как некогда Фауст… – В переводе Б. Пастернака это место из 1-й части «Фауста» И.-В. Гете (1749–1832) звучит так: «Но более всего и прежде // Кляну терпение глупца».
(обратно)44
…и Прудона… – Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, теоретик анархизма, сторонник взглядов утопического мелкобуржуазного реформаторства.
(обратно)45
«Не успеет трижды пропеть петух…» – по евангельской легенде, Иисус Христос произнес эти слова в ответ на клятвы верности своего ученика Петра, предвидя, что он отречется от своего учителя.
(обратно)46
…Рахья, – ответил финн… – Рахья Эйно Абрамович (1885 1936), деятель российского и финского революционного движения, член партии с 1903 г. В августе 1917 г. участвовал в конспиративной переправке В. И. Ленина в Финляндию и в октябре – обратно в Россию. В 1919 г. командовал воинскими соединениями, боровшимися против Юденича. Оставил воспоминания: «Мои воспоминания о Владимире Ильиче»; опубликованы в сб. «Ленин в первые месяцы Советской власти» (М., Политиздат, 1933).
(обратно)47
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 17.
(обратно)48
Там же, с. 15.
(обратно)49
См. сб.: Последнее подполье Ильича. М., изд-во «Старый большевик», 1934, с. 59.
(обратно)50
Вопросы литературы, 1963, № 6, с. 174.
(обратно)

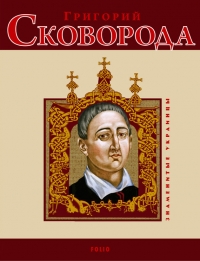

Комментарии к книге «Синяя тетрадь», Эммануил Генрихович Казакевич
Всего 0 комментариев