Воспоминания. Том 2. Март 1917 – Январь 1920
ПРЕДИСЛОВИЕ
Первый том моих "Воспоминаний" вызвал со стороны моих читателей разнообразные суждения. Одни из читателей проявляли большую снисходительность и дарили книгу лестными отзывами, другие были строже и указывали на ее недостатки, сводившиеся к тому, что автор недостаточно подробно останавливался на фактах общего значения и чрезмерно подробно освещал события, имевшие личное для него значение. Третьи видели в этом даже сведение личных счетов автора с его недоброжелателями. К тому же добавлялось, что и не все характеристики в равной мере объективны. Иерархи совсем замолчали мою книгу и только двое из них прислали мне свои отзывы. Первый обвинял меня в человекоугодничестве, усматривая его проявления в моей беседе с Ее Величеством, второй признавал предреволюционную атмосферу обоснованной и оспаривал мои выводы.
Так как большинство полученных мною писем, обращений и запросов было послано мне с расчетом получить мой ответ и так как ответить каждому из моих корреспондентов я не имел возможности, то пусть это предисловие к моему второму тому и будет таким ответом.
Прежде всего я считаю нужным сказать, что я не "сочинял" своих "Воспоминаний", а писал лишь о том, что сохранилось в моей памяти и, следовательно, опускал все то, что в ней не сохранилось. Отсюда излишняя подробность с одной стороны, сжатость и краткость изложения – с другой. Но "искренность" я выдерживал до конца, не позволяя себе ни уклоняться от правды, ни допускать тенденциозного освещения фактов. Мемуары тем и отличаются от "сочинений", что оперируют сырым материалом. Это не повести и рассказы, где требуется систематизация этого материала, согласование действий и фактов с определенной целью подчеркнуть основную идею сочинения, выдвинуть главное действующее лицо и сосредоточить на нем внимание читателя. Мемуары, в лучшем случае, да и то не всегда, выдерживают лишь хронологию событий, но эти последние стоят рядом, не связанные между собой. И чем меньше связи между ними, тем точнее фотография действительности, тем искреннее и правдивее был автор.
Что касается характеристики тех лиц, с которыми я встречался на своем жизненном пути в описываемый мною период времени, то я охотно допускаю, что их нравственный облик нашел в моих "Воспоминаниях" не полное отражение. Но иначе и не может быть там, где фиксируются лишь мимолетные впечатления. Каждый человек в течение одного дня может быть и хорошим и дурным, и умным и глупым, и добрым и злым (не говоря уже о том, что один и тот же человек проявляет к разным людям различное отношение), и то впечатление, какое мы получаем от соприкосновения с людьми, зависит только от того, какую черту своего облика они показали нам при встрече с ними. Художник может смастерить какой угодно портрет, но на фотографической пластинке изображается лишь то, что попало в фокус. А соотношение между "мемуарами" и "сочинениями" такое же, как между фотографом и художником. Поэтому со многими сделанными мне замечаниями я искренне согласен и заявляю, что, зарисовывая те или иные черты облика людей, с коими я встречался на страницах своего первого тома, я отнюдь не имел намерения распространять эти черты на самую природу этого облика и менее всего имел в виду выносить какие-либо приговоры людям.
Обращаясь к замечаниям почтенного иерарха, усмотревшего в моей книге тенденциозное желание "обелить" Царя и Царицу и "человекоугодничество" пред Ними, я должен заявить, что с этого рода замечаниями совершенно не согласен и резонность их категорически отвергаю по двум основаниям.
Во-первых потому, что Царь и Царица были слишком чисты для того, чтобы нуждаться в каком-либо обелении с чьей бы то ни было стороны, во-вторых, потому что в предреволюционное время человекоугодничеством называлось не циничное пресмыкательство пред революционерами, не подлое заигрывание с ними, возводившее травлю Царя и Царицы на степень гражданского долга и отождествлявшее любовь к Родине с ненавистью к Царю, а верность присяге и верноподданническая преданность Монарху.
Этой присяге я не изменял и остаюсь ей верен.
Что касается ссылки другого иерарха на обоснованность предреволюционной атмосферы в России, иными словами, его указания на то, что революция была вызвана ошибками Царя и Его правительства, то опровергать ее нет нужды. Мне остается только пожалеть о незнакомстве почтенного иерарха с историей, какая бы сказала ему, что все революции когда-либо бывшие, составляли всегда внешнее, наносное явление, будучи излюбленным приемом жидовства для достижения его вековечной цели – ликвидации христианства, христианской цивилизации и культуры, и что христианские главы всех государств и во все времена, равно как и народы в целом, не только не принимали ни прямого, ни косвенного участия в революциях, а, наоборот, всегда вели борьбу с ними, нередко делаясь и их жертвой.
Революции всегда были заданием определенной группы людей, выполнявшей директивы центра, программа деятельности которого непосредственно вытекала из требований Талмуда. Останавливаясь на результатах этой деятельности, поскольку она нашла свое отражение в революции 1917 года, осуществившей наиболее смелые чаяния жидовства, я имел в виду обнаружить и ее корни, сокрытые в глубоких недрах Ветхого Завета Библии, использовав для этой цели "Переписку с друзьями", с коими я обменивался по этому вопросу. Однако эта "переписка" разрослась до таких размеров, что могла бы составить содержание самостоятельной книги, и я предпочел включить ее в один из последующих томов своих "Воспоминаний", не смешивая с прочим материалом.
Возможно, что русские читатели будут неудовлетворены содержанием второго тома, в котором не найдут ничего для себя нового. Там изложены факты, известные всем русским людям, и добавлены даже сведения, почерпнутые из газет и журналов. Один из моих друзей писал мне 14 апреля 1924 года: "...меня всегда сильно угнетает, что мы, русские, тратим так много времени и сил, и в то же время так часто поступаем безграмотно только потому, что не даем себе труда серьезно отнестись к делу и изучить то, что уже достигнуто другими, преследующими те же цели... Так и с еврейским вопросом. Ведь мы до сих пор все еще повторяемся в изложениях, выражающих наши личные взгляды, в которых чувство господствует часто над логикой фактов и цифр. Между тем изучение еврейского вопроса, начатое в Западной Европе с конца 70-х годов прошлого века, ныне уже базируется на чисто научных работах, наследующих важнейшие факторы значения Иуды: расу, религию и народное хозяйство. Но мы о них не слышали, хотя уже Россия охвачена игом иудейской тирании..."
И в самом деле, зачем понадобилась перепечатка сведений, давно известных всему миру? Затем, чтобы сохранить в памяти потомства все те ужасы "большевичества", какие воспринимались огромным большинством людей как нечто неизбежное в ходе исторических событий, как нечто новое, еще небывалое в истории, тогда как на самом деле они являлись повторением давно забытых, древнейших событий истории в те ее периоды и эпохи, когда жиды овладевали властью. Если бы человечество помнило об этих ужасах "большевичества", скрывавшегося в истории только под другими именами и повторявшегося бесчисленное количество раз, если бы делало в свое время надлежащие оттуда выводы, то не очутилось бы врасплох пред современной нам действительностью, или точнее, в плену мирового жидовства.
"Большевичество" в России воскресило давно забытые страницы истории и явилось лишь иллюстрацией тех приемов пользования властью, какие искони веков практиковались жидами в моменты их временного господства над другими народами. Христиане особенно не должны никогда забывать этих приемов и потому все, что воскрешает их в памяти и раскрывает природу жидовских целей и способы их достижения, имеет, с моей точки зрения, особливое значение как предостережение, ценное для всех народов и во все времена.
Однако же глубоко прав автор приведенного выше письма, указывая на незнакомство русских людей с той огромной западноевропейской литературой по еврейскому вопросу, какая уже выявила подлинный лик Иуды и раскрыла сущность его идеологии. Для огромного большинства русских людей эти подлинные завоевания науки покажутся столько же изумительными, сколько и неожиданными. Недостаток места не позволил мне внести некоторые извлечения из этих ценных сведений в состав второго тома. Они войдут в содержание третьего тома, если ему будет суждено выйти в свет.
Остается сказать еще несколько пояснительных слов по церковным вопросам, частично затронутым моей книгой. Только поверхностный наблюдатель может увидеть в моих рассуждениях на церковные темы отражение неуважения церковного авторитета или священного сана.
Наоборот, в моем представлении нет на земле авторитета выше церковного, как нет и сана выше сана священного. Отрицать церковный авторитет значит отрицать Божественное Откровение, значит свидетельствовать не только о своем безумии, но и о своем неверии в бытие Бога. Но с другой стороны, признавать этот авторитет значит не только ограничиваться внешним почитанием его, а значит, прежде всего, верить в его Божественную самодовлеющую силу. Божественное Откровение не может ни вытекать из недр человеческого сознания, ни утверждаться на нем, иначе бы оно перестало быть Откровением Бога. Но оно может искажаться человеческим сознанием, может подвергаться гонениям со стороны человека, может умышленно покрываться разного рода наслоениями лжи и злобы человеческой... И уважают церковный авторитет не те, кто мирится с этими преступлениями, а те, кто верит в Божественную силу его, кто срывает ложные покровы с Божественного Откровения и не боится лишить его земных опор, выдуманных человеком.
Такую же природу имеет и мое отношение к священному сану. Я думаю, что ни папство, ни патриаршество не имеют канонических обоснований и что самая идея их рождена верою не в силу Божию, а в силу человеческую. Нельзя переносить мистический центр религиозного сознания в другое место, ибо сила Божия сказывается только в немощи человеческой, в доверии человека к этой силе, в его чистоте, кротости и смирении, а не в крепости земных опор церковной власти.
И уважают священный сан не те, кто верит в силу этих опор, а те, кто верит в его мистическую силу и поклоняется ей.
Не могу, в заключение, не указать на допущенное мною смешение хронологических дат при описании событий, останавливавших мое внимание. Это объясняется тем, что второй том был почти закончен еще в 1923 году, но в свое время не мог быть издан. С течением времени я пересматривал его содержание и вынуждался согласовывать его с позднейшими сведениями, имевшими связь с предыдущими и их дополнявшими.
В связи с общим содержанием второй том распадается как бы на три части.
1-я часть, составляющая главы 1-25, продолжает хронику событий, 2-я часть, содержащаяся в главах 26-38, говорит о большевичестве и его проявлениях, и, наконец, 3-я часть, обнимающая главы 39-61, бегло касается церковных вопросов.
Н.Ж.
Подворье Святителя Николая,
Бари.
24 мая (6 июня) 1927 г.
Часть первая.
ГЛАВА 1. 1917 год. Испытания
С марта 1917 года начался период выпавших на мою долю испытаний, вызванных революцией, и наступила скитальческая жизнь, полная невзгод, страданий и лишений, но, в то же время, и удивительных, чудесных проявлений милости Божией.
Приливы и отливы, зловещие раскаты грома и ураганы, сметавшие все на своем пути и бросавшие меня, как песчинку, с одного места на другое, а затем яркое солнце, безнадежная тьма и снова ослепительные лучи света, точно чередовались между собой, сменяя отчаяние на радость надежды. То мне казалось, что Господь совсем забыл меня и покинул, то, наоборот, что никогда еще не был так близок ко мне, до того яркими и понятными были мне действия Промыслительной руки Господней, до того ясным было сознание сущности и смысла всего вокруг происходящего.
Мне часто указывали на то, что я напрасно стараюсь везде и повсюду искать "мистики" и видеть ее даже там, где имеются лишь естественные сочетания реальных фактов, что ссылки на "мистику" делают мои речи и писания легковесными, недостаточно документированными и портят общее впечатление.
Это возможно, а с точки зрения рационалистов, даже справедливо. Однако, оставляя вопрос о "впечатлении", я думаю, что тот факт, что человечество перестало искать мистическое начало в природе окружающих его явлений – есть самый ужасный факт действительности, свидетельствующий о том, что люди порвали свою связь с Источником всего сущего – Богом, создавшим природу и управляющим ее законами. Мне кажется, что искать отражения Промыслительных путей Божиих не только в законах мироздания, но даже в мелочах повседневной жизни, есть столько же обязанность христианина, вытекающая из самой сущности христианства, как религии чуда, сколько и потребность верующего человека, не порвавшего связи с этим Источником, и что наша жизнь только тогда изменит свое содержание и идеалы, когда будет улавливать движение и направление Промыслительных путей Господних и сообразовываться с ними.
В этом назначение земной жизни человека, ее смысл, ее единственное реальное содержание. Все же прочее – лишь временное, преходящее наслоение, приобретшее значение лишь благодаря духовной слепоте человечества. Ослепленные гордостью и самомнением, люди не умели, или не хотели распознавать волю Божию в судьбах мира и человека, не научились пользоваться духовным зрением, отметали все "мистическое" и, сосредоточивая свое преимущественное внимание на том, что удаляло их от Бога, проходили мимо всего того, что являлось выражением Промыслительных путей Божиих, голосом свыше, отеческою заботою и попечением или угрозою и предостережением Милосердного Творца. Мелкие скорби, болезни разного рода, бедствия и житейские невзгоды – все эти "посещения" Божии оказывались уже недостаточными для духовного пробуждения человечества и потребовались уже мировые катастрофы, которые одни называли выражением законов исторической необходимости, другие – гневом, или карою Божией, третьи еще более нелепым словом "случайность" и которые в действительности были теми "Судами Божиими", о которых говорит пророк Исаия: "Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде" (Исаии 26, 9).
Раскрыла духовные очи слепым и революция, и какими ясными стали пути Божии в глазах прозревших, как громко могли бы поведать славу Божию все те, кого Господь чудесно спас от ужасов, постигших Россию... И думается мне, что каждый добросовестный человек обязан поведать эту славу и выполнить свой долг перед Богом.
Не для собственного прославления пишу я свои воспоминания, не из гордости отмечаю отражения Промысла Божия в своей жизни, а по требованию совести, обязывающей меня быть верным долгу христианина.
Начались мои испытания арестом 1 марта 1917 года, когда я был препровожден в министерский павильон Государственной Думы и выпущен оттуда 5 марта утром, после чего уехал к сестре, в ее имение в N-ской губернии, где и оставался до 8 апреля.
С 11 апреля по 25 мая я провел у матери, в Киеве, а с 26 мая по 26 июня – в N-ской губернии, в имении брата, после чего снова уехал к сестре в N-скую губернию, где и оставался до 8 ноября, дня вторичного отъезда в Киев, в котором пробыл почти 2 года, разделив его ужасную участь... Только 12 сентября 1919 года мне удалось вырваться из Киева и приехать в Харьков, где я оставался до 28 октября и откуда, ввиду наступления большевиков, должен был бежать в Ростов и оставаться там до 7 ноября, после чего спускаться еще южнее, в Пятигорск, в котором я и прожил до конца кошмарного 1919 года с 15 ноября по 31 декабря. Везде я встречал своих друзей, у которых находил не только приют, но и радушие и помощь, везде видел заботливую Руку Промысла Божия. 1 января 1920 года я был вынужден выехать из Пятигорска в Екатеринодар, где пробыл до 10 января, и вновь спасаться бегством от большевиков, приближавшихся к Екатеринодару. С чрезвычайными трудностями я добрался 14 января до Новороссийска, откуда беженская волна выбросила меня в Константинополь, затем в Сербию, куда я прибыл 9 февраля и где оставался до сентября 1920 года, пока не водворился в Италии, под кровом Святителя Николая...
Описанию этого крестного пути я и хотел бы посвятить последующие главы.
ГЛАВА 2. После ареста
Кто из нас не встречался с теми или иными разочарованиями, не возмущался проявлениями гнусности, измены и предательства, не задыхался в атмосфере лжи, хитрости и лукавства, не изнемогал в непосильной борьбе с окружающим, чья вера в конечное торжество правды не подвергалась испытаниям при виде царившей вокруг неправды и сатанинской злобы?
И это тогда, когда ложь еще выдавала себя за правду, когда самые гнусные пороки еще облекались в нарядную внешность, когда глумленье над законами Бога и нравственными велениями еще боялось проявлять себя открыто...
Но вот зло восторжествовало, разразилась революция и... все то, что так тщательно скрывалось, вдруг неудержимым, бешеным потоком вырвалось наружу... В изумлении, оглядываясь беспомощно по сторонам, я спрашивал себя: "Куда же девалась совесть, куда исчезла честь или хотя бы столь дорого ценимое людьми "личное самолюбие?.." Те самые люди, которые еще вчера так громко величались своим уважением к долгу, так высоко превозносили свою честь, были так чувствительны к требованиям личного самолюбия, эти люди сделались сегодня неузнаваемы. Одни по убеждению, другие "страха ради иудейска" пресмыкались пред толпою и не только отдавали ей все, чему вчера поклонялись, но даже старались авансом заручиться ее расположением, становились гнуснейшими предателями и подогревали разгоревшиеся преступные страсти толпы. Другие, стараясь отмежеваться от толпы, в то же время отмежевывались и от ее жертв, опасаясь навлечь на себя подозрения симпатиями к пострадавшим. Они занимали двойственную позицию и отрекались от всех своих прежних убеждений и связей, от прежних благодетелей, друзей и знакомых и, встречаясь с ними, трепетной рукой прикрывали красные банты в петлице – эмблему солидарности с революцией, дрожали от страха и помышляли лишь о своей личной безопасности.
Что же это было?
Обнаруженный подлог, прикрывавший отсутствие моральных начал величавыми тогами и бьющими в глаза декорациями, создававшими иллюзию "Святой Руси", или массовый психоз, то малодушие, какое хуже лжи, ибо является замаскированной ложью, надувательством своей собственной совести?
И то и другое!
И засвидетельствовали этот печальный факт не "верхи" и не "низы", на долю которых досталось наибольше обвинений, а та середина, какая от низов отстала, а к верхам не пристала, та "интеллигенция", какую составляли стриженые батюшки и семинаристы, недоучившаяся молодежь, женщины, не нашедшие себе применения, мелкие чиновники и адвокаты, газетные репортеры и писаки типа Горького – словом, весь тот элемент, из которого состояла так называемая "прогрессивная общественность", прикрывавшаяся высокими лозунгами и претендовавшая на особое внимание и уважение. Все эти люди считали себя радетелями народного блага, передовыми людьми, тогда как на самом деле были лишь глупыми людьми, объединенными между собой общей ненавистью к аристократии и завистью к ее преимуществам.
Так как таких людей во всех странах большинство, то почва для большевичества везде одинаково удобрена, и напрасно Западная Европа думает, что большевичество у нее невозможно будто бы потому, что составляет чисто русское явление, рожденное русскими бытовыми условиями. Здесь величайшее заблуждение. Большевичество возможно везде и при всяких условиях, ибо не зависит ни от политических, ни от экономических причин, а коренится в самой природе широких масс, склонных заражаться дурными влияниями, не способных к нравственному сопротивлению и героизму в борьбе с ними, таящих в своих недрах то вековечное зло, какое прячется и сгибается только пред грубой силой и мгновенно же обнаруживается вовне в форме самого ужасного террора при малейшем подрыве этой силы, нежелании или неспособности бороться с ним. Это зло так прочно сидит в природе каждого нравственно непросвещенного человека, а таковых среди широких народных масс на Западе еще больше, чем в России, что пробуждать его, разжигать зверские инстинкты толпы даже не нужно, а нужно только вызвать убеждение в безнаказанности всякого рода проявлений этих инстинктов для того, чтобы дать им выход и использовать их в желаемом направлении. Жиды это знали и в стремлении достигнуть своих конечных целей всегда пользовались толпой, как благоприятной для них стихией, вооружая ее путем обмана и преступных лозунгов, главным образом, против опасного для них культурного класса населения.
В день своего освобождения или на другой день, не помню, я сидел в своей разгромленной квартире, на Литейном проспекте, № 34, окруженный гостями, скромными чиновниками, узнавшими о моем освобождении и поспешившими выразить мне участие... От моего наблюдения не укрылось, что все они держали себя в моем присутствии значительно свободнее и развязнее, чем прежде, до революции, когда я был в их глазах только "сановником"... Меня шокировала эта тенденция к панибратству со стороны тех, кто еще вчера пресмыкался предо мною, шокировала не из мелочного самолюбия, а потому, что мне было стыдно за них, за попираемое ими человеческое достоинство, за циничное свидетельство их нравственной нечистоты. Своим поведением они доказывали, что способны были подчиняться только силе, проявляя должную аттенцию к начальнику только доколе он оставался таковым... Однако в то же время все они, выражая красноречиво свое участие ко мне, проводили ту мысль, что революция была "неизбежна" и что рано ли, поздно ли, но то, что случилось сейчас, должно было случиться.
– Почему? – спросил я.
– Да как Вам сказать, – ответил один из них, – все, знаете, к тому шло, общая атмосфера была такая...
И, проговорив эти бессмысленные слова, мой собеседник замолчал, оглядываясь на других и ожидая поддержки.
Я с презрением посмотрел на него и подумал: "Неужели вы не чувствуете, что попросту глупы и что вам даже не пристало пускаться в рассуждения на политические темы..." И, глядя на него, я спросил: "А вам известно, кто создает эту "атмосферу", о которой Вы говорите? Создаете ее вы, господа все критикующие, всем недовольные, рассматривающие государственную жизнь под углом зрения ваших маленьких частных интересов и не сознающие того, что для государственного равновесия нужно во имя долга к Родине поступаться ими, когда этого требует государственный разум. Еще вчера было много героев, но куда они исчезли сегодня? Вчера вы придирались к пустякам, возмущались мелочами, громили правительство, обвиняя его в неслыханных преступлениях, не верили ему, не ценили его самоотверженной работы для вашего же блага... Сегодня же предается огню и мечу не только государственное достояние, но даже святыни ваши, а вы молчите... И где те герои, какие бы бросились защищать их, почему сейчас не слышно голосов недовольных, почему все присмирели?! Почему вместо протеста все обращаются в паническое бегство от... горсти жидов и взбунтовавшихся солдат! Окажите сопротивление – и "атмосфера" изменится. Атмосфера – показатель вашего разума и совести..."
Вдруг раздался звонок, и в переднюю вошел какой-то военный, не то солдат, не то офицер. Когда я вышел к нему с вопросом, что ему надо, он учтиво ответил, что хотел бы купить мое пианино и предложил мне 1000 рублей. Вероятно это был один из тех, кто в сопровождении прочих солдат производил обыск в квартире и видел пианино. Сославшись на то, что я не продаю своих вещей, я отпустил его, и он, вежливо поклонившись, ушел, извинившись за беспокойство.
Я вернулся к своим гостям.
Каково же было мое удивление, когда я никого из них уже не застал в квартире. Услышав звонок и увидев серую шинель, они в панике разбежались.
Вот они эти "герои"!
Много шума, наглости, нахальства, но еще больше трусости.
Наглые и смелые при встрече с благородством, они унижались и пресмыкались пред грубой силой и хамством, заслужив презрение даже со стороны большевиков, каких обезоруживало величие подлинного барства, смелое исповедание правды и верность долгу.
П.Барк в своих "Большевических Эскизах" (Луч Света, № 1, стр. 23), описывая зверства большевиков, говорит: "...расстрелы, по-видимому, скоро надоели и приелись, и тогда принялись изобретать новые приемы смертной казни, которые бы сильнее ощущали притупившиеся от постоянных "острых ощущений" большевические нервы. В это время был уже убит Урицкий, который так любил наблюдать расстрелы из своего окна. "Для меня, – говорил этот плюгавый и невзрачный иудей на коротеньких ножках и с отпечатком сатанинской злобы на лице, – нет высшего наслаждения видеть, как умирают монархисты. Я не наблюдал ни одного случая, когда бы у них проявился животный страх пред лицом смерти..."
А такими монархистами были все честные слуги Царя и России, вся Царская гвардия, состоящая из белоручек, спаянных между собой благородными традициями поколений, вся русская аристократия, все честное, смиренное крестьянство, все подлинные "верхи" и "низы", не отравленные ядом "середины".
ГЛАВА 3. Пребывание у сестры. Отъезд в Киев
Каждый из нас привык встречаться в жизни с какими-либо осложнениями, неприятностями и огорчениями, с трудно разрешимыми вопросами и задачами, но все мы в большей или меньшей степени умели бороться с житейскими невзгодами и выходить победителями, с Божией помощью, из этой борьбы. Как ни велики были иной раз такие осложнения, но они лежали на поверхности жизни, не задевали самых основ жизни, не выбивали нас из колеи, не нарушали общего течения жизни, ее содержания и уклада. Когда же вся жизнь превратилась в один неразрешимый вопрос, когда все обычные способы борьбы оказывались непригодными, когда мысль была не только подавлена, но и убита и не разрешалось даже громко думать, когда оторванная от своих идейных основ жизнь превратилась в заботу только о физическом существовании, тогда я растерялся и не знал, что делать с собою и куда укрыться.
Я не знаю, в состоянии ли человек, привыкший к нормальным условиям жизни, вообразить весь ужас насильственного крушения нравственных основ жизни, когда его гонят и преследуют не за преступления и пороки, а за верность нравственному долгу, за исповедание моральных начал в жизни, когда обязывают и жить и думать для зла и во имя его, служить не Богу, а сатане. Страшила меня не перспектива бедности и нищеты, отсутствия возможности честным путем заработать кусок хлеба, а страшило именно это насилие над совестью, эта возмутительная тирания духа, тот ужасающий деспотизм, какой связывал возможность одного только физического существования с изменой долгу совести и правды.
Было очевидно, что приходилось только бежать и бежать из этого ада, воскресившего эпоху Диоклетиана и Юлиана Отступника. Наскоро собрав кое-какие вещи и оставив свою квартиру на попечение прислуги, я бросился к сестре в N-скую губернию.
Недолго я пробыл у сестры.
Революция только разгоралась. Повсюду рыскали агенты ее в поисках избежавших ареста членов правительства и, хотя я и имел свидетельство Керенского о своем освобождении из министерского павильона Думы, но не придавал этой бумажке никакого значения, и очень опасался за сестру в том случае, если бы мое пребывание у нее было обнаружено.
Это опасение, в связи с полной невозможностью приспособиться к условиям новой жизни и чем-либо пригодиться сестре, а также облегчить ей все более возрастающие расходы, вызываемые жизнью и содержанием усадьбы, причиняло мне невыразимые страдания.
Крестьяне, между тем, только входили во вкус революции, смотрели злобно, настроение было враждебное, и общение с ними было невозможно. Я делал попытки говорить с ними на сходах, самовольно ими созываемых, где они с азартом обсуждали начинавшую определяться борьбу между Троцким и Керенским, открыто выражая симпатии большевикам, но скоро оставил эти попытки, сознавая их бесцельность.
Эти симпатии крестьян к Троцкому и все более яркая ненависть к Керенскому заставляли меня не раз задумываться над психологией этого факта. Здесь, конечно, не было ни симпатий, ни ненависти, а была лишь веками унаследованная леность, нежелание разбираться в правде и привычка отдавать предпочтение силе. Если бы брал верх Керенский, то симпатии были бы на его стороне по чисто бессознательному движению в сторону силы, а не правды. Было бы неверно видеть в этом факте только русское бытовое явление. Это явление всеобщее, это результат того малодушия, какое черпает свои корни во лжи, в противоположность героизму духа, вытекающему из родников правды.
Между тем деревенская вакханалия наводила ужас, и мое состояние духа было до крайности подавленным. Привыкнув к строго размеренной жизни, где каждый час был заполнен определенным содержанием, я чувствовал себя несчастным, будучи выбит из привычной колеи жизни, не имея возможности совладать со своим настроением, не позволявшим мне сосредоточиться и управлять своими мыслями, и я то садился за письменный стол, то снова срывался, не зная, куда бежать, и что делать с собою, и как скоротать несносные, тягучие дни...
Ко всему этому прибавлялась неизвестность о завтрашнем дне, страх преследования, неизвестность о судьбе своих близких, друзей и знакомых, я не знал, где они и что с ними.
Однако, оглядываясь теперь на эти давно минувшие дни, я вижу в них выражение все той же премудрости и благости и безмерной милости Божией. В неисповедимых путях Промысла Божия все эти испытания не только имели свой глубокий сокровенный смысл, но и были нужны как вразумление Свыше, как напоминание о забытом долге человека пред Богом, как грозное предостережение о вечности и незыблемости Божеских законов, так дерзко попиравшихся человеком. Было очевидно, что единичные испытания рассматривались только как неизбежное зло жизни, а не как предостерегающий голос Бога, было ясно что для вразумления людей потребовались уже те меры, которые бы указали им на значение в жизни отрицаемой ими благодати Божией, показали бы им, во что превращается жизнь без этой благодати, жизнь, управляемая народовластием, а не боговластием.
И как ни страшны были разыгрывающиеся предо мною события, как ни грозны были будущие перспективы, но, оценивая их с указанных выше точек зрения, я видел в них только карающую, но в то же время и милующую Руку Господню и только в этом единственном сознании черпал силу жить в атмосфере, какая все более сгущалась и делалась все более страшной.
Но и в ниспосылаемых испытаниях Господь сообразуется с силами человека и никогда не налагает их свыше меры.
Чудесно кончились и мои испытания. Совсем неожиданно для себя я получил письмо от одного из своих друзей N.N., извещавшего меня о том, что ему каким-то чудом удалось достать два купе в спальном вагоне для поездки в Киев, что есть одно свободное место, коим он умолял меня воспользоваться, предваряя, что в будущем уже не представится такого случая, так как железнодорожный транспорт все более разрушается, а большевики чинят все большие препятствия к отъезду из Петербурга и скоро никого не будут выпускать больше... Как ни тяжело было покидать сестру, но сознавая, что, оставаясь у нее, я не только обременял ее бюджет, но и подвергал ее риску, я немедленно собрался и 8 апреля выехал вместе с N.N. в Киев, куда и прибыл 11 апреля, застав там мать, сестру и брата, собиравшихся уезжать, как обыкновенно делали, в имение N-ской губернии.
В Киеве не было даже признаков революции, в доме я застал полную чашу, никто не жаловался ни на дороговизну, ни на недостаток продовольствия. С этой стороны Киев резко отличался не только от столицы, но и от N-ской губернии, где дороговизна и отсутствие предметов первой необходимости уже чувствительно сказывались, где спекуляция на этой почве была уже в самом разгаре.
Но отличался Киев от столицы не только в этом отношении. Насколько горячо встретили меня мои родные, настолько злобно и недружелюбно все прочие киевляне. Все они в один голос осуждали Государя Императора и особенно Императрицу и неизменно добавляли: "Вот до чего вы довели Россию!"
Я до крайности горячился, вступая с ними в споры, но встречал не менее горячие нападки и возражения: "Что Вы говорите, причем тут Бьюкенен, какой смысл дружественной и союзной Англии делать у нас революцию?! Ее сделала Германия, сделал ее Распутин, да ваше правительство. Если бы дали ответственное правительство, то ничего бы не было!"
Вот чем забрасывали меня киевляне при каждой встрече со мною! Пропасть между мною и ими была так велика, что мы не могли понять друг друга, и я скоро убедился в бесполезности каких-либо споров. Удивляло меня не это упорство киевлян, а удивляла меня гениальная система жидовской пропаганды, поработившая общественное мнение провинции, удивляло то легковерие, с которым провинция относилась ко всякого рода басням, умышленно распускаемым агентами революции с целью опорочить священные имена Царя и Царицы.
ГЛАВА 4. Пребывание в деревне. Возвращение к сестре
Пробыв в Киеве несколько дней, я вместе с матерью, сестрой, братом уехал в N-скую губернию, в имение брата, где и оставался до конца июня. Старики еще сохраняли воспоминание о моей деятельности в качестве их земского начальника и, делая сравнение настоящего с прошлым, благословляли прошедшие времена и громко проклинали новую власть, засевшую в деревне в форме всякого рода исполкомов. Один из таких стариков едва не подверг меня величайшей опасности, когда, случайно встретив меня на вокзале, не сдержался в выражении знаков почтительности и начал громко прославлять меня в присутствии серых солдатских шинелей, расхаживавших по перрону и тотчас же обступивших меня со всех сторон.
Свою речь старик уснащал такими проклятиями по адресу новой власти, что я не решаюсь воспроизводить их. Однако именно эти проклятия спасли и его, и меня. Толпа все более увеличивалась, жидки кругом высовывали головы и прислушивались, но никто не посмел сделать старику даже замечания. Повторилось лишь то, что обычно повторяется при встрече смелости с трусостью. Жидки постепенно уходили, и скоро густая толпа совсем рассеялась. Когда на перроне остались только я да старик, тогда я шепнул ему, чтобы он не подвергал себя риску, ибо революцию устроили жиды, заполонившие все село и завладевшие волостью, и что всякого рода единичные выступления, как бы ценны ни были, не приведут к цели, пока весь народ не объединится в стремлении свергнуть с себя жидовское иго.
– Да разве мы не знаем, кто тут работал! С этакой-то высоты стянули Царя, нашего Кормильца, – сказал старик и начал вытирать слезы.
Проехал я в свое имение, отстоящее от усадьбы брата в 6 верстах. Там, на участке земли, отведенном мною под постройку монастыря, возвышался только высокий столб, водруженный на месте предполагаемого престола Божиего, и сюда, как мне сказали, ходили старики из соседних сел и заливали этот столб слезами, моля Бога о скорейшей постройке обители. А сейчас и тропинка к нему заросла и везде царило запустение, нагрянувший смерч опустошил крестьянские души, и чуть ли не в каждой избе были драмы и шла отчаянная борьба между отцами и детьми. О монастыре никто и не думал.
Бесконечно тяжело было видеть, как деревня опускалась все ниже и ниже, но еще тяжелее было сознание невозможности прийти к ней на помощь. Сейчас было опьянение свободами, разнузданностью и безнаказанностью, дикое, безудержное глумление над нравственностью и законом, непостижимая сатанинская злоба и, конечно, при этих условиях всякого рода попытки вразумления только разжигали страсти. Толпа точно ждала вызова, жаждала крови и была страшной...
Недолго я оставался в N-ской губернии. Мысль о другой сестре, одиноко боровшейся в N-ской губернии с горем и нуждой, не давала мне покоя. Уверенный в том, что время сгладило уже опасение риска для сестры от моего пребывания у нее, я уехал 26 июня сначала в Киев, где сделал большой запас продовольствия и, нагрузив его в сундуки и чемоданы, поехал в Петербург. Вспоминаю теперь об этом путешествии как о новом чуде Божией милости к сестре. Я не следил за вновь выходящими законами и не знал того, что провоз продуктов продовольствия запрещен под угрозой тюремного заключения. Об этом я узнал лишь в пути, подъезжая к Петербургу, и был до крайности взволнован заявлением, что провозимый багаж тщательно осматривается и нарушители закона подвергаются аресту. Нагруженные зерном, мукою и прочими продуктами сундуки выдавали себя своей тяжестью, и я с великим трепетом следил за попытками вооруженных солдат вскрыть их на Николаевском вокзале. Но и здесь выручил меня мой лакей, вступивший в перебранку с солдатами. Удивительно, что смелость оставалась всегда победительницею и, насколько "власти" становились наглыми при встрече с мягкостью и деликатностью, настолько смирялись при встрече с грубостью и смелостью. Один из солдат, однако, проткнул своим штыком порт-плед, но, к счастью, задел только подушку, а не мешок с зерном.
С чрезвычайными трудностями мне удалось перегрузить свой багаж с Варшавского на Николаевский вокзал, везде были заставы, везде стояли целые роты вооруженных солдат, один вид которых наводил панику, все требовали всякого рода удостоверений и проверки багажа, однако, по милости Божией, мне удалось миновать все эти мытарства и благополучно добраться до сестры.
Я пробыл у сестры с 8 июля по 8 ноября 1917 года.
Это было время непередаваемо тяжелых страданий, вконец обессиливших меня. Я впервые познал, что значит неволя, отсутствие свободы духа. Каждый день погружал меня все глубже и глубже в ту тину, из которой не было выхода... И сестра, не могущая никак привыкнуть к своему гнезду, к этому маленькому имению, недавно ею приобретенному, где были чужие люди, чужие нравы, где ничто не напоминало о родных местах, и я, случайный пришелец, загнанный судьбою в это имение, – мы оба сознавали, что не можем строить никаких планов на будущее, ибо были со всех сторон отрезаны и никуда не могли выехать и что нам нужно примириться с фатально сложившимися условиями и... ждать, ждать без конца, когда эти условия изменятся... И дни проходили за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами, а перемены не было и не предвиделось...
Распущенность деревенская становилась, между тем, все большей, и злоба населения все более возрастала... Село было богатое и даже в мирное время было трудно найти работников для полевых работ. Теперь же, когда пуд сена в Петрограде стоил 40 рублей, а к концу лета продавался уже за 70 рублей, все крестьяне чувствовали себя богачами и не обрабатывали даже собственной земли. Приглашение на полевые работы стало признаваться чуть ли не оскорблением, и в ответ на такие приглашения раздавалась площадная брань. Ничего не оставалось, как лично приступить к непривычному труду, косить и убирать сено и тут же, на месте, продавать его по дешевой цене местным крестьянам, которые выручали за него двойную и тройную цену.
Как-то однажды пришел в усадьбу местный староста, теперь начальник какого-то деревенского исполкома. Раньше робкий и почтительный, он держался теперь свободно, независимо и, хотя и был вежлив, однако же в каждом его движении сказывалось желание подчеркнуть равенство с "господами". Он бесцеремонно вошел на балкон, сел в кресло, положил снятую шапку на стол и чувствовал себя не только гостем, но и почетным гостем. Я снисходительно взирал на эти завоевания революции, ибо знал, что люди старого закала, хотя и были довольны, что "сравнялись" с господами, но границ не переходили и были все же лучшими в селе.
Явился бывший староста к сестре с визитом, как сам объяснил, и до прихода сестры мне пришлось занимать его разговорами...
– Лучше ли теперь, чем было прежде? – спросил я его...
– Греха таить нечего, – ответил он, – раньше работать приходилось больше, а выручать меньше, а сейчас наоборот, работаешь меньше, а получаешь больше...
– А сколько у вас десятин? – спросил я.
– Двенадцать, – ответил он. – Да обрабатываю я только четыре, а восемь гуляют, потому что надобности нет их обрабатывать...
– Как нет надобности, – удивился я, – только ведь и слышишь крики, что земли мало?
– Оно, может быть, и точно, что мало земли в губерниях хлебородных, а наша N-ская губерния кормится только сеном, какое мы и свозим в Питер, а сейчас десятина в два покоса дает чуть не 10.000 рублей. Тут, значит, мои сыновья и заявили мне, что не хотят работать, ибо одной десятины на прожиток хватает, ну а я сам не справлюсь с двенадцатью, так она задаром и пропадает...
– А почему это сено так сильно вздорожало? – спросил я старосту.
– Да кто же его знает, – ответил он, – теперь все стало дорого, мужички даже перестали и продавать, чтобы не продешевить, теперь что ни день, то новые цены. Повезут воз, другой в Питер, выручат целую уйму денег, и не пересчитаешь даже, по прежнему времени на два года всему селу на прожиток бы хватило, ну а остальное, понятно, приберегут, чтобы продать после, когда цены поднимутся. Теперь у каждого столько сена, что и девать его некуда, даже портиться начало, под дождем мокнет, в сараях не помещается.
– Потому и стало сено дорого, – объяснил я, – что не только ваши сыновья не хотят обрабатывать остальных восьми десятин, но и все прочие крестьяне не хотят работать. Дорого лишь то, чего нет, а чего много – то стоит дешево. Чем меньше вы будете косить и чем больше будете припрятывать свое сено, тем дороже оно будет. Но точно так, как поступаете вы с сеном, так поступают в других местах со всеми прочими товарами и, если это будет продолжаться, то вы все поумираете от голода и сколько бы миллионов у вас ни было, но вы и кусочка хлеба за них не купите. Одним сеном вы не проживете, кроме сена вам нужен и кусок хлеба, и масло, и пшено, и сахар, и соль, нужно иметь и пару сапог, и гвоздь в хозяйстве... А вот уже теперь ничего этого нет, ибо все выжидают, пока цены еще более повысятся и своего товара не продают. Дождетесь и вы того, что накопленные вами деньги ничего не будут стоить и вы сами повыбрасываете их за окно...
– Да что и говорить, – ответил староста, – это точно может случиться, но опять-таки, коли фунт керосина стоит сейчас тысячу рублей, то как же продавать сено по прежней цене. Тут и тянешься за другими и сам набиваешь цену на свой товар, прости Господи...
Противно было видеть в лице этого уже старого человека такие суждения. Он сравнивал прошедшее с настоящим лишь с точки зрения своих личных интересов, он ни одним словом не обмолвился ни о Государе, ни о России; жалуясь на дороговизну жизни, он не учитывал, что такая дороговизна обусловливалась именно тем, что его сыновья не желали обрабатывать остальных восьми десятин, что примеру его сыновей следовали все прочие крестьяне, озабоченные только выгодной продажей сбываемых ими продуктов и увеличением их стоимости. Он, может быть, даже со злорадством смотрел на то, как переменились роли, как интеллигенция спускалась все ниже и ниже, превращаясь в чернорабочих, а крестьяне возвышались все выше и выше, превращаясь в "господ", щеголяя в шелках и бархатах, как деревенские девки стали носить высокие желтые ботинки на тоненьких каблуках, а парни – высокие лакированные ботфорты... Роли действительно переменились, с той лишь разницей, что у вновь народившихся господ, вместо прежнего либерализма и любви к мужичку, стала наблюдаться непередаваемая злоба и ненависть к интеллигенции, зверская жажда мести, то отвратительное хамство, какое явилось наиболее характерной чертой революции 1917 года.
ГЛАВА 5. Тревоги и предчувствия. Отъезд в Киев
Непередаваемо тяжело протекала моя жизнь у сестры. Мы каждый день обсуждали вопрос о том, что делать и как выйти из того тупика, в котором очутились. Мы сознавали, что поддерживать свое существование физическим, полевым трудом, превратиться в хлебопашцев и чернорабочих мы оба были не в силах, но как выйти из этого подневольного труда, из этого отчаянного положения – не знали.
Уезжать?! Но как, если мы были отрезаны буквально от всего мира, если железнодорожное сообщение было разрушено и поезда не ходили, если самый вопрос о том, когда придет поезд на нашу станцию вызывал усмешки у станционной прислуги. Но если бы даже и можно было уехать, то как ликвидировать усадьбу или на кого ее оставить, откуда достать средства на проезд, как тронуться с места, когда на руках у сестры был неизлечимо больной ребенок, когда впереди буквально ничего не было видно и никаких планов и расчетов нельзя было строить?!
Между тем мое самочувствие становилось все более тягостным и я знал, что не вынесу его больше, а с октября я стал ощущать такую непостижимую, непонятную душевную тоску, такую тревогу, какая, точно насильно, выталкивала меня из усадьбы все равно куда, лишь бы только не оставаться в ней.
Наступил день праздника Казанской Божией Матери, 22 октября, и этот день объяснил мне причины этой тоски и тревоги.
В ночь на 22 октября я видел сон, окончательно надорвавший мои силы. Мне снилось, что я в Киеве у постели больной матери... Увидя меня, мать привстала на постели, подозвала меня к себе, бережно сняла с себя нагрудный шейный крестик, надела его на меня, перекрестила и навеки со мной простилась.
О, как ужасно было пробуждение, как колотилось сердце!
– Если мы сейчас же не бросим всего и хотя бы пешком не поплетемся в Киев, – сказал я сестре, – то мы не застанем мать в живых... Сестра в бессилии опустила руки...
Снова начались прежние обсуждения вопроса о том, как выбраться из усадьбы, однако было совершенно очевидно, что для таких обсуждений не было почвы и что нужно было или томиться на одном месте, или найти в себе решимость броситься в пучину неизвестного, игнорируя все обычные человеческие расчеты, всецело отдаваясь на волю Божию.
Страшный сон предсмертного прощания с матерью, между тем, повторялся три дня подряд, и я видел ту же картину со всеми мельчайшими подробностями каждую ночь, вплоть до 24 октября. Я уже не мог долее совладать с собою и ходил каждый день за справками на станцию, но мне говорили, что поезда изредка следуют из Петербурга на Москву, но на нашей станции не останавливаются и что нужно ехать в Петербург, чтобы там заблаговременно заручиться билетом и ждать своей очереди для отъезда в Москву. Эти ответы убивали меня, ибо я знал, что большевики никогда бы не выпустили меня из Петербурга, что везде были заставы, проверявшие паспорта, и притом неизвестно было, сколько времени нужно было бы дожидаться своей очереди для отъезда из Петербурга и где жить это время? Вернуться же на свою квартиру я, конечно, не мог, тем более, что она была уже кем-то занята.
Наступил, наконец, день 8 ноября 1917 года.
Не имея больше сил и наскоро сложив свои вещи, я вырвался из занесенной сугробами снега усадьбы и поехал на станцию, моля Бога о чуде. На станции никого не было. Никто не ждал поезда... Было холодно и темно. Отыскав священника, настоятеля храма, расположенного у самой станции, я просил его отслужить напутственный молебен. И Господь услышал молитву смиренного пастыря. Чудо Божие совершилось... Вернувшись на станцию, я услышал шум приближающегося товарного поезда, к которому был прицеплен спальный вагон международного общества, и, не успел поезд остановиться, как я вскочил вместе со своим лакеем в этот вагон, благодаря Господа за дарованную мне милость.
На другой день утром я был уже в Москве.
Какой ужас представляла собой Москва! Проехав по центральным улицам с одного вокзала на другой, я увидел такие ужасные следы разрушения, которым бы никогда не поверил...
Огромная часть магазинов, главным образом ювелирных, была разгромлена, и остатки уничтоженных и разграбленных вещей валялись на мостовой... Там были изломанные части массивных бронзовых каминных часов, футляры от столовых часов и драгоценных ювелирных изделий, изломанная магазинная мебель, огромные битые стекла витрин и прочее. Значительная часть домов была разрушена тяжелыми снарядами, а угол великолепного здания гостиницы "Метрополь" на Театральной площади был срезан точно острым ножом и обнажал угловые комнаты всех этажей гостиницы... Огромные опустошения были и в Кремле, и на майоликовом куполе храма Василия Блаженного зияло отверстие величиной в сажень, причиненное брошенным в храм снарядом. Москва, как передавали, обстреливалась со всех сторон, главным образом с Воробьевых гор.
Я приближался к Брянскому вокзалу, не зная, найду ли я там поезд, отходящий в Киев, и где и как долго мне придется ждать его...
Я видел подле вокзала толпу в несколько сот людей, ночевавших на улице по неделям в ожидании поезда, выбившихся из сил, голодных и полураздетых... Все стремились на юг, преимущественно в Киев, где не иссякло еще продовольствие, где еще оставались следы нормальной жизни, где еще не было случаев голодной смерти. И вид этой измученной ожиданием толпы пугал меня. Не оставалось никакой надежды даже протиснуться сквозь эту толпу, тем меньше найти место в вагоне. При виде приближавшегося поезда все бросались на ходу, кто на крышу вагона, кто на паровоз, вагоны брались штурмом и побеждала сила. Я стоял в стороне и, глядя на эти картины, недоумевал, что делать. "Господи, – шептали мои уста, – Тебе всё возможно, доведи же меня до Киева, к умирающей матери."
В этот момент кто-то дернул меня за рукав. Лакей мой шепотом попросил у меня 50 рублей и, передав их тут же какому-то солдату, сделал мне знак, чтобы я следовал за ним. Протискиваясь через толпу, мы кое-как выбрались из вокзала и, пройдя значительное расстояние, очутились у какого-то поезда, стоявшего на запасном пути.
– Вот этот поезд, – сказал солдат, – пойдет сегодня в 6 часов вечера на Киев. Занимайте купе и запирайтесь в нем...
И опять совершилось чудо милости Божией... Неизвестно откуда появился железнодорожный кондуктор, подтвердивший слова солдата, и усадил меня с лакеем в купе, где мы оставались около трех часов, прежде чем поезд двинулся в путь.
Но что творилось на перроне, когда поезд подошел к нему – описать невозможно... Я слышал только душу раздирающие крики, но не имел сил выглядывать из-за опущенной шторы в окно купе. Лакей же мой, не отрываясь, смотрел в щелку, боясь приподнять занавеску, и докладывал мне о всех ужасах происходящего, где один давил другого, где озверевшие люди, точно охваченные общей паникой, спасали только самих себя, не думая о других... Совестно было чувствовать себя в безопасности, занимая вдвоем целое купе, при виде этих ужасных картин. Однако не успел поезд проехать нескольких минут, как в купе стали стучаться, и я вынужден был открыть его. Огромная толпа людей, стоявших в коридоре, хлынула в него, и в купе, предназначенное для четырех человек, вошло шестнадцать. Давка была так велика, что ни сесть, ни встать, ни тем более выйти из вагона не было уже возможности. Но эта же давка принесла пользу в том отношении, что никакая проверка документов не была возможной. Тем не менее каждый из нас находился под страхом такой проверки, ибо у большинства или вовсе не было никаких документов, или, что еще хуже, были документы царского правительства, что признавалось преступлением, влекущим за собой расстрел. Особенно опасно было положение офицеров, охота за которыми не прекращалась, которых везде разыскивали и, после безжалостных мучений, предавали смертной казни. Не в лучшем положении находился и я, у которого был только царский паспорт с означением служебного положения и придворного звания. Когда мы проехали несколько станций, поезд среди поля остановился и началась проверка документов...
Боже, как билось мое сердце!.. Я молил о чуде и ждал чуда... И диавол, разинувший свою пасть, чтобы поглотить меня, снова был отогнан Милосердным Господом непостижимо, чудесно...
Проверка производилась не одним лицом, а несколькими. Все это были вооруженные с ног до головы большевики, с зверскими, страшными лицами, жестокие и грубые, но столь же нелепые и глупые.
У моего лакея было два паспорта, один просроченный, только случайно неуничтоженный, какой хранился у него, другой новый, находившийся у меня. Когда большевик-контролер потребовал мои документы, то я без всяких задних мыслей вручил ему сперва паспорт лакея, с тем чтобы затем предъявить свой. Повертев в руках паспорт лакея, большевик молча вернул его мне обратно. В этот же момент другой большевик в резкой и грубой форме обратился за паспортом к моему лакею. Тот смешался, струсил и вручил ему свой просроченный паспорт. Большевик, подержав паспорт в руках, вернул его лакею, не заметив, что паспорт просрочен. Надобности в предъявлении моего паспорта не было, и я мысленно возблагодарил Господа за свое спасение.
Миновав еще несколько подобных мытарств, я наконец благополучно доехал до Киева.
Как громко стучало мое сердце, когда я подъезжал к родному дому, как отчетливо воскресал в моей памяти страшный сон, как велика была уверенность в том, что я уже не увижу более свою бесценную мать, своего бесконечно дорогого и верного друга...
Глава 6. Кончина матери
(† 30 октября 1917 г.)
Трепетной рукой я позвонил и, войдя в переднюю, не раздеваясь, бросился к матери, но... как вкопанный остановился на пороге гостиной... Повитые черным крепом, стояли еще неубранные ставники. Они сказали мне все... Невыразимой болью сжалось мое сердце. Сон не обманул меня, подготовив к страшному удару, и, однако, я чувствовал, что этот удар был слишком велик и окончательно добил меня. Волнение было так велико, что я испытывал физическую боль и судорожно сжимал сердце, готовое, казалось, разорваться. В полном изнеможении, еле дыша, я опустился на кресло. В этот момент вышла ко мне, вся заплаканная, в глубоком трауре, моя сестра.
– Еще в конце октября, как только маме стало хуже, я послала тебе телеграмму, а перед тем несколько писем, но, верно, ты не получил их...
– Я ничего не получил, – ответил я упавшим голосом.
– Еще летом я знала, что мама не переживет зимы, – продолжала сестра. – В сентябре я видела удивительный сон, после которого не находила себе покоя. Мне снилось, что мама собиралась куда-то уезжать и делала распоряжения пред отъездом. Так как без меня мама никогда не ездила, то и я начала укладывать свои вещи и собираться в путь. Заметив это, мама неожиданно сказала мне: "Нет, тебе еще нельзя ехать, ты подожди, меня зовет святитель Иоасаф, к которому я еду, а тебе нужно еще остаться". Меня очень встревожил этот сон, и я, не говоря никому ни слова, все время присматривалась к маме и с напряженным вниманием следила за ее здоровьем... Но ухудшения я не замечала, напротив, мне казалось, что мама чувствовала себя даже крепче и бодрее, чем раньше. Вдруг, в средних числах сентября, мама пригласила к себе нашего священника о. Николая и управляющего А.Н. Игнатовского и написала свое завещание, которое они, как свидетели, и подписали. Все это меня взволновало, но, глядя на маму и не замечая никакой перемены в здоровье, я понемногу успокаивалась. Прошло недели три. Мы стали собираться в Киев на зиму. Каким-то чудом Божиим удалось достать отдельное купе и мы благополучно доехали.
По приезде в Киев мама чувствовала себя настолько хорошо, что даже не обращалась к доктору, однако я не могла не заметить, что с половины октября мама точно уже совсем ушла из мира, ничем не интересовалась и проявляла какую-то удивительную апатию ко всему окружающему. В то же время мама говорила, что устала жить... Видимо, все происходящее вокруг причиняло маме жестокие душевные страдания... По отдельным отрывочным словам можно было заключить, что мама не только не боялась смерти, а как будто бы даже желала ее. Апатия все более увеличивалась, и временами мама впадала в сонливость, однако ни на что не жаловалась и никаких болей не испытывала. Дня за два до смерти мама пожелала исповедаться и причаститься, а в ночь на 30 октября заснула навеки, безболезненно и тихо... Все ждала тебя и часто вспоминала. Мы тоже ждали и потому не хоронили. Прождали ровно 10 дней и похоронили только третьего дня, 9 ноября, думая, что тебе так и не удастся приехать. Мы и опасались ждать долее, ибо революция разгорается, и неизвестно, что будет дальше. Уже на другой день смерти мамы начали разрываться тяжелые снаряды в городе, верно и с Киевом будет то же, что и с Москвою. Замечательно, что за 10 дней не произошло никаких наружных изменений тела. Мама, точно живая, лежала в гробе, и в Церкви даже громко говорили, что, верно, покойница чем-либо угодила Богу, если даже спустя 10 дней после смерти лежит в гробе как живая.
В это время вошел брат и показал фотографический снимок матери в гробе. Я едва не лишился чувств и должен был сделать величайшее усилие, чтобы сдержать себя и скрыть охватившее меня волнение. Тот же час я побежал в Покровский монастырь, не успев даже расспросить о месте погребения матери. Какая-то монахиня указала мне могилу и, заливаясь горячими, неудержимыми слезами, я бросился на могильную насыпь, отдаваясь своему беспредельному горю...
Вот когда мы начинаем ценить своих родителей, думал я, изливая пред лицом Всеведущего Бога свое горе, упрекая себя за свои вольные и невольные грехи против матери, за свою, быть может, недостаточную почтительность и за невнимание, за то, что я, ее любимец, жил почти всегда вдали от родного дома и не давал матери того, чего она ждала от меня...
И все то, мимо чего я проходил, точно не замечая его, все мельчайшие черты характера матери и особенности ее облика, все то, пред чем я втайне восхищался, но редко высказывал, – все это в мгновение ока осветилось в моем сознании необычайным ослепительным светом, и я спрашивал себя, каким же образом могло случиться, что ни я, ни другие не замечали при жизни матери того сияния святости, коим она, смиренная, была окружена, той правды Божией, какую она собою воплощала... Я вспомнил о той кротости и непередаваемом никакими словами смирении матери, которыми так жестоко злоупотребляли окружающие, не замечавшие хозяйки в ее собственном доме, о ее невзыскательности и нетребовательности, вспомнил о том самоотвержении, с каким мать несла бремя воспитания своих детей, отдав им свое здоровье, вспомнил ее беспрерывные, нескончаемые болезни, ее поразительное одиночество, эту жизнь затворницы, не знавшей ни выездов, ни приемов, ни развлечений, а погруженной в какой-то невидимый, внутренний, никому не ведомый мир, связанной какой-то очень глубокой, духовной работой...
Я не видел еще человека, который бы так мало соприкасался с землей, с внешностью... Даже затворники и подвижники казались мне ближе к земле, чем моя мать, которой были чужды какие бы то ни было страсти или земные движения и интересы и какая жила в какой-то совершенно особой сфере.
Насколько мать глубоко скорбела при встрече своих детей с теми или иными огорчениями и испытаниями, настолько равнодушна была к их радостям. Может быть, такое равнодушие вытекало из сознания непрочности земных радостей и успехов, может быть, выражало собой убеждение, что радости портят человеческую душу, но только успехами своих детей, а особенно так называемыми служебными успехами моего брата и моими мать не только не интересовалась, а даже в точности не знала, какое служебное положение мы занимали... Ее внимание было сосредоточено только на культуре духа, на развитии духовных основ миросозерцания, над чем мать так много трудилась, являя своею жизнью исключительный пример для подражания, закладывая в природу каждого из нас высокие понятия о долге и нравственной ответственности, развивая религиозную настроенность и сознание обязанностей к Богу и ближнему.
И, между тем, даже эта сложная, духовная работа, требовавшая, казалось, особенной сосредоточенности и внимания, протекала в чрезвычайно нежных, тонких, неуловимых формах, где не было ни поучений, ни наставлений, ни упреков, ни замечаний. Отношение матери к тому или иному явлению или факту только чувствовалось окружающими, но вовне не выражалось, и кто был незнаком с глубиной ее натуры, тот объяснял такое отношение равнодушием или безразличием к окружающему, тогда как там сказывалось только прирожденное изящество духа, только духовная красота и нравственное величие, только опасение задеть другого даже замечанием. И, глядя на свою мать, я часто думал о том, какая чрезвычайная сила кроется в смирении и как часто молчание могущественнее красноречия и внешних натисков, как часто один только взгляд матери обесценивал длиннейшие тирады и речи окружавших, имевшие убедительную внешность, но ложное основание.
Никто никогда не видел мою мать в состоянии раздражения, или гнева, или недовольства, никто не видел ее и радостной, и веселой. Она воплощала собою тихую грусть, какое-то неземное спокойствие духа, ничем невозмутимую кротость и безграничное смирение и никогда ничем не подчеркивала своих духовных преимуществ пред другими – и, может быть, потому, что искренно их не замечала. Она учила других, казалось, одним только фактом своего существования.
Нужно ли говорить о том, до чего велико было духовное одиночество матери, как мало понимали ее даже близкие люди, как неверно расценивался ее облик окружавшими, неспособными не только подняться до ее духовной высоты, но даже осмыслить, понять ее!
Вне духовной области у матери не было никакого общения ни с детьми, ни с окружающими. Мать очень редко выходила к гостям брата или сестер и по целым дням просиживала в своей комнате, занимая обычно, как в Киеве, так и в имении, самую удаленную комнату в доме. Личных знакомых мать не имела вовсе и никого не принимала. Однако при всей своей крайней отчужденности от жизни мать поражала окружавших своей наблюдательностью и глубиной прозрения. Ее мысли были всегда до того глубоки, что, казалось, граничили даже с прозорливостью, ее предостережения – всегда безошибочны, советы всегда мудры. Здесь сказывалась столько же наследственность и образование, сколько и та внутренняя, духовная работа, какая давала в результате удивительное знание человеческой души и развивала интуицию.
Особенную любовь мать имела к угоднику Николаю, в день памяти которого, 6 декабря, родилась и под небесным покровом которого жила.
Музыка и чтение были ее единственными занятиями, доступными для внешнего наблюдения... Мать великолепно играла на рояле, однако в последние годы, обессиленная болезнями, сокрушавшими ее хрупкий, нежный организм, все реже и реже подходила к роялю и, как тень, двигалась по комнатам, едва прикасаясь к полу.
Какой богатый материал для назидания являла собой внутренняя, сокровенная жизнь моей матери, как много можно было бы написать, останавливаясь только на отрывочных словах или вскользь брошенных замечаниях, отражавших такую неисчерпаемую глубину мысли!
Однажды мать сказала мне: "Не ищи друзей, не найдешь и врагов!" Эти слова, сказанные в пору моей юности, которая так неудержимо тянется к дружбе и ищет ее, показались мне не только жестокими, но даже противоречащими евангельскому завету любви к ближнему. И нужно было много внутренней работы над собой, чтобы впоследствии уразуметь всю глубину этих слов, коими отрицалась не любовь к ближнему, а любовь к себе, стремление быть любимым, жажда популярности и славы людской, все то, что приобреталось ценой измены правде, служением общественному мнению в ущерб высоким требованиям морального долга.
Одна эта черта облика матери, эта исключительная правдивость и честность с самой собой, ставили ее в моих глазах на недосягаемый пьедестал и возводили на исключительную высоту.
Пред моими глазами проходило много разных людей – от простых и скромных до знатных, величавых сановников, но, рассматривая их с этой точки зрения, я не замечал ни в ком из них той внутренней правды, какую воплощала собой моя смиренная мать. Все они были не только хорошими, но и очень хорошими людьми; но все имели почти одну и ту же слабость: им хотелось казаться еще лучше, чем они были; все они, в большей или меньшей степени были заражены тем мелким тщеславием, какое заставляло их оглядываться на общественное мнение и интересоваться тем, что о них говорят или пишут. Не замечая того, все они невольно делали и маленькие уступки общественному мнению и, конечно, грешили против требования внутренней правды. Никто из них не был свободен от желания быть любимым и ценимым и, может быть, все в равной мере стремились к этой цели гораздо ревностнее, чем к защите принципов и чистоте помыслов.
Но моя мать составляла разительное исключение на этом бесконечно широком фоне людей. Легко констатировать такой факт, но сколько внутренней правдивости и чистоты, сколько нравственного величия нужно для того, чтобы рождать такие факты.
Вся жизнь моя от колыбели и до последних дней, так тесно и неразрывно связанная с жизнью матери, проходила здесь, у ее могилы, в моем сознании, и я чувствовал такую невознаградимую ничем потерю, такое горе и одиночество, что не видел уже смысла в своем дальнейшем существовании... Остаться навсегда в этом монастыре, упросить игумению дать мне в ограде монастырской келлию, превратиться в неведомого странника, приходить каждый день на дорогую могилу, беречь ее и молиться – эти мысли были единственными, за которые я судорожно хватался. Да простит мне читатель, что я невольно завел его в интимную область моих личных переживаний, но сделал я это без умысла, без намерений скрытых, а только для того, чтобы до конца остаться правдивым. Правда же обязывает к искренности и не боится подозрений в тенденциозности. Нет в моих речах и писаниях тенденций, и я гнушаюсь ими, ибо всякая тенденция, каковы бы ни были ее цели, есть не только ложь, но и ложь приукрашенная, замаскированная, следовательно, еще хуже, ядовитее лжи. Я знаю, что о своих родителях не принято ни говорить, ни писать, дабы не прослыть нескромным, но пусть уж я прослыву нескромным, лишь бы только мой читатель вместе со мной вознес бы молитвенный вздох к Отцу Небесному: "Господи, упокой душу почившей рабы Твоей Екатерины!"
Мать! Есть ли имя более дорогое, более святое на земле, и как мало ценят люди это имя, как скоро забывают о нем и о своих вечных обязательствах к нему!
Измученный и обессиленный, я поздно вечером вернулся домой.
На другой день утром я был до крайности изумлен, увидев в окно подъехавшую к подъезду дома сестру, прибывшую из N-ской губернии. Мне было непонятно, каким образом сестра, так долго мучившаяся сознанием невозможности вырваться из своей усадьбы, могла внезапно очутиться в Киеве, каким образом ей удалось преодолеть все ужасы переезда?! Из рассказов выяснилось, что, получив на другой день после моего отъезда запоздавшую телеграмму о смерти матери, сестра немедленно же отправилась в Петербург, откуда ходили еще поезда прямого сообщения в Киев. В Киеве сестра оставалась до конца праздников Рождества Христова, а затем, вместе с нашей общей знакомой, на редкость энергичной сестрой милосердия княжной О.И. Лобановой-Ростовской, уехала обратно в свою усадьбу, где и осталась. Эта усадьба спасла сестру от тех ужасов, каким мы подверглись вскоре после ее отъезда, когда Киев, сделавшись ареной борьбы между петлюровцами и большевиками, стал обстреливаться со всех сторон из тяжелых орудий и бесконечное количество раз переходил из рук в руки, когда большевики воздвигли гонение на Церковь и началось поголовное истребление христианского населения Киева в лице его виднейших представителей, когда в течение трех месяцев большевики зарубили и расстреляли десятки тысяч интеллигенции...
Пришел час, когда я вместе с сестрами и братом должен был увидеть в величайшем горе от утраты матери лишь новое знамение милости Божией к нам и к незабвенной матери, какую удалось еще похоронить с соблюдением всех обрядов Православия и отслужить сорокоуст. С приходом же большевиков и воздвигнутым жидами гонением на Церковь не только богослужение было уже невозможно, но были запрещены даже погребальные процессии, какие обстреливались большевиками, нельзя было даже достать гроба и умершие бросались в могилу без отпевания.
ГЛАВА 7. Киев
Провинциальное общество, привыкшее, как я уже отмечал, только критиковать и видеть в Петербурге источник всего зла России, относилось с крайним недружелюбием к каждому представителю власти, совершенно не разбираясь в сложных концепциях государственной жизни и менее всего предполагая, что провинция, в лице своей либеральной интеллигенции и печати, составляла едва ли не главнейший тормоз в деле всяческих государственных начинаний и проведения их в толщу жизни.
Не составляли исключения в этом отношении и киевляне.
Один только мудрейший А.С., глубокий ученый и мыслитель, автор произведений, ставших пророческими, занимал среди киевлян особое место. Он не только видел истинные причины всего вокруг происходящего, но видел в переживаемых событиях буквальное осуществление своих предвидений и предостережений, оставляемых в свое время без внимания. С того же момента, когда эти предвидения, являвшиеся в сущности лишь выводами не зараженного иудаизмом ума и выражением глубокого знания истории, стали сбываться, дом А.С. сделался центральным местом, куда стекалось киевское общество, все более тесно окружавшее мудрого хозяина.
Киев в это время еще не был во власти большевиков, и экономическая жизнь протекала в нем сравнительно нормально. Но в отношении политическом город представлял собой нечто до крайности нелепое, ибо находился в руках так называемых "украинцев", бездарных и глупых людей, мечтавших о самостийной "Украине" и не знавших ни истории Малороссии, ни того австрийско-польского русла, из которого вытекала самая идея украинизации Малой Руси. Царил неимоверный хаос в речах и убеждениях, и над Киевом доминировала глупость, осуществляемая "Радою", возглавляемой австрийским агентом профессором М.Грушевским и его правительством. Трудно было себе представить нечто более бессмысленное, и стыдно становилось за окружавших.
Тем не менее, эта бессмыслица являлась, по сравнению с большевичеством, меньшим злом, и киевляне даже содействовали закреплению идеи "самостийной Украины", влагая в это понятие иное содержание и допуская такую "самостийность" лишь как временную меру, неизбежную для защиты Малороссии от большевической заразы. Конечно, вожаки идеи были иного мнения, но разделяли их убеждения или глупые, или же подкупленные ими люди.
По приезде в Киев я застал работу "правительства" по украйнизации города в самом разгаре, но даже не был удивлен, увидев, что такая работа и началась и кончилась только заменой городских вывесок на русском языке "украинской мовой", рождавшей крайне нелепые сочетания слов и выражений и вызывавшей смех. На нечто более серьезное глупая "Рада" была, очевидно, неспособна и киевляне снисходительно взирали на ее эксперименты, считая их вполне безобидными и нисколько не угрожающими государственному отделению Малороссии от Великороссии.
Мало-помалу в Киев стали стекаться все те счастливцы, коим удалось вырваться из Петербурга и Москвы. Первым прибыл митрополит Киевский Владимир, и понадобилось только несколько дней для того, чтобы он услышал имя А.С. и стал бы к нему ездить за советами и наставлениями. Увы, визиты эти оказались уже запоздавшими. В свое время, несколько лет тому назад, я усиленно распространял в Петербурге книжку А.С. "Происхождение и сущность украинофильства" и, вручая ее министрам и членам Государственного Совета, был и у митрополита Владимира, усердно прося его ознакомиться с ее содержанием. Однако книжку откладывали в сторону и никто ее не читал, об авторе никто раньше не слыхал, и имя его никому ничего не говорило.
Теперь же митрополит Владимир воочию убедился в значении этой книжки, ибо увидел буквальное осуществление предвидений автора.
Положение митрополита становилось с каждым днем не только все более сложным, но и угрожающим. В связи с общей украйнизацией начались и смуты в церковной ограде, к митрополиту предъявлялись требования о разрешении совершать богослужения на украинской мове, не только украйнофильствующие миряне, но и пастыри становились к нему в оппозицию и митрополит переживал тяжелые дни.
Я навестил Владыку.
Не высказывавший и раньше радушия, митрополит принял меня сдержанно. Как и раньше, так и теперь, я не интересовался причинами такой нелюбезности и, далекий от созерцания его отношения к себе, стал рассказывать митрополиту о Киеве, его политическом настроении и высказывать свои соображения о положении...
Митрополит довольно рассеянно слушал меня, и казалось, что его мысли были заняты чем-то другим... Несколько вскользь брошенных замечаний сказали мне, что Владыка иначе оценивает события и разделяет общую точку зрения тех, кто винил в происшедших событиях правительство и бюрократию. Я с недоумением смотрел на митрополита, удивляясь тому, что Первоиерарх и первенствующий член Синода выделял себя из этого разряда людей, создававших линии государственной жизни и проводивших их в жизнь, и своими словами подписывает себе приговор. Вдруг, митрополит точно очнулся и неожиданно сказал мне: "Я никогда не прощу вам, что вы возвели епископа Черниговского Василия[1] в сан архиепископа"...
Я был изумлен до крайности его словами и горячо возразил митрополиту:
– Вот уж не ожидал такого упрека. Наоборот, до этого момента, до этих Ваших слов я был убежден, что это Вы сделали, а не я. По крайней мере, на мой вопрос, каким образом епископ Черниговский мог получить такую награду в тот момент, когда говорилось об удалении его на покой, мне отвечали, что он Ваш племянник, носит Вашу фамилию "Богоявленский" и что получил сан архиепископа не по своим, а по Вашим заслугам...
Митрополит Владимир, в свою очередь, чуть не вскрикнул:
– Какой он мой племянник, однофамилец только и больше ничего...
– Если так, – ответил я, – тогда вдвойне необходимо разъяснить это недоразумение и доказать Вам, что я не принимал ни малейшего участия в награждении епископа Василия, чему не сочувствовал и против чего бы возражал, если бы меня запросили. В прошлом году член Думы В.П. Басаков, встретив меня случайно в кулуарах Государственной Думы, начал усердно просить меня о содействии к возведению епископа Василия Черниговского в сан архиепископа. Уже тогда я имел крайне неодобрительные отзывы о епископе, зафиксированные целым рядом дознаний, хранящихся в Синодальном архиве... Тем не менее, В.П. Басаков вручил мне не то докладную записку с перечнем заслуг епископа Василия, не то прошение, покрытое массой всевозможных подписей, среди которых, однако, его подписи не было. Прочитав это прошение, я сказал В.П. Басакову: "С Вами я уже давно знаком, и нет у меня причин не доверять Вашей рекомендации, но из подписавших прошение я никого не знаю. Если Вы искренно убеждены в заслугах Преосвященного Василия, тогда зачеркните все эти ничего не говорящие мне подписи, а подпишитесь сами на прошении, и я дам ему ход".
В.П. Басаков очень смутился и взял свое прошение назад, а потом даже смеялся, рассказывая, что встретился неожиданно с Соломоновским приговором. Это было незадолго до назначения меня товарищем обер-прокурора Святейшего Синода. Получив назначение и не вступая в должность, я, как Вам известно, уехал в Белгород, а в мое отсутствие и состоялся доклад обер-прокурора о возведении архимандрита Нестора в сан епископа Камчатского, а епископа Василия в сан архиепископа, но я даже до сих пор не знаю, кто об этом позаботился. В Синоде же возведение епископа Василия в сан архиепископа объяснялось его родством с Вами, а архимандрита Нестора в епископы – ходатайством митрополита Питирима. В справедливости моих слов нетрудно убедиться, взглянув на дату Высочайшего утверждения докладов Синодального обер-прокурора...
– Вот как, – удивился митрополит, – а я думал, что здесь было Ваше участие.
– Нисколько; те, кто утверждал Вас в таком предположении, только прикрывались моим именем.
Так вот чем объяснялась сдержанность и даже холодность отношения ко мне митрополита Владимира... Стало вдвойне обидным сознание, что даже старцы-монахи были способны носить в своей душе тайное недружелюбие и недоброжелательство, вместо того, чтобы быть простыми, откровенными и прямодушными. После этого визита я уже более не видел митрополита. 25 января следующего 1918 года он был убит большевиками.
Зверства большевиков в Петербурге, в Москве и в центральных губерниях России все более увеличивались, и на фоне творимых ими ужасов стали вырисовываться совершенно ясные контуры той системы, какая имела в виду только одну цель – истребление христиан, цель, давно известную каждому мало-мальски знакомому с "еврейским вопросом".
В связи с этим Киев стал все более наполняться беглецами из Петербурга и Москвы, или, иначе, из так называемой "Советской России". Правда, и Киев шел быстрыми шагами навстречу большевикам, и киевские жиды предвкушали близость победы и до крайности обнаглели, но все же здесь еще не было ни "чрезвычаек", ни массового избиения христианского населения, а царствовала пока только глупая "Рада", не настолько крепко себя чувствующая, чтобы перейти к открытому террору.
Наш старинный и уютный дом-особняк вскоре приютил в своих стенах моих петербургских друзей и знакомых. Первым прибыл товарищ министра Императорского Двора граф М.Е. Нирод с женой Софией Феодоровной, рожденной Треповой, сестрой жены Юлией Феодоровной Суходельской и сыном, затем мой бывший сослуживец статс-секретарь Государственного Совета, гофмейстер Михаил Николаевич Головин с женой. Ко времени приезда последнего граф М.Е. Нирод, проживший в нашем доме недели две, успел найти себе квартиру и М.Н. Головин занял его помещение. Постепенно стали прибывать новые лица, и скоро наш дом увидел в своих стенах государственного секретаря С.Е. Крыжановского, бывшего министра земледелия графа А.Бобринского и сменившего его А.А. Риттиха, бывшего товарища министра внутренних дел А. Лыкошина, бывшего председателя Государственного Совета А.Куломзина, лейб-акушера Г.Е. Рейна, российского посла в Германии А.Свербеева, М.И. Горемыкина и многих других.
Позднее прибыла графиня София Сергеевна Игнатьева с дочерью графиней Ольгой Алексеевной.
Атмосфера провинциального застоя начала все более разряжаться, общение со столичными обывателями и членами правительства стало давать результаты, и скоро киевляне перестали уже видеть причины обрушившегося на Россию несчастья там, где их видели раньше. Как ни недоверчиво встретило киевское общество петербургских сановников, однако понадобилось очень мало времени для того, чтобы с чувством величайшего уважения преклониться пред ними и с недоумением воскликнуть: "Каким же образом могло случиться, что правительство, имея в своем составе людей столь большого ума и широкого кругозора, могло очутиться в руках жидов, погубивших Россию?" Но и на этот вопрос киевляне скоро получили ответ. События разворачивались с ураганной быстротой, и скоро Киев очутился в таком положении, какое оставило позади себя все ужасы Петербурга и Москвы.
В душевных терзаниях, сомнениях, надеждах и ожиданиях закончился кошмарный 1917 год.
ГЛАВА 8. 1918 год. Надежды и ожидания
События принимали уже такой оборот, что даже самые крайние оптимисты, вчерашние социалисты и кадеты, должны были признать себя побежденными. Период болтовни на политические темы уже кончился, события стали расцениваться по-иному, ибо для всех уже стало очевидным, что идет война не между народом и его угнетателями, не между "трудом и капиталом", помещиком и крестьянином, а между жидовством и христианством, та именно борьба, какая надвигалась веками, о которой так часто предостерегали Россию ее лучшие сыны, приносившие самих себя в жертву долгу пред родиной. Вчерашние ораторы, кричавшие об интересах "рабочего класса", о помощи "угнетенному народу", о нуждах "пролетариата", ушли, посрамленные, в подполье, довольствуясь сознанием своей глупости, позволившей им поверить той лжи, какую жиды выдавали за правду. Они убедились, что в устах жидов "демократизм" означал "иудаизм", что "рабоче-крестьянское" правительство есть жидовское правительство и что его целью являлось не благо народа, а "ликвидация христианства", как один из способов достижения мирового владычества над христианскими народами вселенной.
Такое убеждение было настолько несомненным и всеобщим, что рождало не только надежды, но даже уверенность в помощи "союзников", и Киев трепетно ждал их. Ждали измученные киевляне и немцев, и французов, и англичан и не допускали даже мысли о возможности безучастия Европы к положению, в котором очутилась Россия, благодаря своему исконному благородству, честности и непоколебимой верности "союзникам"; все еще ожидали, что Европа придет на помощь во имя ее долга к России, которая так часто спасала ее от гибели и пред которой Европа находилась в неоплатном долгу... И даже скептики не сомневались в такой помощи, хотя и находили, что она явится не выражением ответного благородства Европы, а будет диктоваться чувством самосохранения, сознанием необходимости бороться с мировой опасностью.
Однако одно разочарование сменялось другим, и "участие" Европы в судьбах России оставило истории такие позорные страницы, какие, надеюсь, убьют в самом зародыше тяготение русских к "загранице" и научат их понимать, уважать и любить Россию, самую глубокую, самую честную, самую культурную страну в мире.
Я не буду останавливаться на этих позорных страницах, скажу лишь кратко, что на каждой из них огненными буквами выгравированы слова: "Измена, ложь и предательство".
ГЛАВА 9. Осада Киева
Недолго продержалась в Киеве глупая "Рада". Пришли большевики и прогнали ее. Завоеванию Киева предшествовала двухнедельная осада города, длившаяся с 10 по 24 января. 25 января большевики были уже полными хозяевами Киева и первой их жертвой явился митрополит Киевский Владимир, зверски ими замученный.
Бомбардировка Киева была так ужасна, что я даже не решаюсь ее описывать, ибо едва ли найдется перо, способное передать этот ужас, не имевший еще примера в истории. Впрочем, к рассмотрению этих событий и нельзя подходить с обычными человеческими точками зрения и масштабами. Здесь бушевали стихии ада, справлял тризну сатана, и так и нужно оценивать эти события.
Окруженный со всех сторон Киев обстреливался не только из тяжелых орудий, но и забрасывался снарядами с аэропланов, реявших над городом. Зловещий шум и свист летавших в разных направлениях гранат и шрапнелей, оглушающие удары тяжелых снарядов, попадавших в каменные дома или разрывающихся на улицах и площадях, беспрестанные взрывы пороховых погребов и складов, трескотня пулеметов, крики раненых и стоны умиравших – все это создавало такие картины, от которых несчастные мирные жители сходили с ума или умирали буквально от страха.
В течение двух недель, беспрерывно днем и ночью, большевики делали свое страшное дело, разрушая дивные киевские храмы, забрасывая своими тяжелыми снарядами площади и улицы города, убивая сотни и тысячи ни в чем не повинных граждан осаждаемого ими и обрекаемого на гибель города.
Никакие меры предосторожности были, разумеется, невозможны, ибо снаряды летали в разных направлениях, сверху и со всех сторон, и Киев находился в центре перекрестного огня. Погибали и те, кто укрывался в погребах или подвалах каменных домов, и те, кто спасался на улице, опасаясь найти смерть под обломками обрушивающихся домов, погибали и те, кто искал убежища в храмах Божиих. Эти последние обстреливались с особенно ярко выраженным сатанинским ожесточением и кресты на куполах храмов являлись излюбленным прицелом большевиков.
Среди киевлян были и герои Порт-Артура, говорившие, что осада Порт-Артура была детской забавой в сравнении с киевскими ужасами, ибо доблестные защитники крепости, удивлявшие весь мир своим героизмом и превратившиеся, по выражению генерала Стесселя, в "тени", все же знали, в каком направлении падают снаряды японцев и сидели в окопах, отбиваясь от них. Киевляне же не имели окопов и оставались в своих домах, в трепетном страхе ожидая своей участи, точнее неминуемой смерти.
Вспоминая теперь эти ужасы, я не могу объяснить себе, каким образом я пережил их и как мог при этих условиях даже выходить из дома, посещать церковь, навещать знакомых, встречать на улицах киевлян, делиться своими впечатлениями и выслушивать рассказы других. И это тогда, когда тяжелые снаряды рвались на улицах, залитых лужами крови, когда слышались раздирающие душу крики раненых, валявшихся на мостовой, когда площади были завалены трупами убитых...
Объяснялось это, верно, тем, что никто еще не знал, в каких формах выльется владычество большевиков и что ожидало нас впереди. Мы только слышали об ужасах большевиков, знали о них теоретически, но еще не изведали их и надеялись, что в конце концов ужасная бомбардировка города кончится победой "украинцев".
Однако один день проходил за другим, тревожные слухи росли и... чрез две недели большевики вступили в Киев.
Началось владычество большевиков с повальных арестов, обысков и грабежей, предпринимаемых с целью взыскания контрибуции в несколько сот миллионов рублей, наложенной победителями. Сначала были ограблены банки и правительственные учреждения, а затем началось опустошение частных квартир. И днем и ночью ходили вооруженные до зубов солдаты в сопровождении жидков и беззастенчиво грабили мирных жителей, отбирая от них самое необходимое и угрожая смертью за утайку денег и вещей. Брали все что попадалось под руку. Являлись солдаты нередко и с своими любовницами, еще более наглыми и циничными, и получали от трепещущих киевлян все что требовали. Никто даже не думал оказывать сопротивление, напротив, все были счастливы, если удалось избежать смерти ценой потери всего имущества и превратиться в нищего, все были скованы ужасным террором и безропотно повиновались палачам.
Параллельно с этим сыпались, как из решета, декреты и обязательные постановления большевиков, один безумнее другого, начиная от запрещения выезда из Киева, окруженного со всех сторон красноармейцами, и кончая всякого рода социализациями, включительно до социализации жен и детей... Как ни разнообразны и бессмысленны на первый взгляд казались эти "декреты", однако вдумчивый наблюдатель, особенно если был знаком с ветхозаветным библейским текстом, замечал определенное соотношение между ними и ту связь, какая преследовала только одну цель – поголовное истребление христианского населения.
И на этом кровавом фоне борьбы Света и Тьмы, Добра и Зла как ярко и отчетливо вырисовывалась любящая Рука Господня, как дивны были знамения Божии, какое непостижимое спокойствие вливалось в душу духовно-зрячих людей при виде всемогущества Творца, обезоруживавшего сатанистов, защищавшего и спасавшего просивших у Него помощи и на Него Одного возлагавших свои упования.
У беззащитных киевлян было только одно орудие в борьбе с сатанистами – молитва Богу, точнее даже не молитва, ибо смятение было так велико, что даже пастыри церкви не могли молиться, а – вера, и эта вера творила дивные чудеса. Вера, если она живая, дает спокойствие, спокойствие рождает исповедание, исповедание – побеждает.
Прошло уже семь лет со времени описываемых событий, и многое исчезло из моей памяти, а то, что было в свое время записано, украли большевики. Однако некоторые разительные случаи видимого заступления Божия за верующих никогда не изгладятся из памяти, и о них я долгом своим считаю поведать во славу Божию, в назидание ближним.
Меня особенно интересовала в эти моменты всеобщего ужаса психология отношения киевлян к Государю Императору и Царской Семье, и я с напряженным вниманием следил за речами и суждениями лиц, которые меня окружали и с которыми я сталкивался. Я продолжал слышать вокруг себя огульные, необоснованные и жестоко несправедливые обвинения Царя в тех ошибках и преступлениях, какие приписывались Его Величеству сатанистами и повторялись молвой, и я не допускал, чтобы Господь не заступился за Своего Помазанника, к Которому запретил даже прикасаться, и не посрамил бы Его строгих судей. И когда начались подобные разговоры, я старался всячески прекращать их, опасаясь мгновенного суда Божия над клеветниками. Но меня не слушали.
Как-то однажды пришел к нам, в наш дом, один из таких судей, перед тем недавно выпущенный большевиками из Лукьяновской тюрьмы, где он просидел свыше месяца. Он занимал высокую должность по судебному ведомству, был либералом и, как почти все судейские чины, пребывал в оппозиции к правительству, считая самодержавие пережитком старины, давно переросшим требования современности.
Рассказав об ужасах своего тюремного заключения и невообразимых издевательствах большевиков, он неожиданно закончил: "Вот я выдержал и тюремный стаж, а все же скажу, что при Николае было еще хуже".
Я вздрогнул от этих слов. На другой день, уверенный в своей дальнейшей безопасности, он был, однако, вновь арестован, препровожден в ту же Лукьяновскую тюрьму и, после пыток и мучений, расстрелян большевиками. Слепой! Он не понял, что Господь чудесно выпустил его из тюрьмы на свободу для того, чтобы он одумался, покаялся и очистился... Подобных случаев, когда кара настигала хулителей Помазанника Божия, было много, и долг каждого верного сына России повелительно требует запечатлеть такие случаи на вечные времена.
Очень знаменательно и то, что большинство наших мучителей, приходивших в наши дома и квартиры для обысков и грабежей, погибали в ужасных мучениях, попадая в руки новых завоевателей города. За короткое время Киев, если не ошибаюсь, переходил из рук в руки свыше 30 раз, и сегодняшние победители становились жертвой со стороны тех, кто спустя некоторое время сменял их в этой роли.
Возвращаюсь, однако, к рассказу о дивных знамениях Божиих.
В первые дни неистовства большевических банд Муравьева и Ремнева, буквально заливавших Киев кровью, были арестованы и уведены на расстрел граф Мусин-Пушкин, сын бывшего попечителя Петербургского учебного округа, предводитель дворянства Гадячского уезда Полтавской губернии П.В. Кочубей и, кажется, князь Яшвиль или другой кто-то из представителей киевской аристократии, точно не помню. Дорогою палачи порешили немедленно застрелить их и тем избежать процедуры суда над ними, очевидно, не нужной и... дали залп, выстрелив им в затылок. В этот момент граф Мусин-Пушкин вспомнил о Боге и осенил себя широким крестным знамением. Пуля пролетела мимо... Спутники его были убиты наповал, а графа Мусина-Пушкина палачи отпустили.
Во время непрекращающейся канонады, длившейся, как я уже говорил, в течение двух недель, почти в каждом благочестивом доме служились молебны, причем не было ни одного случая, чтобы был убит священник и молящиеся. В угловом доме, выходящем фасадами на Столыпинскую и Б.Подвальную улицу, настоятель Сретенской церкви служил молебен. В этот момент тяжелый снаряд попал в дом со стороны Столыпинской улицы, с ужасающей силой пролетел, не задев никого из молящихся, через комнату и, пробив отверстие в стене, выходящей на Б.Подвальную улицу, разорвался на мостовой, убив только того, кто, не дождавшись окончания молебна, вышел из дома.
Еще более разительный случай произошел по соседству.
В квартиру явился молодой человек звать своих знакомых на молебен, служившийся рядом, в смежном доме. Семья, состоящая из восьми человек, сидела в это время в столовой за обедом и, по-видимому, не проявила желания поторопиться, предпочитая окончить обед. Молодой человек ушел. Не успел он выйти на улицу, как тяжелый снаряд влетел в столовую и обезглавил всех сидевших за столом. Молодой человек и все бывшие с ним в смежном доме на молебне спаслись.
Во время совершения литургии в Десятинной церкви Святителя Николая тяжелый снаряд попал в главный купол храма и, пролетев через храм, врезался в престол, на котором приносилась в этот момент Бескровная Жертва Богу. Снаряд не разорвался и пастырь церкви продолжал богослужение. Аналогичный случай имел место и в Сретенской церкви.
Бесчисленное количество знамений Божиих совершалось на глазах киевлян у часовни на Б.Житомирской улице, принадлежащей "Скиту Пречистыя", куда, украдкой, ходили даже большевики. Всем известен случай, когда целая рота большевиков расстреливала одного молодого офицера, в то время когда его жена коленопреклоненно молилась в часовне Матери Божией, заливая икону "Нечаянной Радости" слезами... Выпустив в несчастного десятки ружейных пуль, большевики отпустили его, сказав: "Коли тебя даже пуля не берет, так иди себе на все четыре стороны, некогда с тобой возиться"... Этот поразительный случай поистине чудесной помощи Божией заставил говорить о себе всех киевлян и даже вразумил нескольких большевиков, которые затем покаялись.
Я никогда бы не кончил, если бы задался целью описать хотя бы те знамения Божии, свидетелем которых я был лично или о которых слышал по рассказам других. Многое уже позабыто, а этого рода описания в наше безверное время более чем какие-либо иные требуют точности и доказательств. Занести их на страницы истории есть общехристианский долг каждого добросовестного человека, и тот, кто вспомнит притчу Христову о десяти прокаженных, тот это сделает. Здесь нужен коллективный труд всех свидетелей этих знамений Божиих, нужно самостоятельное издание такой книги, какая бы явила миру промыслительные действия Господа в это страшное время гонений на Христа и Его Церковь, которая бы вразумила заблудших, воочию показав им Бога Живаго и посрамила бы горделивых, отрицающих Промысл Божий в судьбах мира и человека.
О зверствах большевиков напечатаны уже сотни и тысячи книг, о благодатном же заступлении Божием за верующих в моменты чинимых большевиками зверств нет еще ни одной книги. Взываю ко всем верующим в Бога и особливо к испытавшим на себе милости Божии с горячей просьбой собрать и подробно описать те знамения Божии, свидетелями которых они сами были или о которых слышали от других. Я верю, что Господь, явивший бесчисленные чудеса Своей милости к людям, даст, во имя Своей любви к ним, и возможность поведать об этих чудесах всему миру. Издание такой книги есть наш долг пред Богом, долг нашего религиозного сознания и в то же время долг пред Россией, на которую всегда изливались безмерные и богатые милости Божии. Этот долг ревностно выполнялся нашими предками, отмечавшими не только в своих записях и дневниках, но и на страницах печати всякого рода проявления Промысла Божия в их жизни и потому никогда не жаловавшихся на гнев или кару Божию, или на то, что они забыты Богом. И если бы человечество отмечало бы и сохраняло в памяти потомства бесчисленные проявления милости Божией к людям в их повседневной жизни, если бы ревновало о славе Божией на земле так, как ревнует о собственной славе, разжигаемое гордостью и честолюбием и увековечивая в памяти потомства свои собственные "подвиги" и исчезающие в пределах времени "заслуги", то весь мир не вместил бы всего числа написанных книг и вся сумма человеческого горя и страданий стала бы расцениваться по-иному и рассматриваться с иных точек зрения. Тогда было бы ясно, что Бог ни на минуту не оставлял человека без Своего попечения и что в своих бедствиях люди сами виноваты, ибо сами их вызывали вопреки благой воле Божией. Мы даже не замечаем, до чего далеко ушли от Бога, как резко изменился уклад нашей жизни и ее содержание, а особенно наша психика, сравнительно только с прошлым девятнадцатым веком. Стоит развернуть пред собой наши старые периодические издания за 70-80-е годы прошлого столетия, т.е. всего за 50-60 лет тому назад, чтобы увидеть, какой свежестью была проникнута русская мысль, как верно понимала печать, еще не попавшая в рабство к жидам, свою задачу, как почитала первейшим своим долгом воздавать славу Богу, отмечать проявления Промысла Божия в повседневной жизни и христианизировать русскую общественную мысль. Такие журналы, как "Душеполезный Собеседник" и целая серия сборников назидательного чтения, издаваемых духовенством и благочестивыми мирянами, останутся навсегда образцами русской литературы по глубине русской мысли. И стоит развернуть любую страницу этих изданий, чтобы содрогнуться при мысли о том, до чего близок Бог к человеку и до чего упорно и настойчиво человек удалялся от Бога все дальше и дальше, пока не зашел уже в такие дебри, откуда перестал и видеть и слышать Бога.
Не видели, и не слышали, и не замечали люди Бога и Его попечений в мирное и тихое время своего благополучия, но самые закоренелые и упорные в грехах люди стали видеть Руку Господню во дни ниспосланных свыше испытаний, стали молиться, креститься и взывать о помощи и спасении... Пусть же хотя теперь поведают славу Божию и увековечат в памяти потомства то, чему сами были свидетелями, что видели или слышали от других, в назидание грядущим поколеньям, во исполнение своего долга пред Богом.
ГЛАВА 10. Убийство Митрополита Киевского Владимира
(† 25 января 1918 г.)
Ужасна была бомбардировка Киева днем, но еще ужаснее были ощущенья ночью. Треск разрывающихся снарядов, попадавших в каменные стены домов, был так ужасен, удары до того оглушительны, что мы просиживали напролет все ночи, затыкая уши или пряча головы в подушки, в трепетном страхе за свою участь. Крыши и стены соседних домов были уже испещрены зияющими отверстиями от брошенных в них снарядов, и мы ждали, когда дойдет очередь до нашего дома, кому из нас Господь пошлет смерть и кто останется в живых. Тем не менее, в наш район стал стекаться чуть ли не весь Киев, ибо, как ни велики были разрушения в Старом городе, все же их было меньше, чем в районах, прилегавших к крепостному валу и Киево-Печерской Лавре, служившей главной мишенью для обстрела со стороны озверевших большевиков. Положение митрополита Киевского Владимира становилось все более опасным, отношение к нему братии Лавры, состоявшей почти исключительно из мужиков, становилось все более подозрительным. Дисциплина исчезла, и в Лавре повторилось лишь обычное явление, когда господ предавали их собственные, облагодетельствованные ими слуги. Революционные настроения проникли в самую толщу иноческой братии, и полуграмотный монах добивался сана иеромонаха с таким же азартом, как и бездарный, невежественный архимандрит без всякого образования – епископского сана. Аппетиты разгорались, достижение самых безумных целей стало казаться, с помощью революции, возможным, препятствие усматривалось только в старорежимных порядках, представителем и выразителем которых был митрополит, единственный интеллигентный и образованный человек на этом мужицком фоне из 800 человек братии, и мысль об убийстве его не только не вызывала негодования и возмущения, а рассматривалась чуть ли не как выход из положения, как средство, способное удовлетворить эти разросшиеся аппетиты. Вот почему, когда в среду братии впервые проникли слухи о возможности покушения на жизнь митрополита, то не только младшая, но даже старшая братия не приняла никаких мер к охране своего архипастыря, а поторопилась заручаться благорасположением новых властителей города, безбожников и изуверов.
А между тем, казалось бы, армия в 800 человек братии, вооруженная хотя бы дрекольями, могла бы отстоять натиск разбойничьих банд, являвшихся в Лавру каждый раз в числе не более 8-10 человек. Странным было и то, что все входы в Лавру, стоявшие обычно на запоре, были во дни владычества большевиков открыты, и последние беспрепятственно шатались по погосту, чинили всевозможные бесчинства, оскорбляли святыни, не встречая сопротивления ни с чьей стороны. Казалось, вся братия была скована террором, и такое предположение могло быть вероятным, если бы, наряду с этим, не было установлено, что эти же большевики заходили вечерами в келлии знакомых монахов и предавались пьянству. Существовал ли определенный заговор против жизни митрополита, я не знаю, но несомненно, что митрополит Владимир не пользовался популярностью среди невежественной братии, не способной ни понять, ни оценить своего кроткого и смиренного, но прямого и твердого архипастыря.
К общим причинам недовольства Владыкой прибавлялись и частные, рожденные ожесточенным натиском на православную Церковь со стороны "украинцев", стремившихся отобрать себе не только некоторые храмы, в том числе и Софийский собор, но и капиталы, принадлежащие этим храмам, и домогавшихся совершения богослужения на "украинской мове". Были пущены слухи, что означенные капиталы хранятся у митрополита Владимира, и этих нелепостей было достаточно для того, чтобы требование о возвращении капиталов было предъявлено митрополиту.
Положение Владыки становилось уже настолько угрожающим, что митрополит начал готовиться к смерти и даже написал свое завещание. Предчувствие не обмануло Владыку... На другой день он был убит. Вечером 25 января в покои митрополита ворвалась банда большевиков, состоящая из 4-5 человек. Все они были вооружены до зубов, тем не менее швейцар даже не подумал созвать на помощь братию Лавры, что легко было бы сделать перезвоном колоколов, а впустил злодеев в приемную, откуда они беспрепятственно, никем не удерживаемые, прошли к митрополиту. Подробности убийства митрополита были в свое время описаны в изданной Лаврой иллюстрированной книжке и не сохранились в моей памяти, но общая картина убийства вырисовывается довольно ясно. Поднявшись на второй этаж, разбойники стали бродить по всем комнатам, с любопытством осматривая их, и, по-видимому, никуда не спешили, до такой степени велика была их уверенность в том, что никто им не помешает привести в исполнение их злодейский замысел. Я обращаю на это обстоятельство особенное внимание, дабы подчеркнуть, что Лаврская братия имела полную возможность явиться на помощь митрополиту и спасти его. Разбойники смелы, когда их боятся и, разумеется, разбежались бы при встрече с армией в несколько сот человек Лаврской братии. Но на помощь к митрополиту никто не явился, все сидели по своим келлиям и не сдвинулись с места.
Отыскав митрополита, разбойники набросились на него с требованием вернуть капитал в несколько десятков или сотен тысяч, не помню точно, якобы хранившийся в покоях митрополита и принадлежащий "украинской" церкви, угрожая, в случае отказа, немедленной смертью. Митрополит Владимир ответил, что никаких капиталов у него нет и просил злодеев не верить распускаемым злостным слухам. Как долго длилась такого рода беседа и в чем она состояла, я не знаю, но закончилась она командой одного из наиболее озверевших разбойников, крикнувшего:
– Чего там смотреть, да разговаривать, бей его...
В этот же момент злодеи набросились на беззащитного старца и, сорвав с него не только панагию, но даже шейный золотой крестик, стали выталкивать Владыку из его покоев...
– Если вы хотите меня убивать, то убивайте здесь, – молил Владыка, но злодеи, не обращая внимания на мольбу, продолжали наносить старцу удары и выводить его на Лаврский погост...
Было около 8 часов вечера 25 января, стояли лютые морозы.
– Холодно, – взмолился митрополит.
Злодеи остановились на лестнице и один из них принес шубу, а другой белый клобук с бриллиантовым крестом и, вручив их митрополиту, повели его дальше.
Окруженный вооруженными до зубов злодеями митрополит шел точно на распятие.
Что думал и переживал в эти ужасные моменты престарелый архипастырь, что испытывала его трепетавшая душа?!
Я вспомнил о том, как такие же вооруженные до зубов солдаты вели меня 1 марта 1917 года из моей квартиры через Литейный проспект, Фурштадтскую и Таврическую улицы в министерский павильон Государственной Думы, как гоготала уличная толпа, готовая, казалось, разорвать меня на части, и как, при всем том, ни эта ближайшая перспектива, ни грядущая неизвестность моей дальнейшей судьбы были бессильны нарушить то удивительное, ничем не возмутимое спокойствие, какое я испытывал в эти моменты сведения счетов с жизнью, такие страшные и ужасные, если смотреть на них со стороны.
Может быть, и митрополит Владимир, учитывая психологию происходящего, был спокоен за себя. Но тот факт, что Лаврская братия, еще вчера унижавшаяся и пресмыкавшаяся пред ним, не только покинула его сегодня, но, прячась за стены храмов и Лаврских зданий, украдкой смотрела на то, как пять вооруженных злодеев вели его на казнь, отзывался, конечно, жгучей болью в сознании Владыки.
Поравнявшись с главным храмом Лавры, митрополит остановился и, осенив себя крестным знамением, низко поклонился, мысленно прощаясь с обителью.
– Куда вы меня ведете, – спросил Владыка у злодеев.
– В духовный собор Лавры, – ответил один
– В главный штаб, – ответил другой.
У боковых ворот ограды толпились монахи... Увидев процессию, они молча расступились, и процессия пошла дальше, по направлению к крепостным валам. Пройдя значительное расстояние, злодеи остановились у пригорка между Лаврой и Никольским военным собором. Место было людное, почти вплотную примыкавшее к трамвайной линии, но это нисколько не смущало разбойников. Сняв с митрополита белый клобук, шубу, рясу и подрясник и оставив Владыку только в нижнем белье, злодеи стали наносить ему штыковые раны, а затем начали расстреливать из ружей и револьверов. Изуродовав свою жертву, они бросили труп на месте злодеяния и скрылись.
Непонятно, непостижимо, почему никто из состава Лаврской братии даже не подумал проследить, куда злодеи повели митрополита, что никто из них не последовал хотя бы украдкой за своим архипастырем, если даже не для того, чтобы спасти его, то хотя бы для того, чтобы узнать о месте казни. Всю ночь окоченевший труп убиенного митрополита пролежал на пригорке у опушки леса, только на другой день случайно проходившая мимо женщина, пораженная злодеянием, принесла ужасную весть в Лавру.
Прибывшая на место убийства братия Лавры перенесла на носилках изуродованное тело своего архипастыря, с трудом положила его в гроб, ибо одна нога была сведена и не разгибалась, а на следующий день похоронила его. Злодеи же даже не думали скрываться, их видели на одном из киевских базаров продающими панагию и бриллиантовый крест с белого клобука митрополита. Повсюду царил террор и анархия, защиты не было, жаловаться было некому...
Город был полон самых разнообразных слухов и версий по поводу кошмарного убийства. На место злодеяния, где был водружен крест, обнесенный оградой, стали стекаться богомольцы...
ГЛАВА 11. Приход немцев
Продержавшись в Киеве меньше месяца, с 25 января по 16 февраля (1 марта) 1918 года, залив город кровью расстрелянных ими жертв, среди которых было свыше 6000 офицеров и около 1000 офицерских детей, воспитанников местного кадетского корпуса, большевики были, наконец, вытеснены из Киева украинцами, явившимися на этот раз в сопровождении немцев. Энтузиазм населения не поддавался описанию. Немцев забрасывали цветами, заливались при встрече с ними слезами, обнимали и целовали, молились на них. Правда, наиболее горячие овации победителям инсценировались провокаторами, которые затем и предавали тех, кто им верил. Я молча глядел на вступление немецкой армии в город, шедшей тем характерным маршем, высоко поднимая ноги, какой увековечен целым рядом бессмертных карикатур, невольно вызывавших улыбку и восхищение пред немецкой муштрой, я видел этот неописуемый восторг исстрадавшихся киевлян, их слезы умиления при звуках оркестра... и мысленно спрашивал себя, зачем же нужно было воевать с ними, зачем была нужна эта ужасная война, которой конца не видно, разве теперь не ясно, что война была нужна только тем, кто своей целью ставил уничтожение двух могущественнейших монархий, как самого надежного оплота христианства, что этого не поняли ни русские, ни немцы, так легкомысленно попавшиеся в сети Интернационала?!
Восторгам киевлян не было конца... Каждый шаг, каждое распоряжение, каждое действие новой власти отличалось смелостью, решительностью, было до мелочей продумано и давало мгновенные результаты. Не только в самом городе, но и далеко в его окрестностях, в смежных уездах и даже губерниях, на пространстве всей Малороссии был водворен порядок в один миг и большевики точно провалились в бездну... Один-два карательных отряда, посланных в села и деревни, и расстрел на месте небольшой горсти хулиганов с корнем вырвал большевическую заразу и жизнь, точно по мановению волшебного жезла, вошла в свое прежнее русло. Со всех сторон неслись благословения новой власти и измученное население боялось только одного – как бы немцы не ушли из Малороссии и не оставили ее на произвол судьбы для нового растерзания большевикам.
Какое значение могли иметь при этом обвинения в корыстных расчетах немцев, преследовавших мирное завоевание Малороссии, вывоз оттуда сахара и хлеба в Германию и пр., если взамен этого они прогнали убийц и разбойников, осквернявших святыни, предававших мучительной казни женщин и детей, поголовно истреблявших христианское население многострадальной Малороссии?! Киевляне видели в оккупации Малороссии лишь начало общей оккупации России, мечтали о том, что немцы спасут и Царя со всей Семьей, томившихся в Сибири, и тем оправдают открытый разрыв с изменившими России "союзниками" ее, аннулируют все прежние обязательства к ним, добросовестное выполнение которых довело Россию до гибели. И эти мечты вовсе не казались несбыточными, а диктовались всем ходом постепенно разворачивающихся событий.
Необходимо не только отметить, но и подчеркнуть тот факт, что большевики стали покидать Киев при первом же дошедшем к ним слухе о приближении немцев. Они обращались в паническое бегство, когда слухи стали подтверждаться, ибо трепетали при одном только слове "регулярная армия". И это тогда, когда "красная" армия была в апогее своей славы, когда дурман еще сковывал ее ряды и истинная природа большевичества еще не была разгадана обманутыми солдатами, не сознававшими того, что они находились в руках жидов, являясь слепым орудием последних, когда эта же "красная" армия, одерживая в междоусобной войне одну победу за другой, разгромила впоследствии Деникинскую армию и вытеснила барона Врангеля из Крыма.
Сейчас этот дурман давно прошел; полуодетая, истощенная и голодная "красная" армия давно ждет избавителей, жаждет сигнала, чтобы повернуть дула своих орудий против мучителей и палачей, а между тем Европа все еще толкует о какой-то советской армии, учитывает ее "силу", а вопрос об интервенции вызывает разногласия даже в среде русской эмиграции.
Страхи большевиков пред "регулярной" армией были основательны. В тылу оставалось еще много большевиков провокаторов и они-то и были свидетелями действий и приемов немецкого командного состава, они видели, как одна рота немецких солдат под предводительством юноши-офицера обращала при своем появлении в село в паническое бегство тысячи большевиков, даже не применяя оружия, а ограничиваясь одним властным приказом повиноваться новой власти.
Обезоруживая одно село за другим и расстреливая на площадях зачинщиков, выдаваемых местным населением, такие карательные отряды творили чудеса и возвращались в Киев, встречаемые всеобщим ликованием. Киев стал оживать... Снова на куполе Киевской городской думы было водружено бронзовое, горевшее золотом, изваяние покровителя города Архангела Михаила, кощунственно свергнутое большевиками, снова засияло в сердцах киевлян солнце и вернулись спокойствие и радость надежды на конец испытаний.
Начала строиться новая жизнь. Оккупация Киева немцами явилась, конечно, не выражением их участия к страданиям русских, не рыцарской доблестью соседей, а только политическим актом, хотя и предпринятым по соображениям свойства экономического, однако скрывавшим за собой и общую цель – выделение Малороссии из состава Российской Империи и образование из нее самостоятельной единицы под именем "Украйны".
В соответствии с этими планами и начала строиться в Малороссии государственная жизнь. Политические вожделения немцев с одной стороны, недомыслие "украинцев" и беззащитность русского населения Малороссии с другой, предопределяли дальнейший ход событий, и на фоне "украинского" вопроса появилась фигура "гетмана" Скоропадского. Малороссия возвращалась к первоначальным этапам своей истории...
ГЛАВА 12. Украинский вопрос, его природа и история
Идея "самостийной Украины" – очень старая идея и имеет свою историю, теснейшим образом связанную с историей многострадальной Галицкой Руси и доныне томящейся в чужой неволе.
С 1340 по 1772 год Галицкая Русь, составляющая земли Владимира Святого, Ярослава, Романа и Даниила, находилась, как известно, под польским владычеством, претерпевая величайшие страдания и подвергаясь жестоким преследованиям за православную веру. На протяжении веков измученное гонениями и издевательствами православное население юго-западных русских областей взывало о помощи, однако ни настойчивые представления русского правительства, ни ходатайства русских послов в Варшаве, ни даже участие королевской власти в Польше, находившейся под гнетом сейма, состоявшего из магнатов и представителей высшего католического духовенства и иезуитов, ярых гонителей православия и горячих защитников унии, не достигали цели до тех пор, пока не пало Польское королевство и земли Речи Посполитой были разделены между Россией, Пруссией и Австрией. В результате Россия получила, по трем разделам Польши, все свои прежние русские земли, кроме Галиции, какая, за исключением только двух уездов Тарнопольского и Сколатского, досталась Австрии. Однако в 1815 году, после победоносных войн за избавление Европы от ига Наполеона, и эти два уезда были присоединены, по Венскому конгрессу, к Австрии, и население их, состоящее из 1 миллиона жителей, воссоединенное с православием, было вновь насильственно обращено в унию.
Таким образом, многострадальная история Галиции делится на два периода: первый, когда Галиция находилась под польским владычеством, с 1340 по 1772 год, и второй, когда она очутилась под игом Австрии, под которым пребывала вплоть до революции 1917 года, перемешавшей все карты политической игры Европы, создавшей Польскую республику и целый ряд еще не разрешенных политических проблем. Этого последнего периода я вовсе не буду касаться, а остановлюсь лишь на двух предшествующих, с целью указать источник происхождения "украинского" вопроса и объяснить природу "украинофильства".
Владычество Польши, продолжавшееся свыше четырех столетий, оставило глубокий, неизгладимый след в жизни наших братьев по крови, вере и языку и коренным образом изменило общественную и религиозную жизнь Галицкой Руси.
Русская культура была заменена польской, повсюду введены польские обычаи и порядки и, конечно, в первую очередь польский язык. Но особенный фанатизм проявило польское правительство в отношении православной веры русских галичан. Ревностная пропаганда католичества сопровождалась жестокими преследованиями православия. Соблазняемые теми выгодами и преимуществами, которыми пользовалась польская шляхта, многие родовитые русские фамилии, высшее духовенство и купечество теряли силу духа и воли и оставляли веру своих отцов и дедов. Перенимая от Польши язык и культуру, они мало-помалу ополячивались окончательно, и верными православию остались, по выражению галичан, только "поп да холоп", т.е. низшее духовенство и простой народ, подвергавшиеся неслыханным мучениям, страданиям и гонениям. С переводом Галиции под владычество Австрии положение ни в чем не изменилось. Хотя Австрия и преследовала, казалось, только политические цели, вызванные опасением близкого соседства нескольких миллионов русского народа, граничившего с могущественной Российской Империей, и усердно германизировала "королевство Галиции и Лодомерии", вводя повсюду австрийское самоуправление и судопроизводство и обязательный немецкий язык, отдавая галицкие земли немецким колонистам и пр., но в отношении преследования православной веры галичан едва ли не превзошла даже Польшу. В глазах Австрии уния являлась самым верным, самым испытанным средством разобщения галичан с Россией, а этого было достаточно для того, чтобы оправдать самые жестокие гонения на православную веру. Австрия, кроме того, являлась самой послушной дочерью Ватикана, самым верным орудием папства и слепо осуществляла директивы последнего, что рождало в этой области ее полное единомыслие с Польшей, несмотря даже на то, что в сфере политической цели Австрии и Польши не только не совпадали, а, наоборот, были резко противоположны.
Австрия стремилась к захвату всей южной России и, расширяя пределы Малороссии от Карпат и до Кавказа, имела в виду образование самостоятельного государства под именем "Украины", которое бы находилось в вассальной зависимости от нее до момента окончательного слияния с Австрийской империей. Киев должен был сделаться столицей этого государства, уния – переходным мостом к католичеству. Отсюда понятно, что пропаганда латинства и унии совпадала с общеполитическими видами Австрии и всячески ею поддерживалась. Польша же, поддерживая унию, мечтала о восстановлении Польского королевства с восточной Галицией, Волынью и прочими частями Малороссии, расширяя пределы своего будущего королевства "от моря и до моря", т.е. от Балтийского и до Черного моря, и преследуя совершенно противоположные австрийским интересы.
Каждая из сторон имела своих агентов, в течение многих десятилетий развивавших свою деятельность, в результате которой и возник "украинский" вопрос и создалось украинофильское движение. Ни Австрия, ни Польша не замечали того, что являлись лишь орудием в руках третьих лиц, нисколько не заинтересованных ни расширением пределов Австрийской монархии, ни восстановлением Польского королевства, и тот факт, что после падения в 1708 году Львовского братства православные храмы Галиции очутились в аренде евреев, без разрешения которых нельзя было совершать богослужения в храмах, что под видом гонения на православие преследовалась христианская религия вообще и вытеснялись христианские начала из государственной и общественной жизни, не раскрывал им глаз на истинную природу их политической деятельности, отвечавшей лишь заданиям тех, кто во главу угла ставил уничтожение всяких монархий и ликвидацию христианства.
Но в наихудшем положении очутились все же наиболее одураченные "украинцы", в свою очередь мечтавшие о "самостийной Украйне", не связанной ни с Австрией, ни с Польшей, а образующей самостоятельное государство с гетманом во главе.
Какое удивительное невежество, какое преступное незнание истории отражает каждая страница этого "украйнофильского" движения! И это тогда, когда ни Австрия, ни Польша не скрывали своих заветных целей совершенно уничтожить русскую народность, когда в самой Галиции не было ни одного человека, который бы не помнил завещания генерала Мерославского: "Бросим огни и бомбы за Днепр и Дон, в самое сердце России: пусть разоряют, опустошают и губят Русь; возбудим ссоры в самом русском народе, пусть он разрывает себя собственными когтями; по мере того, как он ослабляется, мы крепнем и растем", (А.Белгородский. Галицкая Русь в борьбе за веру и народность. Церк. Вед., 1914 г., стр. 1692).
Хотя это завещание написано и польским генералом, однако очень ясно, кто стоял за его спиной и диктовал ему эти жидовские вожделения. Между тем русские галичане продолжали тратить свои силы в междоусобной борьбе. Пользуясь покровительством и материальной поддержкой правительства, украинская партия основала в 1868 году свое общество "Просвита", а в 1873 году "Товариство имени Шевченка". Оба эти учреждения носят явно враждебный для русского дела характер. Подобно Австрии и Польше, украйнофилы также мечтали о создании "самостийного" государства от Карпат и до Кавказа, с Киевом – столицей этого государства. В своих газетах "Дило", "Руслан", "Свобода" и других, а также многочисленных книгах и брошюрах украинцы вели усиленную пропаганду своих идей, проповедуя ненависть к России и русскому правительству. В 1890 году состоялось формальное соглашение поляков и украинцев, положившее начало "новой эры". Результатом этого союза был новый натиск на русский язык и русскую народность в Галиции и образование особого украинского жаргона, представляющего собой смесь польского, немецкого, малорусского и латинского языков. Прекрасный русский язык был изуродован и обратился в какое-то неудобоваримое месиво. "Квестия", "колумния", "денунциация", "субвенция", "ирация", "квота", "мова" – вот перлы этого нового языка, который правительство старается насильственно распространять среди галицко-русского народа (там же, стр. 1692 и 1693).
Все эти нелепости, гуляя на просторе в Галиции, просачивались и за ее пределы, и Киев был уже издавна ареной деятельности глупых украинцев, не понимавших того, что они являлись лишь орудием в руках Австрии и Польши, какие, в свою очередь, были орудием в руках жидовского кагала. Однако, до войны 1914 года эта деятельность скрывалась в подполье. Революция же 1917 года открыла ей двери настежь, и к моменту описываемого мной периода времени, украинизация шла вовсю и выражалась не только в замене русских вывесок малорусскими, не только в насильственном внедрении "украинской мовы" и гонениях на православие, но и в поисках гетмана.
Заядлые украйнофилы возлагали на помощь пришедших в Малороссию немцев великие надежды, и эти надежды не посрамили их.
Свиты Его Величества генералу П.Скоропадскому, избранному гетманом, пришлось вписать свое имя в одну из позорнейших страниц истории смутного времени России начала XX века.
"Украинский" вопрос есть не только старый, но и очень сложный вопрос. Сложный не своей историей, а теми политическими наслоениями, коими окутана его история, сделавшая самый вопрос игралищем политических страстей и ареной борьбы России с ее врагами. По поводу "украинского" вопроса написано очень много брошюр и статей, составляющих в массе целую литературу и, однако, не только широкая публика, но даже ученые, не умеющие отделить историю от политики, не разбираются в этом вопросе. Истинная природа этого вопроса известна лишь очень немногим[2] и к числу этих немногих принадлежит русский ученый А.Ц. Царинный, на собственном опыте переживший и перечувствовавший все перипетии украинского движения в течение пятидесяти лет и приславший мне, в ответ на мою просьбу, целый ряд писем, составивших впоследствии книгу под заглавием "Украинское Движение", изданную в Берлине издательством "Град Китеж" в 1925 году. К этой замечательной книге, раскрывающей не только природу "украинства", но и описывающей события, разыгравшиеся в Киеве в период владычества большевиков и украинцев, я и отсылаю читателя, чтобы не повторять изложения приведенных в ней фактов. Скажу лишь кратко, что 9 ноября 1918 года император Германский Вильгельм II был свергнут с престола и Германская империя рушилась, превратившись в Германскую республику. Неизбежным последствием такого переворота явилось и падение гетманской власти, и менее чем через месяц в Киеве водворилась так называемая "украинская директория", состоявшая из студентов-недоучек, щирых украинцев, которая, в свою очередь, была свергнута большевиками, на этот раз прочно засевшими в Малороссии, где они пребывают и доныне, обильно поливая когда-то цветущие поля, веси и города кровью своих жертв. Так кончился 1918 год.
ГЛАВА 13. Гетман Павло Скоропадский
Опереточным было появление на сцене "гетмана" П.Скоропадского. Роли были распределены заранее между немцами, прятавшимися за кулисами, и группою "избирателей", выступившей вперед. Самый акт избрания гетмана состоялся, не без иронии судьбы, в цирке Крутикова, а не в храме Божием, и это незначительное обстоятельство точно предопределило будущий характер разыгрываемой комедии, наложив на нее отпечаток циркового представления.
Не допуская даже мысли, что русский свитский генерал может серьезно увлечься своей ролью и мечтать о превращении Малороссии в самостоятельное государство, киевляне искренно приветствовали его избрание. Для всех одинаково было ясно, что нужно забаррикадировать Малороссию от Совдепии, оградить ее от захвата, опустошения и разорения большевиков, и "гетманщина" являлась лишь вернейшим способом к достижению этих целей и, конечно, рассматривалась только как временная мера, вызванная роковым стечением обстоятельств.
Вот почему киевляне были озабочены только тем, чтобы направить деятельность гетмана и его правительства в правильное русло, предостеречь их от ошибок и обеспечить выполнение намеченных программ. Эти программы обсуждались чуть ли не в каждом доме, и киевляне с напряженным вниманием следили за каждым шагом гетмана. Прошло немного времени, пока сформировался состав правительства и... киевляне приуныли. Внушали сомнение не только министры, среди которых были евреи и связанные родством с ними случайные люди и дилетанты, но и сам гетман, не отдававший себе отчета в той роли, какую был призван играть, и окруживший себя убежденными "самостийниками", подчинявшими его своему влиянию. Правда, положение гетмана, связанного директивами немецкой власти, было трудным. Он был обязан выполнять программу "самостийников" и в том случае, если бы не сочувствовал ей. Малейшее уклонение от этой программы явилось бы изменой и по отношению к немецкой власти. Такое уклонение было притом и фактически невозможным, ибо явилось бы самоупразднением "гетманщины". Положение было действительно до крайности нелепым.
Тем не менее территория "Украины" представляла собой в этот момент совершенно чистое, ничем не засеянное поле, какое в руках опытного работника, бросившего добрые семена, могло бы дать прекрасные всходы. Гетман просто не понимал своей задачи, какая должна была сводиться не к государственному строительству "Украины", хотя бы и по совершенному плану, а только к закреплению ее военной мощи в размерах, устранявших опасность нового вторжения большевиков. В связи с этим его усилия должны были быть направлены к тому, чтобы привить эту точку зрения и немецкой власти, а вопросы внутреннего распорядка и государственного строительства он обязан был отнести на второй план, не забывая того, что являлся лишь "калифом на час", обязанным, при наступлении должного момента, сложить с себя свои звания и вернуть Малороссию Русскому Царю.
Вместо этого гетман, по-видимому, искренно увлекавшийся своей ролью, сформировал свое правительство, ставшее насаждать чуждую русскому правосознанию государственность, и проявлял весьма недвусмысленное отношение к тем, кто ей не сочувствовал. Совершенно очевидно, что он был бессилен вызвать к себе доверие и симпатии со стороны русских людей, и его власть держалась только на немецких штыках, как тогда говорили, да на кучке "самостийников", терявшихся в массе населения Малороссии и не представлявших собой никакой реальной силы. В результате русские люди начали сторониться от гетмана, и хотя в этот момент в Киеве и было много опытных государственных деятелей из состава прежнего царского правительства, однако никто из них не желал сотрудничать с гетманскими министрами. Впрочем, и гетман не считал нужным обращаться к ним за помощью.
"Управлять – значит предвидеть", но именно этого предвидения и не было у гетмана. Не было никакого государственного опыта и у гетманских министров. Не могло быть посему и вопроса о том, удержалась бы власть гетмана своими собственными силами, если бы лишилась той ненадежной опоры, какую представляли собой немецкие штыки и кучка "самостийников", окружавшая гетмана. А между тем, этот вопрос являлся важнейшим вопросом момента и на нем должна была бы строиться вся программа гетманского правления, какая бы предопределяла и направление его последующей деятельности.
Этого не было сделано, и когда немцы под давлением "союзников" были вынуждены покинуть пределы Малороссии, то предсказания русских людей буквально исполнились. Петлюровцы мгновенно ворвались в Киев и все здание, построенное гетманом, рушилось, как карточный домик, к вящему позору тех, кто его построил. Недолго продержались и петлюровцы... Снова началась ужасная бомбардировка Киева, снова полились реки крови и погибли те, кто спасся в первый раз, большевики снова завладели несчастным городом, а вместе с ним и всей Малороссией, и оставались в ней до тех пор, пока не были вытеснены Добровольческой армией Деникина, вступившей в Киев в воскресенье 18 августа 1919 года.
ГЛАВА 14. 1919 год. Под властью сатанистов
С наступлением первых признаков падения гетманской власти все мои знакомые, прибывшие из Петербурга, начали разъезжаться в разные стороны. Долее прочих задержался М.Н. Головин с женой, о пребывании которых в нашем доме я и до сих пор храню признательную память. Статс-секретарь Государственного Совета, тайный советник, гофмейстер Высочайшего Двора М.Н. Головин пленял каждого, кто его знал, своим христианским смирением, своей глубокой верой, кротостью и благородством подлинного барина, своей безграничной любовью к погубленной России, участь которой отзывалась в нем такой болью, что причиняла ему личные страдания. Как и все прочие лучшие люди, Михаил Николаевич потерял буквально все, и, однако, его личные потери точно не касались его, и мысль была занята только интересами России, о которой он безостановочно думал, о которой постоянно говорил, стараясь подыскать опору своим надеждам на ее возрождение.
Не могу не остановиться и на светлом имени бывшего товарища министра внутренних дел А.Лыкошина, великого христианина и подлинного подвижника церкви. Вырвавшись с чрезвычайными усилиями из Петербурга, он недолго прожил в Киеве и скончался при крайне загадочной обстановке. Его нашли убитым на улице и причина смерти осталась невыясненной. Совершенно исключительное впечатление произвел на киевлян государственный секретарь С.Е. Крыжановский, которого киевские правые круги считали левым, пока не увидели в нем подлинного государственного человека, со столько же широкими, сколько и ясными государственными программами, куда, конечно, не могли укладываться программы отдельных партий. Ближе ознакомившись с Сергеем Ефимовичем, киевляне страстно желали привлечь его к участию в правительстве Скоропадского, однако Строгановский более чем кто-либо иной видел бутафорию гетманшафта и наотрез отказывался от такого участия.
Очаровал киевлян и товарищ министра Высочайшего Двора граф М.Е. Нирод... Сколько кротости и смирения, сколько подлинного барства увидели киевляне в каждом его жесте и движении, сколько горячей неподдельной любви к Государю и России отражалось в каждой его мысли, сколько выдержки проявлял этот сановник, скрывая то великое горе, какое он переживал, глядя на окружающее! Совсем в ином освещении предстали пред взором киевлян и граф А.А. Бобринский, и А.А. Риттих, и все эти представители свергнутого царского правительства, вожди "реакции", оказавшиеся на самом деле только государственными людьми, с высоты положения которых открывались государственные точки зрения, неусваиваемые провинцией.
Тяжело было видеть этих больших людей, полных энергии, богатых государственными знаниями и опытом, и в то же время обреченных на абсолютное безделие или вынужденных искать себе каких-либо заработков для пропитания. Тяжела была и разлука с ними. И, однако, я радовался тому, что они покидали меня. Атмосфера жизни становилась все более страшной, вновь возобновились "обыски", являвшиеся в сущности вылавливанием лучших людей для предания их казни. Никто не был уверен в завтрашнем дне и каждый стремился вырваться из Киева в надежде, что где-либо в другом месте будет лучше. И, страшась за участь своих близких, я радовался, когда им удавалось после бесконечных хлопот вырваться из обреченного города. При всем том, нашему дому не суждено было оставаться пустым. Это было бы и опасно, иначе он был бы реквизирован. И на смену уехавшим у нас поселились дочери В.П. Кочубея и наш сосед по имению граф С.С. де-Бальмен с племянником. Последний, впрочем, только навещал нас, ибо вынужден был скрываться в разных местах до тех пор, пока ему, наконец, удалось вырваться из Киева, благополучно добраться до своего имения и затем жениться на М.В. Кочубей.
Вскоре наш дом превратился в "столовую", куда приходили обедать в складчину все наши многочисленные знакомые, не имевшие уже ни средств, ни возможности питаться в своих собственных квартирах, откуда они были выселены декретами большевиков. Такая же участь ожидала и нас, и только превращение дома в "столовую" спасало его от реквизиции. Между этими посетителями были и те, когда-то очень богатые и знатные господа, которые бессознательно тянулись за общим голосом недовольства царским режимом, те глупые провинциальные кадеты, которые только теперь, стоя у разбитого ими же корыта, протирали себе глаза и точно не верили ужасу происходящего. Общество этих людей было для меня невыносимо.
Наступили мучительные, страшные дни... В течение дня и ночи слышалась перестрелка на улицах и трескотня пулеметов. Каждый день являлись в наш дом вооруженные полупьяные солдаты для производства обысков и цинично, нагло крали, т.е., вернее, грабили все, что им нравилось и попадалось под руку. Каждый день можно было ожидать ареста, заключения в тюрьму и казни, и на общем совете было решено, что мой брат и я должны скрыться куда-либо из Киева. Это нужно было сделать и в интересах сестры, дабы не подвергать ее опасности. Было несомненно, что за моим братом и за мной следили агенты "чрезвычаек" и что нужно было принимать какие-либо меры. Начались поиски места, но, увы, эти поиски ни к чему не приводили. Особенно тяжело было видеть малодушие со стороны тех монастырей, которые раскрывали нам раньше свои объятия, брату моему, как киевскому старожилу и благодетелю этих монастырей, пользовавшихся его помощью в самых разнообразных видах и проявлениях, мне, как бывшему товарищу обер-прокурора Св. Синода. Теперь же наши имена сделались страшными, и настоятели монастырей буквально трепетали при встречах с нами, откровенно высказывая опасения навлечь на себя преследования со стороны большевиков вниманием к нам. Только спустя полтора месяца моему брату удалось найти приют в маленьком подгородном "Скиту Пречистыя", подле Киева, и он переехал туда, взяв и меня с собой. Там я и оставался с 15 февраля до Страстной недели, а затем приехал в Киев, имея в виду провести праздники с сестрой и снова вернуться обратно в скит. Первым встретил меня граф С.С. де-Бальмен, который, взглянув на меня, всплеснул руками и спросил, чем я болен. Я ответил что вполне здоров и чувствую себя хорошо. Тогда он подвел меня к зеркалу и... я сам в ужасе отшатнулся.
"Нежели же Вы не заметили, что у Вас страшное разлитие желчи, разве в скиту Вы ни разу не смотрелись в зеркало?" – спросил меня удивленно граф Сергей Сергеевич.
"Ни разу не смотрелся, в моей келлии и зеркала не было", – ответил я. "Вот вам и монастырская пища, – сказал граф, – теперь нужно ложиться в больницу".
И вместо того, чтобы оставаться дома, я в тот же день, благодаря своему доброму брату, похлопотавшему обо мне, отправился в больницу Покровского монастыря, где и пролежал в кровати целый месяц, пользуясь вниманием игумений и уходом со стороны больничных сестер.
ГЛАВА 15. Покровский монастырь
Много лет тому назад, в пору моего детства, прибыла в Киев на жительство вдова Великого Князя Николая Николаевича Старшего Великая Княгиня Александра Петровна. Никто в точности не знал намерений Великой Княгини, однако народная молва связывала этот факт с болезнью разбитой параличом Великой Княгини, чаявшей найти исцеления у киевских угодников. Приобретя в близком соседстве с Киево-Печерской Лаврой небольшую усадьбу, Великая Княгиня устроила в своих покоях домовую церковь, посещение которой не возбранялось и посторонним лицам, и начала монашескую жизнь... В бытность свою гимназистом я нередко забегал в эту маленькую, уютную церковь и видел Великую Княгиню, которую возили тогда в кресле, ибо она не владела ногами.
Прошло немного времени, и Киев заговорил о чудесном исцелении Ее Императорского Высочества, о тайном постриге ее и желании, в благодарность за полученное исцеление, основать в Киеве женский монастырь.
Слухи стали подтверждаться, и через несколько лет в старом Киеве, в недалеком расстоянии от моего родительского дома, возникла дивная обитель, названная Покровским женским монастырем, настоятельницей которого и была назначена принявшая иночество Великая Княгиня, возведенная в сан игумении с именем Анастасии.
Построенная в древнерусском стиле по эскизам, планам и чертежам младшего сына Великой Княгини Великого Князя Петра Николаевича, обитель вскоре завоевала себе всеобщую любовь со стороны киевлян и привлекала к себе не только молящихся, но и буквально всех "труждающихся и обремененных", находивших за оградой монастыря и помощь, и утешение. Святая душа основательницы монастыря, матушки игумении Анастасии, нашла в этой обители отражение и своей веры, и своих духовных запросов. Образцовая больница с амбулаторным приемом выдающихся врачей города, содержащаяся на средства монастыря и дававшая не только бесплатное лечение, но и отпускавшая даровые лекарства каждому желающему, великолепные мастерские, рукодельные и иконописные, школы, книжные и иконные лавки – все это свидетельствовало о том, что в основе учреждения обители лежала только одна идея – любовь к ближнему, служение народу, великое и глубокое участие к его духовным и материальным нуждам.
Могла ли думать святая основательница обители, отдавшая служению ближнему не только все свое имущество, но и свою жизнь, что спустя 10 лет после ее смерти сестры обители будут уничтожать надгробную надпись на ее могиле, опасаясь, что большевики осквернят дорогую могилу и выбросят тело почившей только потому, что она была "Великой Княгиней"?! И, однако, такое опасение оправдывалось действиями озверелых большевиков, которые в порыве сатанинской ярости уничтожали в усадьбах помещиков и на городских кладбищах фамильные склепы наиболее известных людей, раскапывали могилы и кощунственно издевались над трупами "буржуев", тех самых "буржуев", которые и при жизни, и после смерти расплачивались за свою любовь к "угнетенному народу" и так жалостливо относились к "бедному мужичку" или "серому солдатику"...
Любил я Покровскую обитель и часто навещал ее, а после смерти погребенной в ней матери обитель стала мне еще ближе, могилы спящих вечным сном – еще дороже. Любил я бродить между ними и мысленно разговаривать с покойниками, останавливаться над могильными надписями, заглядывать мысленным взором в потусторонний мир...
"Тише? О жизни покончен вопрос,
Больше не надо ни песен, ни слез", – прочитал я надпись на могильном памятнике.
"Помолись обо мне", – стояло рядом.
И обвеянная святой благодатью Божией обитель раскрывала предо мной тайны загробного мира, звала на небо, и трепетала моя душа, и не хотелось уходить... И такими родными и близкими были эти могилы чужих мне людей, и я понимал, почему они были такими. Потому что каждая могила была откровением, потому что среди умерших не было врагов, а все были друзьями, самыми верными, самыми мудрыми друзьями. И нужно было только захотеть говорить с ними, чтобы получить от их молчания то, чего не дало бы никакое общение с живыми людьми, никакая книга. Великая школа жизни – монастырь, но нет выше школы – кладбища. Только там пробуждается заснувшая мысль и сознание проникает в полосу света, откуда видны небесные дали и горизонты вечной красоты и правды, только там рождается радость, выходящая за пределы земных наслаждений, та истинная, настоящая радость, какая дает новое содержание мысли, переставляет прежние точки зрения, определяет новые задачи, создает новые идеалы и способность идти им навстречу. Это радость встречи с Господом, когда становится так осязательно ясно, что истинное счастье заключается в том, что приближает человека к Богу и увеличивает любовь к Нему, а несчастье – в том, что удаляет его от Бога, что самым лютым нашим врагом являемся мы сами, безумные, слепые, гордые люди, не только не ищущие Бога и не идущие Ему навстречу, но упорно не желающие пользоваться Его неизреченными милостями и дерзко восстающие на своего Творца. Все, все, что отягощает земную жизнь, все беды и нестроения, все неисчислимое горе и страдания – все это "плод помыслов" наших, результат одной причины, нашего собственного самомнения и гордости, благодаря которым мы стали рассматривать нашу земную жизнь вне всякой связи с загробной жизнью, строить ее на началах, исключающих самую мысль о бессмертии души и нравственной ответственности.
Больница была заполнена больными... Однако уже на другой день я присмотрелся к этим "больным" и увидел, что главный контингент их составляют молодые и здоровые офицеры, укрываемые сердобольной обителью от преследования большевиков. Моя болезнь не требовала лечения и сводилась только к соблюдению диеты, что давало мне возможность перезнакомиться со всеми соседями. Между этими последними я встретился и со своим старым знакомым графом Сергием Константиновичем Ламздорф-Галаганом, безуспешно разыскиваемым большевиками. Много раз ему удавалось вырываться из рук сатанистов и всякий раз его спасало чудо Божие.
Припоминаю курчавого юношу-офицера Димитрия Г., со сломанной ногой, прыгавшего на костылях по коридорам и лестницам и не могущего усидеть на месте. Как страстно он ненавидел большевиков, как мечтал по выходе из больницы поступить в "чрезвычайку", чтобы, если не убить ее начальника Лациса, то хотя бы спасти его жертвы, вырвать из когтей этого человека-зверя обреченных на расстрел. Где он теперь?!
В течение месячного пребывания в больнице меня часто навещала сестра. Всякий раз она приходила взволнованной и встревоженной и приносила одну весть тяжелее другой. Не прошло и недели со времени моего переезда в больницу, как половина нашего дома была реквизирована большевиками. Они заняли лучшие комнаты в доме, заставив живущих в нем "уплотниться", т.е. попросту приказав им разместиться в двух комнатах, оказавшихся большевикам непригодными. По словам сестры, все это были чекисты со страшными зверскими лицами, с ног до головы вооруженные, соседство с которыми наводило ужас. Однако милость Господня была беспредельна, и кто знает, может быть эти страшные чекисты явились именно тем орудием промысла Божия, какой охранял и защищал мою кроткую сестру и живших при ней! Большевики вели себя смирно, в течение целого дня не показывались на глаза, а являлись только для ночлега и ни в какие разговоры ни с кем не вступали. В то же время их пребывание в нашем доме застраховывало нас от худшего, ибо мы имели в их лице как бы даровую и надежную охрану. Тем не менее сестра убеждала меня не возвращаться домой, а держаться в больнице как можно дольше.
Пришел, однако, момент, когда дальнейшее мое пребывание в больнице оказалось невозможным. В конце марта большевики начали правильную осаду монастыря, с целью выловить скрывавшихся там "контрреволюционеров". Монастырь был обложен со всех сторон орудиями и пулеметами и большевики стали его обстреливать. Совершенно очевидно, что надобности в таком обстреле не было, ибо ворота обители не запирались не только днем, но и ночью и вход в нее был свободен для каждого. Обстрел имел в виду, конечно, только разрушение христианских святынь, глумление над верой, святотатство и кощунство. Жидки и полупьяные солдаты врывались с папиросами в зубах и в шапках на голове в храм, уничтожали иконы, били стекла, грабили, издевались над священнослужителями и монахинями и выгоняли молящихся из храма. При виде этих издевательств особенно сильно трепетали больничные сестры, однако свершилось поистине великое чудо, какое спасло больницу и пребывавших в ней. Много времени прошло уже со времени описываемых событий, но я до сих пор не могу объяснить себе иначе как чудом Божиим тот факт, что большевики, разорявшие в течение нескольких дней Покровскую обитель, арестовавшие игумению, казначею и настоятеля храма, не подходили даже близко к больнице, где и находилось главное средоточие так называемых "контрреволюционеров". Спустя несколько дней большевики покинули монастырь, а здоровые "больные", признав свое дальнейшее пребывание в больнице небезопасным, стали постепенно покидать ее и искать себе нового места. Я вынужден был вернуться, к ужасу моей сестры в наш дом, и, не успев войти в него, столкнулся с одним из чекистов, вступившим со мной в беседу. Отступление было невозможно, да и бесцельно.
Я прошел с ним в кабинет, реквизированный "товарищами", и, вспомнив свою беседу с солдатом, описанную в первом томе "Воспоминаний", приготовился говорить с ним начистоту, имея уже много раз случай убедиться в том, что уклончивость и недоговоренность приводит только к обратной цели, а прямодушие побеждает.
Беседа длилась долго и сводилась к обвинениям "господ" в издевательстве над "народом", однако же кончилась мирно. Вразумился ли чекист моими доводами, коими я особенно настойчиво подчеркивал неизбежность возмездия Божиего за нарушение Его заповедей, я не знаю, однако же его зверская наружность перестала пугать меня, и я увидел, что и за этой внешностью теплится какая-то искра человечности.
– Может быть, оно и так, а может, и не так, – закончил чекист, тяжело вздохнув, и, подав мне свою мозолистую руку, ушел из кабинета и больше меня не трогал. Перезнакомился я и с его товарищами-солдатами, но эти последние оказались столько же безмерно глупыми, сколько и симпатичными, добрыми деревенскими парнями, с которыми мы не только вступали в разговоры, но и делились своими опасениями и от которых слыхали неизменное: "Не сумлевайтесь". Под конец мы даже радовались, сознавая, что в их лице имеем надежную охрану, и я, в частности, перестал даже думать об отъезде в "Скит", оставаясь весь апрель в нашем доме.
Между тем, огромное большинство моих друзей и знакомых, в том числе и мой двоюродный брат князь Димитрий Владимирович Жевахов и граф Сергий Константинович Ламздорф-Галаган, томились в тюрьмах и чрезвычайках Киева.
Воспоминаниям о своем кузене и профессоре Киевского университета П.Армашевском, расстрелянных большевиками летом 1919 года, я отвожу последующие главы, о графе же Сергии Константиновиче Ламздорф-Галагане скажу теперь.
По выходе из больницы Покровского монастыря граф некоторое время проживал в Киеве, будучи вынужден, как и все прочие, скрывать свое местожительство и каждую ночь проводить где-либо в другом месте. Под конец он все же был схвачен агентами чрезвычайки и приговорен к расстрелу. Подведя его к стенке, чекисты предъявили графу мою фотографическую карточку и требовали указания моего адреса. Благородный граф категорически заявил, что гвардия Его Императорского Величества предательства не допускала и смерти никогда не боялась. Такой ответ, произнесенный в резкой форме, ошеломил большевиков и... они отсрочили казнь. О судьбе графа узнали его друзья, между которыми были представители простого класса, интересы которого всегда были близки графу, бывшему народником в лучшем смысле этого слова и пользовавшемуся чрезвычайной популярностью среди простого класса населения. В результате их заступничества чекисты не посмели тронуть графа и выпустили его на свободу. Велики милости Божии к нам, недостойным рабам Его!
ГЛАВА 16. Последние дни пребывания в Киеве. Татьяна N
Недолго продолжалась наша жизнь в родном доме. Как ни тесно было ютиться в двух комнатах и в зале, превращенном в столовую, как ни тягостно было соседство большевиков, но, в сравнении с общими испытаниями и притеснениями, выпавшими на долю других, мы находились еще в лучшем положении. Имелись, кроме того, средства, выручаемые от постепенной распродажи движимости, платья, обуви и мелких вещей, в свое время запрятанных и уцелевших от реквизиций. Но скоро пришел конец нашему сравнительному благополучию. В последних числах апреля к живущим у нас большевикам стали все чаще и чаще являться "товарищи", и между ними происходили перебранки... Мы слышали за дверьми крупные разговоры, споры и препирательства, но не догадывались, в чем было дело, пока 6 мая 1919 г. эти новые пришельцы не объявили нам, что наш дом будет реквизирован 23-м стрелковым советским полком под помещение клуба, а все живущие в нем, в том числе и занимавшие половину дома большевики, будут выселены. Никакие протесты не помогли, эти последние подчинились приказу свыше и немедленно перебрались в другое помещение, нам же был дан срок в 24 часа, в течение которых мы должны были очистить дом, без права вывезти из него его обстановку. Мы оказались выброшенными на улицу. Положение было отчаянное. И здесь Господь явил нам Свою помощь чудесно, непостижимо, избрав орудием Своей воли девицу Татьяну N., с которой я познакомился только накануне. Я преступил бы требования долга, если бы не запечатлел на страницах своих воспоминаний образа этой чудной девушки, если бы громко и чистосердечно не сказал, что она воскресила в моей памяти образы гонимых за веру древних подвижниц, радостно шедших на костер, славословя Бога. Она не только была насквозь проникнута христианством, но и стояла уже на такой высоте христианского духа, какая была доступна лишь исповедникам, не удовлетворявшимся только верой, но искавшим исповедания своей веры, жаждавшим подвига.
Никто из нашей семьи не знал раньше Татьяны N., и знакомство с ней произошло случайно, как обычно говорят те, кто на поверхности внешних фактов не улавливает Промыслительных путей Божиих. Она встретила меня однажды в приемной митрополита Киевского Антония, куда зашла по своему делу, а затем пришла к нам в дом поблагодарить меня за оказанное ей содействие. Каждая последующая встреча с ней убеждала меня в том, что она являлась законченным типом сознательной христианки, великой исповедницей Христовой, способной на героические подвиги и самоотвержение. Христианство являлось для нее не теоретическим догматом веры, а бесконечно трудным подвигом, повседневной работой и отражалось в каждой ее мысли, в каждом жесте и движении. Только смелые люди могут быть подлинными христианами, только живая вера может делать людей смелыми. И Татьяна N. была воплощением такой веры. Казалось, она искала мученичества, и для нее не было большей радости, как пострадать за Христа, которого она возлюбила всем сердцем своим, всем помышлением и разумением. И живя в кошмарных условиях царившей вокруг паники и большевических зверств, Татьяна N. чувствовала какое-то неземное спокойствие, призывала окружавших к вере, убеждала, что ни один волос с головы не упадет без воли Божией, укрепляла надежду на милость Божию и являлась буквально ангелом-хранителем для тех, среди которых жила.
И когда над нашим домом разразилась катастрофа, а мы были выброшены на улицу, Татьяна N. первая ринулась к нам на помощь и не только приютила нас, но и перевезла к себе дорогостоящую библиотеку и картинную галерею моего брата, а также отважилась взять на хранение мои придворные мундиры, обнаружение которых, конечно, могло бы привести ее к расстрелу. Ее самоотвержение не знало границ, ее вера не имела пределов. И такая вера действительно творила чудеса.
Татьяна N. как бы говорила окружавшим: "Вы ведь верите, что Бог есть, что Он любит Свое творение, что безгранично снисходителен к вашим немощам, что не требует от вас никаких жертв, а только желает, чтобы вы сознавали свое окаянство и, как провинившиеся дети, просили бы Его помощи, так зачем же вам бояться и трепетать?! Вы боитесь смерти от рук большевиков, а если такой страх очистил ваши души от скверны, если покаяние растворило ваше сердце любовью к Богу, то разве страшна смерть?! Может быть, в путях Промысла Божия наша смерть именно теперь нужнее жизни. Предоставим же воле Божией распоряжаться нашими жизнями и будем думать лишь о том, чтобы исполнять Его волю, и тогда исчезнут всякие страхи".
И эти мысли Татьяна N. высказывала не словами, а делами, всем своим поведением. Жатвы было много, и она бросалась из одного места в другое, от одного страждущего к другому изнемогавшему, и везде ее появление вносило благодатный мир и озарение.
"Почему так мало таких людей? – спрашивал я себя мысленно, глядя на Татьяну N. – Какая огромная сила заключалась в хрупком организме этой 19-летней девушки! Если бы пастыри Церкви имели хотя сотую долю такой силы, они были бы непобедимы!"
Еще один раз я увиделся с Татьяной N. глубокой осенью, сначала в Харькове, а затем в Ростове. То были мимолетные встречи... Ей не удалось выбраться из России и она осталась в советском аде. Но и <...> под особым покровом небесным, как Божия избранница.
ГЛАВА 17. Скит Пречистыя
Ужасны были встречи с представителями 23-го стрелкового советского полка, реквизировавшего наш дом. В большинстве случаев это были полупьяные, вооруженные до зубов солдаты, являвшиеся к нам под предлогом осмотра его, для грабежа, и предъявлявшие самые наглые требования. Некоторые из них приходили с любовницами и предлагали последним на выбор любую вещь, какая им нравилась. Они садились за рояль и барабанили по клавишам, располагались на диванах, топтали грязными ногами ковры и бросали окурки папирос на паркет и словно забавлялись тем впечатлением, какое производили. Это были в полной мере уже окончательно погибшие люди, утратившие образ Божий, озлобленные и жестокие, и большинство из них погибло через три месяца, после изгнания большевиков из Киева. Бродя по комнатам, они облюбовывали себе те вещи, какие им нравились и уносили все, что могли унести – книги, ноты, картины, часы, разные мелкие безделушки, не имевшие рыночной стоимости, дорогие по воспоминаниям и пр. и пр. Переглядываясь между собою, они добавляли, что все вещи останутся целыми и будут возвращены по освобождении дома от реквизиции, и даже предлагали квитанции, подписывая их вымышленными именами. Всякие протесты были бесцельны, и ничего не оставалось, как бросить дом на произвол судьбы и идти куда глаза глядят. С помощью случайно прибывшего по своим делам верного человека из нашего имения сестре удалось уехать в N-скую губернию, туда же поехал и 75-летний граф С.С. де-Бельмен... Не выдержав дальнейших испытаний, связанных с новыми победами большевиков, явившихся к нему в имение, старик застрелился 30 октября 1919 года...
Брат и я вернулись в скит, где и оставались 3 месяца, вплоть до изгнания большевиков из Киева Добровольческой армией генерала Деникина, вступивший в город 18 августа 1919 года.
Эти три месяца были, с одной стороны, непрерывным страданием, с другой – непрерывным свидетельством дивных знамений Божиих, теми аскетическими, хотя и подневольными опытами, которые возводили настроение до предельных высот религиозного напряжения, возможного только при необычных условиях вне мира. И брат, и я были облачены в послушнические одежды, ходили в подрясниках, со скуфейками на головах, и, искренне желая слиться с прочей монастырской братией, радостно и охотно подчинялись общему укладу монастырской жизни. При всем том, однако, мы не могли на первых же порах, не почувствовать той высокой стены, какая стояла между нами и братией, состоявшей сплошь из крестьян окрестных сел и деревень, и какую эти последние не только не могли, но и не желали перейти. Насколько внимателен был к нам расположенный к моему брату игумен Мануил, впоследствии схиигумен Серафим, пользовавшийся разного рода благодеяниями со стороны моего брата, в последнее время почти единолично поддерживавшего скит хлебом и продуктами из своего имения, настолько недоверчиво и неискренне относились к нам прочие насельники скита. Глухое недовольство и ропот, с трудом сдерживаемые первое время, стали все более резко обнаруживаться по мере того, как большевики, грабя окрестные обители, стали добираться и до скита. Наряду с жалобами на "объедание" игумену стали приноситься и жалобы на то, что, укрывая "князей", он подвергает опасности весь скит. Возможно, что такие опасения и были основательными, однако старец-игумен приходил в страшное негодование от этих жалоб, указывая, между прочим, и на то, что весь скит кормится тем вагоном хлеба, какой был пожертвован моим братом. Препирательства игумена с маловерною братией все более учащались, и мы с братом не раз задумывались о том, куда идти и где искать приюта, о чем и заявляли игумену. Но он и слышать не хотел о нашем уходе и мужественно, не церемонясь в выражениях, пробирал свою братию, называя ее разжиревшими на монастырских хлебах, зазнавшимися хамами, не только забывшими, но никогда не знавшими Бога, Который сильнее всяких большевиков и может защитить обитель от каких угодно зверей, лишь бы только обитель любила Добро и творила его, утверждалась бы на страхе пред Богом, а не пред людьми.
Какою мудростью веяло от этих слов престарелого игумена, сколько подлинной веры выражали они!
– По человечеству, я и точно навожу опасность на обитель, укрывая вас, – говорил нам игумен, – а по-Божиему, я творю добро, спасая вас от смерти, за что же Господь будет наказывать меня и обитель?! Они, – говорил игумен, указывая на братию, – не знают, что Господь скорее накажет меня, если я выпущу вас на растерзание большевиков, имея возможность укрыть вас... Живите себе спокойно, пока не скажется воля Божия, а на человеческую волю братии не обращайте внимания... Они все большевики, и если бы я им дался, то меня бы первого они разорвали.
И действительно, прошло немного времени, как братия предъявила игумену Мануилу требование об уходе на покой, и старец советовался с нами, как ему реагировать на такого рода наглое требование. Разумеется, и брат мой, и я усиленно убеждали игумена не только отклонить такое требование, но и использовать всю полноту его власти для обуздания зачинщиков. Кончилось тем, что игумен созвал всю братию и выбранил ее площадною бранью, проявив при этом совершенно исключительное мужество, изумительную находчивость и из ряда вон выходящую смелость. После учиненного разноса братия мгновенно смирилась и жизнь обители вошла в свое обычное русло. Это была едва ли не единственная в епархии обитель, где еще держалась власть законно поставленного игумена. Во всех прочих монастырях братия быстро революционизировалась, изгоняла прежних начальников, заменяла их выборными и проявляла открытое неповиновение к законной власти.
Личность игумена Мануила до того примечательна, что я должен остановиться на ней подробнее.
Крестьянский сын игумен Мануил с детства чувствовал влечение к иноческой жизни. Он несомненно родился не только с дарованиями, но и с той тоской по идеалу, какая обесценивала в его глазах все окружающее и гнала его из мира. Заглушая эту тоску, он подвергал себя не только аскетическим опытам, но и тяжелым епитимиям, добровольно налагая на себя всякого рода испытания, носил вериги, предавался посту, проводил ночи в поле на молитве и пр. Будучи сыном состоятельных родителей и не испытывая нужды, он добровольно бичевал себя, помогал больным, отказывая себе в куске хлеба, и горел только одним желанием всецело предать себя воле Божией и поступить в монастырь. Однако, родители были против такого намерения и, пристроив его на службу приказчиком в соседнем городе, думали женить его. Это решение до того испугало 16-летнего юношу, что он без оглядки бросился бежать куда глаза глядят, пока не добежал до ближайшего монастыря, где и укрылся. Чистосердечно рассказав настоятелю монастыря о причинах, заставивших его бежать из родительского дома, он попросил принять его в число братии, что тот и исполнил, обещая заступиться за него пред родителями.
Как протекала дальнейшая жизнь игумена Мануила я не знаю, ибо познакомился с ним лишь незадолго до революции, а ближе узнал его только во дни своего пребывания в скиту. Это был уже глубокий старец, очень растолстевший и обленившийся, ничем не интересовавшийся и равнодушный ко всему окружающему. Он еле передвигался с места на место, да и то с помощью двух послушников, поддерживавших его, хотя не пропускал ни одной церковной службы и аккуратно являлся в храм четыре раза в сутки на утреню, раннюю обедню, вечерню и всенощную, где предавался дремоте. Тем не менее от его зоркого наблюдения не ускользал ни малейший промах священнослужителей, которых он грозно окрикивал, замечая ошибку. Его игуменское кресло стояло раньше в алтаре, но по требованию братии, заявившей игумену, что он своим присутствием в алтаре вносит соблазн, было вынесено на левый клирос. Игумен Мануил подчинился требованию, однако не простил его, и, сидя на клиросе, проявлял свою игуменскую власть в формах еще более строгих, чем раньше.
– Чего ты вертишься в алтаре, как скотина, – раздавался с клироса властный голос игумена, обращенный к новопоставленному диакону, неумело совершавшему каждение.
В устах всякого другого такие приемы и напрашивались бы на осуждение, однако со стороны игумена Мануила здесь было столько простодушия и незлобливости, столько опытов дознанной уверенности в неприменимости никаких иных приемов отношения к его невежественной и грубой братии, что, конечно, осуждать его было бы несправедливо. И сам игумен прошел суровую школу жизни, сам вышел из крестьян и братию свою дисциплинировал способами, казавшимися ему наилучшими, не допуская и мысли, что его методы и системы воспитания братии могут рождать соблазн. Скит, начальником которого он был, являлся в его глазах вотчиной, а братия – его даровыми работниками. И со своей точки зрения он был прав, ибо никак не мог стать на другую точку зрения. Игумен Мануил, вступив в управление скитом, застал там только заброшенное ущелье между горами, не поддававшееся никакой обработке, усеянное пнями от срубленного леса, однако обладая исключительной энергией и большим практическим умом прирожденного строителя, привел скит в цветущее состояние, обновил старую маленькую церковь, заложил фундамент и довел до первого этажа огромный каменный храм, выстроил игуменский и братский корпуса, гостиницу для паломников, создал дивную пасеку и фруктовый сад и заставил говорить о себе и своей деятельности не только Киев, но и соседние губернии. Так как в этой работе ему не только никто не помогал, а наоборот, все, кто мог, мешали, то игумен Мануил, закончив свою строительскую деятельность, замкнулся в скиту, не входил в общение даже с архиерейской властью и проявлял чрезвычайную независимость и самостоятельность.
С назначением митрополита Владимира в Киев, Владыка, объезжая свою епархию, посетил и "Скит Пречистыя", расположенный на окраине города. После торжественного богослужения и достодолжного приема митрополиту была предложена роскошная трапеза, стол ломился от питий и яств, а в хрустальных вазах, откуда-то взятых напрокат, красовались дивные груши-дюшес. Залюбовавшись ими, митрополит взял одну:
– Вот Вы взяли грушу, – сказал игумен Мануил митрополиту, а того не знаете, что каждая из них стоит 10 рублей. А кто мне дал денег, чтобы купить их?! Лавра? Нет, своим потом и трудом заработал их, да теперь и Вас угощаю! Вот оно что! Кушайте, Владыка, на здоровье!
Митрополит поморщился, но ничего не ответил, зная, что с игуменом Мануилом препирательства бесполезны и психологию крестьянина переделать невозможно.
Часто вспоминая о посещении скита митрополитом Владимиром, игумен Мануил любил рассказывать и об эпизоде с грушами, и я однажды не удержался, чтобы не сказать игумену:
– Как же Вы так нелюбезно поступили с митрополитом, да еще Вашим гостем! Игумен сделал очень удивленное лицо и, недоумевая, спросил меня:
– Почему нелюбезно? Это вот братия моя точно отговаривала меня от лишних затрат, ну а я, ради митрополита, не пожалел и 100 рублей за один только десяток груш. Оно, конечно, за трапезою кому-либо из братии более бы пристало сказать об этом митрополиту и тем подчеркнуть мое усердие, но братия, как нарочно, сидела точно воды в рот набравши и все молчали, как рыбы. Я крепился и выжидал, да так ничего и не дождался. Тогда я сам сказал об этом митрополиту, чтобы Владыка знал, что я не поскупился на прием, хотя последний и влетел мне не в одну сотню рублей, одна рыба чего стоила, а кроме рыбы чего только не было! За месяц того не проешь, что проели за один только день, прости Господи!
Побуждения игумена были чистые, а выливались они в форму обычную в крестьянском быту и попытки изменить эти формы явились бы бесполезными.
Брату моему была отведена келлия в игуменском корпусе, меня же поместили на пасеке, где я жил в соседстве со старцем-монахом Петром и послушником последнего в маленьком домике, окруженном со всех сторон фруктовыми деревьями и цветами. Пасека была отрезана не только от всего мира, но даже от Скита и вокруг царила удивительная тишина. Если бы не беспокойство и тревоги о сестрах, из которых одна томилась в N-ской губернии, а другая уехала на неизвестное в N-скую губернию, о брате, которого я, хотя и видел каждый день, но в безопасности которого не был уверен, о друзьях и знакомых, повсюду рассеянных и трепетавших за свою участь, то я должен был бы признать, что не нашел бы лучшего места для духовной жизни. Там, на пасеке, было все, что возносило дух к небу, что успокаивало мятежную душу, научало и возрождало ее.
И снова я переживал те самые ощущения, коими был проникнут 10 лет тому назад, когда жил в Боровском монастыре преподобного Пафнутия, Калужской губернии... Тогда мое пребывания в этом монастыре с мыслию остаться там навсегда вызывало и недоумения и негодования со стороны близких, а мои письма оттуда являлись предметом насмешек и всяческих осуждений. А ведь перспективы меняются в зависимости от того места, с которого мы их рассматриваем, и то, что видно монастырю, того не видно миру! Между реализмом и мистикой такое же родство, как между умом и сердцем, и мистика реальна лишь для сердца. С какого же места видна подлинная Правда? Этого вопроса для меня уже не существовало... Конечно, с монастырской ограды! И это место становилось для меня все более дорогим, дорогим потому, что доводило перспективу не только до ее земных пределов, но и далеко за эти пределы, раскрывая духовному взору незримые области горнего знания...
И дни проходили за днями быстро и незаметно, и я точно не замечал, что мой затвор был вынужденным, что моя воля связана и что только мое личное настроение окрашивало окружавшую меня обстановку другим цветом... И я боялся потерять это настроение и вел усиленную, великую и трудную борьбу с самим собою, стараясь оценивать окружающее с духовных точек зрения и влагать в него мистическое содержание, всецело предаваясь воле Господней. И самые маленькие победы давали мне сладость познания затвора, хотя он и был вынужденным, приобщали к радости одиночества, связывали меня незримыми нитями со всем миром, какой казался мне таким далеким, а на самом деле таким близким, и я опытно познавал всю глубину и премудрость иноческой идеи, и понятной становилась мне та духовная радость отшельников и затворников, какие с точки зрения мира казались только мучениками и страдальцами.
А между тем вокруг меня были только грубые, неотесанные мужики, жившие интересами желудка, не способные учесть ни благодатных условий внешней обстановки, ни проникаться сущностью и красотою монастырского богослужения. Они шли в храм точно на работу, какою тяготились, шли нехотя и лениво, ибо все их интересы вращались вокруг хозяйства скита и его доходов, вокруг черной работы в поле и на огороде, а богослужение в храме только отвлекало их от этой работы.
В свободное же от черной работы время, шли суды и пересуды и, разумеется, более всего доставалось игумену Мануилу, которого невежественная братия, хотя и побаивалась, но изрядно ненавидела, быть может, именно потому, что он в духовном отношении стоял неизмеримо выше всех прочих насельников скита.
Особенно огорчал меня мой сосед старец-монах Петр. Это был угрюмый, замкнутый, хитрый мужик себе на уме, крайне недовольный моим соседством. Он был одним из тех закулисных агитаторов, которые доказывали братии, что пребывание в скиту "князей" принесет скиту и материальный и еще более моральный ущерб, ибо "князья"-де все подметят и разнесут о ските дурную славу. Он и не ошибся, но не ошибся только в отношении самого себя, ибо имел основания опасаться дурной о себе славы, стараясь казаться не тем, чем был в действительности, обманывая Бога и людей своим лицемерием. Глядя на него, видя его лукавство, я часто думал о том, как типы ему подобные сильно боятся людей и как мало боятся Бога, как мало Ему верят и как грубо эксплуатируют иноческую идею, извлекая из нее только грубо житейские выгоды.
Как ни опустился игумен Мануил, однако же и растратив половину своего духовного богатства, он сохранил на старости лет другую половину и временами проявлял великую духовную мудрость. Он являл собою уже доживающий тип монаха старого закала, в свое время прошедшего школу духовного делания и добросовестно усвоившего ее, и, конечно, очень резко выделялся на общем фоне братии, не проходившей никакой школы и состоящей из мужиков, пришедших из деревень прямо от сохи. Его строгость, какая в глазах распущенной братии казалась тем большей аномалией, что проявлялась в революционное время, уничтожившее различие между прежними начальниками и подчиненными, старость и болезни, – все это являлось в глазах братии достаточным поводом для брожений в ограде скита, где устраивались всякого рода сходки и совещания и намечались кандидаты на место игумена Мануила, которого братия стремилась заставить уйти на покой. Особенно усиленно добивался игуменского места иеромонах, которого звали, если не ошибаюсь, Филаретом. Этот иеромонах казался чрезвычайно смиренным и находился почти беспрерывно в состоянии умиления, говорил постоянно о Боге, о любви к ближнему, о подвигах и страданиях, гонениях и преследованиях и, от души ненавидя игумена Мануила, заканчивал свои речи обвинениями последнего в разного рода преступлениях, хотя и делал это так хитро, что в результате получалось впечатление не столько о преступлениях игумена Мануила, сколько о качествах и достоинствах самого рассказчика. Особенно часто прибегал о. Филарет к моему брату, и как-то однажды зайдя к нему, рассказал брату такую историю:
"Дивны дела Господни, – начал о. Филарет, – не только наяву, но даже в сновидениях свершается Его святая воля. Посетил Господь и меня, грешного, сновидением знаменательным, и кто знает, может быть в оном и таится великий сокровенный смысл, предварение, скудным моим умом не постигаемое. Вот я и подумал, пойду к Его Сиятельству Владимиру Давидовичу, рабу Божиему смиренному, Они мне по своей учености и расскажут, как сие сновидение понимать должно. Было ли там откровение, а то, пожалуй, даже предварение, или так только одно мечтание без последствий?"
– Расскажите пожалуйста, – сказал брат, любезно усаживая гостя.
– Не знаю, с чего и начать, – замялся о. Филарет, – искушение, прости Господи, прямо-таки искушение. Вот вижу я себя шествующим в белоснежном одеянии по полю, усеянному райскими цветами... Благоухание такое, что и сказать невозможно, сильно чувствительное, наподобие ладана Афонского, или Иерусалимской смирны. В правой руке держу толстую и высокую, ярким пламенем горящую свечу, а в левой, прости Господи, – пальмовую ветвь. Горняя помышляяй, медленным шагом шествую я по райскому полю, преданный богомыслию, и не заметил, как неожиданно подошел не то к озеру, не то к болоту, бурливому и на вид весьма гнусному. Я себе и думаю, откуда-таки завестись такому болоту среди райского поля и как подобает сему быть в явное нарушение и даже противление красоте Божией. Не успел я даже подумать сицеваго, как из болота взвился гад, норовивший укусить меня за ногу. Я хотя и сомлел от страха, но, схватив лопату, со всего размаха – "лясг" по голове гада... А он только поморщился и словно еще выше вытянул свою голову. Тут только я рассмотрел, что то был не гад, а игумен Мануил, т.е. хотя и гад, но с игуменской головою... И до чего же жирная была эта голова, точно салом обмотанная, и вообразить себе, прости Господи, невозможно! Сильно-таки возревновало мое сердце, не место, ведь, гнусному гаду в сем поле райском, сказал я себе мысленно и... схватив топор, вознамерился убить гада. "Я-таки тебе покажу, – говорил я себе, – как заводиться в неподобающем тебе месте. Коли ты гад, то иди себе в преисподнюю, а не ютись здесь, омрачая смрадом, трепетом и страхом сие священное место, ибо ты гнусен, твое пребывание здесь неуместно и ты одним своим видом оскверняешь благолепие, а коли ты не гад, а игумен, то тем паче тебе не подобает сидеть в болоте"... И, взяв топор, я безбоязненно вышел на середину болота, погрузившись до колен в гнусную на вид, серо-зеленую густую, липкую, издающую сильное зловоние массу. И… чудесное дело, – одеяние мое белое так и оставалось белоснежным и гнусная влага не оскверняла его. Высоко замахнувшись с такою силою, какая едва не повергла меня самого навзничь, так что я едва удержался на ногах, я громко возопил: "Ляс", – и ударил гада по голове. "Ляс", – сказал я другой раз и с новой силой, со всего размаха, смазал гада по голове так, что она с ревом, озверелая, тут же и бултыхнула в болото. И, свершив свое дело, с ярким сознанием, что очистил святое место от ненавистного и гнусного гада, я плюнул и стал медленно выходить из болота, внимая сладкозвучному пению райских птиц, многоперистых и хорошо упитанных, различного вида и породы. Не утерпело однако мое сердце, чтобы не оглянуться назад, ибо в мечтаниях мне предносилось, что увижу эту жирную игуменскую голову, с туловищем гада разлученную, плавающей на поверхности болотной. И, о диво!.. Увидел я, увидел эту голову, но не разлученной, а будто еще теснее соединенной с туловищем гада... Но мало этого, эта жирная игуменская голова точно глумилась надо мною... То спрячется, то опять вынырнет и скалит зубы, то перевернется в воде и не один раз, а несколько, наподобие жирного тюленя, то начнет трястись всем существом своим... Ну прямо-таки, одно слово, нечистая сила дразнила меня и изводила до крайних степеней... Ну тут, понятное дело, я посрамленный, сейчас же и проснулся... И так мне стало тяжело и томно, что даже пожалел, что лег спать, – закончил о. Филарет, глубоко вздохнув и вопросительно посматривая на моего брата.
Ясно, что рассказав свое сновидение, о. Филарет ожидал, что брат истолкует его в благоприятном для него смысле и увидит в борьбе о. Филарета с гадом прообраз его борьбы с игуменом Мануилом, а в белоснежном одеянии, горящей свече и пальмовой ветке – эмблему чистоты и правоты о. Филарета, хотя и оставалось невыясненным, каким образом о. Филарет, имея в одной руке горящую свечу, а в другой – пальмовую ветвь, мог действовать топором и лопатою...
Но ожидания о. Филарета не оправдались и брат сказал ему:
"Значит Вам так и не удалось победить гада, значит и бороться с ним было не нужно".
Таков был состав братии скита.
И глядя на нее, я с новой силою ощущал то великое недоразумение, какое представлял собой нынешний состав современных монастырей. С точки зрения мира братия монастыря состояла из монахов, доводивших свое смирение до таких пределов, что даже настоятели в сане архимандрита или игумена, иеромонахи и иеродиаконы не гнушались черной работы в поле, на огороде или в конюшне, сливаясь в братском единении со всеми послушниками обители. На самом же деле там были не священнослужители, занимавшиеся черной работой, а чернорабочие, по недоразумению носившие рясы и облеченные священным саном.
Будь то действительные монахи, чернорабочие по послушанию, а не по призванию, по природе же культурные, образованные люди, сознательные христиане, какую бы огромную нравственную силу вносили бы они в жизнь, каким бы явились несокрушимым оплотом Православия и противовесом злу мира!
И мысль об учреждении в России подлинных монастырей, как очагов христианского знания и религиозной настроенности, как средоточия образованных людей, вытесняемых из мира и не способных бороться с его неправдою, с новою силою овладевала мною... Я помню, что приступив к осуществлению этой мысли в своем имении, я встречал осуждение со стороны некоторых иерархов, говоривших, что я имел в виду специальные монастыри "для дворян"... Нет, иноческая база всегда и везде одинакова и зиждется не на внешности, а на личном отношении инока к этой внешности, главное, конечно, не в том, что окружает инока совне, а в том, каково его настроение и как он воспринимает окружающую его внешность. При всем том, однако, и внешность часто заключает в себе элементы отрицательные и понижает настроение, терзает дух, какой бы чудодейственной силой ни обладали внешние рамки монастырского быта сами по себе, даже безотносительно к своей сущности.
"До каких горних высот мог бы дойти сознательный убежденный инок, если бы был только честен с самим собой и добросовестен", – думал я, анализируя свое собственное настроение, проверяя впечатления окружающего в том виде, в каком они преломлялись в моем сознании под углом зрения иноческой жизни.
Я сидел в своей келлии, чувствуя себя отрезанным от всего мира, всеми забытым и никому не нужным. И между тем никогда еще мир не казался мне таким близким как теперь, никогда сердце мое не растворялось большею жалостью к человеку, казавшемуся мне жертвою своих грехов, страстей и заблуждений, никогда еще я не был более снисходителен к людским немощам и строг к себе, как теперь. И даже ежечасные мелкие неприятности и уколы самолюбия, неизбежные при столкновении с чуждой средой, не причиняли мне огорчения и не волновали меня. Всему я находил объяснение, не роптал и никого не осуждал, а главное, научился замечать и то, мимо чего раньше проходил без внимания.
Созерцая духовным оком окружающее, я ужасался при виде бездны зла, господствовавшего в жизни и поработившего человека, и я недоумевал, зачем оно нужно, чего хотят люди, чего добиваются, к чему стремятся, зачем нужны им эти так называемые блага жизни, которыми много людей пользовалось до революции, а теперь, утратив их, даже не замечает потерянного и свободно обходится без них! Разве в них счастье, разве не самое великое счастье осязать живую связь между небом и землею и чувствовать себя приобщенным к этой связи, сознавать себя не забытым со стороны Бога и пользующимся Его неизреченными милостями, из коих главная – это мир душевный, спокойствие совести!..
А между тем, вокруг меня бурлили страсти, царило взаимное недоброжелательство и интриги, зависть и злоба, и отрекшиеся от мира монахи точно соревновались друг с другом в погоне за копеечными мирскими благами и даже строили на революции свои планы и расчеты, вскормленные безмерным честолюбием и тщеславием. Но были между ними и такие, которые "жалели" меня и брата и, оценивая наше нынешнее положение с точки зрения раньше занимаемого, выражали нам свое сочувствие в трогательно нежных формах. Спаси их Господи!
Внешнее расстояние между нашими положениями теперь и раньше было действительно огромным, однако и брат, и я, тянувшиеся к иночеству, любившие и понимавшие его, если и тяготились в скиту, то не положением послушников, ибо никаких послушаний не несли, а окружавшей нас средой, с которой не находили общего языка и которая не высказывала нам открыто своего недоброжелательства и нерасположения лишь потому, что боялась игумена.
Такое отношение не мешало, однако, той же братии обращаться к нам за разного рода нуждами и даже вести с нами, в часы досуга, беседы на отвлеченные темы. Особенно интересовалась братия вопросами астрономии и космографии, в какие вкладывала своеобразное содержание, рассматривая светила небесные как места пребывания Бога и ангелов, и интересуясь расстоянием этих мест от земли. Конечно, наши рассказы и объяснения никогда не удовлетворяли братию, ниспровергавшую доводы разума и науки такими репликами, против которых возражать было трудно.
– И одного только я не возьму себе в толк, – горячо возразил однажды один из таких оппонентов, – зачем это нужно господам морочить нам головы и говорить то, чему и малый ребенок никогда не поверит... И где же это видано, и кто же сему поверит, что земля вертится?! Да если бы она вертелась, то первыми бы попадали наши колокольни, прости Господи... А коли не падают, значит, по милости Божией, земля пока стоит на своем месте... И опять-таки, зачем ей и понадобилось бы вертеться!.. Все это ни к чему...
– Так-то оно так, – возразил другой, – а про то бывают и землетрясения...
– А где же они бывают, – запальчиво возразил первый, – бывают, да не у нас, а у басурман, да и опять-таки только затем, чтобы они познали Бога, а православному люду землетрясения без надобности, их Бог и не посылает.
– Это, конечно, – вмешался в разговор третий монах, – ну, а на чем же собственно держится сама земля-то?!
– На чем держится, – скептически посмотрел на вопросившего первый монах, говоривший уверенно и пользовавшийся авторитетом у братии, – на том и держится, на чем ей полагается держаться…
– Батюшка, батюшка, а вот ученые говорят, что даже знают сколько верст от одной звезды до другой, да во сколько дней бы можно было доехать к ним от земли, если бы можно было построить железную дорогу до неба, – сказал какой-то молодой послушник...
– А ты им и веришь, – скептически заметил батюшка. – Во-первых, не нашлось бы и такой длинной лестницы, чтобы ее приставить к небу, а во-вторых, если бы и нашлась такая, то до чего ты ее зацепишь, чтобы держалась? Ну, положим, на земле бы еще и можно было ее утвердить, ну а на небе-то к чему ее приставишь, коли там один только пар? А если не к чему приставить, то и не полезешь на неё, а если не полезешь, то и не вымеряешь и не пересчитаешь... Глупости это все...
Неизвестно до чего бы договорилась братия, если бы на горизонте не показался игумен Мануил. Тяжело опираясь на руку моего брата, игумен медленно поднимался по крутой тропинке, направляясь в пасеку, куда заходил ежедневно для осмотра огородных продуктов и фруктовых деревьев, составлявших предмет его особенных забот и попечений. Чего только не было на огороде?! Ярко-красные пухлые сочные помидоры, огурцы, арбузы, дыни и клубника, морковь, редька и редиска, упитанные, красивые, свидетельствующие своим видом о нежном уходе за ними хозяина.
Между ними, на расстоянии одной сажени друг от друга, росли фруктовые деревья, яблони и груши разных сортов, сливы, вишни, персики и абрикосы, а вокруг сада, с трех сторон, огромные кусты всевозможных ягод... Там была и малина, и смородина, и крыжовник, и ежевика и чего только не было!.. И любуясь плодами своих трудов, игумен с любовью останавливался подле каждого дерева и кустика и, срывая фрукты, наполнял ими свои карманы... Особенно часто он останавливался на помидорах и то и дело наклонялся к земле, чтобы сорвать наилучшие, приговаривая при этом: "Если я их не заберу сегодня, то завтра уже их не будет... Придут "черти" и покрадут". Под "чертями" игумен разумел свою братию, которая действительно часто появлялась на пасеке, занимаясь "тайноедением". Я не мог воздержаться от улыбки, глядя на то неимоверное количество разного рода плодов, какое помещалось в карманах игуменского подрясника. Оказалось, что там были не карманы, а привязанные к обеим сторонам мешки, один из которых предназначался специально для помидоров, часто даже недозрелых, которые потом отлеживались на солнце, а другой для прочих плодов, в том числе для арбузов и дынь...
К ним игумен Мануил проявлял особенно трогательную заботливость. Как-то однажды, гуляя с игуменом по огороду и обратив внимание, что он срывает огромные листья лопуха и покрывает ими арбузы и дыни, я сказал: "Зачем Вы это делаете, батюшка, они любят солнце, скорее созреют, а Вы покрываете их лопухом..."
Игумен тяжело вздохнул и ответил: "Конечно любят, но если их не скроешь, то они и не уберегутся от братии... Братия – это те же большевики... Чуть только увидят хорошенького "кавунчика" (так в Малороссии зовется арбуз) или красавицу дыню, так сейчас же и проглотят их... Вот я и спасаю их под лопухами, авось не приметят..."
Мирно и тихо протекала наша жизнь в скиту в первые дни нашего приезда. Скрытый в ущелье горы скит был отгорожен от мира точно высокими стенами, мало кому был даже известен и его трудно было найти. Но вот прошел месяц, большевики неистовствовали в городе все больше, из Киева доходили слухи один ужаснее другого, и от моего взора не укрывалось то беспокойство и те тревоги, какие переживала братия. На расспросы или не отвечали, или успокаивали меня.
И тут, быть может, впервые предо мною раскрылась нежная, полная братской любви, душа моего брата Владимира. Странные отношения связывали меня с моим братом. Мы точно боялись признаться друг другу в своей любви, никогда и ни в чем ее не выражали вовне, оба были достаточно угрюмы, необщительны, тогда как оба в одинаковой мере тревожились друг за друга и внутренне были между собой связаны неразрывными нитями. Беспокойство моего брата обо мне выражалось всегда так наглядно, он так мало умел скрывать его, что мне достаточно было только взглянуть на него, чтобы угадать какую-либо беду. Так случилось и тогда, когда брат, узнав о расстреле кузена Димитрия, скрыл от меня эту ужасную весть, и я узнал о ней лишь позднее, да и то случайно, от одного из иеромонахов, совершавших панихиду по "убиенном рабе Божием Димитрие", который на вопрос мой о ком он молился, выдал тайну моего доброго брата.
Наступили тревожные дни. Наше личное положение от этого становилось все тяжелее. Опасаясь нападения большевиков на скит, братия видела в нашем лице точно магнит, который рано или поздно притянет их в скит, и ропот, сначала глухой и скрытый, становился все громче и откровеннее. Идти было некуда... Это сознавала и братия, но такое убеждение не меняло ни ее настроения, ни отношения к нам.
Сыпались на меня удары и с других сторон. Переписка была невозможна и со дня революции я ниоткуда не получал писем и сам никому не писал, томясь неизвестностью об участи своих родных и близких. Невозможна была переписка столько же по причине расстройства почтово-телеграфных сношений, сколько и потому, что письма перехватывались большевиками и создавали угрозу адресатам. При всем том, я каким-то чудом получил письмо из Петербурга от знакомого протоиерея, и это письмо, извещавшее меня о смерти моего друга Ю.Д. Азанчеева, явилось для меня великим ударом. Горный инженер, бывший вице-директор департамента министерства финансов, тайный советник, увешанный звездами, Юрий Димитриевич был одним из тех великих христиан, какие одухотворяли своим настроением окружавших одним только своим присутствием.
В последние годы он был едва ли не единственным активным работником в братстве Св. Иоасафа и руководил его деятельностью. Личная его жизнь сложилась несчастливо, но удары судьбы, казалось, только закаляли его детскую, прозрачно чистую хрустальную душу, где не было ни одного неверного изгиба или уклонения от требований правды. И, глядя на Юрия Димитриевича, я удивлялся каким образом он, прожив всю свою жизнь в Петербурге, среди столичной сутолоки, мог сохранить такую чистоту своей души и возвыситься до пределов совершенства, недоступных даже монахам, отрекшимся от мира и жившим вдали от него, каким образом могло случиться, что будучи прирожденным монахом, Юрий Димитриевич сделался горным инженером вместо того, чтобы быть иерархом Церкви, ее гордостью и украшением. Верно и сам Юрий Димитриевич удивлявший меня своими церковными и духовными познаниями, сознавал, что шел не своим путем, в разрез со своим призванием, ибо в последние годы своей жизни все чаще задумывался над вопросами иночества, скорбя о той непроходимой стене, какая стояла между монастырем и образованным классом... Известие о его смерти поразило меня такой болью, какую я испытал только один раз в своей жизни, лишившись матери.
Все чаще и чаще покидали мир лучшие люди, все сиротливее становилось на душе и не за кого было держаться.
Вокруг же бушевали стихии ада, владычествовал сатана...
Было страшно и жутко... Стою я, однажды, в храме за всенощной и мой взор случайно пал на высокое окно, через которое виднелись очертания горы, у подножия которой стоял наш скитский храм. Затрепетало мое сердце, когда на фоне зарева заходящего солнца я увидел черные силуэты большевиков, осторожно пробиравшихся, с ружьями в руках, через кусты и спускавшихся по направлению к церкви...
Увидела их и братия и ледяной ужас сковал всех. Как сейчас помню то страшное беспокойство, какое охватило особенно священнослужащих, совершавших богослужение… Дрожащим голосом, тихо, точно про себя, они подавали возгласы, и, будто приговоренные к смерти, не знали, продолжать ли богослужение, или прервать его, заблаговременно скрыться, или ждать нападения на храм. Страшно волнуясь, они безпомощно и робко оглядывались на игумена Мануила и, казалось, безмолвно вопрошали его, что им делать и как поступить...
– Чего ты уставился на меня, как баран, – крикнул на весь храм игумен, и этот властный голос старца с корнем вырвал панику, охватившую монахов. Богослужение продолжалось, хор стал петь еще громче, нисколько не смущаясь присутствием большевиков, которые, в числе 5-6 человек, вошли в храм.
По окончании всенощной игумен Мануил, поддерживаемый с двух сторон послушниками, не обращая ни малейшего внимания на большевиков, вышел из храма по направлению к своим покоям. Его сейчас же окружила толпа богомольцев, подошедшая под благословение.
– А вы, черти, почему не подходите под благословение, – обратился игумен к большевикам, – безбожники вы, нехристы, чего лазите по монастырям, да мутите народ, грабители...
– Батюшка, батюшка, – шепнул послушник, дергая игумена за рясу и останавливая его.
– Чего там, батюшка, – оборвал игумен, а затем, обращаясь к большевикам, сказал им: – Вас сколько здесь, 6 человек, ну а нас 26, убирайтесь, откуда пришли, а то прикажу выгнать...
Большевики, привыкшие, что перед ними все трепетали и не ожидавшие такой встречи, пришли в страшное замешательство и до того смутились, что, глядя на них, богомольцы, и особенно бабы, заступились за них.
А кто же из знакомых с деревней и крестьянским бытом не знает, в каких формах проявляется такое заступничество крестьянских баб, отражающее столько юмора им одним свойственного? Недаром крестьянские парни так боялись привхождения в их взаимные споры баб, особенно жалостливых, движимых только участием, но еще более обострявшим всякого рода споры. Так случилось и здесь. Желая сгладить неприятное впечатление от слов игумена, бабы сказали ему:
– Батюшка, да то они так только сдуру, а ребята они ничего себе...
Сказанные на малороссийском языке, эти слова приобретали обидный смысл и задевали самолюбие большевиков, которые были пристыжены настолько, что ушли из скита, ничего не тронув и отказавшись даже от предложенной им трапезы.
– Не жизнь, а каторга, – нередко раздавалось в среде братии...
И умный игумен Мануил всегда находил слова, вразумлявшие братию.
– На каторге только подневольный труд, а нет страха за завтрашний день, за свою жизнь, все живут на готовом, обо всех заботится начальство, только воли нет свободной... А на что она монаху... А сейчас Господь послал такое время, что позавидовать можно и каторге... Трепетать приходится день и ночь, от страха работа валится из рук, молитва на ум и на сердце не идет, дрожим все, точно приговоренные к смерти... Не знаем на что и для кого трудиться... Завтра придут жиды и все заберут, да вдобавок еще и убьют... Вот оно что! А откуда же трепет, откуда не знающий жалости к жертве страх?.. От маловерия! От непонимания, что значит нести крест Господень и в чем сей крест заключается!.. Заключается же крест Господень в скорбях, печалях и болезнях, в трудах и заботах, в досадах, огорчениях и неудачах, в туге душевной и телесной. Многозаботливость и многопопечение увеличивает тяжесть креста, а смелое предание себя воле Божией снимает эту тяжесть. Думайте не о грядущих напастях, а о том, что вы – дети Божии, хотя и окаянные и недостойные, а все же Его дети... Он ли, Милосердный, не попечется о вас?! Тогда и страха не будет...
Игумен Мануил представлял собой в данном отношении полную противоположность своей братии. Он вырос и состарился в совершенно иных условиях жизни, отвергал революцию, как таковую, вовсе не считался с ней, не признавал ее и даже не хотел верить тому, что революция – совершившийся факт, с которым приходится считаться поневоле. Он был слишком умен для того, чтобы радоваться революции, однако же, как и всякий крестьянин, был уверен, что революция коснется только интересов господского класса и не заденет ни его лично, ни результатов его упорного долголетнего труда.
На большевиков он смотрел так же, как смотрел на каждого бунтовщика и смутьяна в стенах своего скита и, не допуская соглашательства с последним, не мыслил иного отношения и к большевикам, возмущаясь общим пресмыкательством перед ними и жалуясь на то, что русский народ без боя сдал свои позиции "страха ради иудейска". В этом игумен Мануил был безконечно прав, а своим собственным примером оправдывал свои теории.
Положение в Киеве становилось все более нестерпимым; с просьбой о приюте в скиту обращались к игумену Мануилу даже епископы, но игумен категорически отказывал им, ссылаясь на то, что содержание епископов разорит скит. Тем не менее, каким-то образом в скит пробирались не только монахи из Киевских монастырей, но даже миряне, при чем последние без ведома игумена, а по протекции низшей братии.
Приехал из Киева и иеромонах С., с которым я впоследствии очень подружился, найдя в его лице человека исключительной эрудиции и начитанности в области истории еврейского вопроса. Он изумлял меня своими колоссальными познаниями по этому вопросу и являлся на редкость интересным и ценным собеседником.
"У нас много разных наук, – сказал он мне однажды, – но не хватает главной, какую нельзя и назвать иначе, как наукой из наук, не хватает "жидоведения". Без этой науки не только Россия, но и вся вселенная будут находиться впотьмах. Наука эта сложная и корни ее восходят к временам глубокой древности. Историю еврейского вопроса мало кто знает, природа еврейских идеалов также неведома большинству, их задачи и цели – тем меньше, ибо иначе христианские народности не помогали бы евреям осуществлять эти задачи. Между тем, знать еврейский вопрос христианам так же нужно, как нужно слепому иметь палку... Науку "жидоведения" нужно сначала создать, а затем преподавать ее во всех учебных заведениях, начиная от начальных школ и кончая университетом, сделать се обязательной на всех факультетах. Но одного только теоретического усвоения этой науки мало, а нужна и практическая реализация приобретенных знаний, которая предполагает крупную реорганизацию всего нашего правительственного аппарата. При каждом министерстве, не исключая и Синода, должны быть созданы специальные департаменты, ведающие еврейское дело в России. Деятельность евреев во всех государствах и в России объединяется едиными директивами, идущими из единого центра, и ее проявления совершенно не зависят от того, будут ли евреи в России, или не будут, останутся ли, после возрождения России, или будут из нее выселены. Такие департаменты нужны безусловно, и, пока над еврейством не будет создан организованный международный государственный контроль, до тех пор борьба с евреями невозможна. Проникая в разнообразные сферы государственной жизни, евреи систематически подтачивали государственность, а между тем главы государств этого не замечали именно потому, что не были знакомы с наукой "жидоведения". Такие же департаменты должны быть созданы во всех прочих государствах Европы и Америки и только тогда можно будет серьезно говорить о едином христианском фронте в противовес 3-му Интернационалу. Рано или поздно, но такой фронт будет создан ценой величайших потрясений всех христианских государств мира, и благоразумнее создавать его теперь, чем дожидаться, когда он будет создан на развалинах погибших государств, как это случилось с Россией, благодаря ее беспечности. Русские любят говорить об историческом призвании России, но видят его только в помощи и поддержке западных славян, чуждых нам не только по обычаям и укладу жизни, но возможно, что и по духу и даже по вере, несмотря на их официальное православие. Однако, миссия России заключается не во вмешательстве ее в политическую жизнь западного славянства, ибо по существу, такое вмешательство являлось лишь вторжением в область Божественного Промысла в отношении славян, а заключалась миссия России в защите христианства на земле, иначе – в борьбе с его врагами. И эту миссию Россия еще не выполнила и, по-видимому, только теперь осознала ее."
И о. иеромонах С., познакомив меня с идеей своего труда, коим был занят, прочитывал мне некоторые выдержки составляемой им науки "жидоведения", разворачивая в стройной системе ее общие положения и останавливаясь подробно на исторических предпосылках.
Мое изумление было безгранично. Глядя на этого благолепного старца, я мысленно спрашивал себя, каким образом этот подлинно великий и ученый муж мог прожить свою долгую жизнь незамеченным и состариться в сане провинциального иеромонаха, тогда как он был не только вполне законченным по уму и образованию государственным человеком, но и одним из самых выдающихся среди них, человеком, каких было так мало в России и какие были так нужны.
И, отвечая мне на мою просьбу, иеромонах С. рассказал мне свою биографию.
Вскоре после окончания курса в Киевской Духовной Академии и принятия монашества, иеромонах С. был причислен к братии Никольского монастыря на Печерске и быстро выдвинулся, будучи назначен казначеем монастыря, настоятелем которого был епископ Каневский, один из викариев Киевского митрополита. Должность эта высокая и является переходной к должности настоятеля монастыря, и иеромонах С. был уже накануне возведения в сан архимандрита. Но тут произошла смена архиереев и настоятелем Никольского монастыря был назначен епископ Иннокентий, человек ограниченный и поддававшийся чужим влияниям. Сменен был и Киевский губернатор и на его место был назначен граф П.Н. Игнатьев, впоследствии министр народного просвещения, человек чрезвычайно чувствительный к голосу общественности и искавший популярности. Оба эти назначения оказались роковыми для иеромонаха С., в лице которого и архиерей и губернатор увидели ярого юдофоба и черносотенника и подвергли его неслыханным гонениям и преследованиям, вплоть до увольнения от должности казначея. Заступничество митрополита Флавиана спасло иеромонаха С. от окончательной гибели, однако не восстановило его в правах и не создало ему условий, обеспечивших бы возможность продолжения научных работ, которыми он занимался и которые так и остались незаконченными. "Революция же уничтожила и то, что было раньше собрано, и теперь приходится начинать сначала", – закончил о. С. свою печальную повесть.
"Вот и Распутин, вызвавший революцию и погубивший Россию", – думал я, слушая о. С.
Кто только не трудился над разрушением русской государственности, в каких только местах не были заложены семена разложения!..
И как бы в подтверждение теорий иеромонаха С. я получил от неизвестного, случайно встретившегося со мной человека, карманную записную книжку с рядом отметок и заметок по еврейскому вопросу. Передавая мне свою книжку неизвестный просил меня сберечь ее и, при случае, отпечатать то, что будет мной признано имеющим общее значение и явится в моих глазах ценным. Возвратясь в свою келлию, я развернул эту книжку и под датой "10 ноября 1904 года", т.е. за год до первой еще революции, прочитал коротенькую запись под заглавием "Еврейский Король". Воспроизвожу эту запись без малейших изменений.
"На этих днях я говорил с приехавшим сюда киевлянином об умершем еврейском короле Лазаре Израилевиче Бродском. Боже мой, что это был за великий еврей, какой пламенный патриот!.. Я никак не думал, что торжественные похороны Бродского в Киеве были похоронами короля, что речи над его гробом были речами его подданных, искренне его любивших, и мне хочется воспеть его, как великого патриота еврейского королевства, которое, нужно думать, скоро образуется на территории Российского государства. Мне хочется сказать самому себе и моим братьям русским: "Подражайте ему, подражайте ему, делайте для своего отечества, для "бедного" русского царства то, что делал для еврейства этот "бедный" Лазарь, как его называли льстивые уста пресмыкателей.
Этот король удесятерил миллионы своего отца Израиля Бродского, нажитые скупкой имений на имя русских; он задушил Общество Пароходства по Днепру, устроив ему конкуренцию в сильном еврейском пароходном обществе, и затем слил оба общества в одно; он участвовал во всех банках и акционерных предприятиях, довел акции Киевского городского трамвая с 90 до 500 рублей; он был полным хозяином в сахарном деле, устанавливал цены на сахар, открывал новые рынки сбыта, разорял одних, обогащал других; он купил Московский пивоваренный завод в Хамовниках, акции которого принадлежали одному очень влиятельному лицу в Юго-Западном крае; он, как паук, расставлял сети повсюду, проникая в толщу городской общественной жизни Киева и всего Юго-Западного края и подчиняя ее своей воле, программе, задачам и целям.
В Городской думе у него была своя сильная партия, через которую он душил все русское, травя честных русских людей, лишая их инициативы, подвергая гонениям и преследованиям; он имел сильную партию среди профессоров Киевского университета, давил все, ускользавшее из под его ярма, услащенного лукулловскими обедами и ужинами, щедрыми подачками и царскими приемами... В его приемной толпились представители русской знати с громкими именами, и здесь зрели планы господства евреев над Россией, подвергались остракизму наиболее энергичные, независимые, честные русские патриоты и верноподданные Царя... Борьба с ними велась умно и хитро. Где деньгами, где жертвами, где покупкой имений нужным людям, где взятием их на службу к себе или к своим агентам, где подкупом, где женщинами... Лазарь Бродский был умен и талантлив, ловок и изворотлив... Его живые, черные глаза горели ярким, дьявольским огнем, а острый мозг поддерживал в течение длинных часов приема то бойкий фривольный разговор с ничтожным человеком, то игривый – с дамой, то почтительный – с сановником. Именитое еврейство Северо- и Юго-Западной России толпилось в его приемных, спрашивало его советов и получало от него мысли, директивы и субсидии. Это был страстный защитник еврейства в России, много поработавший для его подъема и господства, и вносивший в свою борьбу с Россией всю страстность еврея, всю жестокость расы. Это был убежденный враг России и всего русского, работавший над разрушением русских государственных основ с ярко пылавшей ненавистью к ней, с чисто сатанинской злобой и неукротимой энергией, не имевшей примера. Когда он появлялся за границей, то к нему со всех сторон стекались разного рода дельцы и иностранные банкиры, бесчисленные депутации из разных мест, и он принимал всех, наделяя их подачками, хотя к заграничным евреям и не проявлял той горячей любви, какую питал к русским. Он не любил сионизма и палестинцев, ибо считал "обетованной землей" Россию, где ему самому жилось тепло и где положение евреев было лучше, чем где-либо в другом месте. Заграничных евреев он считал аборигенами, не сознававшими того, что им давно пора выехать из-за границы и переселиться в Россию, чтобы участвовать в общей работе по завоеванию ее, порабощению русского народа и превращению России в еврейское королевство. Для такого превращения не нужно, по мнению Бродского, ни армии, ни снарядов, а нужно дать русскому еврею только технику и просвещение и тогда он сам завоюет оборванную, ходящую в лаптях Россию.
Поэтому он особенно горячо поддерживал просвещение, создавая повсюду, где было можно, массу еврейских школ и ремесленных училищ, и субсидировал их или явно, или тайно. Умный и хитрый, он всегда имел пред собой только одну цель – торжество еврея, уничтожение христианского идеала и русского патриотизма, и шел неуклонно к этой цели, ни на одно мгновение не теряя ее из виду.
Учитывая значение печати, он создавал еврействующие газеты ("Заря", "Жизнь Искусства" и др.), субсидировал их или, наоборот, душил, когда они уклонялись от намеченных им программ; считая всех русских "юдофобами", он разжигал политические страсти у неумных людей и, хорошо зная природу "украинства", особенно настойчиво поддерживал украинофилов, которые работали над разрушением русской государственности и являлись его союзниками. Когда положение еврейства в Юго-Западном крае ухудшалось почему-либо, когда во главе администрации попадались случайно русские люди, не поддававшиеся его чарам, тогда он изменял тактику и щедро жертвовал на чисто русские предприятия и учреждения и даже на православные храмы, чем покупал себе расположение и страховал себя от подозрений. В этих целях он не останавливался даже перед явно убыточными жертвами, к числу которых нужно отнести крупное пожертвование на учреждение в Киеве Бактериологического института. При всем том, он был уверен в себе и своей безопасности настолько, что однажды даже сказал: "Если бы я хотел уничтожить русских людей, то сделал бы это 10 раз, я этого не делаю, потому что они мне нужны". Он был связан с всемирным кагалом тесными узами родства. Швейцарский Дрейфус был женат на его дочери, другая дочь была замужем за петербургским влиятельным евреем. Ротшильды, Каганы, Грегеры, Горовицы и другие были его родственниками. Это был человек исключительного ума и чисто дьявольской изворотливости, человек, пылавший величайшей ненавистью к христианству, уничтожение которого являлось не только целью, но и идеей его жизни, это был прежде всего убежденный еврей и величайший еврейский патриот. О, если бы мы, русские, взяли бы с него пример и проявили бы в борьбе с еврейством хотя бы тысячную долю той энергии, какую Лазарь Бродский развивал в борьбе с христианством, то не было бы у нас ни одного еврея. Но если мы не спохватимся сейчас же, если не соединимся для дружной работы, если не осознаем, насколько такая работа сделалась уже кричащей необходимостью, тогда Россия погибнет, тогда она превратится в еврейское государство. И это будет, если мы не вдумаемся в эти слова и отнесемся к ним только как к звукам, а не как к предостережению Божиему."
Я прочитал эту запись, и у меня опустились руки... Да, это был действительно голос Свыше, было вразумление и предостережение, данное милосердным Господом еще в ноябре 1904 года, и, однако, никто не обратил на него внимания, а теперь, в 1917 году... России уже не было, а вместо нее созидалось и укреплялось на русской территории еврейское царство.
Просмотрел я и другие записи в книжке, но они относились уже к 1917 году, и, как они ни были содержательны и интересны, но я их не воспроизвожу, ибо написаны они уже в позднейшее время и являются лишь выводами и впечатлениями.
Я вернулся к иеромонаху С. и поделился с ним прочитанным. Нового для него ничего не было. Он склонил свою седую голову и сказал: "А вот заграница, да и сами русские обвиняют Россию, иначе правительство, в антисемитизме... Вот он какой этот антисемитизм в действительности! На глазах русских людей разрушалась вся Россия, а юдофилов в России было больше, чем во всем мире, а жидовствующих... и не перечесть. Все, кто хотел быть популярным, жидовствовали, а кто же не хотел?"
Прав, глубоко прав был иеромонах С.
Молодой человек, передавший мне рукопись, бесследно исчез, и я так и не узнал, кто он и откуда явился ко мне.
Вслед за иеромонахом С. приехал из Киева и профессор Киевской Духовной Академии архимандрит Тихон, впоследствии епископ Берлинский, кажется, вызванный на этот раз игуменом Мануилом для совершения обряда пострижения в схиму. Игумен Мануил очень не любил ученого монашества и не стеснялся в выражениях своего недоброжелательства даже лично к о. архимандриту. Предо мной раскрылась еще одна аномалия в недрах иноческой жизни – огромная пропасть, разделявшая ученое монашество от прочего, состоящего из простонародья, ревниво оберегавшего приобретенные иночеством привилегии. Эта ревность доходила до абсурда, и в каждом представителе ученого монашества, а тем более в лице мирян, только временно проживавших хотя бы по соседству с монастырем, братия видела не то ревизоров, контролировавших их жизнь и поведение, не то лиц, покушавшихся на их благополучие. Достаточно было монаху, хотя бы и вышедшему из крестьянской среды, получить образование и примкнуть к "ученому" монашеству для того, чтобы он переставал быть "своим" и находился бы на подозрении у своих прежних собратьев.
Архимандрит Тихон и лично тяготился пребыванием в скиту, и вскоре по совершении обряда пострижения игумена Мануила в схиму уехал из скита.
С каждым днем настроение в скиту делалось тревожнее... Достаточно было большевикам найти дорогу к нему, дабы их посещения участились, и не проходило дня, чтобы жизнь не нарушалась внезапными налетами негодяев. Одновременно росли и слухи, один ужаснее другого, и эти слухи впоследствии подтверждались. В соседнем монастыре большевики перерезали братию и ограбили имущество; в одном из прилегавших к скиту сел убили священника, жену и детей его; в Уманском имении, принадлежавшем скиту, расстреляли настоятеля храма, заведывавшего имением, и нескольких монахов. Братия скита трепетала... Один только игумен Мануил сохранял невозмутимое спокойствие. И как же дорого было это спокойствие для окружавших, с какой любовью взирали на игумена даже те, кто втайне его ненавидел, когда игумен, сидя за обедом, смаковал его, продолжая спокойно сидеть за столом в те моменты, когда большевики грабили хозяйство скита и угрожали игумену убийством. В этих случаях растерянная братия бросалась к игумену и, вместо того, чтобы защищать его, сама пряталась за игумена и просила его защиты. Между тем в распоряжении игумена, кроме запаса бранных слов, не имелось никаких других средств самозащиты. Он был немощен и стар, толст и неподвижен, и вся его наружность отражала нечто до крайности комическое, его природа была точно насыщена юмором. Он не испытывал ни малейшего страха перед большевиками, а наоборот, был убежден, что они боятся его, ибо должны бояться, должны ценить в его лице игумена и подчиняться ему.
Был день, когда большевики, ворвавшись в скит, начали открыто грабить его. Братия прибежала к игумену и подняла вопль.
– Гони их к чертям, не дадут даже пообедать спокойно, – сказал игумен, громко отрыгнувшись.
Однако братия была до того терроризована и запугана, что без игумена не решалась возвращаться к большевикам, которые собирались уводить лошадей и коров.
И, приказав вести себя под руки, игумен Мануил, тяжело переваливаясь с одной ноги на другую, вышел к большевикам и разразился страшной бранью. Эффект, однако, получился на этот раз обратный. За каждым его словом следовала такая отрыжка, какая мешала ему говорить и какая, в результате, вызывала дружный смех не только у большевиков, но и у братии. Я уже упоминал о наружности о. игумена, на которую нельзя было смотреть без улыбки, и читатель может себе представить эту картину разноса большевиков игуменом, вся фигура которого и отрыжка, сопровождавшая каждое его слово, так настойчиво опровергала его ссылки на скудость материальных средств скита, живущего впроголодь.
Пересмеиваясь между собой, большевики делали свое дело, однако игумена не тронули, а уходя из скита и уводя лошадь и корову, даже сделали в шутку под козырек.
– Оставьте же хотя корову, подлецы, на какого черта она нужна вам, – бросился им вдогонку игумен, – разве вы, такие-сякие, не знаете, что коровка здесь и выросла в скиту...И игумен замахнулся на них палкой, приведя своей смелостью в изумление братию, которая удерживала игумена, опасаясь худшего и хватала его за рясу.
– А почем мы знаем, где коровка выросла, нам это без последствий, – огрызнулся кто-то из большевиков.
Но таковы уже свойства русской, крестьянской логики, коим верны остались и большевики. Спор немедленно перешел в другую плоскость, и началась перебранка по вопросу о том, где выросла коровка, и судьба ее была поставлена в зависимость от того, как этот вопрос разрешится. Конечно, вся братия начала клятвенно заверять, что коровка и родилась и выросла в скиту, и... в результате коровку удалось отстоять, а лошадь большевики увели с собой.
На радостях игумен приказал дать коровке двойную порцию сена.
– Да прибавьте ей еще чего-нибудь, – сказал игумен, погладив коровку по голове с той любовью, о которой говорили его добрые глаза.
Эти налеты до крайности нервировали брата и меня, и мы жили не только под угрозой быть ежеминутно схваченными, но и под угрозой причинить много огорчений скиту, нас приютившему. Появлялись большевики и на пасеке, причем меня всякий раз прятали, запирая на ключ мою келлию и заставляя дверь с наружной стороны тяжелыми шкафами. Между тем, Киев непрерывно осаждался то повстанцами, то полками белой армии Деникина, и большевики доживали свои последние дни. Сильнейшая канонада раздавалась днем и ночью, и мы со дня на день ждали своего спасения. Однако прежде чем оно наступило, пришлось пережить еще одно последнее, но зато и самое тяжелое испытание, о котором я и до сих пор вспоминаю с нервной дрожью. В ночь с 5 на 6 августа, под праздник Преображения Господня, послышался робкий стук в дверь моей келлии. Я вздрогнул и спросил, кто там.
– Не бойся ничего, – сказал мне глухим голосом мой брат, – открой дверь...
Я увидел пред собой брата, иеромонаха С., казначея скита иеромонаха Корнилия и еще кого-то – точно не помню. Было 2 часа ночи.
– Не бойся, – сказал мне еще раз мой брат, – одевайся скорее... Получилось известие, что большевики узнали, где мы находимся и хотят сделать обыск в скиту. Нам нужно скрыться в другое место, куда мы сейчас и пойдем пересидеть некоторое время.
Я почувствовал, как сильно затрепетало мое сердце... Мое волнение еще более увеличилось, когда я взглянул на брата, который силился меня успокоить, но сам испытывал такое же волнение. Я быстро оделся и покинул свою келлию. Весь скит уже был на ногах и общая суета и тревога не укрывалась от меня. Я догадывался, что от меня что-то скрывали, но глядя на идущих со мной, не расспрашивал их. Мы вышли в противоположную сторону, не по направлению к выходу из скита, и я спросил: "Куда мы идем?"
Кто-то ответил мне, что не стоит идти через двор и ворота скита, а для сокращения расстояния лучше идти напрямик. И мы пошли по прямой линии, преодолевая всякие препятствия, перелезая через высокие заборы, причем мне то и дело напоминалось, что не нужно делать шума и стараться идти молча, незаметно. Я недоумевал, зачем нужны были такие предосторожности, когда большевики только "собирались" являться в скит и было даже неизвестно, когда явятся. Я не знал того, что от меня скрывалось, именно, что большевики уже давно пришли и в тот самый момент, когда мой брат явился за мной, они уже рыскали по всему скиту и обыскивали келлии монахов. Об этом мне сказали мои спутники лишь тогда, когда мы вышли за территорию скита и находились в лесу.
Моросил мелкий дождь, тучи стремительно неслись по небосклону, то скрывая луну, то заволакивая ее тонким покровом. Казалось, что не тучи, а луна куда-то летела, то прячась за тучи, то выглядывая из них для того, чтобы показывать нам дорогу.
Мы шли в лесную дачу, принадлежавшую Покровскому монастырю и отстоявшую от скита на расстоянии 4-5 верст. Однако прошло уже два часа, а мы все шли и шли, а дача не показывалась. Я чувствовал, что начинаю уже терять силы. Навстречу попадались нам костры и возле них силуэты солдат с ружьями за плечами.
"Это большевики", – раздавалось шепотом, и мы сворачивали в сторону и обходили их. Таких встреч было несколько, но Господь невидимо хранил нас, и мы успевали замечать их вовремя и менять направление дороги. Наконец мы подошли не то к протекавшей в лесу реке или ручью, не то к огромной луже, настолько глубокой, что перейти ее вброд не представлялось возможным. Обходить же ее было опасно, ибо мы неминуемо встретились бы с большевиками. Мы остановились в нерешительности, не зная, что делать. Выручил нас иеромонах Корнилий, который снял сапоги, подвернул до колен брюки и поочередно перенес на своих богатырских плечах сначала брата, а затем меня. Мы пошли вперед... Какое-то непонятное ощущение овладевало мной... Тоска давила меня, предчувствие чего-то тяжелого, неотвратимого, неизбежного теснило меня и сковывало, и в то же время какая-то необъяснимая апатия овладевала мной... Сознание не работало, я шел, вперив взор вперед, машинально переступая ногами, и чувствовал такую бесконечную усталость, такое безмерное томление духа, что, казалось, отдался бы большевикам, не сделав ни малейшего усилия вырваться из их рук.
Вдруг, точно вкопанный, я остановился на месте и едва не вскрикнул. В нескольких шагах от меня, пересекая нам дорогу, шло какое-то неведомое животное, окрашенное в ярко-пепельный цвет, величиной в теленка. Животное шло медленно, точно не обращая никакого внимания на идущих, мотая головой и разваливаясь во все стороны, как ходят тигры, и вдруг мгновенно исчезло на моих глазах, каких я не сводил с него.
"Видели?" – спросил я своих спутников, трепеща всем телом...
Никто ничего не видел, я же остался в убеждении, какого держусь и доныне – что видел диавола в образе неведомого, не существующего на земле животного. Я не допускаю, что мои нервы, как бы ни были развинчены, могли создать в моем воображении подобную картину, ибо необычайную фигуру этого на редкость гнусного по виду животного, вижу и до сих пор пред своими глазами.
Прошло уже четыре часа, как мы вышли из скита, и я от утомления, с окровавленными ногами, свалился на землю и не мог идти дальше.
Было уже светло... Но мы находились уже на расстоянии нескольких сот сажен от лесной дачи, и между моими спутниками было решено, что иеромонах Корнилий пойдет на разведку и предупредит о нашем приходе матушку, заведывающую дачей, а остальные останутся дожидаться в лесу.
Прошло не более получаса, как о. Корнилий вернулся, заявив, что лесная дача занята большевиками, которые пока еще спят, и что нам нужно, как можно скорее, спасаться от них бегством. Куда? Никто не знал. Это известие как громом поразило нас и особенно меня, не имевшего уже физической возможности подняться с земли. Однако делать было нечего. Страх победил усталость, и мы снова выбрались из леса и очутились в поле, не зная, что делать дальше и в каком направлении двигаться.
Но милосердный Господь, охранявший нас в пути, послал нам неожиданно чудесную помощь. Не прошло и часу, как мы услышали шум подъезжавшей к нам кибитки, посланной за нами из лесной дачи вдогонку, с известием, что большевики, переночевав в даче, ушли в неизвестном направлении и что мы можем вернуться обратно. Так мы и сделали и, приехав в дачный домик, улеглись, измученные и усталые, спать...
Было уже около двух часов пополудни, когда мы вновь были испуганы неожиданно прибывшим из скита послушником с каким-то поручением к иеромонаху Корнилию от игумена Мануила. Страх, однако, быстро рассеялся. Послушник объявил, что большевики уже уехали из скита, увезя с собой жившего в скиту, без ведома игумена Мануила, какого-то бывшего казначея или кассира, служившего раньше у них, а затем им изменившего, что предположение о намерении их разыскивать "князей", оказалось неосновательным, что они даже не спрашивали обо мне и брате, а явились к этому кассиру и, арестовав его, увезли с собой. В заключение, игумен просил нас всех вернуться обратно в скит.
Чудо Божие снова свершилось над нами, и мы благополучно вернулись в скит, где игумен ожидал нас с чаем, сидя за самоваром.
– Учитесь прозревать благую волю Господню о нас в событиях повседневной нашей жизни, – сказал игумен, слушая наш рассказ о том, как мы сбились с пути, и вместо того, чтобы пройти три версты, проблуждали ночью около 15 верст.
– Если бы не сбились с дороги, то наткнулись бы на большевиков, а они бы и перестреляли вас всех, вот Господь и не захотел этого и укрыл вас, – закончил мудрый игумен.
И, вспоминая теперь об этом новом заступлении Божием, таком очевидном, таком чудесном, я только и могу воздать хвалу Богу, не постигая того, как безмерна любовь Божия к грешному человеку и как близок к нам Милосердный Отец наш Небесный.
Неделю спустя добровольцы ворвались в Киев, выгнали оттуда большевиков, и мы с братом могли вернуться к себе в дом.
Это было 15 августа 1919 года, в день Успения Пресвятой Богородицы.
Долг глубокой благодарности к игумену Мануилу заставляет меня почтить сердечной признательностью его память.
Это был человек старого закала, своеобычный, настойчивый, подчас тяжелый и трудный в общежитии, но человек глубокой, чисто детской веры, являвшейся для него и крепостью и силой. Мало образованный и просвещенный светом знания, весьма скептически относясь к завоеваниям науки, он опирался только на свою веру и сквозь призму ее рассматривал и оценивал окружающее. Его вера раскрывала пред ним необъятные горизонты невидимого, казалось, обнажала и тайны загробного мира и давала ему такое спокойствие, рождала такую силу духа, какая заражала малодушных и какую не в силах были ослабить никакие земные ужасы и страхи так жестоко терзавшие маловерных.
И, глядя на игумена Мануила, я все более убеждался в том, что каждому человеку нужно ровно столько знания, чтобы уметь сквозь призму его видеть, познавать и любить Бога, что надмевает не знание и наука, а гордость, что приближает к Богу не простота и невежество, а смирение, и что гордость и смирение одинаково могут принадлежать и ученым и простецам.
Великая вера игумена Мануила никогда не посрамляла его, и благодать Божия видимо почивала на нем, охраняя и защищая его, и благославляя его труды.
11 мая 1920 года он скончался и погребен там же, в скиту, в заранее приготовленном склепе. Мир праху твоему великий труженик и честный монах! Упокой, Господи, смиренную душу раба Твоего схиигумена Серафима!
ГЛАВА 18. Профессор П.Я. Армашевский
(† мая 1919 г.)
Не могу не воздать долга глубочайшего уважения к памяти замученного жидами незабвенного профессора Киевского университета Петра Яковлевича Армашевского, в числе прочих киевлян посещавшего наш дом в кошмарные годы 1917–1919, в разгар неистовств щирых "украинцев" и большевиков, руководимых жидами. Я лично мало знал П.Я., хотя с женой его, рожденной графиней Капнист, нас и связывали родственные отношения. Живя постоянно в Петербурге, я имел мало знакомых в Киеве и познакомился с П.Я. лишь после революции, заставившей меня вернуться в свой родной город, встретиться с старыми знакомыми и приобрести новых. Однако и кратковременное знакомство с П.Я. оставило в моей памяти неизгладимое впечатление. Это был законченный государственный человек огромного ума, знавший, где зарыты корни революции и потому столь ненавистный жидам. Его беседы по поводу совершавшихся событий отражали безнадежный пессимизм. Он не видел просветов в близком будущем и доказывал, что никакая логика ума, никакие доводы разума не в состоянии изменить психологии толпы и что кровавые ужасы будут длиться в России до тех пор, пока народ не прозреет настолько, чтобы увидеть за ними жида, кровью ритуальных массовых убийств заливающего Россию. "Сейчас еще нет почвы для пробуждения народного сознания и, следовательно, возрождения России, пройдут еще долгие годы, прежде чем такая почва явится в России, и еще более долгие годы, пока Западная Европа очутится пред угрозой собственной гибели и поможет России уничтожить большевичество, а на рыцарство рассчитывать не приходится..."
Прошло много лет с того момента, когда эти слова были произнесены профессором П.Я. Армашевским и его друг А.В. Царинный, письмом за № 40, от 9/22 июля 1924 года, поделился со мной своими воспоминаниями о покойном, настолько ярко отражающими облик П.Я., что я позволяю себе привести их полностью.[3]
"Кровавый из кровавых 1919 год, – пишет А.В. Царинный, – был временем непрерывной гражданской войны в России. На жидовскую власть в Москве ополчились: с юга – Деникин, с востока – Колчак, с севера – Миллер, с запада – Юденич; казалось, что должен прийти ей конец; однако чрезвычайки и глупая красная армия ее выручили. Украинские социалисты разных толков также примазались к противобольшевическому движению. Петлюра с помощью бывших австрийских генералов (Кравз-Торновского и др.) организовал в Галиции армию для наступления на Киев. По всей Южной России появились партизанские отряды, которые вели мелкую борьбу с большевиками. Особенно были известны банды: Зеленого – около Триполья, Струка и Соколовского – на Киевском Полесье, Тютюнника – в окрестностях Черкасс, Ангела – в Полтавской губернии, какой-то Маруси – на границе Киевщины и Херсонщины. Хотя предводители всех этих банд выступали под желто-голубым украинским флагом, но в сущности малорусское национальное чувство было им совершенно чуждо и непонятно, главными же стимулами их деятельности были грабительские инстинкты да упоение своеволием и разнузданностью при полной безнаказанности. В самих бандах дух царил большевический, т.е. беспощадно-разрушительный, хотя они, якобы, боролись с большевиками.
Если бы существовала высочайшая гора, с вершины которой была бы видна вся широкая русская равнина, то взор стоящего на вершине наблюдателя везде останавливался бы на трупах и трупах – на русских трупах. Эта картина трупов невольно приводит на память одну сказку в еврейском священном писании, которая, несмотря на сказочную оболочку, таит в себе глубокий реальный смысл. Однажды аммонитяне, моавитяне и обитатели горы Сеиры заключили между собой союз и соединенными силами выступили против иудеев (т.е. жидов). Иудейский национальный бог Яхве чудесным образом привел союзников в состояние безумия, они перессорились, и сначала аммонитяне и моавитяне истребили обитателей горы Саира, а потом взаимно истребили друг друга. "Когда иудеи пришли на возвышенность в пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот – трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего". Что же стали делать иудеи? Они "принялись забирать добычу, и нашли у своих врагов во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу; так велика была она" (2 Паралип. 20, 1-30). Вылущивая из сказки бытовую действительность, мы ясно видим, что иудеям удалось вероятно, при помощи подосланных шпионов и агитаторов перессорить ополчившиеся против них близкородственные племена, по сказанию происходившие от зачавших от отца дочерей Лота, и довести их до междоусобного кровопролития. Когда обезумевшие враги иудеев устлали поле трупами погибших собратий, тогда иудеи занялись грабежом принадлежавшего врагам их имущества. Это точное изображение роли жидов в русской революции и наступившей вслед за ней гражданской войне. Натравив одних русских на других во имя глупых и преступных лозунгов вроде: "Грабь награбленное!", "Мир хижинам, война дворцам!", "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!", жиды спокойно смотрели "с возвышенности" Московского Кремля на взаимоистребление русских русскими и плотоядно любовались картиной: "трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего". Как только Россия стала истекать кровью своих безумных сынов, жиды принялись ее грабить, и грабят не три дня, а вот уже семь лет – так велика добыча. [Книга писалась в 1923 году; добычи хватило и по сей день, т.е. еще на 70 лет. – Изд.]
Кроме материального обогащения, целью жидов в русской революции было еще истребление живых умственных сил русского народа. Направления и оттенки русской мысли имели мало значения в глазах жидов. Важно было, чтобы вообще не осталось людей способных мыслить, прозревать и, наконец, понять, кто истинный виновник русского ужаса. Поэтому, в частности, в Южной России, о которой мы ведем речь, чрезвычайки одинаково уничтожали и "малоруссов", и "украинцев", или, пользуясь другими терминами, и "богдановцев", и "мазепинцев", приверженцев и русской, и польской ориентации, и дорожащих русским литературным языком как своим родным, и стремящихся заменить его русско-польским жаргоном галицийской фабрикации. Летом 1919 года были расстреляны три видных представителя старого культурного слоя малороссийского общества: Петр Яковлевич Армашевский, Петр Яковлевич Дорошенко и Владимир Павлович Науменко. Первые два принадлежали к потомкам тех малороссийских старшинских родов, память о которых увековечена "Малороссийским Родословником" В.А. Модзалевского; В.П. Науменко происходил из более нового, но цивилизованного рода: отец его был уже директором гимназии.
П.Я. Армашевский (род. 1850 г.) окончил курс наук в Черниговской гимназии и в Киевском университете по естественному отделению. Посвятив себя ученой деятельности, он прошел в родном университете, по мере получения ученых степеней, обычный путь профессорской карьеры: был хранителем минералогического кабинета, доцентом, экстраординарным, ординарным и, наконец, заслуженным профессором по кафедре геологии и геогнозии. Его преподавание привлекало к изучению геологии молодые силы, и он оставил целую школу учеников, к числу которых принадлежат профессора Лучицкий и Дубянский. Как горячий сторонник высшего женского образования, П.Я. много забот посвятил организации Высших Женских Курсов, директором которых состоял в течение нескольких лет. Ученый интерес П.Я. сосредоточивался главным образом на изучении геологического строения Приднепровья, и в частности он был выдающимся знатоком наслоений, на которых расположен г. Киев. Это обстоятельство указывало Киевскому городскому самоуправлению приглашать П.Я. в комиссии по вопросам артезианского водоснабжения города и предохранения от оползней нагорных частей города вдоль берега Днепра. В последние годы пред революцией П.Я. был постоянным председателем думской комиссии по этим вопросам. Киев обязан П.Я. прекрасной разработкой сети артезианских колодцев, которая дала возможность городскому водопроводу заменить днепровскую воду артезианской в неограниченном количестве. Удачно придуманной и тщательно им инспектируемой системой штолен П.Я. добился прекращения оползней на Владимирской горке и в других угрожаемых ими местах. Теперь, когда П.Я. нет на его сторожевом посту, оползни пошли полным ходом, и, по газетным известиям от весны 1924 года, все Киевское нагорье от Андреевского спуска до Аскольдовой могилы грозит сползти в Днепр с дивным Андреевским храмом работы Растрелли и 93-мя усадьбами.
Как человек широкого европейского образования, ежегодно в каникулярное время ездивший за границу, чтобы следить за движением европейской мысли и техники, П.Я. не мог сочувствовать узким и нелепым тенденциям "украинцев", стремившихся загнать население Южной России в тупик "мовы" и социализма. Он горячо любил Россию, как культурное целое, а русскому языку всегда пророчил мировую роль. Такое настроение нисколько, однако, не препятствовало ему питать нежные чувства привязанности к Малороссии, как ближайшей родине, и интересоваться не только ее будущим хозяйственным и техническим развитием, но и прошлой судьбой. По матери, Марии Матвеевне, П.Я. был родным племянником славного историка Малороссии Александра Матвеевича Лазаревского и с величайшим интересом следил за разработкой местной истории в руководимом дядей журнале "Киевская Старина". П.Я. был постоянным посетителем ежемесячных собраний редакции журнала и вносил в них много оживления своими меткими, часто ироническими замечаниями.
Бывая за границей в последние годы перед мировой войной, П.Я. обратил внимание на необычайно быстро возрастающее влияние на европейскую жизнь банковского и биржевого капитала, сосредоточенного в руках жидов, на тесную связь этого капитала с социализмом и на подготовку им мировой войны. Он познакомился с немецкой и французской антисемитической литературой, которая раскрывала многие тайные пружины европейской политики, недоступные непосвященному взору. П.Я. почувствовал, что Россию ждет великое бедствие. Поэтому когда в Киеве по инициативе профессора Д.И. Пихна основался клуб русских националистов, чтобы отстаивать русскую идею на юго-западе России от жидовских и украинских козней и натисков, П.Я. охотно примкнул к нему и был избран товарищем его председателя.
Между тем разразилось дело Бейлиса, обвиняемого в ритуальном убийстве мальчика Ющинского. Жидовство всего мира бурно всколыхнулось и показало свою необыкновенную солидарность и мощь. Ко всеобщему изумлению национально настроенных русских киевлян, В.В. Шульгин, преемник Д.И. Пихна на посту главного редактора правого "Киевлянина", выступил с бестактной статьей в защиту Бейлиса. Под тяжелым впечатлением "измены" В.В. Шульгина (по существу это была задорная бестактность, вызванная плохой осведомленностью о тайнах жидовства) маленькая группа твердых русских националистов решила основать в Киеве вторую правую газету, которая более определенно и смело боролась бы с жидовским засилием. В организации газеты живое участие принял П.Я... Назвали ее – "Киев". Основанная на скудные средства, бедная сотрудническими силами, начавшая свое существование в неблагоприятную пору – накануне мировой войны и наступления агонии русской государственности – газета не успела (да и не могла успеть) завоевать себе широкий круг подписчиков и от острого безденежья постоянно качалась между жизнью и смертью. Заботы о газете доставляли П.Я. немало огорчений, и после трехлетней с лишком борьбы с неустранимыми препятствиями издание пришлось приостановить. Тем не менее "Киев" останется памятником тех усилий, какие напрягали немногие прозорливые люди в Киеве, чтобы раскрыть глаза власти и обществу на подготовлявшийся жидами политический переворот и спасти от разрушения здание русской государственности. Усилия эти оказались тщетными. Крушение русской монархии наступило через несколько месяцев после прекращения "Киева".
С кончиной Д.И. Пихна и с выступлением на политическое поприще сотрудника газеты "Киевлянин" А.И. Савенка, который в 1913 году был избран членом IV Государственной Думы, клуб русских националистов утратил свой прежний характер. Он сделался орудием в достижении А.И. Савенком его личных целей. Когда в Государственной Думе образовался столь пагубный для России прогрессивный блок, киевский клуб русских националистов под давлением А.И. Савенка переименовался в клуб прогрессивных русских националистов. Этим А.И. Савенко, сделавшийся после смерти профессора В.Г. Чернова председателем клуба, хотел подчеркнуть связь клуба с прогрессивным блоком Государственной Думы. Клуб подчинился дикататорской власти своего председателя и перестал быть кафедрой, с которой раздавались свободные голоса людей, объединенных идеей русского национализма, но различно смотревших на текущие вопросы русской политической жизни. Клуб должен был смотреть на все глазами А.И. Савенка, видеть в нем оракула, изрекавшего непогрешимые истины, и служить пьедесталом для его восходящего величия. Не сочувствуя замашкам А.И. Савенка, П.Я. в мотивированном письме сложил с себя звание члена клуба и перестал принимать какое-либо участие в его деятельности.
Объявление мировой войны застало П.Я. и его супругу за границей, в Карлсбаде. С большими трудностями пробрались они через Швецию и Финляндию домой. Перипетии войны П.Я. переживал с необычайным напряжением, постоянно скорбя, зачем великие христианские нации бросились взаимно истреблять друг друга к великой радости жидов, видевших в войне источник своего обогащения. Он как бы предчувствовал, что напишет жид Исаак Маркуссон в "Times" от 3 марта 1917 года: "Война – это колоссальное деловое предприятие; самое изящно-прекрасное в ней это организация дела". Особенно печалил П.Я. разрыв России с Германией, наука которой была духовной кормилицей длинного ряда поколений русских ученых. Для многих и многих из них имена Берлин, Мюнхен, Лейпциг, Геттинген, Иена, Галле, Гейдельберг, Бонн – напоминали лучшие, незабвенные дни молодого увлечения наукой и творческой работы мысли.
Супруга П.Я., Мария Владимировна, урожденная графиня Капнист, по первому мужу Врублевская, правнучка известного писателя екатерининского времени В.В. Капниста, автора "Ябеды", по влечению своего доброго сердца, в сотрудничестве с несколькими другими дамами, собирая доброхотные частные пожертвования, деятельно занималась заготовкой белья, фуфаек, рукавиц и прочих носильных вещей для снабжения ими сражавшихся на фронте солдат. П.Я., не жалея сил, приходил на помощь дамам там, где необходимо было его участие. Кто мог думать, что солдаты, бывшие предметом постоянных забот русской интеллигенции, скоро обратятся в свирепых красноармейцев и, по наущению жидов, жестоко расправятся с теми, кто болел за них душой и всячески старался облегчить им военные тягости и невзгоды.
Падение Российской империи произвело на П.Я. удручающее впечатление. Особенно возмутила его знаменитая телеграмма, разосланная по железным дорогам от имени какого-то ничтожного думца Бубликова, о том, что-де "власть перешла к Родзянку". "Как осмелился глупый Родзянко принять власть!" – горячился П.Я. – "Да ведь он не соображает, очевидно, что он творит". П.Я., насквозь знавший сухую, бессердечную, меркантильную Западную Европу, любил благостный русский царский режим и считал монархический образ правления необходимым для целости и сохранности России. Он всей душой ненавидел П.Н. Милюкова и людей его типа, легкомысленно мечтавших, по наукам жидов, о республиканской России. П.Я. был слишком умен и практичен, слишком близко изучил Россию во время своих, часто пешеходных, геологических экскурсий, чтобы не понимать, что республика в России – это значит упразднение самой России, как великого государства, осуществлявшего крупные культурно-исторические задачи.
С наступлением революции П.Я. совершенно удалился от общественной деятельности и замкнулся в своем кабинете, желая оставаться только сторонним наблюдателем того сумбура, который принесли так называемые "свободы". Он обрабатывал курс любимой кристаллографии, перечитывал классиков естествознания, углублялся в Святое Евангелие и предавался религиозным размышлениям о мудрости мироздания и о тщете человеческих усилий создать общежитие, противное основным свойствам и требованиям человеческой души. Религиозное настроение П.Я. подогревала и укрепляла жена его Мария Владимировна, пережившая в юности момент высочайшего подъема религиозного чувства. В юные годы она страдала какой-то загадочной болезнью ног, лишавшей ее свободы передвижения. Лучшие парижские врачи не могли добиться никакого улучшения. Однажды М.В. горячо молилась пред домашней иконой Пресвятой Богородицы и почувствовала себя исцеленной. Это чудо сделало ее навсегда глубоко верующей христианкой и направило ее в жизни на путь безропотной покорности воле Божией. Исцелившая М.В. чудотворная икона Богоматери сделалась потом общенародным достоянием и является главной святыней основавшегося в бывшем имении родителей М.В. (Кобелякского уезда Полтавской губернии) Козельщанского женского монастыря.
За два года уединенной жизни П.Я. (с марта 1917 по апрель 1919 года) шесть раз сменились политические декорации в Киеве: 1) Украинская Центральная Рада; 2) советский режим Муравьева и Ремнева; 3) опять Украинская Центральная Рада при германской оккупации; 4) гетманство П.П. Скоропадского; 5) Директория В.К. Винниченка и К°; 6) советский режим Раковского. Германская оккупация сначала казалась П.Я. лучом света, пронизывающим мрак революции, но вскоре он убедился, что германская государственность сама находится уже в периоде разложения и что с ней нельзя связывать никаких надежд. Густая беспросветная мгла спустилась над Киевом 25 января ст. ст. 1919 года, когда большевики овладели городом и открылся красный террор. П.Я. казалось, что раз он замкнулся дома и нигде не показывается, то палачи революции о нем не вспомнят и оставят его в покое. Но он забывал о жидовской мстительности. Даже своему богу, который является непосредственным отображением их души, жиды приписывают такую мстительность, что беззаконие отцов он наказывает в детях до третьего и четвертого рода (Числ. 14, 18). Лейба Бронштейн, посетив Киев в конце апреля ст. ст. 1919 года, нашел, что киевская чрезвычайка слабо работает, и поручил ей расстрелять киевских русских националистов. П.Я. был арестован в ночь на 29 апреля ст.ст. и расстрелян в первых числах мая после утонченных мучений и издевательств. Осиротевшая семья не могла добиться разрешения "власти" на получение его тела для христианского погребения. Нет ни на одном из киевских кладбищ ни могилы его, ни могильного над ней памятника, у которого почитатель П.Я. мог бы помолиться за душу усопшего мученика. Так погиб благороднейший человек, заслуженный деятель науки, учитель длинного ряда поколений киевских естественников, полезнейший гражданин города Киева, которому киевляне обязаны артезианским водоснабжением, славный сын Малороссии, горячо любивший свою ближайшую родину, но чувствовавший себя русским и мысливший Малороссию не иначе, как в виде неразрывной составной части Российской империи; погиб от руки негодяев, не умевших даже правильно написать его фамилию. Гнусный "протокол" гласит: "Слушали: о бывшем профессоре университета Армашове, – обвиняется в контрреволюции. Постановили: подвергнуть высшей мере наказания" (С.П. Мельгунов. Красный террор в России. Берлин, 1924, стр. 110).
П.Я. был европейцем в полном смысле этого слова, типичным представителем "арийского" племени. Высокого роста, могучего сложения, П.Я. совсем не производил впечатление старика, несмотря на свои 70 почти лет. Как многие ученые, государственные и общественные деятели Запада в этом возрасте, он чувствовал себя еще вполне бодрым и трудоспособным, и с юношеским увлечением предавался любимым умственным занятиям. Жизнь его духа была прервана насильственно, когда она еще не успела завершить своего естественного цикла.
Верная подруга П.Я., Мария Владимировна, пережила его только на полтора года. Укрываясь от преследований чрезвычайки сначала в Киеве, а потом в Одессе, она не имела ни минуты покоя, как от тоски по любимом муже, так и от постоянного опасения попасть в руки большевических палачей. Осенью 1920 года она заболела какой-то изнурительной болезнью, не выясненной врачами, и скончалась в Одессе, в нищенской обстановке, 6 декабря ст. ст. того же 1920 года.
ГЛАВА 19. Князь Д.В. Жевахов.
(† в июле 1919 г.)
Трудно передать картину неистовств и зверств сатанистов, державших Киев в течение шести месяцев, с февраля по август 1919 года, в своих кровавых и цепких объятиях. Трудно верить, что в течение этого полугода украинцами-петлюровцами и большевиками расстреляно, по сведениям одних – свыше 40.000, а по сведениям других – около 100.000 интеллигенции. Никакое перо не в состоянии описать тех ужасов, какие совершались цинично и откровенно среди дня, когда каждого прохожего, по виду интеллигента, хватали и бросали в подвалы чрезвычаек, подвергая неслыханным издевательствам и мучениям, а затем отвозили в загородные кладбища, где живыми закапывали в могилы, вырытые предварительно самими же жертвами. Еще ужаснее было то, что творилось под покровом ночи и что обнаружилось лишь позднее, после прихода Деникинских войск в день Успения Божией Матери 15 августа 1919 года. Когда солдаты явились на Садовую 5, где помещалась одна из Киевских чрезвычаек, то обнаружили в огромном сарае усадьбы густую желтую липкую массу, подымавшуюся от пола до верху свыше чем на аршин, так что они были вынуждены очищать этот сарай, стоя по колени в этой массе. То были человеческие мозги... Здесь, в этом сарае, несчастные жертвы не расстреливались из ружей и револьверов, как в других местах, а убивались ударами тяжелых молотов по голове, причем от этих ударов мозг вываливался на асфальтовый пол сарая. В течение дня и ночи фургоны, с наваленными на них трупами и торчащими во все стороны ногами, разъезжали по улицам города, наводя ужас на жителей, из коих каждый считал себя обреченным и только ждал своей очереди.
Бежать было некуда и невозможно, ибо город был оцеплен кордоном красных войск. Никто и не делал этих попыток, ибо боялся даже выйти на улицу, переживая буквально слова ст. 66 и 67, главы 28 Второзакония: "Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем и не будешь уверен в жизни твоей. И от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: "о, если бы пришел вечер", а вечером скажешь: "о, если бы наступило утро".
Познали люди, что значит умирать от страха... Многие действительно умирали; еще больше сходило с ума. В этот разгар царившей в Киеве вакханалии погибли от руки палачей едва ли не все лучшие люди города и среди них знаменитые профессора Киевского университета П.Армашевский и Ю.Флоринский, причем первый, как говорили, был зарыт в могилу живым, подвергшись предварительно жесточайшим пыткам и мучениям.
Не избежал подобной же ужасной участи и товарищ председателя Киевского окружного суда, д.с.с. князь Димитрий Владимирович Жевахов, этот тихий и скромный труженик, олицетворявший собой подлинное христианское смирение и истинное благородство.
Есть люди без всякого заглавия в жизни, не занимающие никакого служебного положения, не оставляющие никаких следов в сфере государственной или общественной жизни, а между тем настолько богатые духовным содержанием, что о них можно написать целые тома, останавливаясь только на красоте их нравственного облика. Эти люди рождаются точно для того, чтобы служить живым укором совести для других; с ними не сливаются, их часто не любят, но с ними считаются, на них оглядываются, в их присутствии сдерживаются, и ложь, неправда обращаются в бегство при одном их появлении. К числу этих редкостных цельных натур принадлежал и князь Димитрий Владимирович, о котором можно сказать, что он был одним из самых достойнейших представителей Фемиды, не знавшим неправды и не допустившим в течение всей своей жизни и службы ни малейшего компромисса с нею. Князь Д.В. был достойнейшим сыном своего выдающегося отца, память о котором и доныне жива в Киевском учебном округе. И, чтобы обрисовать его облик, нужно остановиться на том духовном наследстве, которое он получил. Отец его, князь Владимир Димитриевич, по окончании курса юридических наук в Киевском университете св. Владимира начал свою службу в Московском Сенате. Там же, в Москве, он и женился на Анастасии Димитриевне Корсаковой, сестра которой Мария Димитриевна вышла замуж за бедного студента, пробивавшегося уроками, Александра Николаевича Шварца, впоследствии министра народного просвещения. Мария Димитриевна нередко вспоминала, как сурово был встречен московским обществом ее брак с А.Н. Шварц, особенно при сопоставлении брака ее сестры Анастасии с князем В.Д., бывшим тогда одним из блестящих представителей московского beau mond'а.
Князь Владимир Дмитриевич был одним из тех светских либералов 60-х годов, которые пламенели любовию к народу потому, что не знали ни самого народа, ни его действительных нужд и способны были оказывать последнему только медвежьи услуги. Тем не менее, им нельзя было отказывать ни в искренности, ни в благородстве побуждений, и ни блестящее место, какое князь В.Д. занимал в обществе, ни счастливые условия службы, ни его семейная обстановка не заглушали в нем сознания долга к меньшему брату. Не знаю в точности причин, заставивших князя В.Д. переехать из Москвы в Тверь, где он получил место старшего чиновника особых поручений при Тверском губернаторе. Некоторое время спустя он перешел на службу в канцелярию Киевского генерал-губернатора князя А.М. Дондукова-Корсакова и настолько быстро выдвинулся, что, не достигнув и 30 лет, был назначен временно и.д. управляющего канцелярией начальника Юго-Западного края. Но здесь, в Киеве, князя В.Д. постигло великое горе. Свирепствовавшая в Киеве холера унесла в могилу его жену Анастасию Димитриевну, скончавшуюся в расцвете сил 26-ти лет от роду, оставив после себя двух малолетних детей Димитрия и Сергея. Воспитанию своих сыновей князь и посвятил свою жизнь, переехав на жительство к своей матери княгине Любови Давидовне, рожденной Горленко, имевшей свой дом-особняк на Бибиковском бульваре, № 5.
Между тем начальник Юго-Западного края князь А.М. Дондуков-Корсаков был назначен комиссаром Болгарии и, ценя выдающиеся дарования князя В.Д. и будучи родственно расположен к нему, неоднократно приезжал к князю, предлагая ему портфель министра народного просвещения в Болгарии. Однако, не желая расставаться с матерью и не имея возможности покинуть малолетних детей, князь В.Д. отклонял всякого рода предложения, тем более что они не совпадали и с его убеждениями, по силе которых князь признавал полезной только службу на местах, в теснейшем соприкосновении с народом и его нуждами. Вот почему, когда князь А.М. Дондуков-Корсаков уехал в Болгарию, князь В.Д., к общему удивлению и недоумению, перешел на службу в ведомство народного просвещения, заняв скромную должность правителя канцелярии попечителя Киевского учебного округа, в каковой должности и пребывал до самой своей смерти. Узнав об этом, А.Н. Шварц, бывший в то время попечителем Рижского учебного округа, предлагал князю В.Д. целый ряд должностей по ведомству народного просвещения, однако князь неизменно отвечал: "Когда дерево болеет, нужно лечить его корни, а не ветви", и выражал сожаление, что не может отдаться служению народу в должности еще более скромной.
Насколько искренне исповедывал князь В.Д, свои убеждения доказывает, между прочим, и тот совет, какой он преподал своему сыну тотчас после получения последним университетского диплома, убеждая его не гнушаться деревни, а идти в сельские учителя. "Самые благодетельные министерские циркуляры не сделают того, что сделает непосредственное служение народу в самой деревне, и посредственный, но честный сельский учитель сделает больше, чем гениальный министр народного просвещения, – говорил князь В.Д. Но зато дурной учитель может сделать столько зла, как ни один из самых дурных министров. Законодателей, руководителей и надзирателей у нас много, и от этого и самая государственность находится в опасности." Таковы были убеждения князя, какие он проводил в жизнь, не соблазняясь никакими соблазнами и отвечая всякий раз отказом на те предложения, какие получал от министра народного просвещения, предоставлявшего ему высокие посты в министерстве. 8 мая 1894 года князь В.Д. скончался при исполнении своих служебных обязанностей, не воспользовавшись за все время своей службы даже кратковременным отпуском. В течение десяти лет после его смерти сослуживцы совершали паломничества на его могилу и служили панихиды, и имя князя Владимира Димитриевича живет и доныне в памяти Киевского учебного округа, как имя человека выдающейся нравственной чистоты, являвшегося примером служебного долга и глубокого понимания государственных задач, с таким самоотвержением проводимых им на его скромном служебном поприще.
До чего велико было смирение князя В.Д. свидетельствует, между прочим и тот факт, что он не пользовался своим титулом и его сослуживцы даже не знали, что он имел его.
Князь Димитрий Владимирович унаследовал в полной мере качества и свойства своего отца. И смирение, граничащее с застенчивостью, было также доминирующей чертой его характера. Стараясь быть везде и всегда незаметным, чуждаясь политики, не принимая никакого участия в общественной жизни Киева, имея крайне ограниченный круг знакомых, князь Д.В. жил отшельником в двух маленьких комнатах, удивляя даже своих близких скромностью своих привычек и потребностей. Служебная деятельность была единственной сферой его интересов, и ей он отдавал все свое время, свои глубокие познания, свои самоотверженные труды, то совершая утомительные разъезды по сессиям и председательствуя на них, то просиживая ночи над составлением судебных решений и приговоров в окончательной форме. Единственным отвлечением от служебных занятий была для него иностранная литература, какую он, в совершенстве владея новыми языками, знал так же основательно, как и русскую. Его служебная добросовестность доходила до педантизма, но это был педант в лучшем значении слова, для которого не существовало ничего, что могло бы оправдать даже малейшее отступление от строжайшей судейской правды. "Суд есть олицетворение абсолютной правды, иначе он не суд, а базар, где покупается и продается человеческая совесть", – говорил князь Д.В., особенно возмущавшийся, когда в сферу правосудия просачивались политические мотивы. Отстаивая абсолютную чистоту судейской совести, князь Д.В. нередко входил в конфликты со своими сослуживцами, высказываясь в том смысле, что никакие предположения и выводы, как бы вероятны ни были, не могут ложиться в основание того или иного судебного решения или приговора, и что эти последние должны выноситься только на основании бесспорных доказательств, представленных судебным следствием. "Суд оперирует готовым материалом, а если материал недостаточен и открывает простор для всякого рода заключений, то из этого еще не следует, что суд должен заменить доказательства, каких нет, предположениями, какие имеются, но не могут быть доказаны. Отступление от этого принципа привело бы только к произволу и превратило бы суд в школу безнравственности", – говорил князь Д.В. Разошелся князь с своими сослуживцами и во взглядах на процесс Бейлиса, в котором участвовал, являясь одним из тех, кто, основываясь на объективных данных предварительного следствия, считал виновность Бейлиса недоказанной.
"Очень возможно, что Бейлис и действительно виновен, – говорил князь Д.В., – но сделать такой вывод на основании одного только следственного материала нельзя; строить же его на данных, создаваемых обшей атмосферой процесса или несимпатиями к еврейству, я не могу без измены правосудию и судейской совести." Это свое мнение князь Д.В. высказывал не только на процессе, но и в личной беседе с министром юстиции И.Г. Щегловитовым. Однако, по горькой иронии судьбы, князь Д.В. был казнен большевиками именно за свое участие в означенном процессе.
Он был арестован большевиками в начале Великого поста 1919 года и препровожден в Лукьяновскую тюрьму, где содержался до Страстной седмицы, после чего был выпущен на свободу, но с обязательством не отлучаться из Киева, в чем от него была отобрана подписка. В течение этого времени палачи несколько раз допрашивали его, причем инкриминировали ему его участие в процессе Бейлиса и его титул, требуя, под угрозой расстрела, списка и адресов его "титулованных" родных и знакомых, цинично заявляя, что вся киевская аристократия обречена на уничтожение и не избегнет своей участи. По выходе из тюрьмы князь Д.В., к ужасу своих близких, отправился на свою прежнюю квартиру. Последняя оказалась занятой красноармейцем с его любовницей. Казалось бы, что этот факт, сам по себе, давал князю и нравственное право искать пристанища в другом месте, однако его добросовестность была так велика, что заставила князя, во исполнение данного палачам слова, поместиться в передней. Никакие уговоры близких немедленно скрыться из Киева или хотя бы переменить прежнее местожительство не достигли цели.
"Раз данное слово должно быть исполнено при всяких условиях и честным нужно быть и тогда, когда это невыгодно", – отвечал князь Д.В.
Через несколько дней по выходе из тюрьмы князь был снова арестован и вторично брошен в ту же Лукьяновскую тюрьму, где томился в ужасных условиях три месяца, после чего палачи увезли его в одну из Киевских чрезвычаек, где и расстреляли. Как, при каких обстоятельствах, когда именно погиб благороднейший князь Д.В., покрыто непроницаемой тайной. О расстреле его стало известно только из большевических газет, издававшихся в Киеве, где помещались списки расстрелянных и где сообщение о его гибели сопровождалось циничным глумлением над представителями киевской интеллигенции, не избежавшими подобной же участи.
Судя по списку нужно думать, что князь Д.В. был расстрелян в промежуток между 12 и 14 июля 1919 года. Князь скончался 49 лет, не оставив после себя ни имущества, ни потомства, ни даже могилы.
Мир праху твоему, благороднейший, неподкупной честности, чистый человек!
Вознесем же молитву об упокоении души убиенного раба Божия Димитрия, и пусть эти молитвы дадут ему, кроткому и смиренному, не имевшему радостей в земной жизни, утешение небесное, радость сознания связи с людьми, интересами которых он жил, для блага которых так самоотверженно работал.
ГЛАВА 20. Г.А. Шечков
(† 22 июня 1922 г.)
Кто был знаком с природой еврейского бога Яхве в отражениях ветхозаветного библейского текста и талмуда, тот, конечно, не удивлялся той ярости и тому рвению, с какими жиды выполняли требования своего бога, повелевавшего им "истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить", "всякий город или область... нещадно опустошить мечом и огнем и сделать не только необитаемой для людей, но и для зверей и птиц навсегда отвратительною..." (Эсфирь 8, 11-12).
Талмуд, не ограничиваясь требованием истребить всех "сильных", добавил к нему еще требование "зарезать всех лучших из христиан", а затем распространил это требование вообще на всех христиан, охотясь за ними и истребляя их только за принадлежность к христианству.
Хотя Г.А. Шечкову и удалось избежать казни, однако он погиб, как один из лучших людей России, погиб, замученный теми нравственными муками, какие наиболее остро переживались людьми его настроения и убеждений в этот кошмарный период жидовских зверств. Один из его друзей посвятил его светлой памяти нижеприводимые мною строки. Я с тем большим чувством удовлетворения помещаю эти строки на страницах второго тома своих "Воспоминаний", что лично знал и любил Г.А. Шечкова, сочетавшего в себе столько ума и трогательного смирения, и бывшего одним из выдающихся государственных людей России.
Георгий Алексеевич Шечков
(Некролог)
22 июня ст. ст. 1920 года рано утром, после беспокойно проведенной ночи, внезапно скончался в Одессе от паралича сердца, немного не дожив до 64 лет, замечательный русский человек Георгий Алексеевич Шечков.
В Одессу занесла его беженская волна, ринувшаяся на юг в ноябре 1919 года, вслед за неожиданным откатом к югу Деникинской армии. Здесь, в постоянной тревоге за завтрашний день, скрывался он под чужим именем от преследований жестокой Одесской чрезвычайки, возглавляемой знаменитыми палачами Дейчем и Вихманом, хвалившимися, по распространенной в городе молве, тем, что у них нет аппетита к обеду, если они предварительно не расстреляют хоть десятка русских "буржуев". Физическая смерть Георгия Алексеевича явилась последним звеном в длинной цепи невыразимо тяжких мук его горячего патриотического сердца при виде гибельного разрушения и растерзания кровожадным большевичеством столь страстно им любимой, некогда великой, богатой и славной Императорской России.
Георгий Алексеевич родился 1 августа 1856 года в родовом имении Шечковых с. Волынцеве Путивльского уезда Курской губернии. Первоначальное воспитание и образование получил он дома, под надзором нежно любящих родителей, в условиях деревенского приволья и в постоянном общении с красивой природой Волынцевского парка и берегов р. Сейма. В августе 1869 года, 13-ти лет, он поступил во второй класс Лицея Цесаревича Николая, основанного в начале 1868 года в Москве покойным М.Н. Катковым, редактором "Московских Ведомостей", и П.М. Леонтьевым, профессором римской словесности в Московском университете, в память скончавшегося в расцвете юности старшего сына Царя-Освободителя.
В то время это было маленькое частное учебное заведение, помещавшееся на Большой Дмитровке в наемном доме Шаблыкина. Основатели лицея были увлечены тогда организацией английских закрытых коллегий, задававшихся целью не только обогащать умы воспитанников познаниями в науках, но и укреплять их тела и развивать их характеры в такой степени, чтобы потом, вступив в жизнь, эти люди способны были служить примером для своих сограждан и направлять судьбы нации. Им казалось, что демократизованная реформами Императора Александра II Россия особенно нуждается в выработке аристократов ума и характера, без которых не может существовать никакая истинная демократия. Таким образом, в устав лицея введены были почти все особенности английского школьного строя, как он выразился в таких коллегиях, как Итонская и ей подобные. Воспитанники делились по возрастам на маленькие пансионы, во главе которых стояли семейные воспитатели, обязанные организовать пансионский быт так, как бы это была жизнь их собственной расширенной семьи. Над группами воспитанников имели попечение особые туторы, изучавшие индивидуальные черты каждого питомца и содействовавшие как успехам их занятий, так и правильному развитию их характеров. Много времени отводилось прогулкам на воздухе, гимнастике, фехтованию, танцам и спорту в виде катанья на коньках зимой и на лодках летом, или в виде таких игр, как лапта, крокет, футбол. Не забыты были и искусства: музыка и рисование, преподававшиеся желающим. Центром учебных занятий были древние языки: латинский и греческий. Первый изучали главным образом для выработки логического мышления и умения облечь каждую мысль со всеми ее оттенками в наиболее для нее подходящую словесную форму, так как латинский язык является единственным литературным языком в мире, достигшим идеала в смысле полного соответствия между человеческой мыслью и словесным ее выражением. Поэтому грамматические упражнения играли на латинских уроках главную роль. При изучении греческого языка имелось в виду преимущественно его значение как языка православной греческой Церкви, на котором были написаны Евангелия и другие писания Нового Завета, творения таких столпов Церкви, как Василий Великий или Иоанн Златоуст, и, наконец, весь круг богослужебных книг. Славянский текст новозаветных и церковных книг переведен с греческого и для образованного человека может быть вполне понятен только при постоянном сличении его с греческим подлинником. Особенно нуждаются в сличении текстов прозаические переводы греческих стихов, которыми написаны в большинстве случаев православные песнопения и молитвы. Преподаватели греческого языка в лицее никогда не забывали о религиозном его значении, и поэтому курс грамматики был сокращен, но зато читались в классе не только светские авторы, как Ксенофонт, Гомер, Геродот, Софокл и Платон, но так же Евангелия и отрывки из богослужебных книг.
Новые языки: французский, немецкий и, по желанию, английский – изучались и на уроках, и в разговорах с иностранцами, дежурившими постоянно на переменах между уроками, и в лицейских пансионах в послеобеденные часы. Целью ставилось приучение к чтению книг на новых иностранных языках.
Не были упущены из виду математика и естественные науки. Последние преподавались только в старших классах, но очень серьезно, и такие уроки могли достигнуть той цели, которую ставил французский педагог Рене Поко (Rene Paucot) при изучении естественных наук в средней школе: во-первых, развить в питомцах эстетическое чувство при наблюдениях над соответствием строения данного животного с его образом жизни или над внешней окраской животных; и, во-вторых, развить чувство преклонения перед величием природы и ее Творца и сознания ничтожества человека с одной стороны, но с другой – и могущество человеческого гения, стремящегося раскрыть тайны природы.
Курс математики проходили сокращеннее, чем принято было в средних школах России, но к большей пользе для дела, ибо то, что проходилось, понималось и усваивалось воспитанниками основательнее.
Уроки русского языка, отечественной истории и географии служили материалом для пробуждения патриотических чувств и живой любви к России, к ее Церкви, к ее Государю, как Помазаннику Божию, к ее тяжелой, но славной истории, к ее дивному языку, к ее гениальным писателям, к ее однообразно-равнинной, но милой природе.
Преподавание Закона Божиего находилось в руках умных и опытных законоучителей, которые умели укреплять, а не расхолаживать веру питомцев лицея.
Вся учебная жизнь лицея освещалась мыслью древнего иудейского мудреца: "Всякая премудрость – от Господа и с Ним пребывает вовек" (Иис. Сир. 1, 1). Преподаватели стремились общими силами развивать в воспитанниках сознание, что между религией и истинной наукой не может быть противоречий, ибо "в руке Бога и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство делания" (Прем. Сол. 7, 16).
Состав воспитанников лицея в то время был довольно однородный, хотя они не подбирались по записям в дворянские родословные книги, как в Петербургском лицее или Училище правоведения. Это были преимущественно дети провинциальных землевладельцев-дворян, коренных русских и православных, не связанных тесно с сановными кругами Петербурга, но достаточно зажиточных и культурных, чтобы желать для своих сыновей широкого и основательного образования. Богатый московский купеческий элемент представлен был очень слабо, всего двумя или тремя воспитанниками. Инородцев не было вовсе. Благодаря такой однородности состава из русской православной среды, возможны были и настроения, общие всем воспитанникам, и прочные дружеские связи между духовнородственными юношами.
Вот в какой обстановке протекли школьные годы Георгия Алексеевича (1869-1876). Дыхание жизни в лицо лицея вдунул один из его основателей и первый директор – Павел Михайлович Леонтьев, и при нем лицей сохранял неуклонно свой оригинальный, ему одному присущий облик. С его смертью († 24 марта 1875 года) дух его постепенно отлетел от лицея, начинания его забывались, и позднейший лицей, обратившийся в казенное учебное заведение с совершенно новым уставом, ни в чем не напоминал старым лицеистам своего незабвенного первообраза.
Каникулярное время Георгий Алексеевич всегда проводил в родном Волынцеве, и здесь, по мере возмужания, его обступали, овеянные поэтической грезой, предания путивльской старины. Его умственному взору рисовались и походы северских князей на половцев, и плач нежной супруги Ярославны на путивльском "заборале", и запуганная, скитальческая жизнь на татарском пограничье последних князей Липецких, Рыльских и Воргольских, и появление вблизи Путивля оседлых татарских слобод с баскаком Ахматом во главе, и превращение Путивля в пограничный опорный пункт Московского государства, откуда московские воеводы сносились с татарским Крымом и с литовским Киевом, и прибытие в Путивль первого Самозванца с польским и козацким сбродом, и трудная борьба Москвы с Польшей за Малороссию при традиционной шатости малороссиян, как маятник качавшихся из стороны Москвы в сторону Польши и обратно, и молниеносный поход Петра навстречу шведам к Полтаве. Наиболее бурные события старой Руси до шведской войны включительно коснулись так или иначе Путивля, и для полета юношеского воображения Георгия Алексеевича в глубь веков было достаточно простора.
В старших классах, возвращаясь в лицей после каникул, Георгий Алексеевич целыми часами беседовал с своим ближайшим другом о том, что он читал или слышал о путивльской старине и какие памятники ее на месте ему удалось найти или увидеть.
Еще в юности занимали Георгия Алексеевича диалектические загадки русского языка, так как в Путивльском уезде ему приходилось слышать в ближайшем соседстве между собой три говора русского языка: южно-великорусский, южно-малорусский и восточно-белорусский.
Так созревала тонко сотканная душа Георгия Алексеевича под впечатлениями религии, науки и русской народной и государственной старины, перед наступлением университетских годов, столь важных в дальнейшем развитии каждого образованного человека.
Получив аттестат зрелости в 1876 году, Георгий Алексеевич вступил на юридический факультет Московского университета, но остался жить в лицее, как это предусматривалось старым лицейским уставом. Лицей перебрался уже тогда в собственный дом на углу Остоженки и Крымского Брода, но все еще сохранял заветы П.М. Леонтьева. Руководителем проживавших в лицее юристов был человек широкого образования, знаток римского права, Константин Иванович Лаврентьев, впоследствии попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Ему Георгий Алексеевич много обязан в выработке строгого юридического мышления. Однако Г.А. не тянуло к римскому праву, и он, следуя прежним наклонностям, сосредоточился на изучении канонического и русского права, и достиг в этих науках большого углубления. К окончанию университетского курса он совсем специализировался на каноническом праве, которое на всю жизнь осталось любимым предметом его изучений и размышлений. Начинавшие входить тогда в моду, с легкой руки Ал. Ив. Чупрова, экономические науки, тенденциозное преподавание которых привело потом к обращению Московского университета в революционное гнездо, были совершенно чужды вкусам Г.А., и по оставлении университета он часто высказывался, что увлечение молодежи тенденциозным экономизмом непременно приведет Россию к революционной катастрофе. Будучи еще в университете, Г.А. положил начало собиранию своей обширной библиотеки, которая, как и большинство частных библиотек в русских сельских усадьбах, погибла в с. Волынцеве в 1918 или 1919 году.
После окончания университета Г.А., ввиду смерти отца, как единственный сын, поселился при матери в с. Волынцеве, дельно вел хозяйство и принимал участие в местной земской жизни. Зимние месяцы он проводил обыкновенно в Москве, где вращался в кружках братьев Самариных, Дмитрия Хомякова, Клавдия Степанова и других единомышленников старого православно-русского настроения. Все досуги Г.А. просиживал над книгами, стремясь пополнить свое юридическое образование еще богословским, столь необходимым для каждого серьезного канониста. При этом наметилась тема обширного трактата: "Об отношении Церкви к государству и об организации власти по православному сознанию", который Г.А. обрабатывал в течение всей своей жизни, но который, к сожалению, остался в рукописи. Г.А. был убежден, что в России, где большинство населения исповедует православную веру, православная Церковь, как носительница идеала христианского общежития, не может оставаться вне политики, но, напротив, всеми доступными и подобающими ей мерами обязана воздействовать на своих чад, чтобы они строили государство не безверное, а христианское, руководимое заветами Матери-Церкви и не забывающее об ее нуждах. В своем трактате Г.А. стремился выяснить с исторической и догматической точки зрения как цели, так и методы православной политики, с тем чтобы помочь православным мужчинам и женщинам, склонным к занятиям политикой, сообразовать свою деятельность с исповедуемой ими верой. Нам приходилось читать, по желанию автора, некоторые главы из упомянутого трактата, и мы восхищались и той блестящей аргументацией, и той глубиной учености, какие обнаружил автор в своем труде. Племянница покойного Г.А. приняла некоторые меры к сохранению обширной рукописи, наполняющей целый ящик, но уцелеет ли она в большевическом аде – кто это знает? Небольшие экскурсы, относящиеся к трактату, Г.А. отдавал в печать в виде газетных и журнальных статей. Собрание их составило бы, вероятно, порядочный том.
В занятиях сельским хозяйством в с. Волынцеве, в научных трудах протекла четверть века жизни Г.А. (1880-1905). Но вот грянул гром 1905 года. Все почувствовали, что Россия заколебалась в своих коренных устоях. Г.А. был в то время Путивльским уездным предводителем дворянства, и ему пришлось с опасностью для жизни отбить революционный штурм в родном уезде. Быстро промелькнули первая и вторая революционные Думы. Наконец, выборный закон был изменен, и Г.А. решил, что теперь патриотический Долг повелевает ему окунуться в политику и идти в Думу, чтобы спасать великую Императорскую Россию. Хотя у него не было темперамента вожака и борца, и вообще политическая деятельность была не в его натуре, ибо, кроткий сердцем, он не был способен к той ненависти, какая лежит в основе нынешней партийной борьбы, тем не менее, по велению долга, он ставит свою кандидатуру в члены III Думы от Курской губернии и проходит. Переизбран он был и в IV Думу. Борьба с революцией за Россию продолжалась 10 лет, совершенно расстроила слабое от природы здоровье Г.А., но спасти Россию людям его настроения не удалось. В Думе он сидел на правом крыле и много работал в думских комиссиях. В III Думе правые, т.е. люди православно-русских воззрений, желавшие сохранить и усовершенствовать нашу старую православно-монархическую государственность, как наиболее отвечавшую нуждам России, имели во главе крупную умственную силу в лице расстрелянного потом большевиками профессора всеобщей истории в Харьковском университете Андрея Николаевича Вязигина и располагали, сколько помнится, 60-ю голосами. Часто они находили поддержку в националистах, которые не успели еще переделаться в прогрессивных националистов. Таким образом, удавалось иногда добиваться решения вопросов в правом направлении. Громадное значение имело также постепенное передвижение вправо покойного Столыпина. В то время Г.А. бодрился и питал некоторые розовые надежды, что Россия уцелеет. Но вот П.А. Столыпин погиб от иудейской пули; в IV Думе правых было уже гораздо меньше и они не имели определенного вождя; националисты вошли в зловредный прогрессивный блок. Г.А. приуныл, упал духом и стал предчувствовать близость катастрофы.
Тем временем разразилась мировая война, спровоцированная темными силами для уничтожения трех империй. Как уполномоченный Курской организации помощи армии, Г.А. несколько раз ездил и на европейский и на азиатский фронты военных действий, побывал и на Западной Двине, и на Карпатах, и в Эрзеруме; и всегда его поражала резкая разница между бодрым настроением ближайшего к неприятелю фронта и позорной паникой тыла. Между тем в Думе и на верхах армии, в генеральской среде, зрел преступный заговор против Императорской власти. Окунаясь после пребывания на фронте в думскую атмосферу, Г.А. все яснее и яснее чувствовал, что Дума из государственного учреждения обратилась в конспиративную квартиру, где разрабатывались планы, как удобнее и возможнее свалить русскую монархическую государственность. Сознание своего бессилия предотвратить грядущую беду причиняло тяжелые страдания чуткой душе Г.А. Наконец заговорщики перестали скрывать себя и свои планы. Однажды, недели за две до революции, разыгралась такая сцена. В зале сидели группой Родзянко, Савич и Шидловский и оживленно о чем-то беседовали. Г.А. проходил мимо. Родзянко окликает его и приглашает принять участие в разговоре. Когда Г.А. подсел, Родзянко стал объяснять ему, что вот-де Дума решила устранить Государя и взять власть в свои руки; что теперь-де пришел подходящий момент, ибо английский посол Бьюкэнэн, сочувствующий перевороту, сообщил, что в Станку отослана диспозиция, выработанная представителями штабов всех союзных армий относительно общего наступления на Германию ранней весной 1917 года и вполне обеспечивающая победу; если-де Россия получит победу из рук Императора Николая, то власть его укрепится навсегда; поэтому накануне решительной и верной победы Дума должна спешить отнять от Государя власть, чтобы в России создалось впечатление, как будто победа дарована ей Думой. В заключение Родзянко приглашал Г.А. присоединиться к плану думцев. Когда последний заметил, что неизвестно, как отнесется к думской затее армия, Родзянко смело заявил: "Да генералы с нами". Г.А. пробовал еще возражать, что такой шаг, как смена власти во время войны, может повести не к победе, а к гибели России, но Родзянко стал раздражаться и говорить резкости. После этого Г.А. сказал: "Во всяком случае мне не по пути с изменниками", – встал и отошел, ни с кем не простившись рукопожатием.
Удивительно, до чего в те ужасные дни было забыто всем сановным и чиновным Петербургом то место верноподданической присяги, где говорится: "О ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися". На глазах у всех в Думе зрел заговор, о нем открыто говорили в обществе, а предержащие власти, не боясь ответственности перед Богом за нарушение присяги, играли в аполитичность и потворствовали преступным замыслам глупых людей, обмороченных подлыми и хитрыми иудеями.
После революции для Г.А. началась тяжелая скитальческая жизнь. Чудом уцелев в мартовские дни, он пешком вышел из Петербурга, чтобы пробраться в Москву. Здесь он заболел припадками сердца и долго провалялся у родных, пока мог двинуться в свое милое с. Волынцево. В любимом родовом имении, в последний раз в жизни, под сенью столетних дубов, просуществовал он довольно спокойно и благополучно около трех месяцев, пока волны октябрьской большевической революции не докатились до сел и деревень. После того как начались повсеместные разбои и пожары, Г.А. простился навсегда с с. Волынцевым и уехал в Киев, где жила с семьей одна из его сестер. В Киеве он пережил одиннадцатидневную бомбардировку города большевиками (15-25 января 1918 года), бегство защищавших город петлюровцев, расстрел большевиками свыше двух тысяч офицеров и "буржуев" (в числе них погиб и сын мятежного Родзянка), повальные грабежи, учиненные красными ордами Муравьева и Ремнева, наконец, появление Петлюры в сопровождении немцев. Семимесячный период гетманской власти П.П. Скоропадского был временем, когда все в Киеве немного отдохнули, благодаря водворенному немцами порядку. После того опять явились петлюровцы, и Г.А., вместе со множеством других честных русских людей, был арестован неистовыми украинскими шовинистами и заключен в Лукьяновскую тюрьму, где пробыл около двух месяцев до нового вступления в Киев большевиков. Нелепая "украинская" власть видела в нем и в его союзниках опасных для себя русских патриотов, сторонников всероссийского монарха. Пребывание в Лукьяновской тюрьме особенно тяжело отразилось на расстроенном здоровье Г.А., и он вышел оттуда совсем разбитым и больным. Режим был суровый, и тюремная стража из галичан постоянно издевалась над русским языком заключенных, грозя всех их перестрелять, как врагов неньки-Украины.
После второго появления большевиков в Киеве (январь 1919 года) Г.А. перешел на нелегальное положение и часто менял квартиры, живя под чужим именем. Кратковременный период Деникинской власти (конец августа – ноябрь 1919 года) промелькнул, как сон, под постоянной угрозой большевиков, которые 1-4 октября овладели было городом, но были вытеснены. В конце ноября начался откат Деникинской армии к югу, и Г.А. с семьей сестры, после трехнедельного мучительного странствования в холодных скотских вагонах, очутился в Одессе, под тем же чужим именем, под которым он укрывался и в Киеве.
Пребывание многочисленных беженцев в Одессе сопряжено было с тяжелыми лишениями. Не избег их со своими близкими и Г. А. В нетопленой комнате, без уверенности в завтрашнем дне, на плохом питании, ждал он весны 1920 года и надеялся, что она принесет избавление. Она принесла тепло, и это уже было благо. С одним из старых друзей выходил ежедневно Г.А. на возвышенность, откуда расстилался вид на море, и здесь целыми часами дышал живительным морским воздухом и делился мыслями и воспоминаниями о пережитом. Трупное гниение, казалось ему, ожидает Россию, если она не освободится скоро от иудейского ига. Г.А. прекрасно понимал, что большевичество в своей сущности есть борьба с Богом и с христианством; что оно опирается на самые низменные свойства человеческой души: на эгоизм, на жадность, на вероломство, на разврат, на жестокость; что если не положить ему конца, то Россия останется без Церкви, без национальной интеллигенции, без традиций и обратится в страну измученных, голодных, обнищалых рабов, готовых за краюшку заплесневелого хлеба работать физически на кого угодно, кто только обеспечит им кое-какую безопасность и относительное спокойствие. Между тем конца иудейскому игу не предвиделось, как не видно его и теперь, после протекших семи лет, когда предвидения Г.А. целиком исполнились. Недавно в одной из эмигрантских газет была помещена корреспонденция из России, заканчивавшаяся словами: "В России отвыкли пророчествовать насчет ближайшего будущего России. Внешне все устали, флегматичны, фаталистически покорны, внутри все настороже. Новых неожиданных импульсов, которые были бы способны придать свежую силу советскому государству, больше не ждут; не ждут этого и со стороны хозяйства. В правительственных учреждениях рады, если хозяйственный аппарат, валюта, торговый баланс сохраняются в своем нынешнем жалком равновесии. На смелые решения, хорошие или дурные, способности нет. Русская жизнь теперь – большое топтание на месте".
Мрачные мысли отравляли последние дни томительной жизни Г.А. Наконец, однажды ранним утром, 22 июня ст. ст. 1920 года, пошел он на базар за хлебом и другими съестными припасами. Было очень жарко. Возвратившись домой около 8 часов, он жаловался сестре, что страшно устал, и сел за стол, чтобы выпить стакан ячменного кофе с молоком. После первого стакана попросил второй, но в это время зашатался, свалился со стула на пол и скончался без малейшего стона, совершенно безболезненно.
Г.А. никогда не женился под впечатлением внезапной трагической кончины молодой девушки, объявленной его невестой. Не имея собственной семьи, Г.А. был нежно привязан к семье той сестры, с которой он очутился волею судеб в Одессе и которая приняла его последний вздох и позаботилась похоронить его с соблюдением обычных христианских обрядов на старохристианском Преображенском кладбище в Одессе, несмотря на все препоны, чинимые в таких случаях иудейской советской властью.
Маленького роста, сухой, подвижный, Г.А. до конца жизни не производил впечатления старика, несмотря на слабость здоровья. В слабом теле жил крепкий дух.
Мир его праху и покой духу в обителях Отца Небесного!
ГЛАВА 21. Возвращение в Киев
Сердечно простившись с игуменом Мануилом и братией, я вышел пешком за ограду скита. Брат предпочел остаться в скиту для приведения своих дел еще дня два, со мной же пошли о. иеромонах С. и некоторые другие лица, имена которых исчезли из моей памяти. Навстречу нам попадались веселые, смеющиеся лица деникинских солдат, обозы которых устилали путь до самого Киева. Мы подошли к предместью Киева, называвшемуся Демиевкой, и пред нашими взорами предстала во всем ужасе картина недавнего боя. Везде лежали трупы, главным образом еврейской молодежи, с разрубленными пополам черепами. Подле них толпились крестьяне, выражавшие страшное негодование и ненависть к евреям, припоминались всех их преступления и та провокация, жертвой которой становились добровольцы и какая так тормозила их работу. Над трупами шло открытое надругательство, дикое и циничное, и, однако, не было никого, кто бы признал прорвавшуюся злобу к жидам необоснованной и заступался за них. Было для всех очевидно, что евреи понесли только то, что заслужили своим поведением. Везде стояли группы людей, громко рассказывавших об ужасах чрезвычаек и о неслыханных преступлениях большевиков. Целые толпы людей направлялись к этим чрезвычайкам в надежде найти трупы своих родных и близких. И радость освобождения Киева от злодеев смешивалась с ужасом, который отражался на лицах по мере рассказов о том, что так тщательно скрывалось, а теперь предстало пред общим взором во всей своей наготе.
Мы вошли в город... Еще не убраны были красные тряпки и пятиконечные звезды на стенах и домах, еще стояли на улицах массивные деревянные арки, со всякого рода надписями и изречениями, еще красовались везде на видных местах бюсты Ленина и Троцкого, и внешний вид Киева еще напоминал собой столицу иудейского царства.
Разрушения в городе были ужасны. Масса дорогих, совершенно новых, недавно выстроенных домов превратились в развалины, уничтожены были и памятники старины, не пощадила еврейская злоба и величественных киевских храмов, и на золотых куполах Софийского собора, Михайловского монастыря и других зияли отверстия от брошенных снарядов. Колокольня Никольского собора на Печерске была совсем разрушена. Трудно вообразить себе все эти картины разрушения... Казалось, вражеская рука стремилась окончательно уничтожить город и превратить его в пустыню.
С трепетом я подходил к нашему дому... и, о Боже, что я там увидел! Все, что можно было вывезти, было куда-то вывезено и оставались только громоздкие вещи, рояль и несколько гардеробных шкапов, да массивный обеденный стол в столовой... Посредине зала лежал стог сена и обломки дорогой мебели валялись на полу. Стены были чем-то залиты и попорчены, по углам стояли какие-то больничные кровати, неизвестно кому принадлежавшие... Оказалось, что в течение около двух месяцев в доме помещался клуб 23-го советского полка, а затем больница. По разным комнатам были разбросаны медикаменты. Оставаться в доме было немыслимо. Не верил я, кроме того, и в прочность Деникинской армии, которая уже не в первый раз брала Киев и все же не имела возможности удержать его. И моей первой мыслью было уехать к сестре в N-скую губернию. Однако и это предположение оказалось неосуществимым. Появление брата или мое в нашем прежнем имении создавало бы угрозу сестре, и этот план пришлось оставить. Тогда я решил ехать в Крым, или на Кавказ и туда выписать сестру. У брата были другие планы, мы не могли сговориться и, в результате, запаковав свои вещи и взяв их в количестве, позволявшем бы мне лично донести их с собой на вокзал, я простился с Киевом и направился в Харьков.
Моему отъезду предшествовали долгие и очень сложные хлопоты, ибо, хотя выезд из Киева и был свободным, но уезжавших было так много, что требовались уже предварительные записи для права поместиться только в теплушке. Мне удалось, наконец, через месяц добиться такого права и 12 сентября 1919 года я покинул Киев. Идя к вокзалу, я слышал гул яростной канонады, доносившийся со стороны Святошина, одной из ближайших железнодорожных станций, и с ужасом думал о том, что должны испытывать несчастные киевляне, и в том числе мой добрый брат, если большевики снова вернутся в Киев. Так это и случилось, ибо не прошло и двух недель, и после ужасающей бомбардировки Киев снова пал и большевики с новой силой принялись дорезывать несчастное население города, оставшееся в живых.
ГЛАВА 22. По пути в Харьков. Ростов-на-Дону
Я шел по направлению к вокзалу с единой мыслью вырваться во что бы то ни стало из Киева, пользуясь кратковременным моментом, дававшим мне такую возможность. Но зачем я еду в Харьков, что буду там делать, чем буду жить, найду ли там друзей и знакомых, – я не знал. Я ехал на неизвестное, вручая себя водительству Промысла Божия, с такой верой, какую раньше не испытывал, утешая себя тем, что судьбы Божии непреложны и что будет то, что должно было быть.
Пред вокзалом стояла огромная толпа народа, устилавшая всю предвокзальную площадь. Пробраться к перрону было трудно, еще труднее было отыскать так называемую "офицерскую" теплушку, где, якобы, было приготовлено одно место и для меня. Когда после долгих поисков я подошел к ней, то увидел, что она битком набита людьми, чуть ли не со вчерашнего дня занимавшими ее и ревниво оберегающими свои места. Не столько необходимость, сколько деликатность заставила меня сдать свой чемодан в багаж, дабы не стеснять своих спутников, переполнивших теплушку. Каково же было мое изумление и даже негодование, когда, войдя в эту теплушку, я увидел, что большая половина ее была занята шкапами и комодами, огромными сундуками и прочим. Мои спутники спасали не только себя, но умудрялись вывозить и весь свой скарб, тогда как я постеснялся захватить с собой в теплушку даже ручной чемодан с платьем, бельем и необходимыми вещами, уцелевшими от захвата их большевиками.
Впоследствии мне пришлось горько пожалеть об этом, ибо своего чемодана я так и не увидел больше; по пути багажный вагон был или отцеплен, или расхищен железнодорожными служащими, но только в Харьков он не дошел, и все мои вещи погибли.
Впрочем, и здесь сказались промыслительные пути Божии. Поиски багажа заставили меня не только оставаться в Харькове около месяца, но и изменили мои первоначальные планы и удержали от поездки туда, где пребывание было опасно и где меня ждала верная гибель. Об этом, впрочем, скажу ниже.
Кое-как примостившись в теплушке, я стал рассматривать своих спутников. Между ними не было ни одного офицера, и все недоумевали, почему ей было присвоено название "офицерской". Не было и нумерованных мест, в теплушку садились все, кто только мог влезть в нее и оказывался победителем в борьбе с моими спутниками, никого более не впускавшими в теплушку. Наконец, поезд, перегруженный пассажирами, из которых многие сидели и на крышах вагонов и висели на ступенях, держась за окна, медленно отошел от вокзала, двигаясь по направлению к железнодорожному мосту чрез Днепр. Было около 10 часов вечера. Мы двигались очень медленно, ежеминутно останавливаясь не только на полустанках, но и между ними. Доехав до моста, поезд остановился и простоял довольно долго. Оказалось, что машинист, ссылаясь на то, что большевики повредили мост, не хотел ехать дальше. Много времени прошло, пока его убедили в отсутствии риска и заставили продолжать путь. Только к утру следующего дня мы свернули с магистрали на Киево-Полтавский железнодорожный путь и добрались до станции, где и простояли несколько часов. Не было ни дров, ни угля и сами пассажиры рыскали по разным местам в поисках того и другого, чтобы обеспечить возможность проезда хотя бы до следующей станции. Впрочем, мы задерживались на станциях не только по одной этой причине. Кто вел поезд, кто считался главным распорядителем, мы не знали. Но стоило нам только остановиться на станции, полустанке или среди поля, как раздавались ружейные и револьверные выстрелы и слышались отдаленные крики. Оказалось, что "начальство" поезда распорядилось вытаскивать из вагонов I и II класса всех жидов, из коих одних выбрасывали на полотно железной дороги, других же вешали или расстреливали. Даже в эти моменты общего бегства русских людей, когда не только простонародье, но даже интеллигентные и высокопоставленные люди считали за счастье ехать в теплушках или прицепиться к вагонам, сидя на буферах, жиды умудрялись занимать места в вагонах I и II класса и окружать себя возможным, по условиям времени, комфортом. При всем том, однако, большинство русских пассажиров, находя распоряжение начальства относительно евреев правильным, возмущалось дикой расправой над ними, заступалось за них и многим спасло жизнь. Даже в эти моменты гибели России и своей собственной, русские люди сохраняли свою удивительную незлобивость.
На станции Г. подали новый состав поезда, к которому и прицепили нашу теплушку, и мы поехали быстрее. Я находился на расстоянии только 30 верст от нашего имения и сердце разрывалось от боли за свою сестру, там находившуюся. "Отчего бы ей не приехать сюда, на станцию, – думал я, – всего только 30 верст, каких в крайнем случае можно было пройти даже пешком, и мы бы могли ехать вместе, деля вместе горе." И только тяжелый вздох был мне ответом... Сестра не решалась ехать на неизвестное, я не мог показаться в имении без того, чтобы не повредить ей.
После трудного и томительного переезда я прибыл в Харьков 14 сентября. Мне суждено было опытно пережить те превратности судьбы, о которых я знал только из сказок, пройти в ином образе и при совершенно иных условиях тот самый путь, какой был еще так недавно пройден мною, в мою бытность товарищем обер-прокурора Святейшего Синода, когда меня ждали на перроне власти и разного рода должностные лица, устраивая торжественные встречи. Увы, вместо вагона-салона теперь была теплушка, вместо придворной формы – жалкие лохмотья, и я сам имел потертый вид измученного и исстрадавшегося беженца. С трудом протискиваясь чрез толпу со своими вещами, я кое-как выбрался на площадь и, взяв извозчика, приказал ему везти меня в архиерейский дом, в надежде найти там кого-либо из моих знакомых. Харьковской епархией управлял тогда архиепископ Георгий, бывший Минский, но я не знал этого. Его викариями были епископы Феодор Старобельский и Митрофан Сумский. Все эти архипастыри знали меня, и мой приезд не показался им неожиданным. Напротив, архиепископ Георгий и епископ Феодор, о котором я уже упоминал в своем первом томе, проявили ко мне большое внимание и расположение и приютили меня в архиерейском доме, отведя светлую и поместительную комнату, даря радушием и гостеприимством.
Всего два года тому назад я был в Харькове, но как изменился город за это время, как много друзей и знакомых уже ушли из этого мира, подавленные ужасом происшедшего! И я навещал только их могилы, среди которых наиболее близкой по воспоминаниям была могила Евгении Николаевны Гейцыг. Долго стоял я подле этой могилы, и как ни тягостно было сознание, что я уже не увижу более своего друга, однако я знал, что ее смерть была для нее милостью Божией, сохранившей ее от тех ужасов революции, какие наступили тотчас же после ее кончины.
Мир праху твоему, смиренная труженица, великая работница на ниве Господней!
Я не предполагал оставаться в Харькове, а намерен был ехать дальше по направлению к Крыму. Путь был свободен, и остановка была только за моим багажом, который еще не прибыл в Харьков. В течение почти месяца я наводил о нем справки, посылая бесконечные телеграммы в разные места и учреждения, но безуспешно. Между тем Деникинская армия двигалась вперед, очистила уже Курск и Орел и недалеко уже было и до Москвы, где царила неимоверная паника, и большевики, с Лениным и Троцким, готовились к эвакуации в Нижний Новгород.
Настроение было у всех приподнятое, все жили надеждой на скорое избавление. Увы, так только казалось с высоты птичьего полета. В действительности же не только в тылу, но и в самой армии царило разложение, шла партийная борьба, люди не знали, за что они борются, Деникин не умел объединить их единым лозунгом "за Царя", ибо и сам не исповедывал его, а его помощники шли даже дальше и своим поведением дискредитировали и имя главнокомандующего и все русское дело. Пребывание генерала Май-Маевского в Харькове оставило неизгладимые страницы только в летописях харьковских ресторанов и увеселительных мест и являлось сплошным преступлением по отношению к России и русским людям, и как ни блестящи были победы на фронте, но вдумчивые люди видели, что армия в своем стремительном беге вперед, не закрепляла завоеванных позиций, а оставляла их на произвол судьбы или же для нового захвата большевиками. И чем дальше откатывалась армия на север, тем большая дезорганизация царила на юге. Вскоре сделалось известным, что путь из Харькова по направлению к Севастополю отрезан и я вынужден был изменить свой первоначальный маршрут. Приглашение моего друга, статс-секретаря Государственного Совета М.Н. Головина, очутившегося в Ростове и занимавшего при так называемом "Особом Совещании", состоящем при Деникине, какой-то служебный пост, заставило меня поехать в Ростов. Я пробыл в Харькове с 14 сентября по 28 октября и прибыл в Ростов 29 октября. Там, в Особом Совещании, кроме М.Н. Головина, я застал почти всех своих прежних сослуживцев по Государственной канцелярии, во главе с статс-секретарем С.В. Безобразовым, управлявшим канцелярией Особого Совещания и имевшим своим помощником А.А. Ладыженского, которого называли ярым англоманом и убежденным противником немецкой ориентации. Особое Совещание помещалось в Московской гостинице и все служащие жили там с своими женами и детьми, вследствие чего канцелярия носила семейный характер и не была похожа на официальное учреждение. Я не знаю, на чем основывал М.Н. Головин свои предположения о возможности для меня получить при Особом Совещании какое-либо служебное место. При виде состава этого Совещания, где верховодили кадеты и прислужники кадетов, я убедился, что такая возможность абсолютно исключалась и что для меня там не могло быть никакого места.
И я снова очутился на распутье, не зная, куда идти и что делать с собой, пока не решил возвращаться в Харьков, с тем чтобы провести зиму в Святогорском монастыре, куда меня манили прежние воспоминания и где жили еще великие духовной жизнью старцы.
Незаметно прошла неделя, в течение которой я встретился с своими старыми знакомыми, занесенными беженской волной в Ростов и не знающими, подобно мне, что с собою делать.
Я видел здесь родного по духу и настроению камергера Н.В. Лотина и его семью, графа С.К. Ламздорф-Галагана, П.П. Извольского, но чаще всего встречался с писателем Б.А. Лазаревским, с которым обедал в одном ресторане. Я знал Б.А. Лазаревского еще с детства, оба мы учились в Коллегии И.Галагана и Б.А. был старше меня на год или два, не помню, что, однако, не мешало ему, вопреки существующим в закрытых учебных заведениях традициям, находиться со мной, воспитанником младшего класса, в приятельских отношениях. Эти последние выражались почти исключительно в его письмах ко мне, чрезвычайно длинных, составивших объемистую тетрадь в несколько сот страниц, коими Б.А. делился своими повседневными впечатлениями и старался проверять справедливость своих наблюдений и выводов. Нас обоих называли "графоманами", и такая переписка нисколько нас не тяготила. Но, кажется, ее единственным положительным результатом явилось только то, что она развивала технику письма.
Об этой переписке я и вспомнил при встрече с Б.А. Лазаревским, которого много лет не видел и с которым, несмотря на то, что он также жил в Петербурге, нигде не встречался.
– Неизвестно, что будет с нами дальше и как сложится наша дальнейшая жизнь, – сказал мне Б.А., – давайте уговоримся, что тот из нас, кто первый умрет, должен явиться другому и сообщить о своей смерти.
– Хорошо, – ответил я, – если не забуду и если такое право будет дано Богом.
Вспоминаю об этом разговоре для того, чтобы указать на те противоречия в области психики и убеждений, какие я замечал у Б.А. Лазаревского. Сын благородных родителей, сын знаменитого историка и ученого А.М. Лазаревского, Борис Александрович точно не замечал того, как планомерно и настойчиво он отходил от родных идеалов и завлекался в совершенно чуждую духу его родовых традиций сферу и мысли и дела. В его сознании, несомненно, теплились еще небесные искры, но он не только не культивировал их, а, прельщенный славой писателя, незаметно угашал их, точно не знал того, что писательская слава ни в малейшей степени не зависит от писательского таланта, а покупается и продается жидами. Когда печать всего мира в руках жидов, когда в их же обладании находятся всякого рода книгоиздательства, тогда ведь так легко сделаться знаменитостью. В самом худшем случае стоит взять на себя одно лишь обязательство – замалчивать жида и не разоблачать его роли на земле. "А там пиши себе что хочешь и как хочешь, славу обеспечим." Но какая же цена такой славе в пределах даже не вечности, а только времени?! А между тем, как много талантливых людей, начиная с гр. Л.Толстого, соблазнялись такой дешевой славой, какую ценили так дорого, что приносили ей в жертву не только самих себя, но и Божескую правду.
Пробыв неделю в Ростове, я выехал 8 ноября обратно в Харьков, с намерением провести зиму в Святогорском монастыре.
Удивление архиепископа Георгия, которого я не успел предупредить о своем приезде, было безгранично.
– Зачем Вы приехали, как могли решиться приехать, когда мы все бежим в Ростов?! Разве Вы не знаете, что большевики уже подходят к Харькову и не сегодня-завтра будут здесь? Нам всем нужно сейчас же уезжать, пока еще есть время!
Я ничего не знал. Правда, мне было известно, что Деникинская армия была отброшена обратно к югу, однако же я не представлял себе, чтобы опасность была так велика и близка, тем более что в Особом Совещании никто не допускал ее, и поражение Деникина объяснялось лишь незначительной неудачей, какая будет скоро исправлена.
Я был тем более озадачен, что очутился буквально на распутье. Ехать в Ростов, откуда я только что вернулся и где, очевидно, не мог бы устроиться, казалось мне невозможным, оставаться же в Харькове тоже было нельзя. И в этот момент мучительных дум и терзаний Господь снова явил мне милость, протянув Свою руку помощи.
Раздался звонок, и в переднюю вошел какой-то человек в кожаной куртке и высоких сапогах, по виду большевик, и просил послушника доложить о себе архиепископу или мне.
Передавая нам его просьбу, послушник вполголоса заметил, что этот человек кажется ему сильно выпившим и некрепко держится на ногах. Тогда архиепископ приказал выгнать его и отказался его принять.
Незнакомец, не настаивая на приеме, однако, остался в передней и вступил в беседу с послушником, коему назвал себя "делопроизводителем митрополита Питирима" и просил передать от митрополита привет и поклон архиепископу и мне, а также приглашение приехать в Пятигорск, вблизи которого, у подножия горы Бештау, был расположен Второ-Афонский монастырь, коим в скромной должности настоятеля управлял бывший митрополит Петербургский Высокопреосвященный Питирим.
– Скажите архиепископу и князю, что приезжал от митрополита Питирима делопроизводитель Вячеслав Александрович и что митрополит ждет князя в Пятигорске, – сказал он, прощаясь с послушником.
Дивны дела Божии, – только и мог я сказать, выслушав послушника. Я был уверен, что митрополит Питирим давно уже умер, как утверждали в Киеве, где даже служились по нем панихиды в Покровском монастыре. Не знал и архиепископ Георгий о том, что митрополит Питирим жив и находится в Пятигорске, и оба мы пожалели, что не приняли Вячеслава Александровича и не расспросили его о митрополите.
Однако, это посещение явилось для меня той путеводной звездой, какая указывала дальнейшее направление моего пути. Предо мной стала вырисовываться перспектива провести зиму в Ново-Афонском монастыре на Кавказе, куда я собирался поехать, навестив предварительно митрополита Питирима в Пятигорске, и где рассчитывал встретиться с братом, который тоже туда собирался ехать вместе с семьей барона Штейнгеля.
Настроение в Харькове делалось между тем все более тревожным и постепенно сменялось паникой, какая все более увеличивалась по мере проникновения в массы населения ужасных слухов. Гражданские власти развивали колоссальную энергию по эвакуации города и только благодаря их вниманию к архиепископу, нам удалось получить вагон I класса, а 12 ноября выехать из Харькова в Ростов. Выехали архиепископ Георгий, епископы Феодор и Митрофан, архимандрит Рафаил и несколько священников из белого духовенства. Все они остались в Новочеркасске, я же поехал дальше, направляясь в Пятигорск.
Поезд прибыл в Ростов в 12 часов ночи. Взвалив свои вещи на плечи, я побрел в город, в надежде найти где-либо ночлег. Идти в Московскую гостиницу я не хотел, найти свободный номер в другой гостинице было немыслимо. Я сделал попытку зайти к одним из своих знакомых, в окне у которых светился огонек. Я робко постучался в дверь. Хозяин в ужасе отшатнулся... "Бегите, бегите скорее, моя жена лежит в тифе, не дай Бог заразитесь..." Я хотел вернуться на вокзал, но вспомнил грозный окрик какого-то сторожа, запрещавшего устраиваться на ночлег в зале даже III класса... "Какие параллели", – подумал я, рисуя себе картину моего приезда в Ростов в январе 1917 года. Так недавно были все эти парады и торжественные встречи, царские комнаты, а теперь гонят из залы III класса!
И снова взвалив на плечи свой багаж, я вышел на главную улицу, где кое-где горели еще фонари, прислонился к одному из них и решил пересидеть так всю ночь. Все же надежда на ночлег не покидала меня, и я спрашивал каждого прохожего, где бы мог найти приют. Многие проходили мимо меня, не обращая внимания и принимая меня за бродягу или нищего, другие отвечали на мой вопрос, пожимая плечами или указывая на абсолютную невозможность найти приют, да еще в такой поздний час. Наконец нашлась какая-то добрая душа, которая не только указала мне адрес, но даже довела меня до одного дома, сказав, что там живет одна очень благочестивая семья, всегда принимавшая странников и никому не отказывавшая в приюте.
Не вспомню теперь фамилии этой семьи, но помню то удивление, с каким меня встретили эти на редкость добрые люди, почитавшие моего брата и в свое время чем-то ему обязанные. Одного из сыновей этой семьи и я знал, встречаясь с ним у брата в Киеве, в бытность этого сына послушником Глинской пустыни, а затем Киево-Печерской Лавры. С той любовью, с какой могут встретить только любящие родители своего сына, приняли меня эти люди. Это были ростовские купцы, на редкость богомольные, проникнутые великой верою, одни из тех подлинно религиозных православных христиан, которые не только исповедывали веру словами, но и жили верою и опирались на нее. Все их комнаты были буквально завешаны иконами, подле которых горели бесчисленные лампады, они отказывали себе в насущном куске хлеба, но прежде всего покупали масло для лампад и рассказывали мне о дивных знамениях Божиих, свидетелями которых они были. И действительно, нужно было удивляться тому, каким образом могли уцелеть эти сотни икон в их доме при всякого рода обысках и облавах большевиков во дни их владычества в Ростове. Я застал у них в доме нескольких раньше неизвестных им людей, подобно мне нашедших у них приют... Со всеми они были ласковы и приветливы, всех кормили, указывая на то, что Господь повелевает питать странников и что они выполняют только заповедь Божию.
Так как их дом был переполнен, то они соорудили из стульев кровать, положили на них матрац и даже перину, покрыли ее белоснежным бельем, накормили меня ужином и уложили меня, славословя Бога.
И, вспоминая теперь об этой семье, я мысленно призываю на них благословение Божие за все то добро, какое они оказали и мне и людям, находившимся тогда в моем положении.
Пробыв у них весь следующий день, я выехал 15 ноября в Пятигорск, направляясь к митрополиту Питириму.
Наученный горьким опытом, я пришел на вокзал за несколько часов до отхода поезда, надеясь заранее занять себе место, и просидел эти часы на своих вещах, не двигаясь с места и зорко следя за ними. Наконец, дверь на перрон открылась и огромная толпа, никем не сдерживаемая, ринулась к вагонам. У меня было 3 места: дорожный несессер венской работы Вюрцла в чехле, там же приобретенный мешок, с медной ручкой и замком, подле которого висели и два изящных маленьких ключа, и порт-плед. Кроме этого была еще палка и зонтик.
Обыкновенно при своих передвижениях я связывал мешок и несессер и носил их на плечах, а порт-плед держал в руке. На этот раз, увидев носильщика, я до того ему обрадовался, что поручил ему нести мешок, рассчитывая притом, что ему скорее чем мне удастся найти место в вагоне. В мешке было драповое пальто, купленное в Берлине на Унтер ден-Линден, в одном из самых фешенебельных магазинов, и все лучшее, что у меня осталось из платья и белья и что не вошло в чемодан, украденный по пути из Киева в Харьков. Быстро схватив мешок, носильщик еще быстрее убежал с ним в противоположную сторону и... скрылся. Опасаясь потерять место в вагоне и изнемогая под тяжестью вещей, оставшихся у меня на руках, я не мог погнаться за ним и... мои последние вещи погибли. Но этим еще не кончились мои испытания в пути. В Ростове мне удалось захватить верхнее место в вагоне II класса и первую ночь я провел относительно благополучно. При пересадке же на какой-то узловой станции, кажется Тихорецкой, или в Минеральных Водах, я очутился в III классе и переезд был настолько труден и утомителен, что я, кое-как примостившись на лавке и распаковав свой порт-плед, мгновенно уснул, сняв предварительно ботинки и поставив их под лавку. Каков же был мой ужас, когда, подъезжая уже к Пятигорску, я не нашел своих ботинок... Ночью кто-то украл их у меня.
Я был в отчаянии, ибо не мог выйти из вагона. А между тем была уже зима, стояли морозы и везде большие сугробы снега.
Мое отчаяние было так велико, что надо мною сжалились мои соседи по вагону и один из них успокоил меня тем, что на следующей станции доставит мне пару сапог за 2000 рублей, ибо имеет там сапожную лавку и торгует обувью. Так это и случилось. Во время кратковременной остановки поезда он выскочил на перрон и в один миг принес мне новую пару крестьянских сапог, ужасных по виду и не менее ужасных по качеству. Подошвы были подбиты гвоздями, которые немилосердно резали ногу. И однако мне ничего не оставалось, как взять эти сапоги.
Наконец, я доехал до Пятигорска и, взяв свои вещи, осторожно ступая, чтобы не причинять боли ногам, пошел в подворье Второ-Афонского монастыря, собираясь тотчас же ехать в монастырь, расположенный у подошвы горы Бештау, к митрополиту Питириму.
ГЛАВА 23. Пятигорск. Подворье Второ-Афонского монастыря. Митрополит Питирим
Трудно передать то впечатление, какое я испытал, когда впервые вошел в маленький домик, называвшийся "Подворьем Второ-Афонского монастыря". Приемный зал Харьковского архиепископа был в два раза больше этого домика. В одной комнате помещалась крохотная церковь, на 15-20 человек, в остальных жила часть братии монастыря, заведывающий подворьем, очередной иеромонах и диакон. Тут же, как оказалось, жил и митрополит Питирим.
– Услышал же Господь мои молитвы, увидел мои слезы, прислал же Вас сюда, – встретил меня такими словами заведывающий подворьем, – спасайте Владыку, погубят его здесь...
– Кто, – спросил я, – расскажите мне...
– Обижают Владыку, ох как горько обижают, а помощи ниоткуда. Поверите ли, что даже рубаху съели насекомые и, если бы я не доглядел, да не дал своей рубахи, то... – и добрый иеромонах залился слезами. Каждый день пьянство, чуть ни драки и все это под дверью Владыки, все церковные доходы берут себе в карман, представляют неверные счета, грабят, обманывают... А что может сделать Владыка, коли ни на кого опереться не может! Один-то "делопроизводитель" чего стоит...
– Что же епископ Макарий Владикавказский[4] не поможет? – спросил я.
– От него вся беда и идет. Раньше он был викарием митрополита Питирима, когда Владыка был архиепископом Владикавказским, ну а теперь, когда митрополит под его начало попал, известное дело, что получается... Начальником себя держит, от митрополита получает бумаги за подписью "нижайший послушник", так и смотрит на него как на послушника...
Из дальнейшего выяснились такие ужасные подробности жизни митрополита, не имевшего средств даже на пропитание и жившего буквально подаяниями прихожан, что я лично готов был видеть в факте моего приезда в Пятигорск выражение промыслительных путей Божиих. Не было не только хлеба, но и дров для отопления подворья, и Владыка мучился и от голода и от холода, живя в подворьи, как в вертепе разбойников.
Митрополиту уже успели доложить о моем приезде, и несколько мгновений спустя дверь в смежную комнату раскрылась и на пороге появился Владыка. Действительно, без слез нельзя было смотреть на него.
Вместо подрясника на нем было старое, поношенное драповое пальто, надетое поверх пиджака, все это с чужого плеча, лицо отражало глубокое страдание, безысходное горе, растерянность, беспомощность... И тем не менее, митрополит старался бодриться, скрыть ту действительность, какую, конечно, нельзя было скрыть и какая была слишком безжалостна к нему.
– Вот, нашлись добрые люди, какие подарили мне, один пальто, оно еще совсем хорошее, а другой старенький пиджак... Все же не мерзну в них, а ряску берегу, одна только у меня осталась...
Владыка искренне, по-детски, обрадовался моему приезду и после первых приветствий рассказал мне о всех пережитых им ужасах, добавляя всякий раз: "Если бы не моя мамочка, покойница, которая часто приходила ко мне во сне и успокаивала меня, прося чтобы я не боялся, то я бы и не пережил всего, что свалилось на мою голову".
– Когда совесть спокойна, – продолжал митрополит, – тогда ничего не страшно. Хотя я и по природе всегда был робким человеком, а злые люди сделали меня еще боязливее, хотя я и знал, что меня травили все, кто только мог и хотел, но в первые моменты революции я даже не допускал мысли, что надо мной могут так жестоко, так обидно надругаться, и оставался в покоях Александро-Невской Лавры, не принимая никаких мер к самозащите. Да и какие я мог принимать меры! Мне казалось, что мы все же жили в культурном государстве и что самые нелепые и дикие выходки Керенского будут выливаться в допустимую форму. Но скоро мне пришлось убедиться, что Керенский сам был игрушкой в руках озверевшей толпы и что все его действия были в сущности продиктованы страхом пред этой толпой, желанием угодить ей в целях самозащиты. Он взялся за власть, не имея даже азбучного представления о том, как управлять ею, а при этих условиях ведь можно было ожидать всего. Чуть ли не в первый день революции, 27 или 28 февраля, в мои покои ворвалась пьяная толпа солдат и объявила, что должна обыскать мои помещения, чтобы удостовериться, нет ли там оружия. Это у митрополита-то! – сказал Владыка улыбнувшись. – Повторяя заученные фразы, солдаты даже не разбирались в том, насколько такое задание было уместно в отношении митрополита, не могущего иметь в своих покоях никакого оружия. Обыскав все помещение, перерыв вещи и, может быть, унеся с собой какие-либо ценности, солдаты ушли, а на смену им вскоре пришли другие, с тем чтобы арестовать меня и увезти, по приказу Керенского, в Думу. Меня грубо схватили, усадили в автомобиль и повезли по Невскому проспекту среди разъяренной толпы, готовой каждую минуту растерзать меня. Что я пережил, одному только Богу известно... Толпа была так велика, что автомобиль едва двигался. Толпа бушевала, слышались выстрелы... В этот момент один из преступников вскочил на подножку автомобиля и, схватив меня за рукав рясы, силился вытащить меня из автомобиля. Между ним и сопровождавшим меня конвоем завязалась борьба, и неизвестно, чем бы она кончилась, если бы преступник не был сражен пулей, попавшей ему в рот и замертво не свалился на мостовую. Шофер воспользовался минутным замешательством толпы и как стрела помчался вперед, сворачивая то вправо, то влево, пока не доставил меня в Думу. Там меня встретил Керенский, который продержал меня в положении арестованного 4 часа в Думе, после чего объявил, что я должен уехать из Петербурга и что он предоставляет мне свободу выбора места.
Как я вернулся обратно в Лавру, почему остался жить, а не сделался жертвой обезумевшей толпы, какая с каждым днем становилась все более страшной, я не знаю и, слава Богу, не помню уже подробностей пережитого кошмара. Знаю лишь, что по возвращении из Думы я уничтожил все свои драгоценные бумаги, письма моей дорогой мамочки, письма Государя и Императрицы, Высочайшие грамоты и рескрипты и многие другие ценности. Все было слишком дорого для того, чтобы я мог покидать их на неизвестное, а хранить у себя я боялся... Наскоро собравшись, я в первых числах марта 1917 года и приехал сюда, где вот и живу, по милости Божией, – закончил митрополит, умолчав о тех ужасах, какие были пережиты им в 1918 году, когда в Пятигорске владычествовали большевики, расстрелявшие несколько сот мирных жителей, в том числе бывшего министра юстиции Н.Добровольского, генерала Радко-Дмитриева, князей Шаховских, Урусовых и других.
Об этом мне сообщил заведывающий подворьем иеромонах, подчеркнувший, что если Пятигорск не был окончательно вырезан большевиками, то обязан только молитвенному заступлению митрополита Питирима.
Что у нас творилось здесь, так и вообразить себе невозможно, – рассказывал иеромонах. – Не было дома, не забрызганного кровью, которая так и лилась ручьями по улицам. Хватали каждого прохожего на улицах и тут же расстреливали. А сюда ведь понаезжало много господ, все больше князья да генералы, тут их всех и поймали, да посадили в чрезвычайку, и долги мучили, а затем, связав им руки за спину, повели на кладбище, где и зарубили шашками, закопав полуживыми в яме.
А к нам-то в подворье никто из нехристов даже не заглянул, точно боялась нечистая сила святого нашего Владыку. А ведь он-то у них на глазах был, ни пред кем не таился, никуда не скрывался, а целодневно пребывал в храме, да слезно молился... И много, много слез проливал невинно оклеветанный страдалец Владыка митрополит, и эти слезы и залили пожар и не дали ему разгореться. Скоро большевиков прогнали, по праведным молитвам Владыки. Тут и потянулись к нам в подворье все, кто остался жив и воздали великую славу Владыке; приношениями добрых людей мы и кормились, да и теперь кое-как держимся... Обеднел приход, само население, дочиста ограбленное, стало нищим и болезнует от скудости, а другой помощи ниоткуда нет. Грех великий взяли прочие Владыки, забыв митрополита и забросив его сюда, как и взаправду преступника, а про то, дай Бог всякому ему уподобиться.
Трогательна была любовь этого простого иеромонаха к митрополиту Питириму, этого единственного верного и преданного человека в подворье, и, пользуясь его указаниями, я горячо принялся хлопотать об облегчении условий жизни митрополита, положение которого было действительно ужасным. Нужна была только свойственная митрополиту кротость, абсолютная нетребовательность и непритязательность, быть может, и усталость, чтобы не падать под тяжестью этих условий и крепиться. Я бросался во все места, куда было можно и откуда я ждал помощи, но скоро убедился, что мои хлопоты бесполезны. Главнокомандующий войсками Северного Кавказа генерал Эрдели вовсе меня не принял и я добился приема только у его жены Марии Александровны, рожденной Кузминской, да и то, вероятно, только потому, что был знаком с нею в бытность свою студентом, встречаясь с нею в Киеве, где ее отец был старшим председателем Киевской судебной палаты. Тогда она была приветливой барышней, а сейчас предстала предо мною в образе высокопревосходительной генеральши и проявила много дурного тона деланностью, искусственностью движений и неискренностью. К личности и положению митрополита она не обнаружила ни малейшего участия и не сделала ни одного жеста в его сторону хотя бы из вежливости, оставив мне самое неприятное впечатление от визита. Тогда я бросился в канцелярию Главнокомандующего, в составе которой находились мои прежние сослуживцы по Государственной канцелярии барон Бюллер и фон-Фельдман, из коих последний был даже правителем этой канцелярии. Их участие выразилось только в визите к митрополиту, причем оба в ужасе отшатнулись, переступив порог келлии митрополита, но никакой помощи Владыке они не оказали, а только лишний раз убедили меня в том, что имя митрополита Питирима безвозвратно скомпрометировано в глазах знавших его по Петербургу и что можно рассчитывать только на помощь со стороны местных жителей, для которых митрополит являлся новым человеком. Но эта последняя помощь могла выразиться только в куске хлеба и никакой другой помощи они не могли бы оказать митрополиту.
Митрополит Питирим, конечно, чувствовал истинное отношение к себе со стороны Главнокомандующего генерала Эрдели и пришлой интеллигенции, но, стоя неизмеримо выше своих недоброжелателей, не только не огорчался таким отношением, а даже шутил, рассказывая о том, как его сердобольные прихожане, обиженные отношением властей к митрополиту, дали ему совет переменить имя, приняв схиму.
– Есть же на свете добрые души, – сказал мне митрополит, смеясь, – подумайте только, как хорошо бы звучало "схимитрополит Павел", никто бы и не подумал о том, что под этой схимой скрывается прославленный или, вернее, обесславленный митрополит Питирим.
– Особенно, если бы приняли схиму здесь же, в подворье и остались бы в Пятигорске, – ответил я.
– А в другой раз было еще лучше, – продолжал митрополит, – один из монахов прочитал в газете какой-то пасквиль на меня и, не поняв статьи, прибежал ко мне радостный и сияющий и, держа газету в руках сказал мне: "Посмотрите, Владыка святый, не все дерзают причинять Вам скорби, есть и понимающие, вот газета пишет, дозвольте показать, что "имя митрополита Питирима станет историческим". Может и в самом деле было бы лучше прикрыть такое историческое имя схимой, – сказал митрополит, и мы оба рассмеялись.
Утешался митрополит только отношением к нему местных жителей, из коих каждый старался чем-либо доказать свою любовь к нему. Все это были простые, добрые, богобоязненные люди, но все были так бедны, что страдали от сознания невозможности создать митрополиту лучшие условия жизни, ибо и сами жили впроголодь. Встретился я в Пятигорске и с бывшим министром народного просвещения, членом Государственного Совета Петром Михайловичем фон-Кауфманом-Туркестанским, надеясь чрез его посредство привлечь к Митрополиту участие со стороны местных властей, но и это не удалось мне.
П.М. фон-Кауфман-Туркестанский также был невысокого мнения о митрополите и уклонялся от свидания с ним и только после моих настояний согласился его посетить. Убеждение, что митрополит был не только ставленником Распутина, но и его другом, разделялось П.М. фон-Кауфманом-Туркестанским наравне с прочими обывателями столицы и поколебать это убеждение было трудно. Впрочем, после одного из свиданий с митрополитом П.М. фон-Кауфман-Туркестанский, как мне казалось, изменил свое мнение.
Мне памятно это свидание.
Войдя в подворье, Петр Михайлович был поражен нищенской обстановкой, окружавшей митрополита. Владыка занимал маленькую проходную комнату, где стояла железная рыночная кровать на изогнутых ножках, шкаф, комод и маленький стол, за которым с трудом могли поместиться только три человека. Это была и спальня, и приемная, и столовая, и кабинет Владыки. С одной стороны к ней примыкала комната заведывающего подворьем, а с другой моя комната, бывшая раньше спальней Владыки, какую митрополит уступил мне. Эта последняя была еще меньше и настолько узка, что в ней могла поместиться лишь кровать и не было места для стола и стульев. Митрополит приветливо встретил гостя и между ними завязалась беседа о причинах, приведших Россию к гибели, причем Петр Михайлович отводил заметное место Распутину и очень недвусмысленно намекал и на роль митрополита Питирима. Из дальнейшего выяснилось, что, будучи главноуполномоченным Красного Креста, Петр Михайлович был очень близок к Государю и пользовался исключительным доверием и расположением Его Величества, часто бывал в Ставке, но что Императрица не благоволила к нему и он должен был, в конце концов, покинуть свой пост.
Развивая свою мысль о вредном влиянии Распутина, Петр Михайлович в заключение сказал, что с этим влиянием мало боролись и находил, что митрополит Петербургский также должен был считать себя обязанным бороться с этим влиянием, вместо того, чтобы усиливать его.
Владыка все время молчал. Когда же Петр Михайлович кончил, то митрополит Питирим сказал: "Вот Вы подчеркивали свою близость к Государю, говорили, что бывали у Его Величества даже без вызова, по Вашему личному почину, почему же Вы не раскрыли глаза Государя на Расутина... Кроме Вас были и другие близкие, был протопресвитер Шавельский, который по целым дням и каждый день находился в общении с Государем... Почему же он не сделал такой попытки, почему все сваливают ответственность только на одного митрополита Петербургского? Знаете ли вы, сколько раз видел митрополит Петербургский Государя за время своего пребывания на столичной кафедре?! Только четыре раза и, притом, по десять минут каждый раз.
То время, когда в строительстве государственном или хотя бы в указании верных линий государственной жизни принимали участие иерархи Церкви, давно уже прошло, политику давно уже делают другие люди и государственная жизнь протекает по такому руслу, где редко встречается с Церковью. Это явление находят печальным не только иерархи...
Когда же Императрица, ясно отдававшая Себе отчет в этом явлении, приглашала Петербургского митрополита для бесед на общие церковно-государственные темы, тогда общество стало обвинять митрополита в вмешательстве в политику и находить, что единственной дозволенной темой разговора митрополита с Царем и Царицей мог быть только Распутин.
Митрополит Петербургский сделал больше, чем все общество, забросавшее его тяжкими обвинениями. Он не побоялся клеветы, он принимал у себя Распутина, старался смягчать его влияние, обезвреживать, и я должен сказать, что хотя авторитет Распутина в глазах Государя и Государыни и действительно был высок, но Распутин не пользовался своим авторитетом для преступных целей и самые ярые его враги не в состоянии будут указать ни одного преднамеренного преступного деяния с его стороны. Если бы его имя не сделалось мишенью для обстрела монархии, то он сошел бы со сцены так же, как сошли со сцены и его предшественники. Нужно было замалчивать это имя так же, как в свое время замалчивалось имя графа Эйленбурга в Германии, а не раздувать его славу, все равно добрую или худую, ибо обе были одинаково вредны и для государства опасны.
Все это хорошо сознавали все, но все боялись прослыть "распутинцами" и тем громче кричали о преступлениях Распутина, чем больше желали отмежеваться от него и не запятнать своей репутации. А в чем выражались конкретные преступления Распутина, этого никто не мог сказать и когда я об этом спрашивал, то никто не мог мне ответить, а отделывался лишь общими фразами. Не Распутин погубил Россию, а Ставка и Дума, но туда никто не заглядывал. Мне больше всех доставалось из-за Распутина, я страдал из-за этого имени больше чем другие, ибо мной пользовались дурные люди, играя именем Распутина. Добросовестный глупец всегда менее опасен, чем недобросовестный умный. Говорили, что Распутин сменяет и назначает министров. Может быть, и была доля правды в том, что он рекомендовал Государю того или другого министра. И однако же этот ужасный человек, имя которого прогремело на весь свет как синоним зла, который якобы вызвал революцию, этот самый человек не рекомендовал Государю ни одного из тех лиц, которые сменили "распутинских ставленников" и образовали Временное Правительство, погубившее Россию. И уж во всяком случае Распутин любил Царя и Россию больше, чем эти преступники. Да, это был болезненный нарост на государственном организме, и было бы лучше, если бы его не было, однако видеть в Распутине главное зло в жизни России за последние годы, значит не знать ни истории, ни психологии революции, на страницах которой имя Распутина даже не упоминалось.
Что же касается того, что митрополит Петербургский не восставал против увлечения Государя и Государыни именем Распутина, то этот вопрос рассматривался совсем не в той плоскости, на которой бы можно было найти ответы на него. Важно не то, кто восставал, а кто не восставал, а важно то, что общество утратило понимание религиозной сущности Самодержавия и стремилось подчинять волю Монарха своей воле. Помазанник Божий есть орудие воли Божией, а эта воля не всегда угодна людям, но всегда полезна. Народовластие же всегда гибельно, ибо Богу было угодно постановить, чтобы не паства управляла пастырем, а пастырь паствой. Там, где этот принцип нарушается, наступают последствия гораздо более горькие и опасные, чем все то, что признается ошибками или неправильными действиями пастыря. Пастырь ответствен пред Богом, народовластие же всегда безответственно, есть грех, бунт против Божеских установлений..."
Речь митрополита Питирима лилась ровно, плавно и гладко и, любуясь его умными глазами, отражавшими так много мысли и столько страданий, я в то же время следил за тем впечатлением, какое производили слова митрополита на П.М. фон-Кауфмана-Туркестанского. Я видел, как слабели позиции Петра Михайловича и как он, будучи человеком искренним, чуждым особенностей, отличавших предвзятых людей, постепенно располагался к митрополиту, готовый отказаться от своих прежних мнений и предположений. Я искренно разделял основные точки зрения митрополита, и не только разделял, но и исповедывал принцип неприкосновенности Монарха, против чего особенно яростно восставали иерархи, находившие, что и Царь, как таковой, ответствен за свои действия и поступки пред "народом", иначе пред "церковью", еще иначе пред "патриархом", какой снился каждому из них. Ответствен, но ответствен только пред Господом Богом, и самое неверное действие или неправильный шаг Царя даст в результате меньшее зло, чем неповиновение Царю, какими бы побуждениями ни вызывалось. И митрополит Питирим это понимал и был одним из тех, кто имел мужество не только так думать, но и исповедывать свои убеждения.
Изменил ли П.М. фон-Кауфман-Туркестанский свой взгляд на митрополита Питирима, я не знаю, но у меня получилось впечатление, что он простился с митрополитом сердечнее, чем встретился, и ушел поколебленным в своих убеждениях.
Более всех скорбел об участи митрополита Питирима немецкий пастор, живший в Пятигорске. И когда, движимый благодарностью за участие к митрополиту, я навестил его, то он сказал мне буквально следующее: "Извините меня за откровенность, если я скажу, что только в России возможно такое отношение к архипастырю. Ведь и преступникам в тюрьмах дают два раза в неделю смену белья, а ваша гражданская и церковная власть допускают, чтобы на митрополите истлела рубаха от насекомых, и он голодает, живя в помещении, какое отапливается раз в неделю и притом в том городе, где сосредоточены солдатские казармы, имеющие все в изобилии. Какой позор для ваших иерархов, какое преступление со стороны военной власти Пятигорска! Я имею паству в 114 человек, но посмотрите, как я живу... Этот домик при церкви содержится прихожанами, не имеющими никакой поддержки со стороны местных властей, и я не чувствую никаких лишений даже в настоящее трудное время, когда и моя паства терпит их. Ваш же митрополит живет в таких ужасных условиях, что к нему нельзя зайти без опасения заразы. Ведь это не только пренебрежение к сану, но и жестокосердие, пренебрежение к человеку..."
Так говорил немецкий пастор, не знавший даже подробностей положения, в каком находился митрополит.
Помощи ниоткуда не было, и ожидать ее было невозможно. И в поисках выхода из положения, я испросил у митрополита Питирима позволение стать у свечного ящика и нести денежную отчетность. Результаты сказались мгновенно. Недельная выручка с этого момента оказалась почти в десять раз большей, чем в предыдущее время. Владыка стал лично вести кассовую книгу, а я каждый вечер отдавал митрополиту ежедневную выручку, и мы вместе делали подсчет. Чтобы не сделать ошибки, я воздержусь от обозначения цифры, однако разница с предыдущими цифрами была до того велика, что митрополит даже заподозрил меня в том, что я добавляю выручку своими деньгами. Достаточно сказать, что недельная выручка превышала месячную за предыдущее время. Нужно ли говорить, что от этого получилось... Подворье настолько возненавидело меня, что старалось всячески добиться моего отъезда из Пятигорска, и пьяный "делопроизводитель" особенно усиленно домогался этого, вооружая против меня митрополита. Мне смешно вспомнить что митрополит не только не имел силы отвергнуть с негодованием эти нашептывания, но... временами, по-видимому, даже проникался ими, оставаясь неисправимым и поддаваясь влияниям. Были моменты, когда я готов был покинуть Владыку, и только убеждение, что его погубят окружающие, и горячие просьбы заведывающего подворьем не покидать его, заставляли меня терпеливо переносить капризы этого большого ребенка, каким, в моих глазах, всегда был митрополит Питирим.
– И как Вы можете вообще принимать и разговаривать с этим типом, именующим себя Вашим делопроизводителем, – спорил я часто с митрополитом, – он создает Вам такую дурную славу своим поведением, пьянством и разгульной жизнью, что только осложняет Ваше положение... Вы бы запретили ему хотя бы именоваться Вашим делопроизводителем. Кто дал ему такое право и что же он "производит", если у Вас и канцелярии нет и дел никаких нет, а отписку и переписку Вы сами ведете...
– Не будьте строги к нему, – отвечал митрополит, – это погибший, спившийся человек, может быть его разговоры со мною это его единственная радость и утешение, зачем же лишать его и этого?! А выслушать человека не значит еще исполнить то, чего он просит или на что указывает...
– Да, но послушайте, что он говорит обо мне... Он распускает слухи, что я стал за свечной ящик для того, чтобы брать выручку себе в карман, он говорит, что я приехал сюда, чтобы обобрать Вас, он, наконец, в пьяном виде грозил, что убьет меня... И я думаю, что он, действительно, на это способен, ибо я стал ему на дороге и он не может красть теперь церковных денег...
– Такова уже участь всех меня окружающих, – ответил митрополит, – стоит только ближе подойти ко мне, так того сейчас же и забросают грязью. Мне тоже уже передавали о его угрозах, и я очень беспокоюсь за Вас, может быть и действительно было бы лучше Вам уехать, а я уже как-нибудь доживу здесь до смерти.
Я с удивлением посмотрел на митрополита и сказал: "Для Вас будет хуже, если я уеду, лучше уволить "делопроизводителя", о чем Вас молит и вся братия".
Однако, посмотрев на Владыку, я прочитал на его лице такое страдание и беспомощность, такую готовность и впредь подвергаться эксплуатации со стороны дурных людей, лишь бы не сделать по отношению к ним ни одного резкого шага, что уже не поднимал больше этого вопроса.
Убедившись в невозможности избавиться от моего контроля, хитрый "делопроизводитель" повел интригу с другого конца и, ссылаясь на приближение большевиков, стал убеждать митрополита как можно скорее уехать из Пятигорска и до того подчинил своему влиянию митрополита, что Владыка вел с ним переговоры об отъезде в полной тайне от меня. Для меня было совершенно очевидно, что он имел в виду разлучить меня с митрополитом, чтобы эксплуатировать последнего на новом месте, однако мне стоило больших трудов разубедить митрополита в этом, и Владыка долго колебался, прежде чем решился, по моему настоянию, отвергнуть его услуги.
Тем не менее атмосфера сгущалась, и я видел, что дальнейшее мое пребывание в подворье становится все более трудным. Удерживало меня в Пятигорске только сознание долга в отношении митрополита и неотступные просьбы и мольбы заведывающего подворьем иеромонаха, буквально ни на один час не разлучавшего меня с митрополитом и не подпускавшего к нему "делопроизводителя". Личное же самочувствие мое было тяжелым. Для меня было ясно, что даже независимо от угрозы, создававшейся приближением большевиков, митрополит не мог бы оставаться в Пятигорске, а должен был бы уехать, пока было еще можно, куда-либо в другое место. Сознавал это и митрополит, мечтавший об Афоне, и мы долгими вечерами обсуждали на все лады способы, как туда добраться. В результате "делопроизводитель" вызвался ехать в Новороссийск для хлопот о заграничном паспорте, где и застрял и откуда уже более не возвращался. В этот момент приехал из Кисловодска настоятель одного из местных храмов, бывший секретарь Курской духовной консистории в бытность митрополита Питирима Курским архиепископом, и усиленно убеждал Владыку переехать в Кисловодск. Я ухватился за эту мысль и на другой день лично съездил в Кисловодск, чтобы, ознакомившись с условиями, сообщить митрополиту свои впечатления и решить этот вопрос. В Кисловодске в то время проживала Великая Княгиня Мария Павловна с сыном Андреем Владимировичем, княгиня З.И. Юсупова, встретился я там и с г-жою Раич, вдовой убитого большевиками члена Киевской судебной палаты, жившей у своей дочери с графом Сергеем Константиновичем Ламздорф-Галаганом, и многими другими. Но никому из них не было дела до митрополита Питирима, никто не только не интересовался им, но почти все обнаруживали к Владыке открытую неприязнь.
Я вернулся в Пятигорск удрученный полученными впечатлениями и сознавал, что переезд митрополита в Кисловодск причинил бы Владыке только лишние страдания. Один только генерал А.Д. Нечволодов проявил участие и сердечность к митрополиту и ко мне и оказался не зараженным ядом царившей вокруг наших имен злостной клеветы, и я с признательностью вспоминаю эту свою встречу с ним, так горячо отзывавшимся об Их Величествах, так глубоко понимавшим Их.
Между тем большевики все ближе и ближе приближались к нам. Харьков был уже давно взят ими и создавалась угроза Ростову, где царила неимоверная паника. Каждый день я ходил на вокзал, где была вывешена карта военных действий, и я видел, как каждый день линия фронта опускалась все ниже и ниже и подходила уже к Ростову. В связи с этим росли и слухи, один ужаснее другого. Однако канцелярия Командующего войсками Северного Кавказа упорно их опровергала, и Пятигорск понемногу успокаивался. Не придавал и я лично особого значения распространяемым слухам, а затем и совершенно успокоился, когда получил из Ростова письмо, помеченное 4-м декабря, такого содержания: "...Желая использовать в интересах Особой Комиссии Ваш опыт и знания в вопросах Церкви, я спешу Вас уведомить, что на днях мною командирована в Терско-Дагестанский край подкомиссия под председательством члена Комиссии Владимира Степановича М. Принимая во внимание, что в настоящее время, в связи с положением на фронте, исключается возможность расширения существующего состава Особой Комиссии, возникает вопрос, не пожелаете ли Вы присоединиться к работам Особой Комиссии в качестве временного ее члена, с оплатой Вашего труда применительно к содержанию, положенному по штатам постоянным членам Комиссии согласно IV классу должности и с возмещением путевых расходов. Если Вы решитесь принять это предложение, то Вам надлежит в возможной скорости проехать в Владикавказ, где Вы от прокурора Окружного суда можете узнать о месте пребывания Терско-Дагестанской подкомиссии и, в частности, В.С.М., которому я написал о поручении Вам расследования по вопросам гонения большевиков на Православную Церковь в Терско-Дагестанском крае. О Вашем решении будьте любезны сообщить мне в Ростов, Никольская, 75".
Письмо председателя Комиссии г. М. явилось для меня полной неожиданностью и порадовало меня столько же перспективою принять участие в работах чрезвычайно важного значения, сколько и перспективою заработка, однако радость была кратковременной. Я ответил благодарностью за предложение, охотно его принял, тем более, что мои отлучки на короткие сроки не причиняли бы осложнений и в положении митрополита Питирима, заботу о котором я считал своим долгом, и собирался уже выехать в Владикавказ, как вдруг дверь в мою келлию открылась и в нее вошел В.С.М., сообщивший мне, что надобность в поездке в Владикавказ отпадает ввиду осложнений на фронте. Я ограничился посему лишь расследованием преступлений большевиков в отношении Церкви, совершенных ими в самом Пятигорске и его окрестностях. Не могу не вспомнить о проявленном местной интеллигенцией малодушии при производимых мною допросах. Большинство откровенно заявляло, что знает очень много, ибо было свидетелем всех злодеяний большевиков, однако не решается давать подробных сведений, а тем более подписывать протоколы расследования из опасения мести со стороны большевиков, которые могут снова овладеть Пятигорском. Доводы были резонные, и я ограничился только собранием материалов, скрепив протоколы своей личной подписью, с тем чтобы препроводить их председателю Комиссии. Предстояла поездка в Бургустан, но она уже не могла состояться ввиду крайне тревожного положения в Пятигорске, не позволявшего мне покинуть митрополита Питирима. Однако слухи о падении Ростова оказались и на этот раз неверными, и жизнь снова вошла в свою колею.
В глубоком одиночестве митрополит Питирим и я коротали долгие зимние вечера в беседах друг с другом. Я узнал, что в Пятигорске вместе с митрополитом Питиримом проживал некоторое время и бывший обер-прокурор Святейшего Синода Раев, уехавший потом в Армавир или в Ставрополь, где он и скончался. Он старался помогать Владыке, пел на клиросе, но все же не вынес условий окружавшей митрополита обстановки и уехал из Пятигорска. Я воспользовался горькой жалобой митрополита на то, что его все покинули и что он никому более не нужен, и спросил Владыку о его бывшем секретаре Иване Зиновьевиче Осипенко, известном под именем "Вани", о котором в свое время говорилось так много дурного и сочинялись легенды, порочащие даже имя митрополита.
Я хотел выяснить, кроме того, и личное отношение митрополита к этим легендам, ибо знал о них только по слухам, но никогда не расспрашивал о них митрополита.
– Разве не грех, что он, которого Вы так любили, бросил Вас, – сказал я митрополиту.
– Нет, нет, – встрепенулся Владыка, – он не мог со мной ехать, он не изменил мне, он всегда был мне предан...
Хороша преданность, подумал я, вспоминая, с какой нежной, отеческой любовью относился митрополит к нему и какой черной неблагодарностью тот отплатил Владыке за любовь...
– Расскажите мне о нем, – сказал я митрополиту, – об Иване Зиновьевиче ходило столько сплетен... Откуда он, давно ли Вы его знаете, правда ли, что он был Вашим келейником, а потом сделался секретарем...
– Нет, – ответил митрополит, – келейником Ваня никогда не был, он был певчим в архиерейском хоре. Это круглый сирота, без отца и матери, кто-то из родных или знакомых его определил Ваню в хор, а потом и бросил его. После спевок или церковных служб его товарищи и разойдутся к себе по домам, кто к родителям, кто к родным, а Ване некуда было деваться, я и пожалел сироту и приютил его. У него был хороший голос, мне хотелось помочь ему выбиться на дорогу, я и заставил его брать уроки пения и оплачивал эти уроки. Так время шло, Ваня привязался ко мне и не хотел отходить от меня. Куда шла иголка, туда тянулась за ней и нитка. С годами голос его пропал, нужно было подыскать ему другое занятие, я и пристроил его к своей канцелярии.
О, как строги к нам, монахам, миряне! У них семьи, у них дети, которых они любят, которых ласкают и утешаются их любовью, и никто их не осуждает за это... А за нами зорко следят, мы точно в одиночном заключении, можем иметь общение с людьми только на расстоянии. Но ведь и мы люди, и у нас есть сердце, к которому, иной раз, хочется прижать ребенка, когда он тянется к нам, утешиться его лаской, залюбоваться его чистотой. За что же я должен был гнать от себя Ваню, когда он смотрел мне в глаза и держался за меня обеими руками, не имея никого, кто был бы к нему близок? За то, что его называли моим сыном и напрасно обижали, за то, что приписывали ему преступления, которых он не совершал?! Если бы Вы знали, как иногда тяжело было дышать этой атмосферой лжи и неправды, этого внешнего низкопоклонства и раболепства, где было так мало искренности, где отовсюду веяло таким холодом, как хотелось перемены, как стремилась душа к общению с невинностью и чистотою, как бежала навстречу детской, неиспорченной душе...
Но тысячи глаз следят за нами, монахами, нам отказывают даже в проявлениях этого природного, естественного чувства к детям, везде усматривают грязь, пошлость, преступления... От нас все требуют всего, но нам ничего не дают, никто не удосужится заглянуть в наши души, чтобы увидеть, что и мы, монахи, страдаем иногда от одиночества, что и мы дорожим близким человеком, если находим его, что иногда наши келейники являются самыми близкими к нам людьми, нашей опорой, нашими единственными верными друзьями...
Глубоко вздохнув, митрополит встал со стула, подошел к комоду и начал рыться в ящиках.
– Вот вещи Вани, пара золотых часов, это все его богатство, прощаясь со мною, он отдал их мне, чтобы, в случае нужды, я бы мог продать их.
Он все еще верил Ивану Зиновьевичу, не хотел допускать, что стал ему больше не нужен, как и всем прочим, оставившим его, не хотел разувериться в людях...
– Как презренно человечество, – сказал я митрополиту. – Сегодня мы в славе и почете, и нас окружают, ищут нашего расположения, счастливы нашим вниманием, восхищаются нашими достоинствами, льстят, приписывав нам то, чего и не было, в каждом движении, в каждом нашем жесте усматривают повод возвеличить нас, а завтра мы впали в несчастие и... все наши друзья, как очумленные, разбегаются во все стороны, отрекаются от нас, забрасывают нас грязью. А мы, наивные, верили им.
– Потому, что любили себя, – ответил митрополит, – потому, что любили славу и почет... Нет, не будем их осуждать, наша жизнь за гробом, а там наши здешние враги окажутся нам полезнее, чем здешние друзья. Не было бы врагов, не было бы и смирения, а смирение – и без дел спасение.
Наступили праздники Рождества Христова. Маленькая церковь наполнилась прихожанами.
Митрополит служил. Трудно передать то впечатление, какое охватывало меня всякий раз, когда я переступал порог этой церкви, так напоминавшей ветхую часовеньку, затерявшуюся в захолустьи, в деревенской глуши. Та же бедная, громоздкая церковная утварь, те же лубочного письма иконы в неуклюжих киотах, те же поношенные, полинявшие облачения, те же два певчих на клиросе – пономарь и диакон... Везде пыль, везде отпечаток нерадения, косности, неуважения к святыне. Я не сводил глаз с митрополита и следил за каждым его движением, и сердце сжималось от боли при виде того несоответствия, какое рождалось между митрополитом и обстановкой, его окружавшей. И каким суровым обвинением прозвучали в моем сознании упреки тем, кто допустил такое несоответствие. Этот убогий храм на 20 человек, эти изломанные, согнутые, кривые ставники и покрытые тряпками аналои, эти тяжелые канделябры вместо дикирия и трикирия, скуфейка вместо митры, удушливый запах перегорелой бумаги вместо ладана – все это производило удручающее впечатление.
Но тем большим контрастом на этом фоне явилось служение митрополита Питирима. Впрочем, едва ли можно говорить о впечатлении от церковной службы там, где эта служба преображает молящихся, где окамененное нечувствие сердца растворяется слезами умиления, где встречаешься с моментами такого душевного подъема, какие, точно против воли, очищают греховную скверну и делают человека лучше. Тогда некогда замечать впечатление, тогда исчезает внешнее и живет только одна мысль о чрезвычайной виновности пред Богом, о неисчислимости своих грехов, о необходимости всемерно поспешить с покаянием, пока Господь еще не позвал на суд Свой, пока еще дает время очиститься...
Митрополит Питирим совершал Божественную литургию так дивно, так благоговейно, с таким высоким подъемом религиозного чувства, с таким проникновенным пониманием сущности Евхаристической Жертвы, что уносил с собою на небо всех молящихся вместе с ним.
Но вот кончилась литургия... Митрополит вышел на амвон и обратился к молящимся с проповедью. Он говорил о Рождестве Христовом, о Вифлеемских яслях, о смирении, как основе всякого подвига и величайшей движущей силе, и эта проповедь была так удивительна, явилась выражением таких страданий, лично пережитых и переживаемых, была соткана из такого живого материала, так болезненно обнажала незажитые еще раны, что произвела потрясающее впечатление и заглушалась громкими рыданиями молящихся в храме. Плакал и митрополит.
Эта проповедь явилась и лебединою песнью Владыки.
Ни раньше, ни после я таких проповедей не слышал. Да и невозможно было услышать, ибо так говорить мог только страдалец, сгибавшийся под тяжким бременем выпавших испытаний, мог говорить только митрополит Питирим, ставший жертвой человеческой злобы, страдавший и изнемогавший и все же сохранивший свою пламенную веру и заражавший ею других.
Слухи о приближении большевиков, между тем, увеличивались, и настроение Пятигорска становилось все более нервным. Я ежедневно ходил за справками в канцелярию Главнокомандующего, ходатайствуя за митрополита, но меня всякий раз успокаивали, говоря, что слухи вздорны и умышленно распространяются злонамеренными людьми, и что в случае действительной опасности митрополиту Питириму будет предоставлена возможность выехать из Пятигорска одновременно с властями. А 30 декабря я получил от "личного адъютанта Командующего войсками Северного Кавказа" даже записку такого содержания: "По приказанию Командующего войсками сообщаю Вам, что меры к эвакуации Владыки будут приняты и Владыка о времени и способе эвакуации будет поставлен в известность."
В действительности же вздорными оказались все эти обещания.
Ростов пал, большевики спускались на юг, было несомненно, что малейшее промедление рискованно, ибо после занятия большевиками любой узловой станции Пятигорск оказался бы отрезанным и никакая эвакуация невозможна. Это сознавали и власти, и эвакуация Пятигорска была в самом разгаре, длинные обозы, нагруженные всякого рода имуществом, тянулись по улицам в неизвестном направлении, еще более увеличивая панику населения, а об участи митрополита никто и не думал. Выехать из Пятигорска было возможно только экстренным поездом, ибо железнодорожное сообщение было прервано, поезда ходили нерегулярно, десятки тысяч народа запрудили не только вокзал, но и предвокзальную площадь и целыми днями и неделями ожидали прибывающих из Кисловодска переполненных поездов. Было невозможно добраться даже до здания вокзала.
Посылаемые мною на разведки возвращались, говоря, что выехать невозможно, что сотни людей расположились в поле и при виде приближавшегося поезда бросались навстречу, цепляясь на ходу за подножки вагонов и пробираясь на крышу, что нет никакой возможности проникнуть в переполненные вагоны и что митрополит ни в коем случае не перенес бы такого переезда, если бы чудом Божиим и проник в вагон.
Однако оставаться в Пятигорске в атмосфере всеобщей паники и ужаса оказалось тоже невозможным.
31 декабря 1919 года, в 9-10 часов вечера, подъехали к подворью дроги для перевозки кирпича... С трудом поместились на них митрополит и я. Стояла кромешная тьма. Монах с фонарем шел впереди показывать дорогу, другой вел под уздцы лошадь. За дрогами и по сторонам шли прихожане Владыки, человек около 20-ти, и громко плакали. Мы ехали к вокзалу, не зная ни того, пришел ли поезд, придет ли он вообще, и если придет, то когда, ни того, возможно ли нам будет проникнуть в вагон... Мы безраздельно отдавали себя водительству Промысла Божия, вручали себя Его святой воле... и чудо Господне совершилось. При виде митрополита толпа почтительно расступилась и Владыка прошел на перрон. В этот момент подошел поезд и на площадке одного из вагонов Владыка увидел знакомого кондуктора, усердного почитателя Владыки. При виде митрополита кондуктор мгновенно соскочил с площадки и, взяв Владыку на руки, буквально внес митрополита в вагон, предоставив возможность не только мне, но и некоторым провожавшим Владыку прихожанам, следовать за ним. Как только мы вошли в вагон и разместили свои вещи, кондуктор дал свисток и поезд тронулся по пути к Минеральным Водам. Там должна была произойти пересадка, чтобы следовать в Екатеринодар, а затем в Новороссийск, откуда митрополит вместе со мною собирался ехать на Афон.
Приближаясь к станции Минеральные Воды, мы шли навстречу большевикам и настроение наше становилось тем более нервным, что мы не знали, застанем ли на станции поезд или нам придется целыми днями выжидать его расположившись, подобно прочим беженцам, на станции. Эта перспектива тем более пугала меня, что и у митрополита, и у меня были ограниченные средства и, кроме того, Владыка чувствовал себя очень плохо и с трудом переносил путешествие в переполненном вагоне III класса, жалуясь на повышенную температуру и лихорадочное состояние.
Но Милосердному Господу Богу было угодно и здесь явить нам Свое разительное чудо, вызвавшее у провожавших нас даже слезы умиления... На станции Минеральные Воды не оказалось ни одного человека, а у перрона стоял поезд, направлявшийся в Екатеринодар, точно ожидавший митрополита...
И что всего удивительнее, вагоны были почти пустые и едущих было мало. Однако кондуктор этого поезда оказался настолько грубым, что не пропустил митрополита ни в I, ни во II класс, и мы вынуждены были поместить в III классе, переполненном солдатами, и притом в вагоне, где все окна были выбиты. Невыразимо тяжела была разлука с провожавшими митрополита, ехавшими с Владыкой до самой станции Минеральные Воды. Все это были местные жители Пятигорска, горячо полюбившие митрополита и любимые им, его канонарх, иподиакон, псаломщик... Тяжело было видеть эту молодежь, какая плакала навзрыд, зная, что прощалась с митрополитом навеки и больше его не увидит. Тяжело было и нам покидать этих на редкость хороших людей, природных кавказцев, честных, прямых и благородных, оставляя их на произвол судьбы, быть может, на растерзание большевикам.
Поезд тронулся. В переполненном солдатами вагоне было душно и до того накурено, что митрополит не мог оставаться и просил меня подыскать другое помещение. Я прошел в соседнее отделение и удивился, что там никого не было. Оказалось, что там были разбиты окна и никто не решался там оставаться. Тем не менее митрополит предпочел перейти туда и, укрывшись рясою, скоро заснул на деревянной лавке.
Я сидел подле Владыки, не сводя с него глаз, мысленно благодаря Бога, так чудесно вырвавшего нас из Пятигорска.
Так кончился 1919 год. Новый 1920 год застал нас уже в Екатеринодаре, куда мы благополучно прибыли 1 января.
ГЛАВА 24. 1920 год. Екатеринодар. Кончина митрополита Питирима
Точно по неисповедимым путям Промысла Божия мне пришлось обойти в образе униженного и опозоренного революцией почти все те места, где до революции, всего два года тому назад, меня встречали со славой и почетом. Точно какая-то глубокая мысль заключалась в этом испытании, так ярко подчеркивавшем всю тщету и бренность человеческой славы.
Еще больший контраст между прошедшим и настоящим испытывал митрополит Питирим, и между тем никогда еще подлинное величие его души не обнаруживалось более ярко, чем на этом фоне позора и унижений, человеческой злобы и предательства, никогда еще его истинное смирение, кротость и незлобивость не выливались в более трогательных формах.
Утром 1 января мы прибыли в Екатеринодар.
На предвокзальной площади толпился народ, извозчиков, конечно, не было, они давно стали буржуазными предрассудками, пролетариату они не были нужны, а оставшаяся в живых недорезанная интеллигенция обнищала и не могла ими пользоваться, и извозчики, как-то сами по себе, исчезли везде, где были раньше. В некотором отдалении стоял только ломовик. Сейчас профессия ломовика являлась наиболее выгодной и они выручали колоссальные деньги, были грубы и нахальны. Я с трудом сторговался с ним за проезд в архиерейский дом, стоявший почти по соседству с вокзалом, на расстоянии нескольких минут езды, будучи вынужден уплатить ломовику 250 рублей. Сев на дроги спиной друг к другу и свесив ноги, мы кое-как доехали, усталые и измученные от бессонно проведенной ночи.
Кубанской епархией управлял, как оказалось, митрополит Киевский Антоний, и я был несколько разочарован, не встретив епископа Кубанского Преосвященного Иоанна. Зато вместо него я встретился с целым сонмом съехавшихся в Екатеринодар из разных мест иерархов, среди которых были архиепископ Евлогий Волынский, архиепископ Георгий Харьковский, со своими викариями, епископами Феодором и Митрофаном, епископ Гавриил Челябинский, епископ Аполлинарий Белгородский, архимандрит Александр (Иноземцев) и масса священников из разных епархий. По мере наступления большевиков все они переправлялись с великими трудностями на юг, двигались туда, куда их бросала беженская волна, не имели пред собою никаких определенных целей и программ, не знали, где будут завтра. Не скажу, чтобы мое появление вместе с митрополитом Питиримом, к которому большинство иерархов находилось в оппозиции, было бы кстати. Я лично находился не в лучшем положении, также имея в среде этих иерархов и своих недоброжелателей. Но мы оба и не думали задерживаться в Екатеринодаре и даже не рассчитывали на приют в архиерейском доме, а мечтали об Афоне, предполагая пробыть в Екатеринодаре только время, потребное для получения заграничного паспорта.
Митрополит Антоний встретил нас все же любезно и даже уступил свою комнату митрополиту Питириму, а меня поместил в смежной комнате на диване. Из дальнейшего выяснилось, что все иерархи уже давно проживали в Екатеринодаре и не только запаслись заграничными паспортами для проезда в Сербию, но заручились даже отдельным вагоном, который должен был довезти их до Новороссийска, где их ожидал уже пароход "Иртыш", принадлежавший какому-то русско-сербскому обществу, и что их отъезд из Екатеринодара был назначен на сегодня, в день нашего приезда. 1 же января они и уехали. Остался только епископ Феодор Старобельский, заболевший сыпным тифом и лежавший без сознания в одной из больниц. Вскоре он скончался. Его отпевали в заколоченном гробу митрополит Антоний и епископ Сергий и похоронили на погосте стоявшей по соседству с больницей церкви. Еще одним хорошим человеком стало меньше, еще тоскливее становилось на душе... Горячими слезами заливалась убитая горем сестра почившего Владыки.
Горько мы пожалели, что приехали с опозданием, еще обиднее было сознание, что никто не вспомнил о митрополите Питириме, но делать было нечего, и я немедленно принялся за хлопоты о заграничных паспортах для митрополита и для себя. Между тем митрополит Питирим стал понемногу оживать и поправляться и был бесконечно счастлив, что вырвался из кошмарных условий жизни пятигорского подворья.
Появлялись в архиерейском доме и другие лица и между ними неожиданно протопресвитер Шавельский. Митрополит Антоний точно растерялся и просил меня и митрополита Питирима не показываться ему на глаза, ссылаясь на крайнее недоброжелательство, какое питал о. Шавельский к митрополиту и ко мне. Я не знал, чему удивляться, этому ли предупредительному жесту или тем своеобразным формам отношений, какие существовали между митрополитом Антонием и протопресвитером Шавельским и какие скрывали их взаимную ненависть под покровом удвоенной любезности.
Г.И. Шавельский часто заходил к митрополиту Антонию и в архиерейском доме устраивал какие-то заседания. Встретился я и с редактором издаваемых при Святейшем Синоде "Церковных Ведомостей" профессором П.Остроумовым, одним из наиболее ярых моих недоброжелателей в мою бытность товарищем обер-прокурора... Находясь у разбитого корыта, и он, подобно многим другим, показался мне иным, чем был раньше. То, чего не могли сделать слова, то сделала революция, переубедившая многих и переставившая прежние точки зрения.
С каждым днем пребывание в Екатеринодаре становилось все более томительным, между тем хлопоты о заграничном паспорте затягивались... Требовался не только паспорт, но и соответствующие визы, не говоря уже о специальном разрешении со стороны Генерального Штаба, создававшего чрезвычайные затруднения к выезду за границу, ввиду постоянных мобилизаций, связанных с призывом на военную службу лиц всякого возраста... Тут мне пришел на помощь митрополит Антоний, выдавший мне удостоверение о командировке меня "Высшим церковным управлением на Юго-Востоке России" в Святую Землю по делам Русской палестинской духовной миссии в помощь командированному туда же епископу Сумскому Преосвященному Митрофану, не владевшему иностранными языками.
Благодаря этому свидетельству ближайшие препятствия были устранены и я получил как паспорт, так и нужные визы. Однако использовать свое право выезда за границу я мог только по специальному разрешению генерала Лукомского, пребывавшего в Новороссийске, и потому, собираясь туда ехать, был вынужден запастись еще специальным письмом митрополита Антония. Железнодорожное сообщение было уже повсюду разрушено, поезда ходили нерегулярно, нужно было выжидать случая и ежедневно ходить на вокзал за справками. В эти дни томительного ожидания выезда к митрополиту Антонию приехали два мальчика, воспитанники какого-то кадетского корпуса, прибывшие с фронта и направлявшиеся в Новороссийск с тем, чтобы оттуда ехать в Одессу. Они с увлечением рассказывали о своих подвигах, величались георгиевскими медалями, говорили, что в распоряжении одного из них имеется даже отдельный вагон, и на предложение митрополита Антония взять меня с собою, согласились с какой-то особой охотой, радостью и поспешной готовностью окружить меня самым трогательным вниманием. Настал таким образом день, дававший мне возможность выехать из Екатеринодара, и я поспешил сказать об этом митрополиту Питириму, вместе с которым собирался ехать на Афон. Каково же было мое удивление, когда митрополит Питирим заявил мне, что изменил свои первоначальные предположения ехать на Афон и предпочитает оставаться в Екатеринодаре. Чувствовал ли себя Владыка окрепшим и не решался подвергать себя риску, пускаясь в неизвестное, предчувствовал ли свою близкую кончину, – не знаю, но только решение остаться в Екатеринодаре было, по-видимому, твердым, и я не решился настаивать на поездке, тем более, что и сам не имел уверенности в том, насколько Афон оправдает наши ожидания и будет ли там лучше, чем в Екатеринодаре, где Владыка жил под покровом митрополита Антония, окруженный его вниманием и заботами.
Как ни ясно было сознание исполненного долга в отношении к митрополиту Питириму, как ни велико было убеждение в его безопасности и в том, что окруженный вниманием и заботами митрополита Антония Владыка Питирим не останется одиноким, а встретит и помощь и поддержку, однако мне было тяжело расставаться с ним, тяжело было покидать этого немощного, робкого, безгранично доброго и благородного друга.
Мы долго прощались и митрополит Питирим много раз повторял свою горячую просьбу перевезти его тело, в случае смерти, в Прибалтийский край и похоронить рядом с могилой его матери.
Владыка точно предчувствовал свою близкую кончину...
Истощенный пережитыми испытаниями, нежный организм Владыки, быстро окрепший в первые дни приезда в Екатеринодар, стал медленно и постепенно чахнуть, и 21 февраля митрополит Питирим мирно почил о Господе. Перед кончиной Владыка трижды исповедался и причастился Святых Таин и был особорован митрополитом Антонием с причтом.
Вынос тела в Екатеринодарский собор состоялся в субботу 22 февраля ко всенощной. На другой день состоялась заупокойная литургия, какую совершил митрополит Антоний в сослужении Преосвященного Сергия, епископа Новороссийского, и восьми иереев. На отпевание вышли еще пятнадцать иереев. Погребен митрополит Питирим в том же Екатеринодарском соборе. Господу Богу было угодно призвать к Себе смиренного и кроткого Владыку и избавить его от новой встречи с большевиками, которые через несколько дней после кончины митрополита Питирима вновь осадили город и залили его потоками крови.
Господь да упокоит твою душу, пастырь добрый!
Придет время, когда историк, разворачивая страницы прошедшего, дополнит мои сведения о митрополите Питириме новыми данными, укажет на те следы, какие оставил почивший архипастырь там, где он жил и работал, отметит его церковно-государственные заслуги в епархиях, коими он управлял. И каким укором явится тогда голос истории для тех, кто так безжалостно терзал и поносил имя почившего митрополита, кто при жизни его выносил ему такой суровый приговор! Я вспоминаю слова Владыки: "Я как цветок, когда вижу вокруг себя немирность, нестроения, когда слышу, что мною недовольны или бранят меня, то сейчас и завяну"...
Трудно сделать более точное уподобление. Это был действительно нежный цветок, способный жить, подобно тепличному растению, только в оранжерее. Он не выносил грубых прикосновений лжи и неправды, его природа жаждала ласки, любви, мира и тишины... И только в этой атмосфере он распускался как цветок, раскрывая свои богатые дарования, согревая окружающих. А эти моменты душевного мира были так редки в его жизни...
Он искал их, страстно стремился к ним, а между тем, вся его жизнь прошла в непосильной для него борьбе с ложью и обманом, с предательством и изменой, и чем более он доверял окружавшим, тем больше злоупотребляли его доверием. И беспомощно опуская руки, страдая от клеветы, изнемогая под бременем тяжелой ноши, робкий, всегда запуганный, Владыка только и мог шептать молитву, повторяя: "Господи, да будет воля Твоя!"... Но те немногие, кто действительно знал почившего митрополита Питирима, не тревожатся за его загробную участь. Мало он имел друзей на земле, но много приобретет их на небе, там, где действуют иные законы, где царствует вечная правда, где его будет окружать иная обстановка, так родственная его духу, так близкая его нежной душе, сотканной из небесных созвучий, непонятных земле...
ГЛАВА 25. Отъезд из Екатеринодара. Новороссийск
Поздно вечером 10 января подъехали к архиерейскому дому дроги и ломовик явился в прихожую за вещами. Оба мальчика в своих черкессках, с красовавшимися на них медалями уже суетились подле них. Один из них был, кажется, Врасский, фамилию другого не помню, но видно, что оба были детьми благородных родителей, и тяжелые испытания, выпавшие и на их долю, не испортили их непорочных и чистых душ.
Было темно и холодно. Шел мелкий дождь, но мороз делал свое дело и превращал окружающее в обледенелую массу. Лошадь ежеминутно спотыкалась по скользкой мостовой и проваливалась в глубокие рытвины и лужи, покрытые тонким ледяным слоем, и мы рисковали ежеминутно вывалиться.
С чрезвычайными усилиями мы добрались до вокзала... Еще труднее было пройти на перрон. Весь пол был завален вещами, и везде, где было можно, спали сотни людей, верно живших на вокзале и ожидавших случая куда-либо уехать. Осторожно переступая чрез них, мы очутились, наконец, на перроне.
– Где ваш вагон? – обратился я к мальчикам.
– Сейчас, сейчас, – сказал один из них и побежал в противоположную сторону. Провожая его глазами, я видел, как бедный мальчик безуспешно добивался в ту или другую теплушку, двери которых на его стук открывались и после непередаваемой брани и угроз, снова задвигались. Оказалось, что никакого вагона у мальчиков не было и что на перроне стоял поезд, хотя и направлявшийся в Новороссийск, но не имевший ни одного классного вагона, а состоящий из теплушек и открытых площадок. Теплушки были переполнены пассажирами, быть может уже несколько дней тому назад занявшими их и никого более не впускавшими к себе, а открытые площадки были завалены колючей проволокой, лесным материалом, какими-то бочками и прочим. Совершенно обескураженный, обошедший все теплушки и наслышавшийся отовсюду нецензурной брани, мальчик вернулся ко мне и сказал, что остается только один выход – примоститься на одной из открытых площадок, иначе мы рискуем вовсе не добраться до Новороссийска.
Как ни страшила меня перспектива ехать ночью, под холодным дождем на одной из открытых площадок, из которых наиболее удобной казалась площадка с колючей проволокой, снятой с каких-то заграждений и испещренной железными иглами, но, обойдя лично все теплушки и наслышавшись только отборной брани и ругательств, я убедился, что другого выхода действительно не было и что нужно пользоваться тем, какой был.
С большим трудом мы вскарабкались на площадку, с величайшими усилиями расчистили место для ног, и так и простояли под дождем всю ночь, промокшие и озябшие, рискуя ежеминутно свалиться от страшного ветра, пронизывавшего нас до костей... Как мы проехали ночь, я сейчас не могу себе даже вообразить, но на следующий день, при одной из остановок поезда, я случайно встретился на платформе с своим бывшим сослуживцем по Государственной Канцелярии Чебышевым или Чебыкиным, точно не помню, который ехал в одной из теплушек и приютил меня. Мальчики же примостились в другой теплушке, и с ними я уже больше не встречался. Из Новороссийска они уехали, кажется, в Одессу.
14 января я прибыл в Новороссийск и добрый Чебышев отвез меня в гостиницу, где жил, где и поместил меня в своем номере. От него я узнал, что пароход "Иртыш" еще стоял на рейде и собирался отойти в Константинополь только 16 января, что по этой причине все прибывшие из Екатеринодара иерархи остаются еще в Новороссийске и что мне не трудно будет найти их.
Я мысленно возблагодарил Господа за Его милости ко мне и немедленно же отправился с письмом митрополита Антония к генералу Лукомскому, от которого сейчас же и получил требуемое разрешение на выезд за границу. С этим разрешением я отправился к С.Смирнову, секретарю княгини Елены Петровны, королевны Сербской, вдовы князя Иоанна Константиновича. С.Смирнов заведывал отправкой пассажиров, бесплатно перевозимых на пароходе "Иртыш" в Сербию. С некоторых из них он взимал почему-то небольшую плату, и с меня взял одну или две тысячи деникинских рублей. Весь следующий день прошел в беготне и хлопотах не только за себя, но и за других, с коими я случайно встретился в Новороссийске. Так, в безвыходном положении оказались граф С.К. и графиня Ю.М. Ламздорф-Галаган, чудом вырвавшиеся без всяких средств из Кисловодска, и мой бывший сослуживец по Государственной Канцелярии Д.Л. Серебряков, с женой, которого местные власти не выпускали из Новороссийска ввиду призывного возраста. Отчаяние его было безгранично. Наконец, после долгих и томительных хлопот, ему удалось заручиться обещанием пропуска за границу под условием предъявления властям удостоверения кого-либо из иерархов о командировке его за границу по делам Церкви, и бедняга, не имевший, кроме того, ни одного рубля в кармане и, следовательно, даже физической возможности оставаться в Новороссийске, бросился ко мне, умоляя меня о помощи. Встретившись случайно с архиепископом Евлогием, я поведал ему печальную историю Д.Л. Серебрякова, обрекаемого или на голодную смерть, или на растерзание большевиками, однако архиепископ отказался выдать просимое удостоверение, ссылаясь на то, что совершил бы подлог. Тогда я бросился к архиепископу Георгию, который взглянул на вопрос иначе и усмотрел там не подлог, а спасение ближнего от смерти, и выдал просимое удостоверение, после чего Д.Л. Серебряков немедленно же получил пропуск за границу.
Следующую ночь я должен был провести уже в другом месте, так как в гостинице, ввиду приезда к Чебышеву его брата или кого-то из знакомых, не мог оставаться. На этот раз меня приютил другой сослуживец М.В. Шахматов, также оказавшийся в Новороссийске. Встретился я там и с В.П. Лазаревым, сослуживцем моего брата по Киеву, но его не выпускали военные власти, и он остался в Новороссийске. Впоследствии он очутился в Париже, где и сейчас пребывает. Столкнулся я на тротуаре и с Василием Васильевичем Тарновским, одетым в военную тужурку, старым своим знакомым по Киеву, мужем Марии Николаевны, прославившейся своим участием в убийстве графа Комаровского и сидевшей в тюрьме г. Трани, маленьком городке на берегу Адриатического моря по соседству с Бари.
Переполнение Новороссийска было ужасное, благодаря чему дороговизна увеличивалась в несколько раз даже в течение одного дня. Суета в городе стояла невообразимая. Все, кто имел деньги, покупали на них всякого рода ценности, имея в виду продать их за границей, ибо никто не был уверен, что деникинские деньги можно будет обменять на валюту. В большом количестве закупалась и провизия, так как неизвестно было, сколько дней будет находиться пароход в плавании и когда прибудет в Константинополь.
Преодолев еще одно препятствие и заручившись английской визой, какая почему-то потребовалась, я очутился, наконец, на пароходе "Иртыш", возблагодарив Милосердного Господа за пройденные благополучно мытарства.
"Где же Вы, мои дорогие, несчастные, одинокие сестры, где ты, мой смиренный, беспомощный брат", – думал я, стоя на палубе и чувствуя, как эти мысли мучали и терзали меня, как не позволяли мне ощущать всего значения самого факта моего спасения, радоваться ему и благодарить за него Бога. Мысли о сестрах и брате, судьба коих была мне не только неизвестна, но казалась ужасной, неотступно следовала за мной, и сквозь призму тревог и беспокойства за своих близких я оценивал все вокруг меня происходящее и, казалось, не радовался даже своему спасению...
Зачем оно, если близким, быть может, угрожает гибель, если никакая радость не заглушит боли разлуки с ними!
А между тем Промыслительный Перст Божий точно подчеркивал в моем сознании великие и богатые милости Господни, явленные надо мной, и я увидел их там, где прежде их не замечал. И опоздание в Екатеринодар, и гибель моего багажа, и многое прочее, что оценивалось мной с других точек зрения, приобрело теперь тот смысл, какой оправдывал каждое из этих явлений и приводил их к благу. Люди, сохранившие свой багаж и довезшие его до самого Новороссийска с чрезвычайными хлопотами и расходами, не были впущены с ним на пароход, прибывшие в Новороссийск задолго до отхода парохода "Иртыш" и заручившиеся хорошими местами, вынуждены были прожить в Новороссийске почти все свои сбережения и ехали за границу нищими. Имея только 50 тысяч деникинских денег, я не мог бы продержаться в Новороссийске даже недели, ибо там счет велся не на рубли и копейки, а на тысячи и десятки тысяч; прибыв же туда за три дня до отхода парохода, я, в результате, вез с собой больше денег, чем самые богатые из моих друзей и знакомых, и имел даже возможность помогать им. Слава Богу за все!
Переполненный пассажирами "Иртыш" медленно отчалил от пристани, направляясь сначала в Феодосию и Ялту, а затем в Константинополь.
Я стоял на палубе, не отрываясь от родных берегов, которые стали постепенно заволакиваться туманом, пока не скрылись от моего взора. Рвалась последняя видимая связь с Россией...
Что ожидает меня впереди, что даст завтрашний день?! Об этом я не думал. Я бросался в омут неизвестного, вручая себя водительству Промысла Божия, отдаваясь течению той беженской волны, какая бросала меня с одного места на другое, пока не выбросила меня окончательно из России. Может быть, не я один почувствовал в момент своего последнего прощания с Россией, как она была дорога, как бесконечно горячо мы ее любили и как невыразимо тяжела была эта разлука с нею.
16 января 1920 года был последним днем моей жизни в России. Впереди была новая жизнь за границей, новые люди, новое дело, наступал третий период моих скитаний, описанию которых посвящен III том моих "Воспоминаний".
Однако прежде чем перейти к дальнейшему изложению, я хотел бы спросить, чему же научила меня революция, что вывез я из России и что привез с собой в Европу? Нищими оборванцами, внушавшими одним сожаление, а другим презрение, явились русские беженцы в Европу униженные и обесславленные, но то духовное богатство, какое они, получив от Бога, вывезли из России, никакие дьявольские силы, ни сам сатана, не были в силах отнять у них.
"Даром получили, даром и давайте", – заповедал Спаситель. Ничего нового не прочтут русские в последующих главах: революция отрезвила опьяненных ею, смирила гордых, сокрушила кумиры, разоблачила вековую ложь, и ни в самой России, ни за рубежом нет русских, продолжавших бы верить той лжи, жертвой которой они стали. Но то, что стало известным ценою таких великих ужасов русским, то еще неизвестно Европе. И может быть последующие главы, диктуемые долгом к ближнему и опасением за его участь, откроют глаза самонадеянным европейцам и пригодятся им. Дай Бог!
Часть вторая
ГЛАВА 26. Развал России
Выброшенный за борт государственной жизни, находясь не у дел в положении "старорежимного" чиновника, какие с приходом "новой" власти не только перестали быть ей нужными, но и жестоко преследовались и предавались казни, я мог только украдкой, со стороны, наблюдать картину развала России.
Что же происходило там, "на верхах", чем был занят правительственный аппарат, куда вели Россию ее "новые" вожди?!
Происходило завоевание русского народа жидовством, впереди стояли гонения на Православную Церковь, расхищение несметных богатств России, поголовное истребление христианского населения, мучения, пытки, казни, воскресали давно забытые страницы истории, о коих помнили только особо отмеченные Богом люди, выделявшиеся своею мудростью даже среди глубоких ученых. Предупреждали о наступлении этого момента преподобный Серафим Саровский, Илиодор Глинский, Иоанн Кронштадтский и мудрецы-миряне, один перечень имен которых мог бы составить целую книгу, но им никто не верил... Голоса их заглушались жидовской печатью и той "интеллигенцией", какая сознательно и бессознательно служила жидам и без помощи которой были бы немыслимы никакие революции, всегда имевшие одинаковую цель и одинаковые задачи, сводившиеся к уничтожению христианства, его цивилизации и культуры и к мировому господству жида.
И когда наступил этот давно предвозвещенный момент, то его не только не узнали, а наоборот, думали, что "новыми" людьми строится "новая" Россия, создаются "новые" идеалы, указываются "новые" пути к достижению "новых" целей... Везде и повсюду только и были слышны "новые" слова, люди стали говорить на "новом", непонятном языке, и с тем большим изуверством и ожесточением уничтожали все "старое", чем больше стремились к этому "новому", с коим связывали представление о земном рае.
В действительности же происходило возвращение к такому седому, покрытому вековой пылью старому, о котором, как я уже сказал, помнили только пророки, происходила не "классовая" борьба или борьба "труда с капиталом", торжествовали не эти глупые, рассчитанные на невежество масс лозунги, а была самая настоящая, цинично откровенная борьба жидовства с христианством, одна из тех старых попыток завоевания мира жидами, какая черпала свои корни в древнеязыческой философии халдейских мудрецов и началась еще задолго до пришествия Христа Спасителя на землю, повторяясь в истории бесчисленное количество раз одинаковыми средствами и приемами.
Ни для верующих христиан, привыкших с доверием и уважением относиться к слову Божиему, ни для честных ученых, видевших в достижениях науки откровение Божие, не было ничего нового в этих попытках жида уничтожить христианство и завоевать мир, и только безверие, с одной стороны, и глубокое невежество, с другой, не позволяли одураченным людям видеть в происходящем отражения давно забытых страниц истории.
Соединенными усилиями евреев всего мира, имевших в лице новой русской власти, возглавляемой Лениным и Троцким, свой генеральный штаб, слепо выполнявший директивы "Незримого Правительства", снабжающего его колоссальными средствами, осуществлялись веления еврейского бога, известные каждому мало-мальски знакомому с требованиями религии евреев, изложенными в их Талмуде.
Было бы неверно, если бы я сказал, что в России в момент встречи с катастрофой было много людей, отдававших себе ясный отчет в том, что происходило. Катастрофа обрушилась так внезапно, так стремительно, размеры ее были так велики, а корни так глубоко запрятаны, что все точно оцепенели, застыв от ужаса, но никто ничего не понимал.
Это не значит, что в России не было глубоких людей или что все в равной мере были одурачены вождями революции и верили той лжи, какая скрывалась за их лозунгами. Наоборот, Россия была всегда богата своими пророками и мудрецами, прозревавшими далекое будущее, была даже подготовлена к встрече с теми ужасами, какие на нее обрушились, и если, при всем том, катастрофа застигла Россию врасплох, то столько же потому, что мудрецам мало кто верил, сколько и потому, что даже эти последние не допускали тех зверских форм, в какие революция стала выливаться.
И в самом деле, кто мог поверить тем мудрецам, чьи откровения производили впечатление сказок не только на русских людей до революции, но кажутся сказками всему миру и до сих пор, спустя почти 10 лет после того, как эти "сказки" превратились в России в самую ужасную действительность, явившую притом всему человечеству величайшие откровения, способные, казалось бы, открыть глаза даже слепому?
Для того, чтобы поверить этим сказкам, нужны были или великие знания, или великая вера в авторитет, но в народной толще ни того, ни другого обыкновенно не бывает. Толпе понятно лишь то, что не выходит за пределы ее уровня, но гений – всегда выше этого уровня и потому всегда непонятен[5].
О чем же предостерегали русские мудрецы Россию, а вместе с нею и весь мир, какие "сказки" они рассказывали?
Они говорили, что с момента сотворения мира злые духи, воплощаясь в людях, стремились погубить вселенную, ибо в этом заключалась задача пославшего их диавола, что еще в доисторические времена не просвещенные светом знания язычники, по присущей им потребности поклоняться Богу, имели своих национальных богов, отличавшихся своими особыми свойствами, враждовавших между собою, конкурировавших друг с другом из-за обладания народами, что между этими национальными богами самым хищным и зверским был бог еврейский Яхве, бог-ревнитель, не удовлетворявшийся скромной ролью бога евреев, а именовавший себя богом богов и претендовавший на мировое господство, что за этим еврейским богом скрывался не один из подчиненных злых духов, а сам диавол, который и назвал евреев своим избранным народом и наделял их своими сатанинскими свойствами, повелевший им истреблять всех не-евреев, чтобы овладеть всем миром и передавший жидам у власть, какую он обещал передать каждому, кто ему поклонится (Лук. 4, 5-8).
Но Господь Бог, по Своему неизреченному милосердию и любви к людям, послал на землю самого высшего доброго духа, Единородного Сына Своего, Сущего в недре Отчем, Который воплотился в Иисусе, чтобы возвестить людям Истину и "разрушить дело диавола" (1 Иоан. 3, 8). Вот почему Слово Божие и раздалось впервые среди евреев, этого закоренелого в богоотступничестве народа, служившего источником мирового зла и заразой для других народов. Спаситель смело разоблачил еврейского бога, назвав его диаволом, а евреев – его детьми: "Ваш отец диавол и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца[6] от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи" (Иоан. 8, 44). Все человечество последовало за Иисусом, Спасителем мира от еврейской лжи, кроме евреев, оставшихся верными своему богу-диаволу, с упорством и настойчивостью преследующему свою предмирную цель – погубить род человеческий с помощью своего избранного народа – евреев. Здесь источник мирового зла, всех когда-либо бывших мировых катастроф и потрясений, всех революций, являющихся лишь массовыми ритуальными убийствами христианских народов. Они требовались столько же политическими, сколько и религиозными целями, ибо по учению Талмуда пролитая христианская кровь омывает душу еврея и очищает ее от всякой скверны. Вся история человечества является историей вековой борьбы еврейства с Господом Иисусом Христом и возвещенным Им учением, на котором мир строил свою цивилизацию и культуру и которую евреи разрушали, чтобы на ее развалинах восстановить свое иудейское царство, обнимавшее бы пределы всей вселенной.
"Большевичество" – это не революция даже в еврейском смысле этого слова, это – веками дознанный, опытно проверенный, наилучший способ физического и духовного обескровливания человечества, массовое ритуальное убийство в мировом масштабе, открытый международный натиск жидовства на христианство.
Вот какие "сказки" рассказывали русские мудрецы!
Но кто же им верил? Кто верит им и теперь, где тот христианский народ, который увидел бы на примере России угрозу собственному бытию?
Совершенно понятно, что в первые моменты происходящее оценивалось даже не как революция, а как заурядный солдатский бунт, другие видели в нем повторение беспорядков 1905 года, быстро подавленных, а те, кто шел дальше и видел пред собой подлинную революцию, те вкладывали в это понятие совершенно иное содержание и менее всего допускали наличность каких-либо религиозных изуверных целей.
Самые сильные умы России оценивали ужасы происходящего только с точки зрения крушения старого, обеспечивающего благо народа, царского уклада государственной жизни, серьезно обсуждали те или иные декреты и распоряжения узурпаторов власти, многоликие и противоречивые, спаянные между собой глубоко сокрытой ложью, непонятные и бессмысленные, оценивали их с государственной точки зрения и предрекали катастрофы, делились сомнениями и недоумениями, но никто из них даже не догадывался о том, что здесь выполнялась вековая программа жидов, сводившаяся частью к поголовному истреблению, частью к порабощению христианского населения сначала в России, а затем во всем мире, во исполнение прямых повелений еврейского бога, обещавшего своему избранному народу мировое господство.
Тем меньше можно было предъявлять какие-либо требования в этой области к народным массам, кричавшим о "новой" России и с непостижимой яростью уничтожавшим все "старое", все устои государственности и русского быта, все то, на чем держались и благо народа, и глубина и красота русской жизни.
Но мог ли я осуждать эту толпу, завлеченную в западню, обманутую и ослепленную, для которой все "старое" стало казаться источником всяческих бед и напастей, а "новое" рисовалось как осуществленная мечта о земном рае, мог ли я осуждать эту толпу, если так думали и те глупые вожди ее, которые являлись бессознательными орудиями еврейских главарей и выполняли их задания? Разве смехотворный балаганный клоун Керенский желал зла России? Николько! Все его речи пылали такой "любовью" к России, какую, по его мнению, никто, кроме него, не имел и иметь не мог. Разве он сознавал, что единственным реальным плодом его любви к России явится лишь иллюстрация собственной персоной мудрости народной поговорки: "услужливый дурак опаснее врага" и что наученная примером Керенского будущая Россия станет держать подобных маньяков взаперти, на привязи или в доме умалишенных? И разве только один Керенский или "Временное правительство" России выполняли еврейские задания и во имя "блага" народа распинали этот же народ? А Милюков, Гучков и К°?! Разве они думали, что одержимы диаволом, разве знали, что являлись игрушкой в его руках, служили и служат ему, покрыв позором свои собственные имена и стяжав себе не только бесславие, но и проклятие потомства, вместо той вожделенной славы, за которую так судорожно цеплялись и к которой так жадно стремились?! Разве не то же видим мы и в Западной Европе, где передовые правительства продолжают, несмотря на опыт России, осуществлять вековые жидовские цели в полном убеждении, что служат благу своим народам, тогда как на самом деле ведут их на виселицу, в "чека", во славу жидовского бога Яхве?!
На пути к осуществлению этих целей в мировом масштабе Россия явилась только первым этапом, быть может, и в этой области осуществляя свою великую духовную миссию в отношении всех прочих христианских народов, для которых она была всегда верным другом и защитником...
Не виновата она, если ей не верили, не будет виновата и теперь, если ее пример ничему не научит Европу, если никто не послушается ее предостерегающего гласа, истину которого она засвидетельствовала своей собственной кровью. И как ни велики страдания России, но лучшим утешением для нее явится сознание, что эти страдания не только раскрыли ей самой сущность причин их вызвавших, но и дали ей возможность предостеречь все христианские народы от той опасности, жертвой которой она сделалась.
Трудно описать эти страдания, еще труднее раскрыть их источник, но движимый этой единственной целью, я считаю полезным и то немногое, что могу сказать, выполняя свой нравственный долг к ближнему.
ГЛАВА 27. Задачи Русской революции
Задача революции 1917 года заключалась в уничтожении России и образовании на ее территории жидовского царства, как опорного пункта для последующего завоевания, путем мировой революции, западноевропейских христианских государств. Так как эту цель нужно было на первых порах маскировать, впредь до закрепления своих позиций, чтобы не вооружать против себя русский народ, то неудивительно, что не только народные массы, но и образованный класс не уяснял себе происходящего и не догадывался, что каждый "правительственный" шаг, каждый декрет и распоряжение узурпаторов власти имели в виду развалить Россию в наикратчайший срок. Но то, чего не могли открыть ни знание, ни воображение, то открыло само время, обнажившее не только сущность происходящего, но и самый источник ее. Программа развала России разыгрывалась как по нотам. Сначала мобилизация преступников с их штабом – Государственной Думой, какая должна была выдавать революционные вожделения своих членов за подлинный голос народа и, дискредитируя Царя и министров, парализовать государственную деятельность правительства. Затем штурм правительства и свержение Царского Трона, образование из глупых честолюбцев и сознательных масонов нового, так называемого "Временного правительства" и рядом с ним специального контрольного аппарата в виде "Совета солдатских и рабочих депутатов" с Лейбой Бронштейном во главе, затем еще шаг вперед – отчаянная борьба между ними, победа Бронштейна, упразднение Думы и "Временного правительства", сыгравших свою роль и переставших быть нужными жидам, и, в заключение, предопределенное заранее к разгону "Учредительное Собрание" в Москве, после чего несчастная Россия уже окончательно попадает в руки жестоковыйного жидовского племени на срок, уготованный Богом. Все это были этапы давно намеченного пути, выполнение давно задуманных и тщательно разработанных программ, сводившихся к одной цели – истреблению русского народа.
К концу 1917 года все эти программы были уже окончательно выполнены, и по всей России царил неописуемый террор, посредством которого новая власть закрепляла позиции, завоеванные глупостью, изменой и предательством вожаков русского народа.
Вся Россия буквально заливалась потоками христианской крови, не было пощады ни женщинам, ни старцам, ни юношам, ни младенцам. Изумлением были охвачены даже идейные творцы революции, не ожидавшие, что их работа даст в результате такие моря крови. Не удивлялись только те, кто помнил § 15 "Сионских протоколов", где говорится: "Когда мы, наконец, окончательно воцаримся при помощи государственных переворотов, всюду подготовленных... мы постараемся, чтобы против нас уже не было заговоров. Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в руках..." (Луч Света, № 3, стр.255).
Однако и здесь жиды не могли обойтись без обмана и применяли казни не только к вооруженным, но и ко всем, даже к младенцам, ибо террор являлся не способом их самозащиты от врагов, а единственным основанием их власти, без которого она не могла держаться, одним из главнейших ее устоев, о котором говорит "Протокол" № 9, указывая на "терроризующий маневр, от которого дрогнут самые храбрые души" (там же, стр. 239), а этот маневр применялся, как известно из Библии и истории, не только к врагам, но даже к братьям, и вообще ко всякому инакомыслящему (Исх. 32, 27-28).
Развал России явил такую грандиозную картину разрушения во всех областях государственной, общественной и личной жизни, что потребуются не только томы для описания этой картины, но и великий талант, способный передать потомству весь ужас пережитого и отчасти и до сих пор переживаемого времени.
Придет время, когда правдиво написанная "История русской революции" сделается настольной книгой для каждого честно мыслящего христианина, как грозное предостережение грядущим поколениям, как свидетельство попранных гордым человеком законов Божиих, как страшный результат противления воле Божией. Наша задача, современников революции, заключается в собирании материала для такой истории, в облегчении труда будущим историкам. Пусть каждый из нас оценит значение такого труда и по мере своих сил и возможностей сохранит те сведения, коими располагает, дабы впоследствии использовать их для указанной выше цели. Только при общей, дружной работе возможно будет передать потомству исчерпывающий материал для "Истории революции", ибо, как бы важны ни были отрывочные сведения, коими располагает каждый из нас в отдельности, они всегда будут неполными и недосказанными.
Повинуясь этому требованию, я хочу сделать попытку внести и свою долю в общую массу материала для будущей истории революции 1917 года.
С великим смущением я приступаю к этой задаче.
Как использовать этот материал, который принадлежит только моей памяти и лишь частично содержится в отрывочных сведениях, почерпнутых из частных писем и газетных вырезок за краткий период времени?
Как систематизировать этот ужасный материал и внушить доверие к нему, сделать авторитетным в глазах не только не испытавших этих ужасов, но и никогда не слыхавших о них и потому отвергающих самую возможность их?
Где тот великий талант, который был бы способен изобразить ощущения людей, спасающихся бегством из опасения быть съеденными голодными, кто в состоянии описать муки голода, заставляющие несчастных не только убивать и съедать своих собственных детей и питаться трупами, вырываемыми из могил, но и жадно набрасываться на конский помет?
Какое перо способно отразить ощущения людей, вымаливающих у своих палачей смерть, избавившую бы их от невыносимых пыток и мучений, ищущих смерти и не находящих ее?
Задача действительно грандиозная, и между тем, даже учитывая свои слабые силы, я приступаю к ней, повинуясь голосу русской совести, ибо нравственный долг не соразмеряется с силами. Русский человек не найдет в нижеприводимых сведениях ничего нового, но то, что случилось в России, должно быть известно всему миру, ибо предназначено для всего мира, обреченного на гибель теми самыми людьми, которые погубили Россию.
О гибели России знают все, и этот факт не произвел никакого впечатления на Европу, объясняющую большевичество "натурою" русских людей. О том же какими способами истреблялся русский народ, Европа еще не знает. А знать это нужно, чтобы не быть застигнутой врасплох, ибо Россия – только первый этап кровавого шествия палачей, а вторым является Западная Европа, в порядке очереди, установленной этими же палачами. Преступления Европы пред Россией так неизмеримы, до того велики, что только чудо милости Божией может ее спасти от участи России.
Но если такого чуда не будет, тогда каждое слово русского, над которые теперь смеются, злорадствуют и проходят мимо без внимания, станет откровением, сделается словом Христа в притче о богатом и Лазаре...
Развал России совершился не сразу, а продолжается и до сих пор. Процесс разрушения еще не закончен и русский народ истребляется сейчас так же свирепо, как и десять лет тому назад. Вот почему, рисуя общую картину развала России, я по необходимости должен отступать от хронологии и пользоваться также позднейшими сведениями.
Я уже неоднократно указывал на то, что основной идеей поработителей России было истребление русского народа и ликвидация христианства для целей всемирной революции, обеспечившей бы евреям господство над всей вселенной под владычеством иудейского царя. Теперь мне приходится только доказать это положение ссылками на факты. Проверить эти факты не трудно, во-первых потому, что сами евреи не отрицают их, во-вторых потому, что о них свидетельствует как русская, так и иностранная печать, начиная с момента революции в России и кончая сегодняшним днем. Эти факты не только докажут сознательное истребление русского народа евреями, но откроют и цели, ради которых евреям нужно было принести в жертву русский народ... И тогда уже перестанет казаться наивным утверждение, что "Обетованную" землю евреи видели не в Палестине, а в России и что столицей всемирного иудейского царя считали не Иерусалим, а Москву. И правильно! Ибо, конечно, владеть Россией – значит владеть всем миром, что доказывают нам не только московские правители, но и Европа, ими запуганная и пред ними унижающаяся. И нужно было смирение и кротость русского народа и благородство русских Царей, чтобы не претендовать на такое владычество и, вместо того, чтобы покорять своих соседей силой, – помогать им, выручать их из беды и спасать их.
С целью систематизации материала, я буду группировать его по отделам, отступая от хронологии там, где это потребуется для более яркого освещения приводимых мной иллюстраций.
ГЛАВА 28. Первые шаги
В газете "Старое Время" за 1923-1924 годы печатались превосходные статьи г. Мглинского под общим заглавием "Грехи русской интеллигенции" коими автор не только очертил общие контуры революционной стихии, но и с великим мастерством развернул отдельные ее картины. Я позволяю себе воспользоваться выдержками из этих статей, как введением к дальнейшему изложению. Г. Мглинский говорит:
"Понимая отсутствие реальной почвы под своими ногами за неимением тех слоев населения, на которые можно было бы опереться, новое правительство попало сразу в зависимость от образовавшегося еще до отречения Государя Императора "Совета рабочих и солдатских депутатов", за которыми стояла распропагандированная той же русской интеллигенцией столичная рабочая масса. Эта его зависимость сказывалась с первых же шагов его деятельности. Не сочувствуя по существу содержанию приказа № 1, разрушившего армию, и понимая всю его опасность, Временное Правительство руками своего военного министра Гучкова допустило однако осуществление этого преступного по отношению родины приказа[7].
Боясь реакции в русском народе, который, как оно хорошо понимало, едва ли примирится с захватом власти кучкой политиканов, Временное Правительство с первых же шагов своей деятельности спешно старается разрушить государственно-административный аппарат. Взмахом пера уничтожается вся административная власть в России, губернаторы заменяются земскими деятелями, градоначальники – городскими, а полиция – милицией.
Но, как известно, разрушить всегда бывает легко, а создать очень трудно, так и здесь: разрушив старый государственный аппарат, Временное Правительство не удосужилось или, вернее, просто не сумело создать что-либо на его замену. Россия была сразу предоставлена самой себе и непотизм был введен в качестве лозунга во все управление государством, и это в тот именно момент, когда сильная власть требовалась более всего.
Когда к главе Временного Правительства кн. Львову приезжали представители старой и новой администрации и требовали директив, они неизменно получали тот же отказ, который кн. Львов дал представителям печати в своем интервью 7 марта, т.е. через пять дней всего после переворота: "Это – вопрос старой психологии. Временное Правительство сместило старых губернаторов и назначать никого не будет. На местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением... Мы все бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великого момента, что мы можем творить новую жизнь народа – не для народа, а вместе с народом... Будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни!.."
Слова эти, звучащие сейчас чистой иронией, не выдуманы, они текстуально приведены на 67 странице первого тома "Истории второй русской революции", написанной не каким-либо "зубром" или "черносотенцем'', а "самим" Павлом Милюковым, дающим далее на страницах своей истории следующую оценку деятельности главы правительства, в которое он сам вошел в качестве министра иностранных дел.
"Такое мировоззрение руководителя нашей внутренней политики, – говорит Милюков, – практически привело к систематическому бездействию его ведомства и к самоограничению центральной власти одной задачей – санкционирования плодов того, что на языке революционной демократии называлось революционным правотворчеством. Предоставленное самому себе и совершенно лишенное защиты со стороны представителей центральной власти население, по необходимости, должно было подчиниться управлению партийных организаций, которые приобрели в новых местных комитетах могучее средство влияния и пропаганды определенных идей, льстивших интересам и инстинктам масс, а потому и наиболее для них приемлемых".
Если об этом так говорит Милюков, сам принимавший ближайшее участие в свержении Царской Власти в России, то что же было в действительности! "Не лучше обстояло дело и в других ведомствах. Всюду царила полная неразбериха, ибо ни у руководителей ведомств, ни у правительства в целом не было никакого определенного систематически осуществляемого плана. Ломали все старое, ломали из призрачного страха возврата к старому, ломали, не думая о завтрашнем дне, с какой-то безумной поспешностью все то, о чем сейчас начинает сокрушаться весь русский народ..." ("Старое Время", 18/31 декабря 1923 г., № 13).
"...Всего несколько месяцев, как известно, продержалось Временное Правительство у власти – это правительство, составленное из красы и гордости русской прогрессивной общественности. Сдавая постепенно позицию за позицией социалистам, русская общественность довела страну до большевизма гораздо скорее, чем это ожидали самые заядлые пессимисты того времени. За кратковременное свое существование Временное Правительство все же успело:
Попрать всякую в стране свободу, всякое право и всякую справедливость.
Разрушить воинскую дисциплину и тем уничтожить совершенно всякую боеспособность в русской армии.
Нанести удар важнейшему устою общественной жизни – праву собственности. Словом, решительно все, ради чего прогрессивная общественность вовлекла доверившийся ей народ в революцию, все оказалось ложью и обманом.
Манили свободами и правовым порядком – привели к худшей форме крепостного права, бессудию и террору.
Манили землею – на деле отняли хлеб и довели до голодной смерти.
Обещали победу – привели к разрушению армии, неслыханному бесчестию и позорному миру.
Восхваляли народовластие, а учинили деспотию III интернационала.
Свергли Царя за то, что не хотел дать ответственное министерство и прервал сессию Государственной Думы, а сами вовсе упразднили Государственную Думу и всю власть законодательную, исполнительную и даже судебную сдали на руки безответственных людей..." (там же, № 17).
К этим словам г. Мглинского я могу сделать только одно добавление. Разрушалась Россия сознательно и ее развал явился не результатом теоретических ошибок и заблуждений идейных борцов революции, желавших взамен дурного старого создать что-то лучшее новое, как думали и продолжают даже теперь думать непрозревшие люди, а выполнением давно задуманных и гениально разработанных программ, обрекавших Россию на вымирание. Отсюда ужасные "чрезвычайки", отсюда экономическая политика, приводившая к голоду и людоедству, отсюда непомерные налоги, приводившие к восстаниям, и подавление этих восстаний вооруженной силой, отсюда массовые эпидемии, мор и болезни, уносившие миллионы жертв и прочее и прочее, как прямой результат всех начинаний новых правителей России.
Все это создавалось умышленно с единой целью – уничтожить самую возможность сопротивления и укрепить свою власть. И с помощью ужасающего террора такая возможность была действительно вырвана с корнем, тогда как "заграница" объясняла покорность вымирающего от голода и истребляемого казнями населения "натурой" русского народа и его соучастием "новому режиму".
Но кто же догадывался, что в основе всех этих ужасов лежали еврейские религиозные цели, и кто даже теперь поверит тому, что царизм подлежал уничтожению именно потому, что воплощал собой христианские цели, являясь самым опасным врагом жидовства?
ГЛАВА 29. Методы и способы истребления русского народа
Истреблялся русский народ тремя способами:
1) убийством,
2) голодом и
3) нравственными пытками.
Здесь был сознательный умысел и никакие оправдания и объяснения не опровергнут такого утверждения. Бездарность же и абсолютная неграмотность как Временного Правительства, так и советской власти в сфере управления правительственным аппаратом сказывались в разрушениях, причиненных государству, а не в гибели десятков миллионов христианского населения, сознательно допущенной столько же по общегосударственным соображениям новых правителей России, сколько и в целях закрепления их власти.
Все три способа истребления русского народа вели, конечно, к одной цели – к смерти, но самым ужасным из них был третий способ – нравственные пытки, от которых люди или сходили с ума, или кончали жизнь самоубийством. Никакое воображение не может представить себе характера этих пыток – их нужно было видеть.
С молитвою за несчастных, невинно замученных жертв жидовского фанатизма подойдем ближе к местам их мучений и страданий, войдем вглубь кровавых застенков, где миллионы православных христиан кончали свои счеты с жизнью среди оргий обезумевших сатанистов, войдем туда не для праздного любопытства, а во имя долга пред человечеством, чтобы поведать всему миру о том, что мы там увидели... и чему до сих пор еще так мало верят. Не верят потому, что никакое воображение не в силах нарисовать картины тех ужасов, какие испытала великая христианская Россия, очутившись в когтях вампира, высасывающего ее кровь... Однако будем помнить, что все эти ужасы, все то, что рассматривается Европой как "сказка" или преувеличение, созданное якобы присущим русскому антисемитизмом, станет ясным и понятным, если мы не забудем основную цель русской революции – истребление христианского населения России.
ГЛАВА 30. I. Чека. а) Задачи чека за границей
Первой задачей советской власти было закрепление завоеванных ею позиций. Как ни одурачен был русский народ, по природе доверчивый и простодушный, однако советская власть хорошо сознавала, что гипноз не будет продолжительным и прозревший народ неминуемо ее свергнет. Вот почему наряду с невообразимой, беззастенчивой и наглой ложью, маскировавшей цели и задачи власти, называвшейся "рабоче-крестьянским" правительством, жиды были озабочены созданием условий, исключавших бы самую мысль о возможности какого-либо сопротивления.
С чьей же стороны им угрожала наибольшая опасность?
Конечно, прежде всего со стороны армии, со стороны всех прежних представителей царской власти, наконец, со стороны образованного класса. Но к моменту захвата власти большевиками, ни армии, ни представителей прежней власти уже не было. Изданный Временным Правительством приказ № 1 не только развалил армию, но и вызвал поголовное уничтожение командного состава, что привело к массовому дезертирству и к грабежам и убийствам мирного населения озверелыми солдатами. Государственный аппарат был также разрушен, и на местах не было никакой власти. Остался только столь опасный большевикам образованный класс населения, так называемые "буржуи", и поголовное уничтожение этих людей явилось ближайшей задачей большевиков.
С этой целью и была создана "Чрезвычайная Исполнительная Комиссия по борьбе с контр-революцией, спекуляцией и саботажем", получившая название "чрезвычайки", или просто "чека". Однако, тот, кто знает еврейский язык, знает и то, что слово "чека" является не только сокращением слов "чрезвычайная комиссия", но на еврейском языке выражает "бойню для скота", т.е. как раз отвечает понятиям Талмуда, рассматривающим каждого нееврея как животное и требующим его убийства.
Задача этого чудовищного учреждения состояла в том, чтобы вылавливать каждого интеллигента, бросать его в тюрьму и, после ужасных пыток и мучений, предавать смертной казни. Так как агенты чрезвычайки относили к "буржуям" каждого мало-мальски опрятно одетого человека, то скоро весь образованный класс сбросил с себя привычные одежды и стал ходить в лохмотьях. Кто поверит, что людей казнили только за то, что они имели накрахмаленную рубаху и носили галстук?!
Однако никакое переодевание не спасало несчастных от гибели, ибо чрезвычайки имели при себе давно заготовленные списки "буржуев" и если не вырезали в первый же день своего владычества всех поголовно, то лишь потому, что еще не были сорганизованы.
Так как задачи советской власти сводились не только к развалу России, но и преследовали более широкие цели, связанные с идеей всемирной революции, то Московская Чрезвычайная Комиссия имела многочисленные отделения не только в России, но и в главнейших центрах Западной Европы – Лондоне, Париже, Берлине, Вене и прочее и прочее.
Дабы не быть голословным, привожу выдержку из статьи "Две заметки из газет", помещенной в 5-м выпуске журнала "Двуглавый Орел" от 1/14 апреля 1921 г. на стр. 44.
"Печатаемая ниже заметка из газеты "Свобода" от 11 марта с.г. в комментариях не нуждается. Она – лишнее доказательство безграничной подлости большевиков и беспредельного цинизма тех европейских правительств, которые, возвещая на словах возвышенные идеи права и человеколюбия, на деле по низменным своекорыстным побуждениям протягивают руку помощи палачам и насильникам, утверждающим свою власть на истязаниях ни в чем не повинных заложников – женщин и детей, близких врагам большевического строя...
"Красная мафия." Под таким заголовком в украинском еженедельнике "Воля" помещены следующие документы.
"Весьма секретно.
1.
Интернациональным отделам В.Ч.К. и ответственным работникам особых отделов.
Для полной ликвидации бунтов и заговоров, организуемых заграничными агентами на территории Советской России к немедленному исполнению предлагается:
1) Регистрация всего белогвардейского элемента (отдельно по краям) для увеличения числа заложников из состава их родных и родственников, оставшихся в Советской России; на особом учете держать тех, кто, занимая ответственные должности в Советской России, изменил рабоче-крестьянскому делу. Эта категория должна быть уничтожена при первой возможности.
2) Устройство террористических актов над наиболее активными работниками, а также над членами военных миссий Антанты.
3) Организация боевых дружин и отделов, могущих выступить по первому указанию.
4) Немедленное влияние на разведывательные и контрразведывательные отделы и организация окраин с целью пересоздания их в свои.
5) Организация фиктивных белогвардейских организаций с целью скорейшего выяснения заграничной агентуры на нашей территории.
Председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
Дзержинский.
2.
Так как заграничная Ч.К. будет обслуживаться тем большевическим аппаратом, который у них там уже имеется, то одновременно подаю Вам и список большевической заграничной агентуры с ее передаточными пунктами: сношения производятся, главным образом, чрез Нарву и Штетин. Главным центром является Берлин с Копом и помощником Райхом во главе. Главные курьеры: Шнейдер, Черняк, Феерман, Канторович, Беандров, Бардах, Курка и Изерский.
В Штетине сидят – Алексеев и Зус;
В Праге – Зоненштейн, Гутман, Леон, Богров, Штурц, Феодорович, Тушешко и Нина Криворучка;
В Вене – Александровский, Н.Уманский, С.Брандес, Марчук, Фаденюк и Левков;
В Граце – Гольденфельд;
В Кладно – Лянднер;
В Люблине – Юрчик;
В Фиуме – Жеков и Баррер;
В Загребе – Курский (Шмемман);
В Сараеве – Раджилович;
В Триесте – Тороти, Водовозов, Триппенбах;
В Бриндизе – Минкич;
В Венеции – Коган;
В Милане – Янковский;
В Салониках – Ведринский, Сиранов, Скворог, Малик-Бей;
В Генуе – Мжованадзе;
В Ницце – Белорусов и фон-Лауреможен;
В Марселе – Триан, Гуровский и Кам-Сарахан (Али Элан);
В Лионе – С.Северина;
В Париже – Б.Суваран, Луша Баден, Торес, Ясинский, Вайян Кутюрье;
В Роттердаме – Ридель и Гасевич;
В Гамбурге – Тауд и Окунь;
В Шербурге – Лесчилье и Тиршин;
В Бордо – Садиков и Ст. Корде;
В Биаррице – Алянская и Гуревич;
В Мадриде – Рудак и Кастро-дю-Кабрера;
В Дублине – О'Крейт;
В Лондоне – Мюннер, Парацельс, Гриневицкая, Мамон, Кирхнер и Трубачев;
В Копенгагене – Соломон и Бенерт;
В Стокгольме – Воровский;
В Гельсингфорсе – Керберг;
В Риге – Герсон, Миносек и Заббе;
В Ковно – Гриневич и Робинович."
Этот список неполный. В него входят только главные "киты" организации. Возле каждой группы имеется масса отделов и подотделов, которые пополняются большей частью "местными силами"."
Означенные сведения относятся к 1921 году, и с того времени произошло, наверное, много перемен. Но имена и не важны, тем более, что и под вышеприведенными, наверное, скрываются подставные лица.
Перемещенный из Стокгольма в Рим большевический агент Воровский, как известно, был убит в Швейцарии, и хотя весь нежидовский мир преклонился пред Швейцарским судом, оправдавшим героев Конради и Полунина, однако правительство Италии выразило семье убитого соболезнование, оставаясь равнодушным к миллионам жертв, замученных Воровским, чем вызвало немалое изумление не только со стороны русских, но и со стороны итальянцев, связанных с русскими узами взаимной симпатии и участием к страданиям России.
ГЛАВА 31. б) Работа чека в России
В России каждый город имел несколько отделений, задача которых состояла, как я уже говорил, в уничтожении образованного класса; в деревнях и селах эта задача сводилась к истреблению духовенства, помещиков и наиболее зажиточных крестьян, а за границей, как мы видели, к шпионажу и подготовке коммунистических выступлений, устройству забастовок, подготовке выборов и к подкупу прессы, на что расходовались сотни миллионов золота, награбленного большевиками в России.
"1-ю категорию" обреченных чрезвычайками на уничтожение составляли:
1) лица, занимавшие в до-большевической России хотя бы сколько-нибудь заметное служебное положение – чиновники и военные, независимо от возраста, и их вдовы;
2) семьи офицеров-добровольцев (были случаи расстрела 5-летних детей, а в Киеве разъяренные большевики гонялись даже за младенцами, прокалывая их насквозь штыками своих ружей);
3) священнослужители;
4) рабочие и крестьяне с заводов и деревень, подозреваемых в несочувствии советской власти;
5) все лица, без различия пола и возраста, имущество коих, движимое или недвижимое, оценивалось свыше 10.000 рублей.
По размерам и объему своей деятельности Московская Чрезвычайная Комиссия была не только министерством, но как бы государством в государстве. Она охватывала собой буквально всю Россию и щупальцы ее проникали в самые отдаленные уголки необъятной территории русского государства. Комиссия имела целую армию служащих, военные отряды, жандармские бригады, огромное количество батальонов пограничной стражи, стрелковых дивизий и бригад башкирской кавалерии, китайских войск и прочее и прочее, не говоря уже о специальных, привилегированных агентах, с многочисленным штатом служащих, задача которых заключалась в шпионаже и доносах.
Во главе этого ужасного учреждения к описываемому мною времени стоял человек-зверь поляк Феликс Дзержинский, имевший нескольких помощников, и между ними Белобородова, с гордостью именовавшего себя убийцей Царя. Во главе провинциальных отделений находились подобные же звери, люди отмеченные печатью сатанинской злобы, несомненно одержимые диаволом (увы, теперь этому не верят, а между тем, как много таких одержимых в наше время, но мы духовно слепы и их не замечаем!), а низший служебный персонал, как в центре, так и в провинции, состоял, главным образом, из жидов и подонков всякого рода национальностей – китайцев, венгров, латышей и эстонцев, армян, поляков, освобожденных каторжников, выпущенных из тюрем уголовных преступников, злодеев, убийц и разбойников. Это были непосредственные выполнители директив, палачи, упивавшиеся кровью своих жертв и получавшие плату по сдельно, за каждого казненного. В их интересах было казнить возможно большее количество людей, чтобы побольше заработать. Между ними видную роль играли и женщины, почти исключительно жидовки, и особенно молодые девицы, которые поражали своим цинизмом и выносливостью даже закоренелых убийц, не только русских, но даже китайцев. "Заработок" был велик: все были миллионерами.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что между этими людьми не было ни одного физически и психически нормального человека: все они были дегенератами, с явно выраженными признаками вырождения, и должны были бы находиться в домах для умалишенных, а не гулять на свободе, все отличались неистовой развращенностью и садизмом, находились в повышенно нервном состоянии и успокаивались только при виде крови... Некоторые из них запускали даже руку в дымящуюся и горячую кровь и облизывали свои пальцы, причем глаза их горели от чрезвычайного возбуждения.
И в руках этих людей находилась Россия!
И руки этих людей пожимала "культурная" Европа!
О стыд и позор!
Как ужасный вампир раскинула чрезвычайка свои сети на пространстве всей России и приступила к уничтожению христианского населения, начиная с богатых и знатных, выдающихся представителей культурного класса и кончая неграмотным крестьянином, которому вменялась в преступление только принадлежность к христианству.
В течение короткого промежутка времени были убиты едва ли не все представители науки, ученые, профессора, инженеры, доктора, писатели, художники, не говоря уже о сотнях тысяч всякого рода государственных чиновников, которые были уничтожены в первую очередь. Такое массовое избиение и оказалось возможным только потому, что никто не предполагал самой возможности его, все оставались на местах и не предпринимали никаких мер к спасению, не допуская, конечно, и мысли о том, что задача новой власти сводится к истреблению христиан.
В газете "Последние Новости" (№ 160) помещена заметка о гибели русских ученых, оставшихся в Советской России. Приводим выдержку: "За 2 1/2 года существования советского строя умерло 40% профессуры и врачей. В моем распоряжении списки умерших, полученные мною из Дома ученых и Дома литераторов. Даю здесь список имен наиболее известных профессоров и ученых: Армашевский, Батюшков, Бороздин, Васильев, Вельяминов, Веселовский, Быков, Дормидонтов, Дьяконов, Жуковский, Исаев, Кауфман, Кобеко, Корсаков, Киковеров, Кулаковский, Кулишер, Лаппо-Данилевский, Лемм, Лопатин, Лучицкий, Морозов, Нагуевский, Погенполь, Покровский, Радлов, Рихтер, Рыкачев, Смирнов, Танеев, кн. Е.Трубецкой, Туган-Барановский, Тураев, Фамицын, Флоринский, Хвостов, Федоров, Ходский, Шаланд, Шляпкин идр."
По сведениям газеты "Время" (№ 136) в течение последних месяцев 1920 года умерли в Советской России от голода и нищеты еще следующие ученые: проф. Бернацкий, Бианки, проф. Венгеров, проф. Гезехус, Геккер, проф. Дубяго, Модзалевский, проф. Покровский, проф. Федоров, проф. Штернберг и академик Шахматов".
Сведения эти, конечно, неполные, но если столько ученых погибло за 2 1/2 года, то сколько же их погибло за 10 лет?! Да и возможно ли теперь установить точную цифру, когда советская власть не пропускает за границу никаких сведений, могущих ее компрометировать, а эмиграция пользуется лишь обрывками, случайно попадающими в газеты?!
С каждым днем своего владычества жиды наглели все больше.
Сначала производились массовые обыски якобы скрытого жителями оружия, затем аресты и заключение в тюрьму и смертная казнь в подвалах чрезвычаек. Террор был так велик, что ни о каком сопротивлении не могло быть и речи, никакого общения населения не допускалось, никакие совещания о способах самозащиты были невозможны, никакое бегство из городов, сел и деревень, оцепленных красноармейцами, было немыслимо. Под угрозой смертной казни было запрещено выходить даже на улицу, но, если бы такого запрещения и не было, то никто бы не отважился выйти из дома из опасения быть убитым, ибо перестрелка на улицах стала обычным явлением.
Людей хватали на улицах, врывались в дома днем и ночью, стаскивая обезумевших от страха с постели, и волокли в подвалы чрезвычаек стариков и старух, жен и матерей, юношей и детей, связывая им руки, оглушая их ударами, с тем чтобы расстрелять их, а трупы бросить в ямы, где они делались добычей голодных собак.
Вполне очевидно, что отсутствие сопротивления, покорность и запуганность населения еще более разжигала страсти палачей, и они скоро перестали обставлять убийства людей всякого рода инсценировками, а начали расстреливать на улицах каждого проходящего.
И для несчастных людей такая смерть была не только самым лучшим, но и самым желанным исходом. Внезапно сраженные пулей, они умирали мгновенно, не изведав ни предсмертного страха, ни предварительных пыток и мучений в чрезвычайках, ни унизительных издевательств, сопровождающих каждый арест и заключение в тюрьму.
В чем же заключались эти пытки, мучения и издевательства? Нужно иметь крепкие нервы, чтобы только вдуматься в ужас этих переживаний и хотя бы на очень отдаленном расстоянии представить их в своем изображении.
На первых порах, как я уже сказал, практиковались обыски якобы скрытого оружия, и в каждый дом, на каждой улице, беспрерывно днем и ночью, являлись вооруженные до зубов солдаты в сопровождении агентов чрезвычайки и открыто грабили все, что им попадалось под руку. Никаких обысков они не производили, а имея списки намеченных жертв, уводили их с собой в чрезвычайку, предварительно ограбив как сами жертвы, так и их родных и близких. Всякого рода возражения были бесполезны и приставленное ко лбу дуло револьвера было ответом на попытку отстоять хотя бы самые необходимые вещи. Грабили все, что могли унести с собой. И запуганные обыватели были счастливы, если такие визиты злодеев и разбойников оканчивались только грабежом.
Позднее они сопровождались неслыханными глумлениями и издевательствами и превращались в дикие оргии. Под предлогом обысков эти банды разбойников являлись в лучшие дома города, приносили с собой вино и устраивали вечеринки, барабаня по роялю и насильно заставляя хозяев танцевать... Кто отказывался, того убивали на месте. Особенно тешились негодяи, когда им удавалось заставлять танцевать престарелых и дряхлых или священников и монахов. И нередки были случаи, когда приносимое разбойниками шампанское смешивалось с кровью застреленных ими жертв, валявшихся тут же на полу, где они продолжали танцевать, справляя свои сатанинские тризны. Кажется дальше уже идти некуда, а между тем изверги допускали еще большие зверства: на глазах родителей они не только насиловали дочерей, но даже растлевали малолетних детей, заражая их неизлечимыми болезнями.
Вот почему, когда такие посещения ограничивались только грабежом или арестом, то обыватели считали себя счастливыми.
Поймав свою жертву, жиды уводили ее в чрезвычайку.
Чрезвычайки занимали обыкновенно самые лучшие дома города и помещались в наиболее роскошных квартирах, состоящих из целого ряда комнат. Здесь заседали бесчисленные "следователи". Приведя свою жертву в приемную, жиды сдавали ее следователю и тут начинался допрос. После обычных вопросов о личности, занятии и местожительстве, начинался допрос о характере политических убеждений, о принадлежности к партии, об отношении к советской власти, к проводимой ею программе и прочее и прочее, затем, под угрозой расстрела, требовались адреса близких, родных и знакомых жертвы и предлагался целый ряд других вопросов, совершенно бессмысленных, рассчитанных на то, что допрашиваемый собьется, запутается в своих показаниях и тем создаст почву для предъявления конкретных обвинений... Таких вопросов предлагалось сотни, и несчастная жертва была обязана отвечать на каждый из них, причем ответы тщательно записывались, после чего допрашиваемый передавался другому следователю.
Этот последний начинал допрос сначала и предлагал буквально те же вопросы, только в другом порядке, после чего передавал свою жертву третьему следователю, затем четвертому и т.д. до тех пор, пока доведенный до полного изнеможения обвиняемый соглашался на какие угодно ответы, приписывал себе несуществующие преступления и отдавал себя в полное распоряжение палачей. Многие не выдерживали пытки и теряли рассудок. Их причисляли к счастливцам, ибо впереди были еще более страшные испытания, еще более зверские истязания.
Никакое воображение не способно представить себе картину этих истязаний. Людей раздевали догола, связывали кисти рук веревкой и подвешивали к перекладинам с таким расчетом, чтобы ноги едва касались земли, а затем медленно и постепенно расстреливали из пулеметов, ружей или револьверов. Пулеметчик раздроблял сначала ноги, для того чтобы они не могли поддерживать туловища, затем наводил прицел на руки и в таком виде оставлял висеть свою жертву, истекающую кровью... Насладившись мучением страдальцев, он принимался снова расстреливать ее в разных местах до тех пор, пока живой человек превращался в бесформенную кровавую массу, и только после этого добивал ее выстрелом в лоб. Тут же сидели и любовались казнями приглашенные "гости", которые пили вино, курили и играли на пианино или балалайках.
Ужаснее всего было то, что несчастных не добивали насмерть, а сваливали в фургоны и бросали в яму, где многих заживо погребали. Ямы, наспех вырытые, были неглубоки, и оттуда не только доносились стоны изувеченных, но были случаи, когда страдальцы, с помощью прохожих, выползали из этих ям, лишившись рассудка.
Часто практиковалось сдирание кожи с живых людей, для чего их бросали в кипяток, делали надрезы на шее и вокруг кисти рук и щипцами стаскивали кожу, а затем выбрасывали на мороз... Этот способ практиковался в харьковской чрезвычайке, во главе которой стояли "товарищ Эдуард" и каторжник Саенко. По изгнании большевиков из Харькова Добровольческая армия обнаружила в подвалах чрезвычайки много "перчаток". Так называлась содранная с рук вместе с ногтями кожа. Раскопки ям, куда бросались трупы убитых, обнаружили следы какой-то чудовищной операции над половыми органами, сущность которой не могли определить даже лучшие харьковские хирурги. Они высказывали предположение, что это одна из применяемых в Китае пыток, по своей болезненности превышающая все доступное человеческому воображению. На трупах бывших офицеров, кроме того, были вырезаны ножом, или выжжены огнем погоны на плечах, на лбу – советская звезда, а на груди – орденские знаки, были отрезанные носы, губы и уши... На женских трупах – отрезанные груди и сосцы и прочее. Масса раздробленных и скальпированных черепов, содранные ногти, с продетыми под ними иглами и гвоздями, выколотые глаза, отрезанные пятки и прочее и прочее. Много людей было затоплено в подвалах чрезвычаек, куда загоняли несчастных и затем открывали водопроводные краны.
В Петербурге – во главе чрезвычайки стоял латыш Петерс, переведенный затем в Москву. По вступлении своем в должность "начальника внутренней обороны", он немедленно же расстрелял свыше 1000 человек, а трупы приказал бросить в Неву, куда сбрасывались и тела расстрелянных им в Петропавловской крепости офицеров. К концу 1917 года в Петербурге оставалось еще несколько десятков тысяч офицеров, уцелевших от войны, и большая половина их была расстреляна Петерсом, а затем жидом Урицким. Даже по советским данным, явно ложным, Урицким было расстреляно свыше 5000 офицеров.
Переведенный в Москву чекист Петерс, в числе прочих помощников имевший латышку Краузе, залил кровью буквально весь город. Нет возможности передать все, что известно об этой женщине-звере и ее садизме. Рассказывали, что она наводила ужас одним своим видом, что приводила в трепет своим неестественным возбуждением... Она издевалась над своими жертвами, измышляла самые тонкие виды мучений преимущественно в области половой сферы и прекращала их только после полного изнеможения и наступления половой реакции. Объектом ее мучений были, главным образом, юноши и никакое перо не в состоянии передать, что эта сатанистка производила с своими жертвами, какие операции проделывала над ними... Достаточно сказать, что такие операции длились часами и она прекращала их только после того, как корчившиеся в страданиях молодые люди превращались в окровавленные трупы с застывшими от ужаса глазами... Ее достойным сотрудником был не менее извращенный садист Орлов, специальностью которого было расстреливать мальчиков, которых он вытаскивал из домов или ловил на улицах. Этих последних им расстреляно в Москве несколько тысяч. Другой чекист Мага объезжал тюрьмы и расстреливал заключенных, третий посещал с этой целью больницы... Если мои сведения кажутся неправдоподобными, а это может случиться, до того они невероятны и с точки зрения нормальных людей недопустимы, то я прошу проверить их, ознакомившись хотя бы только с иностранной прессой за годы, начиная с 1918, и просмотреть газеты "Victoire", "Times", "Le Travail", "Journal des Geneve", "Journal Debats" и другие.
Все эти сведения заимствованы или из рассказов чудом вырвавшихся из России иностранцев, или же из официальных сообщений советской власти, какая считает себя настолько прочной, что не находит даже нужным скрывать о своих злодейских замыслах в отношении русского народа, обреченного ею на истребление. В изданной Троцким (Лейбой Бронштейном) брошюре "Октябрьская революция" он даже хвастается этой силой, этим несокрушимым могуществом советской власти.
"Мы так сильны, – говорит он, – что если мы заявим завтра в декрете требование, чтобы все мужское население Петрограда явилось в такой-то день и час на Марсово поле, чтобы каждый получил 25 ударов розог, то 75% тотчас бы явилось и стало бы в хвост и только 25% более предусмотрительных подумали запастись медицинским свидетельством, освобождающим их от телесного наказания..."
В Киеве чрезвычайка находилась во власти латыша Лациса. Его помощниками были изверги Авдохин, жидовки "товарищ Вера", Роза Шварц и другие девицы. Здесь было полсотни чрезвычаек, но наиболее страшными были три, из коих одна помещалась на Екатерининской ул., № 16, другая на Институтской ул., № 40 и третья на Садовой ул., № 5. Каждая из них имела свой собственный штат служащих, точнее палачей, но между ними наибольшей жестокостью отличались упомянутые две жидовки. В одном из подвалов чрезвычайки, точно не помню какой, было устроено подобие театра, где были расставлены кресла для любителей кровавых зрелищ, а на подмостках, т.е. на эстраде, какая должна была изображать собой сцену, производились казни.
После каждого удачного выстрела раздавались крики "браво", "бис" и палачам подносились бокалы шампанского. Роза Шварц лично убила несколько сот людей, предварительно втиснутых в ящик, на верхней площадке которого было проделано отверстие для головы. Но стрельба в цель являлась для этих девиц только шуточной забавой и не возбуждала уже их притупившихся нервов. Они требовали более острых ощущений, и с этой целью Роза и "товарищ Вера" выкалывали иглами глаза, или выжигали их папиросой, или же забивали под ногти тонкие гвозди.
В Киеве шепотом передавали любимый приказ Розы Шварц, так часто раздававшийся в кровавых застенках чрезвычаек, когда ничем уже нельзя было заглушить душераздирающих криков истязуемых: "Залей ему глотку горячим оловом, чтобы не визжал, как поросенок"... И этот приказ выполнялся с буквальной точностью. Особенную ярость вызывали у Розы и Веры те из попавших в чрезвычайку, у кого они находили нательный крест. После невероятных глумлений над религией они срывали эти кресты и выжигали огнем изображение креста на груди или на лбу своих жертв. С приходом Добровольческой армии и изгнанием большевиков из Киева, Роза Шварц была арестована в тот момент, когда подносила букет одному из офицеров, ехавших верхом во главе своего отряда, вступавшего в город. Офицер узнал в ней свою мучительницу и арестовал ее. Таких случаев провокации было много, и доведенный до совершенства шпионаж чрезвычайно затруднял борьбу с большевиками.
Практиковались в киевских чрезвычайках и другие способы истязаний. Так, например, несчастных втискивали в узкие деревянные ящики и забивали их гвоздями, катая ящики по полу... Пользовались палачи и Днепром, куда сотнями загонялись в воду связанные друг с другом люди и их или топили, или пачками расстреливали из пулеметов.
Когда фантазия в измышлении способов казни истощилась, тогда несчастных страдальцев бросали на пол и ударами тяжелого молота разбивали им голову пополам с такой силой, что мозг вываливался на пол. Это практиковалось в киевской чрезвычайке, помещавшейся на Садовой, 5, где солдаты Добровольческой армии обнаружили сарай, асфальтовый пол которого был буквально завален человеческими мозгами. Неудивительно, что за шесть месяцев владычества большевиков в Киеве погибло, по слухам, до 100.000 человек и между ними лучшие люди города, гордость и краса Киева.
Приказ Лациса: "Не ищите никаких доказательств какой-либо оппозиции Советам в словах или поступках обвиняемого. Первый вопрос, который нужно выяснить, это к какому классу и профессии принадлежал подсудимый и какое у него образование". Этот приказ его сотрудники-чекисты выполнили буквально.
"По откровенно и цинично горделивым признаниям того же Лациса, в 1918 году и в течение первых семи месяцев 1919 года было подавлено 344 восстания и при этом убито 3057 человек, и за тот же период было казнено, только по приговорам и постановлениям В.Ч.К. – 8389 человек. Петроградская чрезвычайка за это же время "упразднила" 1206 человек, киевская – 825, специально московская – 234 человека. В Москве за девять месяцев 1920 года было расстреляно по приговорам чрезвычайки – 131 человек. За месяц от 23 июля по 21 августа этого года московский революционный трибунал приговорил к смертной казни – 1182" ("Общее Дело", 7 ноября 1920 г., № 115). Разумеется, сведения эти, как исходящие от Лациса, неточны.
В Одессе свирепствовали знаменитые палачи Дейч и Вихман, оба жиды, с целым штатом прислужников, среди которых, кроме жидов, были китайцы и один негр, специальностью которого было вытягивать жилы у людей, глядя им в лицо и улыбаясь своими белыми зубами. Здесь же прославилась и Вера Гребенщикова, ставшая известной под именем "Доры". Она лично застрелила 700 человек. Каждому жителю Одессы было известно изречение Дейча и Вихмана, что они не имеют аппетита к обеду, прежде чем не перестреляют сотню "гоев". По газетным сведениям, ими расстреляно свыше 800 человек, из коих 400 офицеров, но в действительности эту цифру нужно увеличить по меньшей мере в десять раз. Тотчас после оставления Одессы "союзниками", большевики, ворвавшись в город и не успев еще сорганизовать чрезвычайку, использовали для своих целей линейный корабль "Синоп" и крейсер "Алмаз", куда и уводили свои жертвы. За людьми началась буквально охота, пойманных не убивали на месте только для того, чтобы сперва их помучить. Хватали и днем и ночью, и молодых и старых, и женщин и детей, хватали всех без разбора, ибо от количества пойманных зависело количество награбленных вещей и высота заработка. Приводимых на борт "Синопа" и "Алмаза" прикрепляли железными цепями к толстым доскам и медленно постепенно продвигали, ногами вперед, в корабельную печь, где несчастные жарились заживо. Затем их извлекали оттуда, опускали на веревках в море и снова бросали в печь, вдыхая в себя запах горелого мяса... Кто мог бы подумать, что человек способен дойти до такой жестокости, не имевшей еще примера в истории?! И такой ужасной смертью умирали лучшие люди России, офицеры, ее доблестные защитники, и между ними герой Порт-Артура генерал Смирнов! Других четвертовали, привязывая к колесам машинного отделения, разрывавших их на куски, третьих бросали в паровой котел, откуда вынимали, бережно выносили на палубу, якобы для того, чтобы облегчить их страдания, а в действительности для того, чтобы приток свежего воздуха усилил их страдания, и затем снова бросали в котел, с тем, чтобы сваренную бесформенную массу выбросить в море.
О том, каким истязаниям подвергались несчастные в чрезвычайках Одессы можно было судить по орудиям пыток, среди которых были не только гири, молоты и ломы, коими разбивались головы, но и пинцеты, с помощью которых вытягивались жилы, и так называемые "каменные мешки", с небольшим отверстием сверху, куда страдальцев втискивали, ломая кости, и где в скорченном виде они обрекались специально на бессонницу. Нарочито приставленная стража должна была следить за несчастным, не позволяя ему заснуть. Его кормили гнилыми сельдями и мучили жаждой. Здесь главными помощницами Дейча и Вихмана были "Дора", убившая, как я уже упоминал, 700 человек, и 17-летняя проститутка "Саша", расстрелявшая свыше 200 человек. Обе они подвергали свои жертвы неслыханным мучениям и буквально купались в их крови. Обе были садистками и по цинизму превосходили даже латышку Краузе, являясь подлинными исчадиями ада.
В Вологде свирепствовали палачи Кедров (Цедербаум) и латыш Эйдук, о жестокости которых создались целые легенды. Они перестреляли несметное количество людей и вырезали поголовно всю местную интеллигенцию.
В Воронеже чрезвычайка практиковала чисто ритуальные способы казни. Людей бросали в бочки с вбитыми кругом гвоздями и скатывали бочки с горы. Этим способом добывания христианской крови посредством "уколов" жиды, как известно по процессу Бейлиса в Киеве, пользовались тогда, когда не имели возможности спокойно проделать операцию ритуального убийства христианских детей, требующую специальных инструментов. Здесь же, как и в прочих городах, выкалывались глаза, вырезывались на лбу или на груди советские звезды, бросали живых людей в кипяток, ломали суставы, сдирали кожу, заливали в горло раскаленное олово и прочее и прочее.
В Николаеве чекист Богбендер (жид), имевший своими помощниками двух китайцев и одного каторжника-матроса, замуровывал живых людей в каменных стенах.
В Пскове, по газетным сведениям, все пленные офицеры, в числе около 200 человек, были отданы на растерзание китайцам, которые распилили их пилами на куски.
В Полтаве неистовствовал чекист Гришка, практиковавший неслыханный по зверству способ мучений. Он предал лютой казни восемнадцать монахов, приказав посадить их на заостренный кол, вбитый в землю. Этим же способом пользовались и чекисты Ямбурга, где на кол были посажены все захваченные на Нарвском фронте пленные офицеры и солдаты. Никакое перо не способно описать мучения страдальцев, которые умирали не сразу, а спустя несколько часов, извиваясь от нестерпимой боли, Некоторые мучились даже более суток. Трупы этих великомучеников являли собой потрясающее зрелище: почти у всех глаза вышли из орбит...
В Благовещенске у всех жертв чрезвычайки были вонзенные под ногти пальцев на руках и на ногах граммофонные иголки.
В Омске пытали даже беременных женщин, вырезывали животы и вытаскивали кишки.
В Казани, на Урале и Екатеринбурге несчастных распинали на крестах, сжигали на кострах или же бросали в раскаленные печи. По газетным сведениям, в одном Екатеринбурге погибло свыше 2000 человек.
В Симферополе чекист Ашикин заставлял свои жертвы, как мужчин так и женщин, проходить мимо него совершенно голыми, оглядывал их со всех сторон и затем ударом сабли отрубал уши, носы и руки... Истекая кровью, несчастные просили его пристрелить их, чтобы прекратились муки, но Ашикин хладнокровно подходил к каждому отдельно, выкалывал им глаза, а затем приказывал отрубить им головы.
В Севастополе несчастных связывали группами, наносили им ударами сабель и револьверами тяжкие раны и полуживыми бросали в море. В Севастопольском порту есть места, куда водолазы отказываются опускаться: двое из них, после того как побывали на дне моря, сошли с ума. Когда третий решился нырнуть в воду, то выйдя, заявил, что видел целую толпу утопленников, привязанных ногами к большим камням. Течением воды их руки приводились в движение, волосы были растрепаны. Среди этих трупов священник в рясе с широкими рукавами, подымая руки, как будто произносил ужасную речь...
В Алупке чрезвычайка расстреляла 272 больных и раненых, подвергая их такого рода истязаниям: заживающие раны, полученные на фронте, вскрывались и засыпались солью, грязной землей или известью, а также заливались спиртом и керосином, после чего несчастные доставлялись в чрезвычайку. Тех из них, кто не мог передвигаться, приносили на носилках. Татарское население, ошеломленное такой ужасной бойней, увидело в ней наказание Божие и наложило на себя добровольный трехдневный пост.
В Пятигорске чрезвычайка убила всех своих заложников, вырезав почти весь город. Несчастные заложники были уведены за город, на кладбище, с руками, связанными за спиной проволокой. Их заставили стать на колени в двух шагах от вырытой ямы и начали рубить им руки, ноги, спины, выкалывать штыками глаза, вырывать зубы, распарывали животы и прочее. Тогда же, в 1919 году, здесь были зарублены изменник и предатель Царя генерал Рузский, генерал Радко-Дмитриев, кн. Н.П. Урусов, кн. Шаховский и многие другие, в том числе, если не ошибаюсь, и бывший министр юстиции Н. Добровольский.
В Тифлисе наводил ужас чекист Панкратов, прославившийся своими зверствами даже за границей. Он убивал ежедневно около тысячи человек не только в подвалах чрезвычаек, но и открыто, на городской площади Тифлиса, где стены почти каждого дома были забрызганы кровью.
В Крыму чекисты, не ограничиваясь расстрелом пленных сестер милосердия, предварительно насиловали их, и сестры запасались ядом, чтобы избежать бесчестия. По официальным сведениям, а мы знаем, насколько советские "официальные" сведения точны, в 1920/21 годах, после эвакуации генерала Врангеля, в Феодосии было расстреляно 7500 человек, в Симферополе – 12.000, в Севастополе – 9000 и в Ялте – 5000, итого 33.500 человек. Эту цифру нужно, конечно, удвоить, ибо одних офицеров, оставшихся в Крыму, было расстреляно, как передавали газеты, свыше 12.000 человек, и задачу выполнил жид Бела Кун, заявивший, что Крым на три года отстал от революционного движения и его нужно одним ударом поставить в уровень со всей Россией.
После занятия балтийских городов в январе 1919 года эстонскими войсками, были вскрыты могилы убитых, и тут же было установлено по виду истерзанных трупов, с какой жестокостью большевики расправлялись со своими жертвами. У 33-х убитых черепа были разможжены так, что головы висели, как обрубки дерева на стволе. Большинство жертв до их расстрела имели штыковые раны, вывернутые внутренности, переломанные кости. Один из убежавших рассказывал, что его повели с 56-ю арестованными и поставили над могилой. Сперва начали расстреливать женщин. Одна из них старалась убежать и упала раненая, тогда убийцы потянули ее за ноги в яму, пятеро из них спрыгнули на нее и затоптали ее ногами до смерти.
Как ни ужасны способы мучений, практиковавшиеся в чрезвычайках Европейской России, но все они бледнеют пред тем, что творилось озверелыми чекистами в Сибири. Там, кроме уже описанных пыток, применялись еще следующие: в цветочный горшок сажали крысу и привязывали его или к животу, или к заднему проходу, а чрез небольшое круглое отверстие на дне горшка пропускали раскаленный железный прут, коим прижигали крысу. Спасаясь от мучений и не имея другого выхода, крыса впивалась зубами в живот и прогрызала отверстие, чрез которое и влезала в желудок, разрывая кишки и поедая их, а затем вылазила с противоположного конца, прогрызая себе выход в спине или в боку...
Поистине были счастливы те, кого только расстреливали из пулеметов, ружей или револьверов и кто умирал, не изведав этих страшных пыток...
С каких бы мы точек зрения ни рассматривали все эти жестокости, они всегда будут казаться нелепыми... Объясняет их только идея жертвоприношения еврейскому богу, выполнение требований Яхве.
ГЛАВА 32. в) Статьи г. Дивеева "Жертвы долга" и д-ра В.Марка "Садизм в Советской России"
Не могу, в заключение, не привести выдержек из превосходной статьи г. Дивеева "Жертвы долга", напечатанной в 31-м выпуске журнала "Двуглавый Орел" за 1/14 июня 1922 г., на стр. 27-31, где сообщаются сведения о расстрелянных большевиками русских министрах и других, лично мне известных лицах.
"...С полгода тому назад привелось мне встретиться с одним лицом, просидевшим весь 1918 год в московской Бутырской тюрьме. Одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта производилась изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под надзором вооруженной стражи к Ходынскому полю, иногда на Ваганьковское кладбище, надзиратель отмерял широкую, в рост человека, канаву, длина которой определяла число намеченных жертв. Выкапывали могилы на 20-30 человек, готовили канавы и на много десятков больше. Подневольным работникам не приходилось видеть расстрелянных, ибо таковые бывали ко времени их прибытия уже "заприсыпаны землею" руками палачей. Арестантам оставалось только заполнять рвы землей и делать насыпь вдоль рва, поглотившего очередные жертвы чека.
Мой собеседник отбывал эту кладбищенскую страду в течение нескольких месяцев. Со своей стражей заключенные успели сжиться настолько, что она делилась с ними своими впечатлениями о производившихся "операциях". Однажды, по окончании копания очередной сплошной могилы-канавы, конвойцы объявили, что на завтрашнее утро предстоит "важный расстрел" попов и министров. На следующий день дело объяснилось. Расстрелянными оказались: епископ Ефрем, протоиерей Восторгов, ксендз Лютостанский с братом, бывший министр внутренних дел Н.А. Маклаков, председатель Государственного Совета И.Г. Щегловитов, бывший министр внутренних дел А.Н. Хвостов и сенатор С.П. Белецкий... Прибывших разместили вдоль могилы и лицом к ней... По просьбе о. Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все стали на колени и полилась горячая молитва несчастных "смертников", после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и о. Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле о. протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех, с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, принести последнюю искупительную жертву. "Я готов", – заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул ее за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув о. Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим жертвам. Белецкий рванулся и быстро отбежал в сторону кустов шагов 20-30, но, настигнутый двумя пулями, упал, и "его приволокли" к могиле, пристрелили и сбросили.
Из слов конвоя, переданных нам рассказчиком, выяснилось, что палачи, перекидываясь замечаниями, пока они "присыпали" землей несчастные свои жертвы, высказывали глубокое удивление о. Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, видимо поразивших их своим хладнокровием пред страшной ожидавшей их участью. Иван Григорьевич Щегловитов, по словам рассказчика, с трудом передвигался, но ни в чем не проявил никакого страха..."
Чем же объяснить самую возможность такого неслыханного зверства, такой дикой, непонятной злобы, такой ярости, охватившей самый богобоязненный, самый кроткий и простодушный народ в мире, каким всегда был русский народ, всепрощающий и смиренный?
На этот вопрос пытается ответить прекрасная статья доктора В.Марка[8] "Садизм в Советской России", напечатанная в 30-м выпуске журнала "Двуглавый Орел" от 1/14 мая 1922 г., на стр. 32-43.
"Бедный, несчастный русский народ, что большевики над тобой проделали!" – восклицает доктор-иностранец, подавленный ужасами, свидетелем которых он был. Статья д-ра В.Марка так интересна, так дополняет предыдущие иллюстрации, что я позволяю себе привести несколько выдержек из нее, хотя и не согласен с выводами автора.
I
Грязное, отвратительное зрелище невообразимых пыток, расстрелов, убийств, мучительства и шпионства достигли в Советской России невероятной степени напряженности, и это нарастание жестокости достигло таких громадных размеров и, вместе с тем, сделалось столь обыденным явлением, что все это можно объяснить только психической заразой, которая сверху донизу охватила все слои населения. Перед нашими глазами по лицу Восточной Европы проходит волна какой-то напряженной жестокости, какого-то возмутительного зверского садизма, которые по числу жертв далеко оставляют за собой и средневековье, и французскую революцию. Россия положительно вернулась к временам средних веков, воскрешая из пепла до мельчайших подробностей все их особенности, как бы нарочито для того, чтобы дать историкам средних веков, живя в XX столетии, одновременно переживать и исследовать самодурство и мрак средних веков[9]. Изо всех революций, которые видел мир, русская революция, бесспорно, самая кровавая: безвинно и бесцельно были загублены миллионы людей, и все еще нет конца обреченным жертвам. Припадки садизма в столь громадных размерах не излечиваются столь скоро, чтобы можно было, как надеются многие оптимисты, через несколько лет ввести этот ураган жестокости в более спокойное русло.
Готовность видеть непременно грубого насильника в каждом человеке, впервые встречаемом в России, настолько глубоко укоренилась в общем сознании, что всякая случайная встреча где-либо с любезным и предупредительным человеком вызывает в душе глубочайшее удивление. Но и такая любезная предупредительность нередко оказывается лишь обманным средством, чтобы незаметно вкрасться в доверие соседа и, высмотрев условия его жизни, при первом случае сделать на него донос и предать его революционному трибуналу. В России теперь нельзя иметь друзей; всякий товарищ, всякий сосед может оказаться шпионом, и теперь в коммунистической России всякий человек одиноко идет своим путем[10]. Это звучит парадоксально, но это так: в коммунистическом раю каждый порядочный человек обречен на одиночество. И как же быть тому иначе, когда повсюду, куда ни взглянешь, находишь и видишь одно и то же: какое-то сладострастное наслаждение человеческими муками и страданиями; какой-то садизм, который достиг пределов безумия и ненаказуемости. И такая безнаказанность, помимо многих других причин, главным образом, содействует постоянному нарастанию садизма.
Следующие примеры дают об этом наглядное представление. Всякому, кто интересовался Советской Россией, памятно, конечно, имя Муравьева, бывшего командующего красной армией на чехо-словацкой границе в 1918 году, потом покорителя Одессы, которую должны были защищать греческие солдаты и, наконец, расстрелянного в Симбирске красноармейцами, заподозрившими его в измене. Я лично знал этого человека, о котором несколько месяцев трубили большевические газеты. Высокий, стройный, с красивыми чертами лица, всегда изящно одетый и с приятными манерами – когда он считал это нужным, – он с первого нашего знакомства произвел на меня впечатление типичного искателя приключений. До нашего знакомства я много слышал о его "деяниях" в Киеве и в Одессе, но всем этим слухам и рассказам я мало верил, так много в них описывалось бессмысленной жестокости. Я должен добавить, что то, что я здесь рассказываю, относится еще к началу 1918 года, т.е. ко времени, когда русский народ еще не привык к тем картинам ужаса, которые впоследствии ежедневно развертывались перед его глазами и рассказы о которых, в особенности русской интеллигенции, вначале представлялись вымышленными и невозможными. Как часто приходилось мне вначале слышать от русской интеллигенции, что взводимые на большевиков обвинения, "само собой понятно", сильно преувеличены, причем подчеркивалось, что под наименованием "большевиков" интеллигенция отождествляла как коммунистов, так и всех, состоявших на советской службе. Я молча улыбался. А немного спустя приходил ко мне тот же "интеллигент", не доверявший рассказам о большевической преступности, и утверждал, что все большевики – скоты, так как, состоя на большевической службе, он ежедневно является свидетелем сцен, доказывающих, какие они чудовища. Я не возражал и молча улыбался.
Но возвращаюсь к Муравьеву. Как-то после продолжительной беседы с ним я отправился к его адъютанту, и тут я увидел картину, которая поднесь запечатлелась в моей памяти. В отделении I класса, на запасном пути Курского вокзала в Москве, сидел молодой человек лет 20, в широких рейтузах и тесно обтянутой тужурке, который сразу предложил мне курить и с ним позавтракать. Мы пили чай. Все пальцы адъютанта были унизаны драгоценными бриллиантовыми кольцами, из верхнего кармана тужурки свешивалась дорогая, тяжелая золотая цепочка, и из кармана рейтуз выглядывало запиханное туда настоящее жемчужное ожерелье. Когда я заинтересовался этим и спросил адъютанта, откуда у него все эти вещи, он совершенно серьезно объяснил, что все эти драгоценности привезены им из Киева, где "буржуазия и ее магазины были подробно осмотрены". "Что вы понимаете под словом осмотр?" – спросил я. "Разумеется грабеж," – ответил он совершенно спокойно и при этом подвинул мне под нос шкатулку, наполненную золотыми вещицами и драгоценными камнями. "Видите ли, жалованья мы не получаем, т.е. не получаем его пока, так как штаты еще разрабатываются и законопроект еще не готов; вот, товарищ Муравьев и сказал: товарищи, забирайте все, что можете, к черту наше жалованье, бриллианты и золото лучше бумажных денег. Вот мы так и действовали". И действительно, муравьевские красноармейцы поступали по этому рецепту везде, куда они приходили.
В каждом занятом ими городе взламывались запертые лавки и квартиры, жителей выгоняли, обыскивали, отнимали оружие и драгоценности и по явственному усмотрению, если кто не понравится, того тут же и расстреливали. В этом большевическом скопище царила полнейшая безнаказанность всех преступлений и, как я неоднократно мог наблюдать лично, у солдат муравьевской армии все карманы были набиты золотом и все пальцы унизаны кольцами и драгоценными камнями. Так как я слушал адъютанта без возражений, то он, становясь все откровеннее, наконец предложил мне поступить на службу к Муравьеву. "Не пройдет двух-трех месяцев, товарищ, – сказал он, – как у вас накопится от 10 до 15 фунтов золота... Это дело чистое". Я поблагодарил за такое предложение, но от такого "чистого" дела отказался...
У Муравьева встретился я, между прочим, с лейтенантом Раскольниковым, тогдашним народным комиссаром по морской части, молодым человеком лет 25, довольно сумасбродным, но необыкновенно нахальным и чрезвычайно элегантным. Этот зеленый юноша долгое время управлял у большевиков морским ведомством, но ни в чем не проявил своей деятельности, так как в то время у России уже не было военного флота. Впрочем, Раскольников расстрелял несколько десятков матросов. Он отправлял на тот свет всякого, кто ему не нравился. Со времени утверждения владычества большевиков такой образ действий стал обычным в Советской России. Каждый занятый красноармейцами город отдавался на два-три дня на расправу "победителям". Красноармейцы являлись господами города, грабили все, что хотели, расстреливали всех, кто по их усмотрению представлялся достойным расстрела, мучили и насиловали женщин и заставляли их голыми бегать по улицам.
В паническом ужасе терроризованные жители пытались укрываться в прилегающих лесах, оставляя свои дома на разграбление красноармейцев.
II
Неоднократно приходилось мне видеть собственными глазами расстрелы. Расстреливали поодиночке или по нескольку человек зараз – для большевиков число жертв не имело значения. Дело шло о "подозрительных" личностях, а подозрительным является всякий "свободный" гражданин "самого свободного государства в мире", поскольку такой гражданин дозволил себе не одобрить распоряжений правительства... Большевические палачи могли бы, конечно, одновременно и сразу расстрелять всех осужденных. Но это делается совершенно иначе. Расстреливать их последовательно, одного за другим, с более или менее длительными промежутками, это, разумеется, гораздо интереснее и "забавнее"...
...Припоминается мне, как в качестве врача при красноармейском отряде мне довелось быть очевидцем ужасающего зрелища. Мужики волочили за платье старую помещицу по всему дому и с криками и хихиканьем толкали и били бедную старуху. Остановить бесстыдное поведение озверелой толпы не было никакой возможности. Всякого, кто произнес бы хоть одно слово осуждения этому неистовству, растерзали бы тут же на месте. Старая помещица была хромая и, как потом свидетельствовали сами крестьяне, была в высшей степени благородной и сострадательной женщиной. Во время войны она потеряла двух сыновей, которые в свое время пользовались любовью местного населения. Теперь же озверелая толпа избивала палками несчастную хромую женщину, колола ее навозными вилами и, наконец, сбросила бездыханное тело с балкона в сад, и тут же продолжалась бесстыдная потеха, пока, наконец, эти скоты увидали, что их жертва уже не дышит. После этого тело бросили в навозную яму и начался грабеж помещичьего дома, на что из трусости не решались на глазах хромой женщины! Тотчас же зарезали несколько коров, гусям, уткам и курицам свернули головы и несколько породистых лошадей в бессмысленном порыве к уничтожению просто застрелили. По окончании своей работы чернь разошлась по домам, и уже на следующий день слышно было на деревне, как мужики между собой говорили, что по-настоящему "напрасно" было убивать. Имение, о котором идет речь, было расположено в Орловской губернии и описываемое происшествие относится к 1919 году. Несколько недель спустя эта деревня была занята деникинскими войсками. Тотчас же мужики произвольно наметили из своей среды трех односельчан, которые и были выданы ими "белым" как убийцы помещицы, хотя, несомненно, в убийстве и грабеже участвовала вся деревня, вынесшая такой необычный приговор, и после убийства мужики заставляли своих детей плевать в лицо убитой помещицы... Подобные происшествия показывают, как проникла в душу народную зараза садизма. Толпа всегда остается толпой и бессовестным демагогам нетрудно доводить эту толпу до самых диких проявлений безумной жажды истребления и утонченного садизма. Нравственный уровень толпы всегда бесконечно ниже нравственного уровня составляющих ее отдельных личностей, и поэтому толпа всегда является средой, наиболее подходящей для того, чтобы претворить в действия наносные внушения. Большевики блестяще сумели разнуздать все тлетворные и преступные начала, дремавшие в душе русского народа. Большевический террор, по моему мнению, является ни чем иным, как широким разлитием той волны садизма, которым воодушевлено большинство Комиссаров и их подчиненных. Наверно, многие читали роман известного французского писателя Октава Мирбо "Сад мучительства" ("Le jardin des supplices"), в котором до мельчайших подробностей мастерски описаны ужасы китайских тюрем с их утонченными пытками. Я убежден, что ужасающие описания, заключающиеся в этом романе вполне соответствуют тому, что в наши дни стало обыденным явлением в Советской России. Правда, в Советской России нет садов мучительства, но есть зато дома мучительства и смерти...
До сих пор имеются наивные люди, которые полагают, что расстрелы и казни прекратились в Советской России уже потому, что мол, все "контрреволюционеры" уже давно расстреляны. Такое воззрение коренным образом ошибочно: несмотря на двукратно объявленную отмену смертной казни, умерщвление непрерывно продолжается. Перемена заключается только в том, что теперь советское правительство не допускает более всенародных казней.
Встает предо мною, как сейчас, картина казни, при которой мне пришлось присутствовать по обязанности службы летом 1919 года в Латвии, в Вилионах. Осужденный шел посреди улицы, со связанными за спиной руками, с какой-то бессознательной улыбкой на лице, окруженный толпою очень весело настроенных латышских стрелков, которые наряжены для его расстрела; за этим шествием бежала толпа, состоящая, главным образом, из женщин и детей, так как мужчины были на работе в поле. Тут толпа вела себя молчаливо и сдержанно. Осужденный, которому по прибытии на место казни развязали руки, сам снял сапоги. Дело происходило на старом военном стрельбище, в конце которого была вырыта яма. Осужденному было приказано стать на краю этой ямы. Он молчал, глаза смотрели спокойно и на лице его, окаймленном светлорусой бородой, играла все та же мечтательная улыбка. Осужденный казался мне чрезвычайно симпатичным. За что же, спрашивается, подлежал он расстрелу? Оказывается, бывши при старом правительстве полевым жандармом, он в начале революции, разразившейся целым рядом преступлений, поджогов и грабежей, арестовал нескольких негодяев. Окончательное торжество переворота не только вернуло этим людям свободу, но еще возвело их на высоту власти. Таким образом, эта казнь являлась самой низменной местью. Этого человека, обреченного на смерть, обвиняли в том, что он "возбуждает народ против Советов", и так как и в России, и в Латвии найдется сколько угодно свидетелей, которые за несколько фунтов хлеба готовы подтвердить все, что от них потребуется, то, понятно, виновность полевого жандарма была легко доказана. Осужденный стоял за ямой у самого края. "Послушайте-ка, товарищ, – сказал громко, с дьявольской улыбкой латышский окружный комиссар, – небось вы сами видите, что при таком положении вы после выстрелов не попадете в яму; станьте впереди ямы, так-то лучше будет, да и поскорее... а то нам времени терять не приходится." Осужденный повиновался, обошел вокруг ямы и молча стал там, где ему было приказано. Продолжая улыбаться, он скрестил руки на груди, повернулся левою стороной навстречу пулям и остался в ожидании. Три латышских стрелка приложились и целились... Грянули выстрелы. Жертва покачнулась и упала вперед, ноги скользнули в яму, но туловище в согнутом положении оставалось на поверхности земли вне ямы. Глаза несчастного оставались полуоткрытыми, и из уст вырывались душу раздирающие стоны и рыдания. Оказывается, латышские садисты, с дьявольской преднамеренностью всадили своей несчастной жертве все три пули в живот. Окружной комиссар расхохотался: "Вот так фокус, это на редкость: наполовину снаружи, наполовину в яме", – сказал он, обращаясь к своим подчиненным. Вынув затем из кармана револьвер, он всадил жертве пулю в голову и пинком ноги столкнул тело в яму. Убитого засыпали землей, но без могильной насыпи. Грядущие поколения не должны знать о том, сколько тлеет мертвых костей по полям и лугам, по лесам и долам, и неведомы будут они всем, когда исчезнут последние свидетели их умерщвления.
III
Таких зрелищ, какие описаны мной в первых двух главах, вы теперь более в Советской России не увидите. Всенародные расстрелы в Советской России прекращены или стали столь редки, что являются скорее исключениями. Смертоубийства несомненно продолжаются, но уже совершенно иными приемами, чем в начале большевического владычества. Советские правители при своих кровавых расправах решили избегать гласности... Ночью подъезжает к дому грузовик. Раздается оглушительный звонок, обитатели дома поспешно одеваются и осторожно отворяют дверь. Трое или четверо вооруженных людей спрашивают имя стоящего за дверью. Изнутри следует ответ. "Так и есть, – говорят вооруженные, – идемте с нами". "Боже Милостивый, куда же это?" – слышно из-за двери. "Так, пустяки, вас подозревают в занятии спекуляцией, вас требуют к следователю". – "Следует мне взять с собой что-нибудь, доказательство моей невиновности или вообще еще что-нибудь?" – "Ничего не надо, только вы не ломайтесь, через несколько часов будете дома!" На улице потревоженного от сна человека ожидает грузовик, на котором из сколоченных досок устроено закрытое помещение. Открывают дверку и арестованного вталкивают в темное помещение, откуда несутся ему навстречу визги, стоны, рыдания и мольбы... Вновь пришедшего окружают дрожащие фигуры. Грузовик тотчас снимается с места. Спустя немного времени грузовик снова останавливается на какой-то улице и опять, на этот раз после упорного сопротивления, вталкивают какого-то несчастного. Так повторяется несколько раз. Затем, после продолжительного, безостановочного переезда, грузовик, наконец, останавливается. Сидящие взаперти слышат извне громкие, повелительные голоса: их вооруженные спутники уже не говорят более шепотом, как в городе. Дверь отворяется. "Товарищ Петров, слезайте", – раздается грубый голос. Дрожащие, плачущие люди, запертые в грузовике, все сразу затихают и из рядов своих товарищей по несчастью с трудом, медленной, боязливой походкой протискивается маленький, слабенький человечек, с растерянным выражением на лице. Несчастный слезает. Кругом глубокий снег и сосновый лес. Всякий, хорошо знающий Москву, сразу узнал бы, что он находится в Сокольниках, в городском сосновом лесу... Недалеко отсюда протекает маленькая болотистая речка Яуза и пролегает дорога на Богородское. Маленький, слабый человек дрожит на морозе. Но не давая ему опомниться, товарища Петрова обхватывают несколько сальных рук и тащат его вглубь великолепного, блистающего серебристым инеем леса. В воздухе кружатся легкие снежинки и порой из-за туч выплывает полный месяц, обливая мертвым блеском снег и деревья. Совершенно как в сказке. Но для бедного товарища Петрова красота природы уже не существует. Он говорит тихим надорванным голосом: "Зачем же это, голубчики, что я вам сделал, ведь я ни в чем не виноват". С несчастного человека срывают его черное чиновничье пальто. "Оставьте, ради Бога" – умоляет несчастный, – "мне так холодно". "Смирно! Молчать!" – кричит на него красноармеец... Вслед за этим немедленно раздается выстрел. Товарищ Петров лежит на снегу с лицом, залитым кровью, и его холодеющие руки сводит предсмертная судорога. "Сейчас кончится", – невозмутимо говорит красноармеец другому, стоящему рядом, собиравшемуся спустить на лежащего второй заряд. Несколько секунд царит полная тишина. "Васильев!" – раздастся внезапно у двери грузовика и опять из этой колесницы смерти вылезает человек, который через несколько минут будет мертв. Так следуют один за другим, пока снег не окрасится кровью всех привезенных в грузовике. Когда со всеми покончено, убитых раздевают догола, платье и сапоги складывают в грузовик, а трупы поспешно зарывают. Это работа нелегкая при мерзлой земле, которую трудно раскапывать. Но закапывать глубоко и не требуется, надо же и собакам дать поживиться, да к тому же уже поздно, а в эту ночь предстоит еще вторая такая же работа...
Ночь. Заключенные в Чека спят тревожным, болезненным сном, который не дает отдыха. Вдруг отворяется дверь камеры и чекист с фонарем в руке громким, грубым голосом окрикивает: "Вставать, вещи собирать! Всех сейчас переводят в другую тюрьму. Во дворе построиться!" Все поспешно укладываются и выходят во двор. Среди двора стоит грузовик и несколько мотоциклеток. Арестованным – их счетом пятнадцать – приказывают построиться. "Тут, вдоль стенки, я буду вызывать поименно", – говорит чекист. Из темноты двора выступают пятнадцать служащих в Чека и каждый из них занимает место против одного из арестованных. "Ходу!" – громко командует комиссар и немедленно поднимается оглушительный шум. Комиссар подает знак, у каждого из чекистов блестит в руке револьвер, раздаются выстрелы, заглушаемые стуком машин. И затем сразу полная тишина...
Мертвых и полумертвых торопливо волочат по земле и сваливают один на другого на грузовик. Нагруженный автомобиль выезжает с тюремного двора, и трупы зарывают где-либо неподалеку за городом. К утру грузовик возвращается, весь обагренный кровью. Его тщательно моют и чистят для того, чтобы с первыми лучами восходящего солнца он, блестящий и чистый – как символ коммунистической чистоты, – мог выехать и развозить по городским улицам тюки прокламаций, предназначенных для советских подданных и вещающих о любви и взаимном уважении.
А вот другая картина. В главной тюрьме города Николаева в нижнем этаже устроен длинный, постоянно ярко освещенный переход, в боковых стенах которого нет ни одной двери, но проделаны небольшие отверстия, достаточные для того, чтобы вложить в них дуло револьвера. В одном конце перехода имеются двери в тюремный двор. В один прекрасный день одному из приговоренных, так называемому "контрреволюционеру" или так называемому "спекулянту", не знающему, что он приговорен к смерти, говорят: "Ступайте вниз во двор, вам позволено погулять полчаса". Заключенный, которому до сих пор еще ни разу не было дозволено выйти из камеры, радостно хватается за шапку и стремительно спускается в проход, чтобы выйти на тюремный двор. Никто его не сопровождает. "Слава Богу, наконец-то я один и без надзора", – думает бедняк, идя к переходу. А в это время в одно из стенных отверстий внимательно следят за каждым его шагом, и когда он достиг середины перехода он падает, сраженный в голову выстрелом из револьвера. Его товарищи по заключению не знают, что с ним сталось, и даже при самых мрачных предположениях никто из них не подозревает, что насильственная смерть постигла их сотоварища вблизи от них, в ярко освещенном коридоре. Завтра наступит такой же черед другому. Это называют большевики гуманным и заботливым отношением к заключенным.
В мае 1919 года, когда большевические войска были выгнаны из Латвии, в городе Вендене, знаменитом древними развалинами замка, построенного орденом немецких меченосцев в 1224 году, разыгралась следующая сцена в городской тюрьме. Враг был близко, красноармейцам было необходимо бежать и каким-нибудь способом вывести арестантов. Поезда шли переполненные бегущими на восток красноармейцами. Поместить арестованных в вагонах было невозможно. В числе сотни арестованных имелись и такие, которые уже были по суду оправданы... "Товарищи", недолго думая, просто решили расстрелять всех, и для того, чтобы это шло скорее, расстреливать по три-четыре человека зараз. Арестованных разбили по группам, первую из них вывели во двор и приставили к садовой стенке, имевшей около двух метров высоты. Когда осужденные, при виде револьверов у сопровождающих, поняли, что им угрожает, они в последнем отчаянном порыве энергии бросились к стенке, пытаясь чрез нее перелезть. Тут началась бойня, и один за другим, обливаясь кровью, падали со стены несчастные на землю, где их беспощадно приканчивали. Только одному из заключенных удалось перепрыгнуть стену и, несмотря на немедленное наряженное преследование, его не смогли поймать. После этого в продолжение всей ночи заключенных поодиночке выводили на двор и расстреляли всех до последнего. После каждого совершенного убийства латышские палачи кричали: "Следующему выходить, живо! К утру дом надо очистить, ремонт требуется". Большинство жертв большевических убийц были крестьяне и рабочие... Недаром советское правительство именуется рабоче-крестьянским правительством.
Вполне соглашаясь с автором этой статьи, что "большевический террор является широким разлитием той волны садизма, которая воодушевляет большинство комиссаров и их подчиненных", я нахожу, однако, несправедливым отождествлять этих комиссаров с русским народом, во-первых потому, что среди этих комиссаров были почти исключительно жиды, а во-вторых потому, что приемы, ими допускаемые, способны были бы превратить в зверей не только русских крестьян, но и наикультурнейших европейцев. Утверждение, что "большевики блестяще сумели разнуздать все тлетворные и преступные начала, дремавшие в душе русского народа", правильно, но следует оговориться, что эти начала присущи не только душе русского народа, но и всякой душе и, притом, даже безотносительно к уровню ее "образования", и если не выходят наружу, то только потому, что их насильно не пускает магическое – нельзя. Только святость искореняет зверя в человеке, глубоко притаившегося в недрах души, и сколько чекистов скрывается и под смиренными рясами монаха, и под блестящими золотыми мундирами, и под изящными смокингами и фраками, белыми галстуками и перчатками, сколько злобы и жестокосердия – под кроткими личиками миловидных барышень, порхающих как бабочки в своих газовых платьицах или кружащихся в вихре вальса в великосветских салонах, говорящих о цветах, а думающих о крови, о том, чего нельзя...
Традиции поколений, светское воспитание, обычаи, среда, образование – способны были только до некоторой степени запугивать зверя в человеке, но не укрощать, тем меньше убивать его. Убивала этого зверя только святость, а укрощала – власть, назначением которой являлась борьба со злом и служение добру. Там же, где власть бездействовала или ее назначением являлась борьба с добром и служение злу, там зверские начала, заложенные в природе человека, не только просыпались, но и культивировались.
Вот почему я думаю, что "садизм" явился не причиной, а результатом большевических приемов власти. Причиной же описанного нами массового озверения была безнаказанность преступлений, возведение их даже на высоту гражданского долга, отсутствие юридической ответственности, та именно свобода, о которой так громко кричали либералы, о которой "прогрессивная общественность" так болезненно тосковала.
Замените слово нельзя словом можно, и вы увидите, что все ужасы, творимые чекистами в России, побледнеют пред теми, какие наступят в самых культурных центрах Европы... Этот момент приближается, но Европа его не замечает.
– У нас, – гордо заявляет она, – это невозможно...
Посмотрим!
С какой бы стороны не рассматривались описанные нами ужасы, они будут всегда казаться не только зверством, но и зверством бессмысленным. И однако, они имели великий смысл для той таинственной организации, какая преследовала только одну цель – уничтожение всего образованного и культурного класса людей России, дабы исчез ее мозг, руководитель и выразитель ее идеалов и стремлений, дабы обескровленная и обессиленная Россия не служила бы помехой для дальнейших завоеваний жидовства, обрекавших на гибель всю христианскую культуру и подготовлявших наступление всемирного иудейского царства.
К этим целям жидовство стремится повсеместно, на протяжении веков, и большевичество в России является для всех знакомых с историей лишь коллективным натиском жидов, сосредоточенным на одном месте и приуроченным к одному моменту, и не составляет нового явления ни по своему содержанию и сущности, ни даже по своим формам.
ГЛАВА 33. г) ГПУ
"Пусть вымрет 90% русского народа, лишь бы осталось 10% к моменту всемирной революции", – эти слова Ленина являлись основной задачей советской власти в каких бы формах она ни проявлялась, под какими бы видами она ни скрывалась. Эта же задача еще более откровенно была подчеркнута Центральным Комитетом, где один из ораторов формулировал ее в таких выражениях: "Смерть буржуям мы должны осуществить на деле. Мы должны убивать не только некоторых представителей буржуазии, но должны раздавить весь буржуазный класс целиком во всей его массе."
Пришел, однако, час, когда даже столь грубо нечувствительная и преступно беспечная Европа в лице своих лучших людей встрепенулась от ужасов чрезвычайки, когда страшное слово "чека" стало колебать престиж советской власти за границей, и сквозь непроницаемые покровы советской лжи стали просвечиваться истинные контуры советского рая, смутившие даже заграничных коммунистов, и... тогда большевики торжественно оповестили не только об упразднении чека, но даже об отмене смертной казни. Чека превратилась в Государственное Политическое Управление, иначе в ГПУ, а смертная казнь была заменена "высшей мерой" наказания. Основанием для таких превращений выставлялись, во-первых, минование надобности в применении репрессий, ввиду того, что страсти уже улеглись и Россия вышла из состояния гражданской войны, и во-вторых, признание нового режима населением, начинавшим, якобы, привыкать к новым порядкам и постепенно освобождающимся из-под гипноза прежних предрассудков.
И в Европе действительно находились люди, которые верили этой наглой лжи, и не только сами верили, но и других убеждали в том, что если русский народ не свергает советской власти, значит ею доволен, значит она вполне соответствует "природе" и требованиям населения.
Процесс Конради и Полунина в Лозанне и бессмертная речь адвоката Обера, сорвавшие маску с советской власти в России, показали всему свету дьявольский лик этой власти, возведя убийство Воровского на высоту геройского подвига людей, пред которыми с величайшим уважением преклонились все честные люди, и однако Европа не только верит советской лжи, но и пользуется этой ложью, извлекая из нее свои выгоды. А между тем достаточно только развернуть советские газеты для того, чтобы убедиться, что скрывали за собой все эти замены и превращения, все эти переименования.
Советская "Правда" от 18 октября 1918 года восклицает: "Лозунг "вся власть Советам" должен быть заменен другим: "вся власть Чека". В той же газете от 17 декабря 1922 года Дзержинский пишет: "Чека была верным часовым революции. Ее бдительное око было повсюду. Явилась необходимость изменить нашу чрезвычайную организацию и было создано Г.П.У. Был сохранен тот же механизм, но только усовершенствованный..."
"Чека, – говорилось на IX съезде Советов 24 декабря 1921 года, это основа большевической власти, и если мы вышли победителями в борьбе с белыми армиями, то исключительно потому, что чека сделала невозможным восстание внутри."
"Если мы уничтожим чека, то власть советов сама подрубит сук, на котором она сидит", – говорилось на том же съезде.
Как это вяжется с "народными" ликованиями, приветствовавшими революцию, создавшую "по воле народа" столь долгожданное "рабоче-крестьянское правительство"!
Само собой разумеется, что переименованная в ГПУ чека сохранила все прежние функции, весь личный состав своего управления и изменила только вывеску.
"Меч, которым вооружили Чека, оказался в надежных руках, но буквы ГПУ настолько же страшны для наших врагов, как и буквы Ч.К.," – сказал Зиновьев (Апфельбаум), и он сказал правду, ибо ужасающий террор ни на минуту не прекращался и господствует в России теперь так же, как и в 1917 году, цинично откровенно, с той только разницей, что о нем не трубят в газетах. Но казни совершаются не только в ГПУ, в их подвалах, но и открыто, не только ночью, но и днем, а случаи бесследно исчезающих людей еще более участились, и судьба их остается никому неизвестной. Вот газетные вырезки за 1923 и за 1924 года, подтверждающие наши утверждения.
"Итальянский социалистический представитель Александри, недавно возвратившийся из России, опубликовал открытое письмо, в котором заявляет о том, что итальянские социалисты сильно грешат, когда проявляют свои симпатии к Советам. По его данным в России сейчас имеется не менее 60.000 политических осужденных. Ошибаются те, которые думают, что между этими осужденными преимущественно люди из общественных кругов, поддерживающих старый режим. Напротив, из осужденных 60% рабочие и только 25% представители аристократии и 15% представители интеллигенции.
Пытки в тюрьмах обычное дело. Многие заключенные помещены в ужасных подвалах без окон и без возможности проветриванья помещений. Между осужденными находится много социалистических вождей. Если тюрьмы переполнены настолько, что в них не могут быть помещены новые заключенные, тогда старые заключенные просто уничтожаются для того, чтобы освободить места для новых.
Больницы для умалишенных переполнены. Психические больные без всякой жалости предоставлены самим себе. Только от времени до времени туда заходит прислуга для того, чтобы выбросить трупы умерших от голода или убитых другими несчастными больными.
Смертные казни производятся с невероятным произволом. Недавно одна комиссия установила, что в течение прошлого года 22.518 политических преследуемых были самовольно убиты без какого бы то ни было суда.
Многие тысячи лиц, числящихся "на подозрении", умерли в страшных лагерях для интернируемых.
В народных массах господствует всеобщее возмущение против советских властителей. Несколько высоких советских лиц открыто заявили, что в России ежедневно уничтожается по несколько сот крестьян, вследствие бунтов и восстаний против советской власти.
Итальянского социалиста нельзя заподозрить в излишнем пристрастии к России, и его отношение к русскому народу может и не быть таким, которое уместно для славянина. Вот почему это открытое заявление итальянского деятеля, продиктованное естественной человечностью и, конечно, не исчерпывающее всей ужасной картины современной русской жизни, приобретает особое значение. Это заявление лишний раз подтверждает наше постоянное утверждение, что советская власть есть лишь шайка международных преступников, а Россия в их руках – великая тюрьма..." Н.Р. (Новое Время, 1 августа 1923 г., № 677).
"...Сейчас говорят, что в коммунистических верхах неладно: единство партии нарушено. Из Москвы передают: "Политическая атмосфера насыщена, раздоры в партии увеличиваются, в то время как в народных и рабочих массах нарастают настроения недовольства и открытого возмущения.
Центральный Комитет компартии выпустил симптоматическое воззвание в котором заявляет: "Нам придется пережить снова суровые дни. Мы должны серьезно подумать об обороне. Наша оборона это прежде всего дружность, дисциплинированность, стойкость рабочих рядов. Мы должны чрезвычайно внимательно следить за всем... Мы должны очень чутко прислушиваться к голосу рабочих масс и исправлять искривления и недостатки нашей политики. Экономический кризис давит на заработную плату. Но мы не должны допускать ее падения. Больше чем когда бы то ни было, необходимо преследовать: волокиту, чванство, бюрократизм, задирание носа и прочие болезни, которыми, к несчастью, болеет наш государственный аппарат. Необходима немедленная широко разъяснительная кампания о нашем внешнем и внутреннем положении. Внимание к массам – наш очередной партийный клич".
Вожди коминтерна, по-видимому, не постесняются еще раз отвлечь общественное внимание "опасностью извне".
И эта неуверенность не только в завтрашнем, но и сегодняшнем дне, более чем когда бы то ни было сейчас видна в их безумном терроре. Пытки, террор и расстрелы невинных людей в России не прекращались ни на минуту, и все разговоры о том, что большевики теперь уже не те, что их методы управления не так жестоки, как были раньше, все такие разговоры – бессовестная ложь, гнуснейшая провокация в пользу большевиков.
Из числа многочисленных случаев пыток и истязаний, относящихся к последнему времени, укажу на хорошо известное мне дело профессора Таганцева. Его перед расстрелом пытали тем, что не давали пить. Под конец он пил собственную мочу и впал в полубессознательное состояние, находясь в котором, оговорил массу ни в чем не повинных лиц. Так, по сведениям большевистской прессы, по его делу было расстреляно 64 человека, между тем точно известно, что в действительности было расстреляно 365 человек.
Расстрелы заключенных в петербургских тюрьмах производятся теперь под Петербургом на артиллерийском полигоне. Всех обреченных на смерть мужчин и женщин, в какой бы тюрьме они ни сидели, перед расстрелом переводят в бывшую женскую тюрьму на Выборгской стороне. Там имеется особый этаж, так называемая "галерея смертников". Время пребывания таковых в этой галерее различно: некоторых сейчас же расстреливают, другие сидят месяцами и даже годами. Положение обреченных ужасное: очень часто на теле ничего, кроме вшивой шинели, нет; голод неописуем.
Когда говорят о том, что большевистский строй ужасен и гнусен, то испытываешь какое-то неловкое чувство, точно говоришь азбучные истины, которые всем известны и в доказательствах не нуждаются. Однако сколько есть на свете людей, искренно верящих советским заверениям, пышным декларациям, амнистиям и прочей бумажной "эволюции"!" (Там же, 21 декабря 1923 года, № 798).
"По словам иностранца, прибывшего на днях в Варшаву, во всех больших городах (Москва, Петербург, Харьков, Ростов-на-Дону и др.), в которых ему пришлось побывать, царит чрезвычайно напряженная и тяжелая атмосфера. Над всеми проявлениями жизни, над всеми ее областями царит невидимое, но вездесущее и грозное ГПУ. Это учреждение разрослось, распухло до невероятных размеров, и нити его связей пронизывают толщу населения по всем направлениям. Буквально нельзя никогда знать, разговариваешь с человеком или имеешь дело с агентом ГПУ. Этой колоссальной организации нужно себя оправдать и обеспечить, а поэтому, ввиду общей забитости и подавленности населения, делающей весьма редкими всякие случаи действительных заговоров и злоумышлений, ГПУ приходится или провоцировать – создавать таковые, или же вспоминать старые, давно забытые "грехи", вроде взятки, данной 4-5 лет тому назад и тому подобное. Так как в ненормальных условиях советского существования подобные "проступки" числятся решительно за всеми, то, естественно, все опасаются за свою участь и ждут расправы. В особенности это угрожает всем мало-мальски состоятельным людям. В подобных условиях всякая общественная и даже коммерческая деятельность становится абсолютно немыслимой. Промышленная и коммерческая жизнь прозябает. Все толки большевиков о расцвете промышленности – блеф, рассчитанный на незнакомство иностранцев с истинным положением вещей. Отремонтировав один станок какого-либо ими же вконец разрушенного завода, большевики поднимают вокруг этого события такой гвалт, как будто бы они построили заново целый завод, умалчивая о целом кладбище фабрик, какое представляют собой ныне промышленные центры России. Надо заметить, что даже об Эрмитаже и Исаакиевском соборе, даже о Черном море и Уральских горах большевическая пресса пишет в таком тоне, как будто они изобретены, построены и сделаны большевиками и до них и без них не существовали." (Новое Время, 16 марта 1924 г., № 867).
После всего описанного было бы даже странным делать попытку исчислять количество казненных. Совершенно очевидно, что такое количество нужно исчислять не десятками или сотнями тысяч, а миллионами. Если трупами казненных кормили диких зверей в зоологических садах, если, несмотря на это, они валялись на улицах и площадях в таком количестве, что потребовалось даже специальное распоряжение об убийстве собак, которые, "попробовав человеческого мяса, становились опасными", если, наконец, это мясо стало продаваться на рынках и развилось людоедство, то можно себе нарисовать цифру жертв чудовищной чрезвычайки... А сколько людей кончило жизнь самоубийством, сколько миллионов погибло от голода и болезней, этим голодом вызванных, от нравственных пыток и терзаний?! Сделать такой подсчет очевидно невозможно.
Но я и не задаюсь этой целью... Моя задача иная. Я желаю доказать, что "рабоче-крестьянское" правительство Советской России стремилось уничтожить рабочих и крестьян так же, как и буржуазный класс населения, ибо его целью было – истребление русского народа, как главнейшего оплота христианской культуры. И хотя моя задача еще не исчерпана, ибо в дальнейшем будут приведены еще новые доказательства этого положения, но я надеюсь, что и собранного материала достаточно для того, чтобы признать мои выводы обоснованными.
ГЛАВА 34. II. Голод и его причины
Другим способом истребления христианского населения России был искусственно вызываемый мерами советской власти голод, разросшийся до размеров небывалого стихийного бедствия, погубившего десятки миллионов людей.
Ссылки большевиков на неурожаи столь же бессовестны, как и все прочее, исходящее от советской власти. Голод был вызван умышленно и это видно из того, что население вымирало от голода в наиболее цветущих и плодороднейших губерниях, и тем сильнее, чем выше были урожаи. И это потому, что чем выше были урожаи, тем сильнее советская власть грабила население, лишая его даже семян на осеменение полей.
Вызван был голод следующими причинами:
1) истреблением помещиков и уничтожением крупного землевладения;
2) социализацией земли и непомерными налогами, что сразу же сократило посевную площадь более чем наполовину;
3) открытым грабежом хлеба путем насильственного захвата его для нужд красной армии, что вызвало повсеместно массовые восстания, подавляемые самыми беспощадными мерами и сплошным избиением беззащитного и голодного населения;
4) вывозом хлеба за границу в количестве, обрекавшем население на голодную смерть.
В числе способов, применявшихся советской властью для истребления русского народа, голод играл, таким образом, ту же роль, что и чека и карательные отряды, тюрьмы и больницы, где под разными видами производилось все то же избиение населения.
В дальнейшем я остановлюсь на каждой из указанных мною причин голода подробнее, пока же хочу обратить внимание на ту исключительно огромную государственную роль, какую в земледельческой России играло крупное землевладение и какую даже русское царское правительство, состоявшее большей частью из чиновников, не учитывало в должной мере. Странно, что даже в дореволюционной России сословие помещиков, этой единственной опоры государственности на местах, было гонимо и постепенно обрекалось на вымирание под влиянием модных теорий о предпочтительности общинного землевладения и тенденций к развитию мелкого землевладения. Сотни тысяч десятин земли переходили ежегодно в крестьянские руки параллельно с разорением помещиков и уходом их в города, где они превращались в чиновников, ослабляя земледельческую мощь России. Между тем снабжение городов и экспорт производился не крестьянами, владевшими в общей сложности тремя четвертями всей земельной площади России, а помещиками, владевшими только одной четвертью. Не только благосостояние России, но и всей Европы находилось в зависимости от культурного состояния помещичьих хозяйств, и с уничтожением последних голод являлся неизбежным. Для восстановления России и экономического равновесия Европы нужно не закрепление за крестьянами захваченных ими помещичьих земель, не узаконение грабежа, а восстановление крупного землевладения. Таковое немыслимо без широкой государственной помощи земледелию, без образования земледельческих союзов и обществ, без мелиорации, словом без культурного элемента в деревне, способного войти в связь с Америкой и Западной Европой и пользоваться их кредитами. Жиды прекрасно учитывали роль помещиков в России и, уничтожая их, знали, зачем это делали.
Вот несколько картин, ставших возможными в России с воцарением жидовской власти.
"В связи с наступившим голодом, население в наиболее неблагополучных Приволжских губерниях целыми толпами подымается и движется в менее голодные области. Для воспрепятствования продвижению голодающих высылаются советские отряды, но зачастую они отказываются от выполнения возлагаемой на них задачи... По сведениям московской "Правды" за № 137, – голодающих насчитывают до 25 миллионов... Безнадежное состояние железнодорожного и гужевого путей в России очень затрудняют задачу борьбы с голодом..." (Еженедельник Высшего Монархического Совета, № 1, 14 августа 1921 г.)
"Самарский Исполком обратился к крестьянам с воззванием. Указав, что голод является последствием присущих краю периодических засух, воззвание дает целый ряд советов крестьянам. Интересно отметить § 3: "Приостановить переселение коренных жителей куда глаза глядят, надо на месте пережить трудное время", § 4: "Приостановить поездки отдельных лиц за продовольствием. Тысячами едут, везут свое имущество на продажу, мытарствуют и распродают свое имущество за бесценок, запружают железные дороги". § 5: "Помочь власти уничтожить бандитов, коими с марта месяца разграблено до миллиона пудов хлеба..." (Там же, № 2, от 21 авг. 1921 г.)
"Lokal Anzeiger" печатает выдержки из письма немца, поволжского колониста, рисующие картину страшного голода. "Мы съели последних своих собак, кошек и крыс. Мы питаемся падалью убитой в прошлом году скотины. В нашей деревне ежедневно умирает 5-6 человек. Если вы нам не поможете, мы все перемрем..." (Там же, № 3, от 28 августа 1921 г.)
"В районе Старого Оскола произошло кровавое побоище между местными крестьянами и крестьянами, прибывшими из голодных губерний..." (Там же, № 5, от 11 сентября 1923 г.)
"Волна голодных крестьян уже докатилась до Москвы... вид у людей ужасный: впалые щеки, темный цвет лица, ввалившиеся глаза и страшная худоба тела. Особенно ужасен вид детей: это живые мертвецы... по всем дорогам видны группы (семейства) еле плетущихся, каких-то полуживых людей. Одежда – лохмотья... В Советской России организуются специальные отряды для вооруженной борьбы с толпами голодных, двигающихся на Москву. Отряды эти достигают 50 000 человек." (Там же.)
"Письма из России говорят о все растущем голоде в Поволжье. На улице часто целыми днями лежат распухшие трупы умерших от голода людей, в лучшем случае, они к вечеру убираются. Очевидец описывает душераздирающую сцену, происходящую на одном из волжских пароходов: сумасшедшая мать, утопив трех своих детей, металась по пароходу, проклиная большевиков и угрожая им кулаками, пока не была арестована местной "чека''. Там же, № 7, от 25 сентября 1923 г.)
"Советские издания изредка сообщают о смертных случаях от голода. В Бугуруслане Самарской губ. "на почве голода" заболело 613 человек, из коих умерло 355 человек; в селе Старицком Красноармейского уезда Царицинской губ. умерло 31 человек." (Петроградская Правда от 24 сентября.)
"В Балашове 4500 маленьких детей умирает в три недели... У киргизов 2 миллиона голодающих. Матери, доведенные голодом до отчаяния убивают своих детей, пожирая их трупы..."
"Опозоривший свое имя дружбой с советской властью Фритьоф Нансен, сведения которого уж никак не могут быть преувеличенными, сообщает в своем докладе, что "голод захватил 19 000 000 человек, из которых 15 миллионов приговорены к голодной смерти. В Самарской губ. были арестованы две женщины, которые убили старых бродяг и съели их мясо. В Пугачевском уезде дошли до того, что жарили трупы, вырытые с кладбища. В одной деревне мать раздала своим трем дочерям труп своей старшей дочери, умершей от голода. В Минске были случаи, что матери убивали собственных детей, чтобы избавить их от мук голода. В Новороссийске одна мать утопила своих детей. В Башкирской республике едят конский помет. В Симбирске крестьяне собирают болотные водоросли и едят их, перемешивая с навозом."
"Из Гельсингфорса сообщают об анархии, царящей в Поволжском районе. Советская власть не торопится с эвакуацией голодных. Толпы голодных продолжают бродить из одной местности в другую, объединяясь иногда в более значительные группы. Комиссар по эвакуации Сафронов ловко устроил вблизи Симбирска столкновение двух таких групп, в результате чего было много убитых и раненых. Под конец появились красноармейцы и нагайками разогнали обессиленных и голодных людей."
"В Петрограде отмечают наплыв беженцев из голодных губерний. Вот что по этому поводу говорится в том же письме: "Теперь в наш дом нагнали массу беженцев из голодных губерний. Что это за ужас. Это скелеты, обтянутые кожей – до того они истощены и грязны. Карета и автомобиль скорой помощи приезжают к нам по пяти и больше раз в день, увозя больных и мертвых. Они мрут от дизентерии, холеры, а чаще от того, что набрасываются на хлеб и с голодухи объедаются. Паразитов снимают с себя чуть не горстями, тут же, среди двора, снимая рубахи. Мы все боимся зимой сыпняка. Ужаснее всего, что в нашем доме их долго не оставляют, а распределяют куда-то, а к нам прибывают все новые и новые партии с новой грязью и новыми тучами паразитов..." (Там же, № 11, от 23 октября 1921 г.)
"B Праге получены известия из Советской России о колоссальном росте преступности на почве голода. За последние два месяца было арестовано и предано революционному трибуналу 25 000 человек, из которых 22% совершили преступления в погоне за продовольствием, прочие судились за пропаганду, участие в восстаниях и прочие политические преступления." (Там же, № 12, от 30 октября 1921 г.)
"Население Сибири отказывается принять к себе голодающих из средней полосы России и Поволжья. В Челябинске сосредоточено до 50 000 голодающих детей..."
"По словам капитана шведского парохода, прибывшего из Петрограда, в городе находится 100 000 беженцев из голодных местностей." (Там же, № 13 от 6 ноября 1921 г.)
"Владивостокские газеты сообщают, что на Амуре обозначился голод. Богатейший и хлебороднейший край стоит перед призраком подлинного голода. По большевическим подсчетам, краю до нового урожая не хватит слишком 1 850 000 пудов хлеба." (Там же, № 16, от 14 ноября 1921 г.)
"Советское РОСТА сообщает, что в Пермской губ., еще в прошлом году давшей миллионы пудов хлеба, теперь голодает свыше 150 000 человек. В Николаевской губ. голодает более 55 000 детей." (Там же, № 17, от 21 ноября 1921 года.)
"Бежавшие из Поволжья рассказывают, что в голодных местностях власти принуждены охранять кладбища, чтобы прекратить раскапывание свежих могил, производимое голодающими в поисках пропитания..."
"Большевический "Новый Мир" сообщает: "По последним сведениям, голодные бедствия в Одесской губернии не уступают голоду в Приволжье. Зарегистрированы случаи самоубийства на почве голода..." (Там же, № 20, от 12 декабря 1921 г.)
"По сведениям из России, на почве голода сильно развились эпидемии сыпного и брюшного тифов... "Правда" и "Известия" помещают сообщения об ужасах голода, – многие деревни вымерли окончательно... Истощенные организмы не в силах бороться с болезнями, отчего % смертности увеличивается с каждым днем... По советским источникам, детская смертность в "городке Маркса" дошла до 35 человек ежедневно." (Там же, № 25, от 9 янв. 1922 г.)
"Голод на Украине принимает все более угрожающие размеры. Он начинает охватывать даже Полтавскую губ., где урожай был удовлетворительный. В Новороженской волости Константиноградского уезда насчитывается до 3000 голодающих, 17 человек умерло с голоду. В Гришинском уезде Донской области на 1 января записано 6000 голодных, большинство из них дети. В трех волостях этого уезда зарегистрировано 217 случаев смерти от голода. От последствий голода заболело 720 человек. Население питается суррогатами, смешанными с глиной.
В Одессе свирепствует голод. Почти каждый день на улицах наблюдаются случаи смерти от истощения. В Кляровской волости Днепровского уезда население доведено до отчаяния – жители питаются кошками, собаками, морскими отбросами, кожами. В Запорожской губ. наблюдается массовое бегство в урожайные губернии. Газета "Красный Николаев" сообщает, что по всем станциям от Харькова до Николаева слышны душераздирающие крики голодных детей. Обезображенные голодом, с тонкими ручками и ножками, с большими отвислыми животами, дети эти бродят по деревням в поисках пропитания. Подбирают всякие отбросы и вырывают друг от друга кусок хлеба, случайно найденный или данный им. Матери подбрасывают своих детей; детские дома не в состоянии часто принять голодного ребенка вследствие отсутствия места и возможности их пропитать. "Правда" (№ 28) сообщает некоторые сведения о положении крестьян в районе Николаева. Голодающих зарегистрировано до 500 000, замечается повальный падеж скота от бескормицы. По сведениям губземотдела, к весне на каждые 100-120 десятин придется по одной лошади..." (Там же, № 29, от 13 февраля 1922 г.)
"Известия, получаемые из голодающих районов России, рисуют картины, полные ужаса. Длительная голодовка, наравне с дикой, непримиримой ненавистью к виновникам этих несчастий – социалистам, доводит некоторых крестьян до полной апатии, равнодушия и покорности пред судьбой. Прибывшие из России вместе с Нансеном его сотрудники рассказывают, что ими наблюдались следующие случаи. В одной деревне они видели, как крестьяне, одевшись в чистое белье, забирались на печку и, укрывшись шубами, лежали в полном безмолвии. На вопрос, что они делают, получался ответ: "Есть больше нечего, жить все равно осталось один день, смерти ждем". Часты случаи, что целые семьи вымоются в бане, пустят угар и с молитвой к Богу медленно умирают. Ужаснее всего то, что на будущий год нужно ожидать еще худшего голода, который охватит уже не местность, населенную 30-ю миллионами, а пол-России. Москва, "сердце России", – представляет из себя позорную и жалкую картину. В жизни города две стороны, совершенно противоположные одна другой. В то время как одна часть населения роскошествует, пьянствует и развратничает, другая постепенно вымирает, занятая лишь вопросом раздобывания хлеба насущного, не интересуясь окружающим, живя лишь изо дня в день." (Там же.)
"Из одного из окраинных государств нами получено письмо, выпукло рисующее изменение в настроении, происшедшее в среде крестьян со времени революции. "Недавно я встретился с старым другом, которого не видел с времени злосчастной революции. Помещик N-ской губернии, он всю свою жизнь провел, работая в своем имении и весной 1917 года, во время нашей последней встречи, уехал к себе, убежденный, что крестьяне, памятуя его отличное к ним отношение и постоянную помощь, дадут ему возможность заняться хозяйством. Ему рисовались даже возможности, пользуясь своим влиянием, продолжать руководить жизнью ближайших деревень и этим оградить их от тлетворного влияния революционного угара. Лето 1917 года прошло более или менее благополучно; осенью вызванные преступными действиями и пропагандой Временного Правительства погромы докатились и до местности, в которой находилось имение моего приятеля. Однажды толпа пьяных парней и девок, из которых большинство было ему многим обязано, наполнила двор усадьбы. Пожилых крестьян среди них почти не было. Начался бессмысленный разгром всего хозяйства, уничтожалось все бесцельно и нелепо: перебили кур, перерезали мелкий скот, испортили машины, растащили мебель из дома. Моего друга вперемешку с пьяной, богохульной и омерзительной руганью называли "кровопийцей", "извергом", "буржуем" и прочими словами, почерпнутыми из неиссякаемого и смрадного "демократического" лексикона. Мой друг бежал, но связь его с имением порвалась не сразу, он долго еще получал письма, рисующие шаг за шагом гибель и разорение культуры, с таким трудом насажденной им. Сначала разобрали хозяйственные строения, "кирпичи, мол, понадобились", порубили опытную посадку сосен, наконец сожгли и самый дом, сожгли так, "из озорства", парни. Потом письма прекратились: писание писем бывшему барину было рассмотрено "властью на местах" как контрреволюционный поступок, писавшим стали угрожать арестом. В прошлом году мой приятель узнал, что можно писать в Россию и написал своему родственнику, проживающему в городе вблизи его имения. Ответы рисовали ужас жизни в России и вполне подтвердили сведения, доходившие до нас за последнее время. Даже за большие деньги в городах нельзя ничего достать, приходится ездить по деревням. И вот родственник моего друга решил поехать к священнику того села, близ которого находилось его имение. По приезде к батюшке он был принят как родной. Батюшка раньше был из передовых, но революция и события последующего времени сильно изменили его воззрения. Крестьяне, узнав о приезде городского гостя, повалили гурьбой побеседовать с приезжим. Начались подробные расспросы о том, как и где живет владелец усадьбы, вспоминали с сожалением, а многие и со слезами, прежнее, хулили настоящее и робко и осторожно высказывали свои затаенные надежды на лучшие времена. Просили написать моему другу или дать его адрес, – "сами напишем", чтобы просить его вернуться, "корову дадим и лошадь", кое-какую обстановку его до сих пор сохраняем; устроим его как нельзя лучше. И как это нечистый нас попутал, такой грех совершили, ограбили такого доброго человека!"
Приезжему принесли деревенских гостинцев. Хотя губерния считается урожайной, но и там положение далеко не удовлетворительное. Хлеб печется по такой раскладке: на 1 пуд молотой лебеды добавляют 6-8 фунтов ржаной луки. Понемногу привыкли к такой пище, только думают о том, как бы такого хлеба хватило до нового урожая. Но будущий год не сулит ничего хорошего; погода была теплая до декабря, а на Рождество хватил мороз без снега, поля запущены, не паханы: некому и нечем пахать, плуги испорчены, а починить их нельзя. Из Поволжья приходят еле живые, истощенные голодом люди, умирают от слабости, разнося, по еще не зараженным местам, эпидемии тифов, приводя в ужас своими рассказами крестьянские умы. А рассказы действительно ужасны: в Самарской губ. ежедневно от голода умирают до 1000 человек; крыс, собак, кошек уже съели, падаль идет в открытую продажу и цены на нее растут с каждым днем; за последние два года развелось неимоверное количество волков, которые обнаглели до того, что бросаются на людей; недавно в одном из уездов Средней России ими было растерзано 5 человек крестьян с лошадьми.
Большевики пытались образовать государственную охоту, разыскивают борзых собак, сам Бронштейн выезжал на охоту (о, умилительное зрелище!), крестьяне соседних деревень были согнаны как загонщики, но все это не помогает.
Настроение крестьян нервное и в то же время приниженное, они поняли многие свои заблуждения, но поздно и тяжко искупают все содеянное ими."
"Крым постигнул сильный неурожай. Согласно большевицким подсчетам на полуострове голодает около 300 000 взрослых и 130 000 детей. Фунт хлеба в Алупке стоит 160 000 рублей. На улицах Севастополя, Симферополя и Евпатории валяются трупы брошенных матерями детей." (Там же, № 31, от 27 февраля 1922 г.)
"Приехавший недавно из Петрограда доктор Б. рассказывает следующий эпизод. Однажды хозяйка квартиры, в которой он жил, заявила ему, что она не сможет его накормить и вместо ответа на его вопрос, отчего он в этот день должен остаться без обеда, повела его на кухню и показала на столе часть человеческой ноги. Возмущенный доктор взял с собой этот кусок "мяса" и пошел в лавку, из которой оно было получено. В лавке он получил ответ, что в этот день мясо получено из чрезвычайки (чека) и все того же сорта. В комиссариате, куда он отправился, доктору выражали сочувствие, возмущались, но сказали, что ничего сделать не могут. Б. не успокоился и пошел в чрезвычайку, там его заявление было тоже встречено "сочувственно", но отговаривались тем, что ничего сделать не могут. Когда же доктор заявил, что пойдет в исполком и опубликует об этом в газетах, чекисты, выслушав его речь, тоже "сочувственно" сказали ему: в исполком вы, конечно, пойдите и вообще ваши заявления можете делать где хотите, но в газетах об этом печатать не советуем. Имейте в виду, что через два дня после появления вашей заметки в печати, ваша нога будет лежать на том же прилавке..." (Там же, № 34, от 20 марта 1922 г.)
"По полученным сведениям, голод медленно, но верно распространяется по России. Как нами уже cообщалось, Украина уже им охвачена. По только что полученным сообщениям, угроза голода докатилась до Омска. Недовольство на почве голода растет, вспыхивают повсеместно восстания... Обыватель задавлен налогами. В Туле за ведро воды, почерпнутое из общественного колодца, платят городу 1000 рублей. Цены на освещение колоссальные, за три лампочки в месяц платят 750 000 рублей. И так во всем. На Волге людоедство принимает повальные размеры, власти этого более не скрывают. Организованы даже специальные отряды для закапывания трупов и охраны кладбищ." (Там же, № 37, от 17 апреля 1922 г.)
"Ввиду крайнего интереса приводим ниже сообщение проф. Меридит Аткинсон, ездившего вместе с сэром В.Робертсон в Россию, как представитель Австралийского Комитета помощи детям. Профессор посетил многие деревни и говорит, что положение в голодающих районах настолько ужасно, что оценка его не может быть преувеличена. Расследование положения в деревнях привело профессора к убеждению, что главной причиной голода является реквизиция хлеба в деревнях, произведенная советами в 1920 году, результатом чего явился преднамеренный недосев крестьянами своей земли в 1921 году, который в соединении с сильной засухой прошлого лета и дал ужасный голод, ныне переживаемый Россией. "Я убедился, – говорит профессор, – что сведения о том, что нашествие армий Деникина, Колчака и Врангеля опустошили крестьянские посевы – неверны." ...Далее профессор говорит, что он никогда не решится назвать деревни, в которых ему удалось собрать эти сведения, из страха, что его собеседники могут там подвергнуться преследованию, "одному Богу известно, что бы могли сделать с этими невинными, вероятнее всего, их убьют, – и добавил, – ведь люди убиваются там за кражу пищи". Оценивая работу властей по делу помощи голодающим, проф. Аткинсон считает необходимым отметить, что в связи с полной разрухой "среди администрации царит страшное бездействие и незнание, кажущиеся ужасающими перед лицом всех ужасов момента". Обрисовывая царящую в России разруху, профессор говорит: "Мне лично приходилось пять раз ездить на станцию, чтобы поймать поезд из Москвы в Саратов, только для того, чтобы убедиться, что никакого поезда нет". "Совершенно нельзя быть уверенным в том, что самые простые вещи будут сделаны, ввиду отсутствия связи между различными государственными учреждениями и неисправимой привычки давать обещания, которые исполнены быть не могут". Под конец проф. Аткинсон дает картины ужасов голода: "Я видел горы трупов на подоконниках ж.д. станций, на дорогах от одной деревни к другой валяются трупы умерших в пути". "Я видел неопровержимые доказательства людоедства. Трупы, брошенные в снег и не погребенные, ночью украдывались для пищи. Отцы и дети убивали друг друга. Один человек убил свою жену и замариновал ее в бочке. Я могу ручаться за правильность этих фактов." (Там же, № 38, от 24 апреля 1922 г.)
Бывший верховный комиссар по голоду в Индии Робертсон, посетивший районы Волги в 1922 году, пишет: "Страна была совершенно опустошена реквизициями, хлеб исчез окончательно. В одной деревне возле Саратова из 400 лошадей осталось всего 22 и из 300 коров – только 40. Три причины привели к голоду: отсутствие хлебных запасов, разрушение торговли, плохое состояние железных дорог, три причины, ложащиеся всецело на ответственность диктаторов".
Многие проживающие за границей русские и поголовно все иностранцы не имеют никакого представления о тех ужасах, которые творятся в России. Печатаем ниже письмо, приподнимающее хоть отчасти завесу над той трагедией, которую переживает русский народ, стиснутый в цепких лапах социалистов. Письмо помечено 18-V, отправлено из Москвы.
"Вчера были (по случаю имянин Тани) все родные. Жена Пети рассказывала, как в семье их знакомых Ш. отправили барышню лет 16-ти к родным в Саратовскую губ. отвезти продукты и спустя две недели пришла телеграмма: "Лелечку съели".
Валя (дочь помощн. завед. одним детским домом) передавала рассказы детей, прибывших из Казани, о том, как татары ловили по дорогам проезжающих арканами и ели.
Прибывшие из голодных мест сообщают, что людоедство настолько заразительно, что люди перестали даже искать другой пищи, предпочитают "человечину". С мест запрашивают Москву, что делать с пойманными людоедами, держать ли их в тюрьмах, расстреливать, или же выпускать на свободу; число таких преступников огромно и увеличивается с каждым днем. Со слов знакомого доктора знаю, что в провинции съели доктора, сиделку и санитара. Другой доктор, бывший довольно толстым, не выдержал и сбежал из Поволжья: "Чувствую, – говорил он, – что меня хотят съесть, заманивают, как-то особенно ласково смотрят и т.д. Вот, дорогой мой, тема для психологического исследования, – ощущения человека, которого хотят съесть".
Вчера Катя очень сочно, как умеют рассказывать только старые да бывалые люди, передавала нам следующее (это не басня, знает она это от верных людей): "Один мелкий торговец собрал мучицы, крупицы, сахарку да чаю и поехал к брату в деревню в Самарскую губернию. На станции спрашивает у знакомых мужиков: "Как брат?" – "Да ничего, только ты туда не езжай". Он все же поехал. Встречает его брат, равнодушно берет продукты и все его щупает: "А ты, брат, жирный". "Ну, а где дети твои?" – "Да под полом!" – "А жена?" – "И жена там". Вылезла жена и первым делом пощупала приезжего: "А ты жирный", – говорит. К окну собралось человек 10 крестьян, смотрят на приезжего.
"Коли хочешь посмотреть детей, полезай под пол!" – "Да ты их сюда приведи!" – "Нет они у нас там и живут. Полезай ты первым". Приезжий ни за что – страшно вдруг стало. Наконец уговорил он хозяина первым в подвал спуститься, а лишь тот сошел, захлопнул за ним крышку погреба и в дверь. Выскочил из избы, а тут его давай хватать, ловить – караулили значит. К счастью, все они как мухи, пихнешь – с ног валятся, отбился и скорей на вокзал". Этот рассказ произвел на нас всех страшное и удручающее впечатление, есть с чего испугаться. Собака собачины не ест, а тут брата, собственных детей – ужас!"...
По сообщению из иностранных источников в Крыму более 60 000 человек умерли от голоду, из них 60% детей. Трупы их съедены голодающими. Те же источники приносят известие, почерпнутое из "Красной газеты", о расстреле "из человеколюбия и санитарных целей" 100 детей, заболевших сапом от употребления мяса, зараженных этой болезнью лошадей..." (Там же, № 44, от 5 июня 1922 г.)
О том, каковы санитарные условия в России, можно судить по нижеследующему краткому отчету одного из провинциальных санитарных управлений за время только с 15 по 31 июля 1922 года: "Количество заболеваний холерой – 1445, чумой – 19, сыпным тифом – 7695, брюшным тифом 2358, менингитом – 237, сапом – 34. Особенно усиливается холера, так, за 27 число заболело 976 человек". (Там же, № 53, от 21 авг. 1922 г.)
"На почве все разрастающегося голода наблюдаются ужасающие картины людоедства. На рынках каждый день происходят кровавые расправы с голодными ворами. Вора, стащившего с лотка кусок хлеба или сырого мяса, бьют палками, ножами, чем попало. Истекая кровью, задыхаясь, умирающий до последнего издыхания продолжает жевать, защищая стащенный кусок от толпы. Драки из-за оброненной корки хлеба, даже крошки, вещь вполне обыденная. На почве голода совершаются невероятные преступления, забыты все законы Божеские и человеческие.
Сообщается, что в крупных городах юга России власти принуждены были установить охрану базаров, которые часто подвергались разграблению толпами голодных горожан. Мера эта отчасти предохранила торгующих от нападения голодающих, но случаи нападения на рынки остаются явлением вполне обыденным.
Правительство не только бессильно бороться с все разрастающимся бедствием, но, наоборот, узаконивает многие уродливые и преступные проявления действительности. Так, согласно последнему декрету, на Поволжье, людоедство перестало быть наказуемым. Заготовки солонины из человеческого мяса стали там обыденным явлением..." (Там же, № 46, от 19 июня 1922 г.)
"В Крыму положение ухудшается с каждым днем... Особенно жалко существование местного татарского населения, которое буквально вымирает от болезней и длительного недоедания. Прибывшие из Севастополя сообщают о том, что случаи смерти от истощения на улице достигли чудовищного числа. Поля не засеяны, запасы хлеба и даже семена все съедены, съеден весь скот, прибывающие же изредка продовольственные грузы разграбляются конвойными, грузчиками или же жителями." (Там же, № 47, от 3 июля 1922 г.)
"В Крыму в течение одного месяца умерла от голода десятая часть населения." (Там же, № 51, от 31 июля 1922 г.)
"В Одессе сильно развиты эпидемии холеры и тифа. Умирает человек по 500 в день. Трупы умерших выносятся на улицы, где и лежат впредь до уборки. Иногда лежат по нескольку дней. Так, сообщающий сам видел труп женщины, ноги которой объедались собаками. Мертвых с улиц собирают крючьями за шею и сваливают на подводы, которые отвозят за город и затем трупы зарываются в общие ямы..." (Там же, № 59, от 2 октября 1922 г.)
С июня 1922 года сведения об ужасах голода перестали поступать, ибо советское правительство, ссылаясь на блестящий урожай, оповестило, что голод окончательно ликвидирован. В действительности же причины "ликвидации" были иные. "В поисках за доходами советы решили продать за границу весь запас зерна, который им удается оружием выколотить у крестьянина. Но заграница на просьбу об авансах отвечала, что затруднительно дать деньги под закупку продовольствия в России, когда в стране царит голод и людоедство. Немедленно же постановлением ВЦИКа (Всероссийской Центральной Исполнительной Комиссии) голод был ликвидирован..." (Там же, № 57, от 18 сентября 1922 г.)
"Советские деньги продолжают падать, так что цены такие: фунт говядины – 7-8 миллионов, ф. масла – 16-20 милл., ф. творогу – 5-6 милл., бутылка молока – 4 милл., 10 яиц – 7-8 милл. Как видите, расход одного дня достигает цифр астрономических. Помните, экономисты бывало пишут, что есть предел падению денег, за которым государство рушится, а вот большевические жиды доказали, что их организация может существовать вопреки всем ученым выкладкам и соображениям. Я всегда придавал мало значения так называемой экономической науке, а сейчас, на примере большевиков, еще более вскрылась ее несостоятельность. Для воли Божией не существует экономических законов, и прегрешения человечества влекут за собой совершенно новые комбинации естественных и экономических явлений. Бог и нравственный закон управляют судьбами людей, а не экономика. Большевическая жидовская организация явилась тем бичом, который Бог послал покарать отступивший от веры русский народ. Русская чернь в последние годы перед революцией с каким-то остервенением потрясала воздух сыпавшимися из се уст кощунствами и матерной бранью, и эта хула на Духа ей не простилась. Смотрите, какой мор прошел по русской земле, а будущее еще мрачнее. В газетах уже пишут: "На Украине распространение сусликов принимает грозные размеры. Сусликами охвачена площадь в 3 500 000 десятин. На каждую десятину приходится от 200 до 300 пар сусликов; некоторым районам вследствие этого грозит опасность почти полной гибели урожая. Наиболее поражены Полтавская и Херсонская губернии". Я знаю, что это значит. В моем детстве, более пятидесяти лет тому назад, я видел между селами Савинцами, Чевельгой и Богодуховкой, на границе Лубенского и Золотоношского уездов, степь, захваченную сусликами. На огромном пространстве у нор стояли на задних лапках зверьки и громко посвистывали. Все посевы кругом были съедены. Суслики человеку не оставляют ничего; они – грозный признак полного падения разумной деятельности земледельца и показатель наступления пустыни. Вот отмщение мужикам за изгнание от себя всего культурного слоя землевладельцев. Далее газета пишет: "Кроме сусликов сильно распространена головня, которой особенно поражены Черниговская и Харьковская губернии. Всего ею поражено 35% всех хлебных посевов на Украине". Помните библейские слова: "Пошлю на вас зверей полевых... поражу ржавчиной (головня)"... А в польской газете пишут о правобережной Украине, т.е. о Киевской, Волынской и Подольской губерниях: "Состояние озимых посевов – самое плачевное; большая часть их уже погибла; чувствуется крайний недостаток семян для яровых посевов". Вот в какое положение пришли 7 плодороднейших губерний, когда в них остались глупый мужик и хищный жид. А наши "демократы" в эмиграции, не обращаясь к Богу и не разбираясь в явлениях действительности, все еще уповают на мужика и строят все планы на "волеизлиянии" народа – на всеобщем голосовании." (Из письма А.Царинного, от 23 мая – 5 июня 1923 г.)
Приводим и позднейшие сведения за 1923 год, из которых видно, что голод не только не прекратился, а наоборот, увеличился. Сообщая сведения о 34 сербских беженцах, прибывших из России, газета "Новое Время" говорит: "Впечатление, которое производят эти страдальцы, невероятно. Бедствия, которые давили их в красном царстве целых 6 лет, повлияли на все их существование, наложили печать мученичества на всякое движение, отняли силу, разбили сердце и сделали неспособными к жизни. Худые, как скелеты, оборванные, как нищие, они производят впечатление потерпевших кораблекрушение людей, выброшенных волнами на необитаемый остров, где живут в вечном страхе и умирают от голода. "В России не живут, там только умирают, – заявили они. – Вот что сделал с нами новый режим! Хотите знать, как выглядит Россия?.. Посмотрите на нас! Ничего больше нам не нужно. Ведь мы рабочие. Существует только группа комиссаров и их приспешников, которые живут богато, даже роскошно... Непрерывно работает чека, это варварское средство для убийства людей..."
Одновременно в течение трех недель "Новости" напечатали подряд 18 статей о большевистской России. Содержание их легко понять хотя бы из следующих заглавий: "Государственная тирания", "Хаос и неспособность", "Дьявольская система", "Гонения на Церковь" и т.п. (Новое Время, № 657 от 7 июля 1923 г.)
Полученное нами письмо из Крыма рисует положение этой когда-то благодатной русской окраины, превратившейся при большевиках в кладбище.
"...Мы вымираем, все гибнет, нет никакого просвета. Былое благосостояние исчезло. Количество скота, отчасти вследствие эпизоотии, отчасти вследствие отчуждений, а также и вследствие голода, сильно уменьшилось. Люди, имеющие лошадь или несколько лошадей, считаются счастливцами, многие ездят на быках или коровах, чего прежде не было. Большинство населения не имеет, однако, никакого скота и ходит пешком на расстояние 50-100 верст. Всего больше пострадали в последнее время деревни расположенные вдоль железной дороги. Особенно деревни на пути из Джанкоя в Феодосию. В приходском селе Цюрихталь, в немецкой колонии, в прошлом году вымерла значительная часть населения от голода. Школа закрыта уже второй год, т.к. учителя голодают и бегут. Урожай плохой, засеяно мало, фруктов нет.
Все немецкие колонии сильно пострадали. В Судаке очень много умерло от тифа.
Жители отапливают печи колючкой, которая в последние годы пышно разрослась. Мельницы тоже отапливаются колючкой, и многие зарабатывают себе хлеб тем, что подвозят курай на мельницу, за что получают плату маисовой мукой. В Конграте за последние два года не сеяли. Таймас и Шайх Али в лучшем положении, но в Шайх Али снова свирепствует тиф, а медикаментов нет совсем.
Очень тяжело в Феодосийском уезде, где семена получались лишь на десятину.
В Евпаторийском уезде население голодает, причем половина его уже вымерла. Деревня совершенно разорена. Жители распродали за бесценок не только скот и движимое имущество, но также и дома". (Новое Время, № 674, от 28 июля 1923 г.)
"Из докладов на состоявшемся недавно в Москве съезде сельских комитетов взаимопомощи выяснилось, что в наступающем году можно ожидать новой вспышки голода, так как уже в настоящее время в приволжских губерниях процент голодающих огромный: так, например, в немецкой коммуне голодает 40% населения, в Самарской губернии – 45%, в Саратовской – 35%, в Царицынской – 40%, в Башкирской республике – 55%, в Татарской – 70%, на Урале – 30%, и на Украине вместе с Крымом – 33%" (Новое Время, 24 авг. 1923 г., № 678.)
"В "Кубанце" среди многих писем с родины находим письмо станичника, которое приводим в выдержках с сохранением орфографии: "...хотя у нас и урожай хороший, но мы им не особенно радуемся. А голодной смерти нам не миновать, и нам вас, дорогой братец, наверно уже не ожидать, если только этот святой хлеб от наших рук уйдет. А нам уже все видать по налогу, что у нас оплатить больше нечем будет, то наверняка платить придется собственной душой в гнилых тюрьмах а также в глубоких ямах. На что это так у нас есть, когда сейчас у нас берут за прошлогодние налоги последнюю калеку, а также коровку или овечку ведут на базарную площадь и там же продают с аукционного торга. Это факт. А она бедная казачка стоит слезы втирает рукавом или стоит казак старик, тоже втирает слезы украдкой оборванной шапкой. Это тоже факт. Затем, мой дорогой, в прошлом году был налог только по 11 пудов, а у 1923 году постановили по 25 пудов и 10 фунтов с десятины, засеяна у тебя вся земля или нет, это им безразлично, уплачивать надо за всю, то мы это уже знаем, что нам придется помирать с голоду...
...Я вас, мой братец, прошу, скажите вы мне, умирать мне или еще обождать лучшей жизни... Я бы желал умереть хоть в казачьей черкеске, а придется умереть в порватой рубашке или совсем голым. Отакая советская свобода...
...Мы уже и веру христианскую продали за миллионы. В церковь не пускают и родятся диты казачьи не хрищены и умирают не печатаны..." (Новое Время, 14 авг. 1923 г., №688.)
Я не задавался специальной целью подбирать соответствующий материал для своих иллюстраций, а пользовался лишь теми сведениями, какие были под рукой. Сведения эти, разумеется, весьма кратки, неполны, разбросаны в нескольких брошюрках и газетах, но даже в этом своем виде они не опровергают сделанного мной вывода о том, что большевики умышленно морили население голодом для того, чтобы истребить его.
Какой наглой и бессовестной ложью являются ссылки большевиков на мужицкую косность и их леность, благодаря которым они не сумели воспользоваться отобранной у помещиков землей, или умышленно не обрабатывали полученной земли из контрреволюционных побуждений, для того чтобы заставить голодать красную армию, или же скрывали свои продукты ради спекулятивных целей! Нарисованные нами картины опровергают без слов эту ложь, ибо там, где население вымирает от голода, там, очевидно, уже нечего припрятывать на завтрашний день. Да, в первые дни революции, когда она еще рисовалась крестьянам в образе грядущего рая, были случаи, когда они спекулировали не только на одном хлебе, но и на всех прочих продуктах земледелия, когда цены буквально на все росли по часам, и то, что стоило утром тысячи, продавалось вечером за миллионы... Но это время для крестьян и началось и кончилось в первый же год революции, а затем спекуляция стала монополией одних только представителей советской власти, как, впрочем, и все другие блага советского рая, каких крестьяне только попробовали с тем, чтобы лишиться и того, что имели раньше. Нельзя обвинять крестьян и в сокращении посевной площади, ибо мудрено обрабатывать землю не имея орудий и скота, мудрено иметь желание обрабатывать ее там, где земля социализирована, а продукты облагаются налогами, превышающими их стоимость. Сокращение посевной площади явилось прямым результатом большевических декретов и распоряжений, и это подтверждают нижеприводимые нами данные.
"Посевная площадь крестьянского двора до революции составляла 4,6 десятины. В 1919 году она упала по официальному сообщению до 2,5 дес., а в 1921 году, вероятно, не превышает 2 дес... Вместо прежнего потребления на душу 22 пуда в год, крестьянам оставлялось хлеба по 12 пудов на душу. Остальное отбиралось советским правительством бесплатно, что составило в среднем для 1919 и 1920 годов по 243 830 000 пудов хлеба, круп и зернового фуража." (Еженедельник Высшего Монархического Совета, 4 сентября 1921 г., № 4.)
"Властью принимаются энергичные меры по сбору продналога, укрывшие свой хлеб крестьяне расстреливаются. На этой почве не прекращаются крестьянские восстания..." (Там же, № 5, от 11 сент. 1921 г.)
"Производство сахара со 105 миллионов пудов в 1915 году уменьшилось до 5 миллионов пудов в 1920 году..." (Там же.)
"Весной текущего года в Самарской губ. Новоузенского уезда в селе Черебаево вспыхнуло быстро охватившее весь Новоузенский и часть Камышинского уездов восстание... Выведенные из терпения постоянными поборами "продовольственников", несмотря на очевидный уже голод, а главное зверствами, которыми эти поборы сопровождались, крестьяне восстали и перебили представителей советской власти..." (Там же.)
"На Волыни неспокойно, крестьяне, не выдерживая притеснений, чинимых большевиками при сборе продналога, восстают. Для усмирения вызываются карательные отряды. Особенное раздражение вызвало запрещение молоть зерно, пока вся деревня не внесет назначенного ей по разверстке продналога. Украина наводняется беженцами из Новороссии. Голодных никто не кормит, отчего развелось до невероятных размеров воровство; на этой почве возникают недоразумения между местным населением и беженцами, оканчивающиеся часто кровавыми столкновениями." (Там же, № 9.)
"На железнодорожных станциях Курской губернии гниет сложенное зерно, собранное комиссией продналога. Всего свезено и доставлено на станцию 1 380 000 пудов ржи и овса; за отсутствием вагонов, весь собранный хлеб обречен на гибель." (Там же.)
"Посевная площадь в Туркестане с 3,5 миллионов десятин 1915 года сократилась до 1,6 милл. дес. в 1920 году. Количество орошаемой земли с 2,4 мил. десятин упало до 1,1 миллиона..." (Там же, № 10, от 16 октября 1921 г.)
"На будущий год голод также неминуем, хотя 50% осенних посевов и взошли, но все же остается площадь в несколько сот тысяч десятин, на обсеменение которой не хватает зерна." (Там же, № 24, от 9 января 1922 г.)
"На втором всеукраинском съезде комиссар Фрунзе сделал доклад о повстанческом движении в Малороссии. С сентября 1921 года там насчитывалось до 50 отрядов обшей численностью до 40 000 человек. Во время борьбы с этими отрядами, по советской статистике, было убито 182 атамана, расстреляно 9, арестовано 84, добровольно сдались 169, всего 444. Рядовых повстанцев "убито 9 544, расстреляно 510, арестовано 15 305, явилось добровольно 9 539, всего 29 612." (Там же, № 40, от 8 мая 1922 г.)
"Для прокормления населения в течение 5 месяцев потребуется 50 миллионов пудов, т.е. по 10 миллионов пуд. в месяц. Исчисляя народонаселение в России в 120 миллионов[11] получаем расчет одного пуда на 12 человек в месяц, т.е. менее 4 фунтов на человека в месяц, или менее одной восьмой фунта в день... Семена для обсеменения полей или опаздывают, или приходят в слишком незначительном количестве, в большинстве же случаев запасы расхищаются на местах, вследствие чего получается постоянное и неизбежное сокращение посевной площади..." (Там же, № 41, от15 мая 1922 г.)
"Национализированные предприятия в России явили миру небывалый пример не производящей, а потребляющей промышленности. Разительным свидетельством может служить производство сахара в Киевском округе в 1920-21 годы. При общем производстве в 1 167 000 пудов сахара было затрачено на раздачу рабочим, в уплату их труда: 2 миллиарда рублей, 50 000 пуд. соли, 150 000 метров ткани, 500 пуд. табака, 7 000 стаканов и, наконец, 1 милл. 500 000 пуд. сахара.
Другой пример: казенное земледельческое предприятие, дающее 4,5 милл. пуд. зерна, потребляет 9,3 милл. пуд. зерна на оплату рабочим натурой.
Покрытие такого чудовищного недохвата в национализированных предприятиях, а также удовлетворение потребностей красной армии и огромной советской бюрократии побуждают советское правительство не только расходовать остатки веками накопленных богатств и запасов России, но и облагать тяжелыми, непосильными поборами и реквизициями оставшиеся не национализированными частные хозяйства, преимущественно крестьянские, земледельческие, т.к. крестьянство составляет 80% населения.
Такие постоянные поборы неминуемо привели к полному крушению крестьянского хозяйства, к стремительному понижению посевной площади и урожайности, к вымиранию скота и к окончательному падению покупной силы страны." (Там же, № 46, от 19 июня 1922 г.)
"Красное Знамя", № 135, пишет: для недоимщиков наступило время применения к ним суровых карательных мер. Ни один недоимщик не ускользнет от карающей руки. Бесполезны какие бы то ни было просьбы, ходатайства и жалобы на непосильность или на затруднительность платежа..." (Там же, № 51, от 31 июля 1922 г.)
"Беднота" (№ 1263) сообщает о циркуляре, разосланном центр. ком. Р.П.К. в связи с сбором продналога... Циркуляр возлагает на членов партии заботу о скорейшем выполнении разверстки, причем, учитывая "возможность административных мер воздействия на нежелающих платить" продналог, советует обратить внимание, как на "качественный, так и на количественный" состав исполнительных органов". От этих исполнителей требуется "способность быстро и решительно выполнять распоряжения прод. органов". Итак, этим циркуляром возобновляется прошлогодний террор, сопровождавший и тогда сбор продналога. Снова, как результат "административных мер", прольются реки крови русских людей, единственная вина которых заключается в том, что они не дают грабить своего дома"... (Там же, № 55, от 4 сентября 1922 г.)
"Кража последнего куска хлеба", – так назвал на последнем заседании съезда советов товарищ Романчук распоряжение "Внешторга" о вывозе за границу русского зерна. Несмотря на все продолжающийся голод советское правительство решило вывезти в Западную Европу до 500 миллионов пудов зерна..." (Там же, № 76, от 29 января 1923 г.)
"Из Кубани сообщают: урожай осени 1922 года был очень хорош, но все же в крае царит голод, причина тому – сбор продналога, который собирали по следующей раскладке: 75% урожая с десятины, кроме того с десятины 6 фунтов масла, 1/4 кожи, 20 штук яиц и т.д., таким образом разошлись на покрытие продналога и оставленные 25%, так как налоги верстаются вне зависимости от действительной наличности..." (Там же, № 84, от 2 апреля 1923 г)
"В Забайкалье жизнь населения становится все тяжелее. Урожай ожидается скверный. Обложение сорока семью (47) налогами окончательно надломило жизнь. В восточном Забайкалье из-за усиленного выколачивания налогов вспыхнули местные беспорядки, притом в районах, где население особенно сочувствовало коммунистам..." (Там же, № 104, от 3 сентября 1923 г.)
"Наша жизнь с каждым днем все ухудшается и в материальном и в моральном отношениях. Налоги буквально давят нас. У нас налог теперь на все: на кошку, на собаку, на курицу и даже в больших городах на могилы. Никто не знает даже за один день, какие нужно платить налоги, потому что почти каждый день вводятся новые налоги – сегодня на железную печку, завтра на зеркала, грядки, диваны и т.д.
Много налогов таких, о которых мы прямо не знаем, за что они взимаются. Вот сейчас у нас лежит повестка на 60 миллионов и неизвестно за что, а ведь кроме того ожидаем еще повестку за дом, придется платить около миллиарда, если не больше.
Жалованье же большей частью нам "прощается". Вам, вероятно, не понятен этот термин в таком приложении, но здесь он означает, что в "финотделе" (нечто вроде министерства финансов) нет денежных знаков и в таких случаях объявляется, что жалованье выдано не будет. Вот и за этот месяц тоже, вероятно, простят. Широко практикуется здесь для обирания населения еще и "аннулирование". Сущность "аннулирования" сводится к тому, что, например, все дома были национализированы, но потом был издан декрет, разрешающий выкупать дома у правительства. Публика отправила свои пожитки на толкучку и дома выкупила. Однако вскоре первый декрет был аннулирован, и все имущество снова было объявлено собственностью СССР. Вслед за этим опять объявляют декрет о выкупе, а за выкупом следует снова "аннулирование".
Таким способом СССР выкачивает деньги у населения.
Кроме этих налогов и выкупов пищевые продукты обложены акцизом, который, как и налоги, взимается по дневному курсу торгового рубля, средняя дневная разница которого обычно выражается в нескольких миллионах, почему и акциз взимается на месте розничной продажи продуктов.
Быть может, покажется трудным учесть сахар, находящийся в какой-нибудь лавочке. Однако, в чем в чем, а в собирании различных податей здесь, под руководством еврейских учителей, пошли очень далеко и с российского обывателя дерут не семь, а бесконечное количество шкур. И вот, при всем этом говорят старые фразы о райском блаженстве человечества под советской властью, о бесплатном образовании и больницах, бесплатных путях сообщения, квартирах, столовых и т.д. Однако каждый ребенок в советской России знает, что здесь даром никто не станет ни лечить, ни учить. И если не располагаешь сотней миллиардов, то даром можно только умереть, но и это не так удобно. Если случится умереть в советской больнице, то вас без всякой одежды бросят в большой красный ящик – "общий гроб", в котором трупы валяются до тех пор, пока не наберется полный комплект попутчиков до места вечного успокоения, там тело сбросят в общую яму, а "общий гроб" отвезут на прежнее место насыпать новых покойников, яму же тоже засыпают землей только по наполнении ее полным комплектом покойников, который составляется из нескольких партий из "общего гроба". Если умирает человек дома, то его отвозят в ту же общую яму на тачке. Мне часто приходилось видеть, как мальчишка тачечник толкает свою тачку, на которой лежит голый скорченный труп женщины, одна нога сползла и скребет по земле, ноги раскинуты, на колесе болтается пук волос, труп еле прикрыт рогожей, на которой лежит приобретенный по дороге хозяйственным тачечником угол. Мальчишка толкает тачку и напевает: "Ах шарабан мой, дутые шины, быстрее катит он машины". Или вот еще – на больших дрогах везут "общий гроб", лошаденка бежит мелкой рысцой, крышка с гроба сползла и в гробу виднеется человек, корчащийся в агонии. Это значит, что "общий гроб" не мог больше дожидаться последнего для комплекта покойника и этого несчастного бросили в "общий гроб", надеясь, что по дороге он должен умереть. Такова наша жизнь. А ведь это тысячная доля того, что мы видим, чувствуем и переживаем." (Новое время, 5 сентября 1923 г., № 707.)
"До чего упал нравственный уровень народа, до чего народ терроризован! Не только в городах, но и в деревнях шпионство развито донельзя, и в этом, надо отдать справедливость советской власти, она достигла небывалых результатов. Двое, трое остановятся на улице, и будьте уверены, что мальчишка или товарищ уже подслушивают. Упаси вас Бог что-либо про местные учреждения сказать. Слово и дело готово, и вас через день-два уже непременно в чека потащут, и в ожидании допроса недели просидите под арестом. Например, на почте: в деревенском почтовом отделении от мужика потребовали за недостающую марку, как теперь практикуется, вчетверо. Мужик выругался по адресу советской власти. И через день его засадили, и он несколько месяцев просидел. И так во всем, в самых малых проявлениях какого-либо протеста или порицания или простой критики советских служащих, не говоря уже о высших – следует жестокая кара...
Не стесняются бить добрых мужичков палками, как и не снилось им при крепостном праве. На митингах или сходках иногда мужички и высказываются. Когда им указывают, что их снабдили землей, отобранной у помещиков, они, почесывая затылок, говорят: "Земля-то наша, да хлеб-то с нее не наш, а ваш!" И на этой почве растет в населении сильное озлобление...
Коммунаров ненавидят; коммунар стал ругательным словом: "Ах ты коммунар, такой-сякой". Но все же в каждой деревне или селе есть 2-3 негодяя, принадлежащие к какой-либо фракции. И они-то доносчики, шпионы. Все их ненавидят, но боятся. При выборах в разные бесконечные советы или комиссарства крестьяне стали выбирать вновь людей из прежних служащих, коих преследовали всячески в 1918-20-х годах, а теперь вновь стали уважать; так уездные советы и комиссары ни за что не утвердят таких выборов. Назначают от себя своих типов, и население, скрепя сердце, подчиняется. А назначаются по большей части все люди с уголовным прошлым и самой низкой нравственности. Такие люди на все способны, на всякую идут уголовщину, начиная с убийства. И сколько погибло от них несчастных – нет числа!..
В уездных советах сидят все типы из городской голытьбы, тоже по назначению из губернского города, т.е. от всяких коммунистических учреждений, а главным образом, от чека, ныне переименованной в политическое отделение или управление.
Много незасеянных полей. Советские хозяйства, или совхозы, образовавшиеся из бывших помещичьих хозяйств, закрылись, так как давали огромный убыток и пришли в полный упадок. Из совхозов образовали тресты.
Эти тресты ничего не имеют общего с трестами, как мы знали и понимали в Америке и Европе, а это сброд отдельных небольших групп коммунаров (скорее quasi-коммунаров), которые взяли в свое заведывание совхозы, а в сущности, дограбляют несчастные хозяйства наши. Во главе этих соединенных под управлением коммунаров хозяйств – люди совершенно некультурные.
Набравшись якобы экономических знаний, а в сущности – круглые невежды, они неспособны улучшить хозяйство и ограничиваются неполной, с соседними крестьянами, обработкой земли, а взятые в долг земледельческие машины, тракторы – заброшены или стоят поломанные без действия. Во главе, например, Тульского треста стоит беглый матрос с "Потемкина", побывавший на каторге, а затем был швейцаром в одном из московских кабаков. Еще года два тому назад в земельные комиссии, советы и прочее, по указанию центра, назначали в совхозы людей знающих, из бывших помещиков, агрономов и т.п., а теперь сплошное гонение на таких людей. Их заменили товарищи из коммунаров, которые главный доход извлекают из продажи строений, железных крыш, разных построек, чем доводят усадьбы до полного уничтожения, несмотря на строгие приказы из центра сохранять и улучшать хозяйственные постройки. Местные власти, а особенно именующие себя коммунарами, не считаются с центром, не обращают на него внимания и ведут свою линию. Хоть день, да наш! Бывшему помещику строго воспрещено возвращаться в свое бывшее имение, усадьбу. Кое-где крестьяне приглашали бывших землевладельцев вернуться; но коммунарские комитеты зорко следят за этим, и имевшим неосторожность приехать или посетить свое бывшее поместье пришлось очень скоро убраться подобру-поздорову. Во всем такой хаос, в коем трудно разобраться. Население, добрые мужички недовольны: они не имеют определенного заработка, их душат огромные налоги, на все наложенные, даже на курицу и яйца; невыносимая дороговизна всего того, что необходимо для жизни: мануфактура и прочее. По высоте цен все это не соответствует тому, что выручает мужичок продажей продуктов земли. Многие поэтому бросают землю и идут в город, надеясь там на всякое благополучие; и вот таким образом увеличивается число безработных. Хорошо лишь разным милиционерам, бесчисленным комиссарам, заведующим разными отделами и коммунарам, кои, кроме крупных пайков, получают крупные взятки со всего, а более всего с самогонщиков водки. Водка в изобилии во всех деревнях, и много она ест хлеба за счет голодающих." (Новое Время, 30 сент. 1923 г., № 729.)
"В "Кубанце" помещено следующее письмо из Советской России, полученное одним из казаков Кубанской дивизии:
"10 октября 1923 г.
Получил твое письмо, очень тоскливое и нерадостное. Из содержания его видно, что "вы" уже выдохлись совершенно, потеряли всякую надежду и в будущем "вас" не ожидать такими, какими "вы" ушли от нас. Я просто себе не могу уяснить, что вы там делаете. Какого черта вы там сидите – не идете к нам выручать нас из жидовской неволи-рабства. Мы давно уже кричим караул.
Я себе не могу уяснить, чего вы ждете. Почему вы не идете спасать Родину-Россию, которой сейчас не существует; ту бывшую великую и сильную Россию и славный русский народ, предки которого в свое время неоднократно спасали братьев-славян.
Я удивляюсь всевозможным запросам: "какие общества, категории его и т.д.". В жидовско-хамской России существует: 1) привилегированное красное дворянство (сюда входят: евреи, босовня, беднота, разбойники и русские христопродавцы); 2) крестьянство, служащие и элемент торговли (кулачество, буржуазное и контрревол.).
Все ответственные должности занимают граждане жидовского происхождения (обрезаны). Их сотрудниками вся бывшая босовня, воры, мошенники, уголовные преступники, беднота и русские христопродавцы. Остальные слои в состав общества не входят и считаются неблагонадежным элементом и даже вредным; на него, главным образом, легло все бремя налогов, существующих в совдепии.
Ты, вероятно, себе не представляешь налоговых ужасов, проводимых в Совроссии. Я до осени не имел даже стола, кровати, скамеек и т.д... Словом, спали на полу, кушали из кастрюли по очереди, за неимением ложек и тарелок: обед состоял из кукурузной муки (мамалыга и лепешки из муки пополам с ячменем); и в то же время подлежал налогам... зимой уплатил "труд-гуж-налог" по 30 миллионов за душу; летом душевой – 270 миллионов рублей; в сентябре – 5 700 000 рублей подоходно-преимущественный и т.д. Крестьянство вообще облагается вовсю, и все это идет на поддержание агитации за границей и обогащение "красного дворянства".
В Совроссии есть два общества: привилегированное и крепостное-рабское. Второе по численности преобладающее, между собой враждующее, особенно второе, за которым перевес и сила в будущем, которое с нетерпением ждет случая (войны) для уничтожения жидовско-хамского царства.
Армия (красная) состоит из призывников, которых до призыва обучают и они отбывают лагерные сборы; все командные должности и ответственные посты занимают красные дворяне из жидов.
Общество нравственно пало до неузнаваемости, его нечеловеческая, скотообразная жизнь превратила в полудикое, слепо повинующееся животное, оно нравственно убито навсегда. Правда, в городе можно видеть общество разодетое, разукрашенное золотом, это жены и мамаши главных заправил государства. Бывают и вечера и балы, тоже в названном обществе. Остальное полуголое, оборванное, исхудалое, босое, униженное до неузнаваемости, запуганное, еле таскающее ноги, добывает непосильным трудом хлеб...
Религия свое отстояла: массы ее поддержали и сейчас идет по старому...
Словом, я затрудняюсь тебе все написать... одно скажу, что главная масса кричит караул, призывает помощь, но ее нет. Малейшие новости о свержении кабалы коммунизма страшно интересуют общество, оно ждет начала этого. Общество проклинает Англию и Францию за то, что они оттягивают и не приступают к ликвидации хамской России...
Сие письмо пошли в Париж, в русскую газету или в штаб Врангеля: пусть весь мир знает, что мы кричим о помощи..." (Новое Время, 14 дек. 1923 г. № 792.)
В "Кубанце" находим выдержки из ряда писем, полученных с Родины казаками Кубанской дивизии, работающими в районе Вранье.
Приводим некоторые из них, как наиболее характеризующие быт и настроение нашей южной деревни.
"24 октября 1923 г.
...Новостей особых нету. Грабежи идут вовсю. Порядки, порядки. Живемо, яко горох при дорози. Хто ны схоче, той и не щипне. Да, живемо так, як Бог велит, чисто по граждански. У нас сейчас землю делят. Думаем ихать орать, а хочь боронить... Спряглось 6 граждан. Вот яка наша типерь работа. Перед Покровом забралысь ночни гости до нас у хату – пишлы не в дверь, а прямо в викно, – та в сундук, тай забралы мою одежу и жены моей, та типерь и живем на прочих правах..."
"4 сентября 1923 г.
...Трудно жить на свете – такой камень, что нельзя с души скинуть. Ну ничего, може он оторвеця... Такое воровство, что нельзя жить. Все воры вооружены. Нам нельзя и ложи держать во дворе... Стоят пара волов 200 миллиардов, одна коняка 20 миллиардов, 1 пуд пшеницы 130 миллионов, сапоги 7 миллиардов. Нельзя жить. Сарпинки аршин... 180 миллионов. Такая жизнь, что волосы дыбом становятся. Голые и босые... Я жалею, что не там, ну вертаться нельзя, а ждем вас... Я посылаю письма доплатни, потому в нас хоть и миллионы, но не за что торгувать. Скота нет, хлеба хватило на насинья. Так живем, тай только робым кому то..."
"16 сентября 1923 г.
...Фунт хлеба 10 миллионов, а паршивая селедка 100 миллионов, а о кожевенном товаре и мануфактуре я и писать не буду... Все голы, все босы. Один исход – приобретаем мануфактуру и кожи своими руками, свое изделие, – тем и одеваемся и обуваемся. Увы темна страна, увы бедна она, увы несчастна она, увы в слезах жалких она, увы несчастной нет покрова, забито кругом темной мглой. Припев – взойди о ясное солнце, о ясное солнце, вечерняя заря... Заря не взошла..."
"18 сентября 1923 г.
...Теперь, на это лето, на 24-й год все отказываются от земли – невозможно пользоваться землею, дюже сильный продналог. Теперь-то мужики говорят: "Кабы откуда-нибудь перевернулась власть, так мы кольями били жидов, это они нас мутят..." (Новое Время, 3 января 1924 г., № 809.)
Если бы голод явился действительно только стихийным бедствием, как утверждают большевики и те кто им верит, а не одним из способов истребления русского народа, то советская власть, не проявляя личной инициативы, не мешала бы, по крайней мере, частным лицам бороться с этим бедствием. Мы видим, однако, обратное. Голод содействовал не только истреблению русского народа, но и помогал выкачивать, под предлогом "помощи голодающим" деньги из-за границы, идущие столько же на усиление советской власти в России, сколько и на пропаганду коммунизма в Европе. Помогая "голодающим в России", Европа, в сущности, помогала своим собственным коммунистам и укрепляла их позиции.
Не оставляю без доказательств и этих утверждений.
Вот что мы читаем в русской и иностранной прессе.
"Московский общественный Комитет помощи голодающим распоряжением советской власти закрыт, большинство членов его арестовано. Еще раз большевики доказали миру необоснованность мнения, будто они идут на уступки и эволюционируют." (Еженедельник Высшего Монархического Совета, № 4, от 4 сентября 1921 г.)
"По сведениям из Москвы, 3 члена комитета помощи голодающим – Кишкин, Кусков и Анархасов приговорены к смертной казни. На запрос Нансена по этому вопросу из Москвы дан уклончивый ответ." (Там же, № 10, от 16 октября 1921 г.)
"В Нью-Йоркской газете "N.Y.Times" от 23 августа 1921 года приводятся сведения о количестве заграничного золота, привезенного в Америку за последнее время или ожидаемого к поступлению в местные банки. Между прочим, сообщается, что банк Кун, Лейба и К°, главой которого состоял умерший еврей Яков Шиф, субсидировавший русские революции в 1905 и 1917 годах, за время с 1 января текущего года, получил золота из-за границы на сумму 102 290 000 долларов. Несомненно, что значительная часть этого золота не может быть иного происхождения, как большевического..." (Там же, № 8.)
"Хувер опубликовал сообщение, разоблачающее мошенническую проделку большевических агентов в С. Штатах, пытавшихся под флагом помощи голодающим собирать деньги для целей коммунистической пропаганды.
В Чикаго несколько времени назад основан был т.н. "Американский Комитет Помощи Голодающим в России". Комитет рассылает письма различным учреждениям и частным лицам с просьбой жертвовать в пользу голодающих. Таким путем Комитету удалось собрать не менее 500 000 долларов.
Одно из воззваний Комитета попало в руки губернатора штата Idaho Девиса. Губернатору показалось подозрительным письмо, и он снесся с Вашингтоном. По расследовании оказалось, что "Американский Комитет" в Чикаго ни в каких отношениях с американскими организациями помощи России не состоит и что собранные им средства идут на цели пропаганды.
Во главе самозванного Комитета стояли Дубровский и Гартман. Последний, как обнаружилось, поддерживал самые тесные отношения с бывшим советским послом в Америке Мартенсом." (Там же, № 29, от 13 февр. 1922 г.)
Этих и подобных сведений так много, что нет никакой возможности собрать их, ибо, повторяю, что один перечень их составил бы содержание нескольких томов. В полной мере, посему, справедлива передовая статья "Еженедельника Высшего Монархического Совета" от 6 марта 1922 года, № 32, под заглавием "Итоги революции", где, между прочим, говорится:
"...Результаты освобождения Императором Александром II крестьян от крепостной зависимости полностью уничтожены. Большевиками установлено для крестьянского населения нечто во много крат худшее, чем крепостное право, что-то граничащее с самым первобытным рабством. Благодаря невиданным насилиям и грабежам, крестьянское население, обнищавшее и лишенное лошадей, скота и семян, обречено во многих местах на лютую голодную смерть. Большевические газеты ныне уже не скрывают, что десять миллионов крестьян обречены на голодную смерть и что во многих местностях обезумевшее от лишений население утоляет муки голода трупами умерших. Россия – житница Европы при Царях – благодаря революции стала страной, вымирающей от голода. Всякая духовная жизнь в России уничтожена. Терроризованное бессудными и чудовищными казнями население боится вслух, даже в присутствии близких, выражать свои мнения и чувства. Молодежь и дети искусственно развращаются врагами Христа, которые всеми способами и не стесняясь в средствах стремятся уничтожить христианство в православной России..."
ГЛАВА 35. III. Нравственные пытки
Я указал на то, что одним из способов истребления русского народа жидами были также нравственные пытки.
В чем же они заключались и какие причины заставляли даже глубоко верующих людей подавлять в себе страх пред загробной участью самоубийц и лишать себя жизни?
Этих причин было много, и я укажу только на некоторые из них.
Я уже упоминал, что в Крыму служащие в больницах сестры милосердия лишали себя жизни, чтобы избежать бесчестия со стороны озверевших большевиков. Но такого рода случаи были не только в Крыму и не только в больницах, а являлись прямым результатом декретов советской власти о так называемой "социализации женщин" и наблюдались повсеместно в России.
В условиях беженской жизни трудно пользоваться первоисточниками и приходится довольствоваться только материалами, имеющимися под рукой. Я ограничиваюсь посему лишь сведениями по этому вопросу, заключающимися в защитительной речи адвоката Обера по делу Конради и Полунина, обвинявшихся в убийстве одного из агентов советской власти Воровского. Материал, приведенный в этой речи, основан на документальных данных и, конечно, не вызывает ни малейших сомнений в своей достоверности. Вот что мы читаем на странице 73, изданной газетой "Новое Время" книжки "Речь Обера".
"Декрет от 1918 года был применен в некоторых городах. С восемнадцати лет девушка обязана вступить во временную связь, которую ей предпишут народные комиссары. Во Владимире молодые девушки восемнадцатилетнего возраста были принуждены записаться в специальном бюро для того, чтобы вступить в связь по принуждению. Какие-то два человека, совершенно неизвестные, появились в городе, захватили двух молодых девушек и получили разрешение на их увоз. Их больше никогда не видели. Генерал Пуль пишет 11 января 1919 года английскому военному министерству, что во многих городах были организованы комиссариаты свободной любви, и что почтенные женщины подверглись публичному сечению в силу отказа повиноваться. В Екатеринодаре большевическое начальство выдает мандаты с правом социализировать молодых девушек по своему выбору. Более 60 молодых девушек были реквизированы, некоторые из них после изнасилования были брошены в реку. Вот текст этого мандата: "Товарищ Карасев имеет право социализировать в городе Екатеринодаре 10 молодых девушек от 16 до 20 лет по своему выбору". Генерал Нокс посылает военному министерству документ, найденный на одном захваченном красном комиссаре: "Сим удостоверяется, что товарищ Едиоников уполномочен взять для себя молодую девушку. Никто не должен оказывать ему никакого сопротивления. Он снабжен неограниченными полномочиями, что и удостоверяется подписью". Адвокат Обер предъявил Лозанскому суду даже фотографический снимок одного из таких документов. Приводя эти факты г. Обер не упомянул о подробностях.
Декрет о социализации женщин был издан Троцким (Бронштейном) и реквизиция 60-ти молодых девушек, о которой г. Обер упоминает в своей речи, была вызвана непосредственным распоряжением Троцкого, находившегося в то время в Екатеринодаре. Часть красноармейцев ворвалась в женские гимназии, другая устроила облавы в городском саду и тут же изнасиловала четырех учениц в возрасте от 14-18 лет. Около 30 учениц были уведены во дворец Войскового Атамана к Троцкому, другие в "Старокоммерческую гостиницу" к начальнику большевического конного отряда Кобзыреву, третьи в гостиницу "Бристоль" к матросам, и все были изнасилованы, после чего часть была отведена отрядом красноармейцев в неизвестном направлении и участь их осталась неизвестной, а другая, более значительная часть, была подвергнута истязаниям и, наконец, брошена в реки Кубань и Карасунь. Одна из несчастных жертв, ученица 5-го класса гимназии, подвергалась насилованию в течение 12 суток целой группой красноармейцев, после чего ее привязали к дереву, прижигали раскаленным железом и расстреляли.
По занятии большевиками Одессы банды красноармейцев хватали женщин и девочек, тащили их в порт, Александровский парк и дровяные склады и беспощадно глумились над ними. После таких насилий жертвы или умирали, или сходили с ума. Прохожие с ужасом слышали раздававшиеся из парка душераздирающие крики насилуемых до смерти, посте чего мгновенно наступала тишина и до их слуха доносился лишь предсмертный хрип и стон замученных жертв.
"Социализация женщин" не составляла ни самостоятельного орудия казни, ни явления, стоявшего особняком или наблюдавшегося лишь в некоторых местах России. Нет, этот декрет проник в толщу буквально каждого шага советской жизни и цинично осуществлялся как на верхах представителями власти, так и в подвалах чрезвычаек или в казармах красноармейцев. И если я упомянул об этом декрете, то не для того, чтобы выделить его из общего числа способов истребления русского народа, а для того, чтобы подчеркнуть тот страх пред бесчестием, какой заставлял несчастных женщин и подростков лишать себя жизни, только бы избежать позора и поругания или медленной смерти от нанесенной заразы.
Нарисуйте в своем воображении самую невероятную по ужасу картину и она явится лишь бледным отражением того, что творится в России.
Чрезвычайки с ее пытками, ужасы голода, людоедство, страх быть ежеминутно схваченным, убитым и съеденным, безумный разврат и насилование детей, беспрестанные обыски и реквизиции, бесконечное количество декретов и распоряжений, коих невозможно не только исполнить, но и удержать в памяти, бессмысленных и противоречивых, рассчитанных на то, чтобы довести население до полного изнеможения, беспощадные кары за неисполнение этих декретов, мелочная регламентация повседневной жизни, уплотнение и выселение из квартир, принудительный труд, маскирующий глумление и издевательства, вроде очистки нечистот, копания могил для жертв чрезвычайки и пр., многоженство и обязательные аборты, рассчитанные на прекращение рождаемости, наконец, дикие, кощунственные гонения на Церковь и прочее и прочее.
Куда же бежать из этого ада, где укрыться от такой страшной действительности? И несчастные люди теснее прижимались друг к другу и искали если не спасения, то хотя бы временного отдохновения в тесном кругу своих семей. Но советская власть и здесь их настигла.
Семья перестала существовать для них... Несчастные стали бояться ее. Почему? Потому что большевики отравили семью ядом шпионажа.
Вот что мы читаем в цитированной нами книжке "Речь Обера", стр. 86-87:
"...Советы умеют пользоваться этим методом: разделять, чтобы властвовать. Они достигли того, что между всеми русскими развилась до такой степени подозрительность, что даже в семейном кругу люди не смеют открыто говорить. Чека, захватив кого-нибудь и продержав его в тюрьме несколько дней, предъявляет ему требование шпионить и доносить на своих друзей, угрожая в случае отказа, что жена, дочь, мать или отец поплатятся за это. Корреспондент "Journal des Debats" Итон приводит случаи такого насильственного принуждения к шпионству самого последнего времени. Шпионство делает невозможным никакое восстание, потому что там никто не может доверять другому. Всякий новый заключенный в ГПУ приглашается сделаться шпионом. Человек должен сделать выбор между своей семьей и своими друзьями. Шпионы везде: в тюрьмах, в магазинах, на улицах, даже в семье. О, какое дьявольское дело сделали эти люди! Нельзя доверять ни друзьям, ни близким, ни родным...
В советах людей доводят приемами медленной пытки до состояния безумия. Вот где постигается весь ужас предательства своих родных и друзей. Да будут прокляты люди, сделавшие такое злое дело! "Нет достаточно сильных выражений, – пишет в июне 1923 года корреспондент "Таймса" – чтобы описать мерзости этой дьявольской системы. Жертвами, по большей части, являются женщины, служащие переводчицами у иностранных корреспондентов, учительницы русского языка, гувернантки у иностранцев, горничные и другая прислуга. Точно также и мужчины попадаются в ту же ловушку; они внезапно исчезают в течение нескольких дней, потом возвращаются с бледными лицами и, большей частью, говорят, что они больны. Иногда ужасная правда прорывается из их уст с мольбой, чтобы все осталось тайной. Вот что приводит в России к полному разобщению между людьми!" О, если бы даже Ленин принес для своей страны, – восклицает благородный Обер, – вместо нищеты, вместо голода, вместо полной разрухи – благоденствие, то одного факта, что он отравил русскую душу таким смертельным ядом, было бы достаточно, чтобы оправдать выстрел Конради. Они не виновны, эти два русских офицера, вы не можете их осудить; если бы вы сказали, что они виновны, возмутилась бы совесть всего мира... Большевизм – это величайшее преступление в истории человечества... Большевизм уничтожил труд человека, он убил его тело, он умертвил его душу. Теперь он набросился на Бога..."
Такой приговор большевичеству сделал иностранец, который только слышал об ужасах, нарисованных нами в настоящей главе... Что же должны сказать те, которые видели эти ужасы или на себе пережили их? Швейцария не только оправдала Конради и Полунина, но и возвела содеянное ими "преступление" на высоту великого подвига, явив своим приговором подлинный голос мировой совести. Что же должны испытывать другие два офицера П.Шабельский и С.Таборицкий, приговоренные за такое же "преступление" Берлинским судом к тюремному заключению? Знали ли немецкие обвинители, как содрогнулась мировая совесть, услышав их приговор над теми, пред которыми с благоговением склонились все честные люди? А Воровский был только одним из винтиков той адской машины, какую строил и приводил в движение Милюков и подобные ему исчадия ада. Много нужно сделать Германии, чтобы искупить свою вину пред Россией, многое уже и делается ценой собственных страданий, но приговор над С.Таборицким и П.Шабельским еще ждет искупления...
После всего описанного, нетрудно представить себе характер советского быта в России, вообразить себе результаты сатанинских приемов власти, превративших Россию в кладбище и развалины. Однако я приведу несколько иллюстраций этого проклятого быта.
"Демобилизованный красноармеец рассказывает, как он приехал домой и его там чуть самосудом не встретили. "Известно, публика темная, да притом кулацкий элемент. Спрашиваю, довольны ли своей крестьянской властью. Они галдят. Папаша у меня старик старого завета. Зажиточный человек. Что с ним было! Каждый день грыземся. Раз заспорили на политическую тему. Я слово, он мне десять. Разъярились оба. Стал он ругать и меня, и власть, грабители говорит все вы и с Лениным вашим. Не унимается старик. Помутилось у меня. Схватил винтовку, наповал убил. Сбежались мужики, чуть нас на месте не разорвали. Еле Совет спас." (Еженедельник Высшего Монархического Совета, № 62, от 23 октября 1922 г.)
"Мой собеседник выехал из Москвы 8 мая нового стиля...
Он рассказывает.
Почти все магазины в руках евреев. Получается вообще впечатление, будто русский человек попал в дореволюционное время в черту еврейской оседлости. Свыше половины современного населения Москвы – евреи.
В советских учреждениях поражает обилие служащих евреев. И вот что чрезвычайно характерно. Во всех советских учреждениях отношение к просителям русского происхождения чрезвычайно пренебрежительное, даже грубое. Совсем иначе обходятся с евреями. Для них широко раскрыты все двери.
Кроме евреев в Москве встречается довольно много китайцев и латышей.
Много в Москве извозчиков. Они по-старому называют своих клиентов "барином" и предлагают провезти за "двугривенный" (20 млн. р.) или за "пятиалтынный" (15 млн.).
Улицы в Москве, как и в первые медовые месяцы великой и бескровной, засорены шелухой от подсолнухов.
Москва – это город советских нуворишей, где еврейская наглость и безвкусие конкурируют с нравами лакейских и кухонь.
Для вновь прибывающего жизнь в Москве, разумеется, покажется весьма тяжелой. Цены в гостиницах совершенно недоступны для простых смертных. Достать же комнату, даже угол, в частной квартире крайне затруднительно. Москва донельзя переполнена и квартиры уплотнены.
Гарнизон Москвы содержится в исправности. Солдаты одеты и обуты хорошо, даже щегольски; получают достаточный паек.
Совсем иначе вне Москвы, где солдаты ходят в деревянных колодках, иногда босы, в рваном обмундировании, часто голодают.
Что сказать об отношении населения к сов. власти?
Интеллигенция забита, пикнуть не смеет. Боится высказывать свое мнение, ибо даже хорошие знакомые не доверяют друг другу. Везде сыск и провокация.
Простой народ, особенно крестьяне, не стесняются высказывать свою ненависть к сов. власти; но население обезоружено и потому бороться не в состоянии.
Общее мнение, что сов. власть не может долго просуществовать. Но никто не знает, как именно произойдет ее свержение.
Красная армия?
В провинции – она безусловно враждебна к сов. власти. Но везде существует такой идеальный сыск, что малейший намек на заговор моментально раскрывается и всякий беспорядок беспощадно подавляется.
Народ настолько устал от войны, что никакая мобилизация, безусловно не пройдет.
Советская власть отлично учитывает это народное настроение. Вот почему сов. власть безумно боится всяких внешних осложнений; боится возможности войны и готова поэтому на все жертвы, лишь бы ее избежать.
Когда этой весной распространился слух о возможности войны с Польшей, Москва была в панике.
Сов. власть сознавала, что объявление о мобилизации может явиться началом контрреволюции... Б.Ю." (Новое Время, от 10 июля 1923 г., № 659)
"Еще один вид ограбления, разрушения и уничтожения особенно присущ гг. коммунарам-товарищам: это уничтожение надгробных памятников и разрытие могил, где все надеются найти разные драгоценности, чего на деле не оказывается. Ограничиваются поэтому стаскиванием сапог с покойников, не особенно давно похороненных.
Раскапывая могилы, выбрасывали тела покойников и, не находя ожидаемых богатств, не давали себе труда закапывать их вновь. И тела эти валялись на кладбищах, пока не находилась сострадательная душа или возмущенная таким кощунством, которая бы похоронила бренные останки людей, преданных вечному покою...
В начале войны в 1914 году мы с внуком поехали в Москве в Симонов монастырь отслужить панихиду по моему деду и бабушке. Поводом тому было получение внуком дворянской медали за Отечественную войну 1812-1915 гг., пожалованной моему деду и сделанной Высочайшим указом Императора Николая II потомственной для старших в роде, в силу чего внук мой, 17-летний юноша, и получил ее.
Симонов монастырь славился тем, что в нем в особенном порядке содержались надгробные памятники. Каково было наше удивление, когда мы не могли найти памятника наших предков. И вообще, всегда образцово содержимое в ограде монастыря кладбище представляло собой кучи сора, извести, камней, кирпича, мрамора, земли. На мой вопрос, что это значит – дежуривший монах с грустью мне ответил: это работа рабочих в 1905 году. Они ворвались сюда во время беспорядков и усмирения их Дубасовым и Мином и поломали и исковеркали памятники и часовни, особенно титулованных, а средств возобновить все это у монастыря нет, да и трудно разобраться...
Пришлось служить панихиду приблизительно на том месте, где находился родной наш фамильный памятник... А что же теперь, когда подобная мерзость поощряется. Всюду, где были усыпальницы, все разрушено, тела повыкиданы.
Недавно мой знакомый ездил в Колычево, близ Москвы (25 верст), имение бывшее барона Михаила Львовича Боде-Колычева, который считается потомком рода, к которому принадлежал митрополит Филипп, умерщвленный при Иоанне Грозном Малютой Скуратовым. Барон Боде особенно дорожил своей колычевской родней, предками и в своем имении собирал и хоронил всех похороненных в разных местах почивших предков и родственников. Таким образом около церкви было похоронено изрядное количество бояр Колычевых. При этом на надгробных плитах описывались доблести предка, тут похороненного. Так, например, такой-то Колычев служил там-то, был тем-то, получил золотое оружие за храбрость; такой-то получил золотой камергерский ключ и мундир и т.д. Это подало повод местным коммунарам предположить, не похоронено ли золотое оружие с получившими его. Соблазнительны также камергерские мундиры и ключи...
И вот все могилы Колычевых раскопали, тела выкинули и, кроме истлевших лоскутов от мундиров и костей, ничего, конечно, не нашли. Кости и бренные останки валялись около раскопанных могил. И вот в один не прекрасный день случайно заехал проездом мой знакомый в Колычево, и видит он, что молодежь деревенская играет в какую-то игру, вроде мяча, перекидываясь чем-то странным. Оказалось, что перекидываются не мячиком, а черепами, оставшимися не похороненными от костяков Колычевых. Иллюстрация современных нравов.
Да и культура понимается своеобразно. Когда меня из моего дома, в котором я полвека жил, из родного гнезда заставили уехать навсегда, и гг. коммунары стали занимать его, один из этих мне известных местных негодяев нашел нужным многозначительно сказать: "Вы должны быть довольны, что в нашем доме мы устраиваем культурно-просветительный пункт". И в это время его бабы уже располагались в моей прекрасной столовой со своим скарбом и поросятами, которые хрюкали и бегали по столовой. Я не утерпел ему ответить: "Я действительно вижу разительный прогресс. Даже в Англии, где отличный уход за скотом, я не видел, чтобы свиньи содержались и жили на паркетных полах". Не знаю, поняли ли меня гг. коммунары. Они всякую возводили потом на меня небылицу и клевету и кончили тем, что и дом мой сожгли, чудесный в 22 комнаты, хорошо мебилированный. Но, признаюсь, не жалел, ибо снявши голову, по волосам не плачут, а огонь очищает. Доктора мне говорили, что дом до того был загажен коммунистами, что сделался очагом заразы, а мне приятно было знать, что дву- и четвероногие свиньи не живут уже в хоромах, где я когда-то жил с дорогой мне семьей. Вообще уничтожение усадеб, как и памятников, систематично продолжается и по сей час, а где еще кое-где уцелели дома – их разбирают до основания.
Казалось бы, реформы Александра II недаром заслужили ему название "Освободителя", и предшествующие нынешнему два поколения, отцы и деды, особенно чтили память Императора Александра II, и во многих не только городах, но и селах были поставлены ему памятники. Теперь их всюду ломают, а где не осилят сломать, то забивают досками.
Вообще, как я сказал, уничтожение памятников входит в программу действий гг. коммунаров. На Тульском оружейном заводе был поставлен очень хороший памятник Петру I, основателю завода. Петр изображен рабочим, кующим железным молотом оружие. Так и этот памятник Царскому Работнику сломали до основания – уничтожили след. Где, мол, ему равняться с теперешними работниками... Куда они выше... Петра. Где ему за ними?.. Д." (Там же, 13 октября 1923 г., № 740.)
ГЛАВА 36. Положение детей в Советской России
"В сентябре в Москве слушалось в уголовном народном трибунале характерное для времени дело по обвинению в разбое трех гимназистов.
Воспитанники Борисоглебской гимназии (Тамбовской губ.) Карелин, Игумнов и Величко явились на квартиру своего товарища Варежкина и предложили ему сыграть партию в шахматы с тем, что проигравший застрелится. Партия началась, Варежкин проиграл, но стреляться не пожелал. Товарищи попробовали его задушить, но не смогли, и тогда 16-летний Карелин застрелил Варежкина из револьвера. На выстрелы прибежала в комнату г-жа Варежкина – застрелили и ее, наконец, в кухне нашли перепуганного младшего Варежкина, гимназиста 11 лет, застрелили и его. Квартиру ограбили; уходя, заметили, что старший Варежкин и мать его живы; за отсутствием патронов раненых начали добивать штыком, нанеся каждому около 20 ран. Преступление более месяца не было раскрыто и обнаружилось случайно. Карелин, вздумав реализовать ценности, вошел в соглашение с кондуктором железной дороги, который отвез их в Тифлис и там обменял на рис и спирт. При распределении прибылей была обижена любовница кондуктора и она-то и донесла о преступлении.
По приговору суда Величко и Игумнов были присуждены к расстрелу, прочие к десятилетнему тюремному заключению.
Таковы нравы советской молодежи!" (Новое Время, 30 ноября 1923 г., № 781.)
А вот положение малолетних детей, сознательно обрекаемых советской властью на вымирание.
"Советские "Известия" не делают особой разницы между нашествием саранчи и сусликов и... детей. И то и другое цинично оценивается с точки зрения стихийного бедствия, с которым нужно бороться едва ли не одинаковыми средствами.
"У нас новое неслыханное бедствие, – пишет московская большевистская газета, – нашествие детей". Это не описка: не мышей, не сусликов, а именно детей. Представьте себе такую картину. На тысячу верст из разных мест группами и в одиночку бредут по дорогам дети. Они идут пешком, пристраиваются на поездах под вагонами и на буферах, бродяжат по много месяцев и являются в полном смысле бесприютными. Бродяжничая по Руси в поисках хорошего жилья, они слышат разговоры о том, что есть большой город Москва, где берут детей на прокорм. И вот все они двинулись в Москву стихийно, самотеком."
Конечно, в советской Москве дети голодают, никто их не берет на "прокорм", т.к. "прокорм" сам нужен коммунистам и прочим содержанцам III интернационала.
Среди детей-бродяжек, как удостоверяют "Известия", много случаев самоубийств." (Новое Время, 1 авг. 1923 г., N 677.)
Нельзя не отметить и статьи Е.Глуховцовой, напечатанной в "Русской Газете" 31 декабря 1923 г., № 8; приводим ее целиком.
"Дети – наше будущее". "При царизме тысячами гибли от голода пролетарские дети, только рабоче-крестьянское правительство пришло им на помощь". "Дети пролетариата, великие вожди революции Ленин и Троцкий сделают вас хозяевами вашей жизни".
Этими нагло лживыми лозунгами-рекламами пестрят стены всех учреждений, и ни в чем так ярко не проявляется истинная сущность бандитского правительства, как в этих широковещаниях о беспризорных детях. Возьмите официоз "Вестник Социального Воспитания", прочитайте отчеты: как прекрасно, широко разработан план и как много приведено в осуществление. Какие "достижения"! А вот что показывает неприкрашенная действительность.
"Дворец ребенка" – кричит аршинными буквами вывеска. Это первая ячейка плана социального воспитания. Прекрасное здание; светлые, чистые комнаты; масса служащих женщин – "своих", бросающихся в глаза костюмами и упитанным видом, и несколько десятков восково-желтых скелетиков, неподвижно сидящих в высоких креслицах, без улыбок, без обычного птичьего щебета. Некоторые лежат в кроватках и тихо пищат. Жуткое впечатление. Здесь воспитываются ребята от двухмесячных и могут оставаться до 3-х лет. Но трехлетних и даже годовалых нет. Это официальная фабрика "ангелов". По отчетам вымирает 85% детей; по уверениям врачей – умирают все 100%, причем большинство погибает через две-три недели. А между прочим, ассигнования на "Дворец" огромные: какао, молоко, яйца и прочие деликатесы, нам, смертным, недоступные, – выдаются в неограниченном количестве, и разговоры о пирах во "Дворце" нередко облетают город. В чем же дело? Заведует "Дворцом" супруга помощника губпрокурора Лондон. У нее своя большая семья, выработались привычки к хорошей жизни и, живя сама, она дает жить и набранному ею штату, а у штата мамаши и папаши, которые не прочь выпить стакан какао и любят молочное. Открыто растаскивается по домам предназначенное младенцам; из большого штата служащих налицо – особенно по вечерам – две, три. И ребят поят прокисшим, разбавленным молоком, часто и вовсе забывают накормить и с шести часов вечера они предоставлены самим себе.
Затеяла было историю одна коммунистка, командированная партией на три недели в Харьков и оставившая девятимесячную, прекрасно упитанную дочку во "Дворце", которую она не нашла в живых вернувшись, но историю быстро потушили. Девочка, оказывается, умерла от тоски по матери. Слишком уж сильны товарищи Лондона.
2-я ячейка – "коллектор". Учреждение, куда собирают "счастливцев", добившихся права быть зачисленными кандидатами в детские дома. Вот куда следовало бы направлять знатных иностранцев, пропагандирующих строительство Совдепии. Это воплощенная картина Дантова ада. В городе, где я жила, "коллектор" помещается в психиатрической больнице, в бывшем отделении "для привилегированных". Так как классовая вражда распространяется и на психически больных "буржуев", то при первых аккордах "великого октября" последние были выгнаны и, по словам служащих, ограблены, помещение реквизировано.
В большой зале с колоннами, полутемной от решеток в окнах, кишит полтораста детей обоего пола от 5 до 17 лет. Старший возраст преобладает. Необутые, в ужасающих лохмотьях, усыпанных паразитами, с обритыми головами; лица испитые, изможденные, явно порочные. Язвы и нарывы на голове, на ногах, у многих на лице. Два реквизированных рояля по углам. На одном – "беспризорный ребенок лет 16" разыгрывал в момент моего посещения какой-то ноктюрн ногами; на другом младший подбирал мотивы "интернационала" в десять рук. Кого-то душили, и он визжал, как поросенок под ножом. Часть бегала, кувыркалась, давала "подножку", образовывая малую кучу, и все вместе кричали так дружно и неистово, точно зарабатывали этим хорошие деньги. Три замученных девушки из народных учительниц – оплата здесь жалкая, а потому служат только "наши" – тщетно пытались водворить порядок, но вслед им неслась особая, многоэтажная, кощунственная брань – одно из завоеваний октября. Обедают в три очереди традиционным крупником с простым маслом. Порции маленькие; голодные дети языками вылизывают миски и в нее тут же наливается следующему. Спят вповалку на полу, кроватей немного, на грязных соломенных тюфяках под ужасающими одеялами. Изнасилование девятилетних девочек, беременность пятнадцатилетних –рядовое явление. Было несколько случаев избиения друг друга до смерти. Мелкие кражи получили право гражданственности, за них и не наказывают. Налеты на соседние чердаки, дома и огороды, от которых стонут обыватели, никого не озабочивают. Занятие не производится и производиться не может: на 150 человек три воспитательницы, но это и неважно. Важно, чтобы будилось революционное сознание и велось политическое воспитание. И оно ведется. Два раза в неделю в этот бедлам являются "прикрепленные" к нему три комсомольца и, собирая каждый свою группу, знакомят с биографией вождей, с ужасами режима "кровавого Николая", выясняют прелести и свободы настоящего. Главное внимание направляется на разжигание классовой вражды. Мне пришлось слышать слова комсомольца, обращенные к детям: "Красть стыдно у своего брата, у пролетария; красть у буржуя совсем не стыдно, потому что все что у него есть, он награбил у народа, и, беря у буржуя силой, – ты берешь свое и можешь ему сказать: взял у народа и отдай народу, не отдаешь добровольно – я беру сам".
А на стене висит огромный, многоцветный лозунг с аршинными буквами: "Только рабоче-крестьянское правительство несет свет и счастье детям пролетариата".
Во главе комиссариата народного просвещения стоит, как известно, Луначарский (Мандельштам), который говорил (цитируем по "Речи Обера", стр. 70-72), что "учебные заведения у нас для совместного обучения, с новым порядком школьной дисциплины. Мы хотим, чтобы дети воспитывались в атмосфере любви". Это тот самый Луначарский, который в другом месте и другим людям говорил: "Мы ненавидим христиан. Даже лучшие из них должны быть признаны нашими врагами. Они проповедуют любовь к ближнему и сострадание, то, что противоречит нашим принципам. Христианская любовь преграждает развитие революции. Долой любовь к ближнему! То, что нам нужно – это ненависть. Мы должны уметь ненавидеть; только тогда мы можем победить вселенную". (Там же, стр. 89.)
И в руках этого негодяя судьба миллионов русских детей, погубленных им не только физически, но и морально. Вот данные, приведенные г. Обером в его речи: "В течение первого семестра (1923 г.) было зарегистрировано 29 317 преступлений, совершенных малолетними сиротами менее 17 лет". А разврат? Один из свидетелей г. Карню заявил здесь на суде, что он знает от одной, заслуживающей полного доверия дамы, что курсанты были впущены в спальные комнаты молодых девушек. В Петрограде комиссия установила, что 90% девочек моложе 16 лет были лишены невинности. Другой рапорт комиссии по венерическим болезням сообщает, что из 5300 молоденьких девочек, осмотренных комиссией, 4100, т.е. 88%, были проститутками. В докладе, составленном педагогами, можно видеть такой возглас отчаяния: "Мы бессильны бороться с явлением небывалым в России, с громадным ростом преступности и проституции среди детей". Большевики заявили, что берут на свое попечение всех русских детей. И нигде нет столько заброшенных детей, как в России. В Волжских областях, согласно "Известиям" от 5 декабря 1922 года, – 2 миллиона. На Украине, по рапорту большевических комиссаров, – 1 656 000. В Петрограде – тысячи бродячих детей. "Эти дети, – говорит "Таймс" от 23-28 августа 1923 г., – напоминают уличных собак в Константинополе. Они мрут от голода и болезней, но число их не уменьшается, в силу все новых и новых пополнений..."
"Перейдем теперь к большевическим приютам, – продолжает Обер. – Мне достаточно будет прочесть вам один доклад, представленный в комиссариат народного просвещения. Женщина, написавшая этот доклад, была посажена в тюрьму. Луначарский, филантроп новой формации, признал ее контрреволюционеркой. Вот этот доклад: "Число сирот и бесприютных детей растет с страшной быстротой. Дети нищенствуют, толкаемые голодом и холодом занимаются воровством, их часто можно видеть пьяными. Целыми толпами беспризорные дети направляются на юг. Вдоль железных дорог можно видеть толпы детей, прячущихся в помещениях, которые они сами себе устроили. Ребенок сделался дик и всеми средствами ищет, куда бы ему скрыться. В убежищах для бесприютных детей на одной постели помещается от 6-8, остальные спят на полу, они едят из старых консервных банок, у многих отморожены руки и ноги, их тело покрыто лишаями и ранами, их съедают вши, дети издают какие-то крики от страдания и страха." В Саратовской губернии власти открыто заявили, что лучше перестрелять всех тех, которые находятся в приютах, чем оставить их жить при таких условиях." (стр. 70-72).
ГЛАВА 37. "Свобода" печати в Советской России
В газете "Новое Время" от 10 июля 1927 г., № 1854 приведено замечательное письмо русских писателей из России, полученное "Союзом Русских писателей и журналистов" в Белграде. Этот документ должен быть увековечен, как подлинный голос русских великомучеников, томящихся в жидовской кабале. Я воспроизвожу письмо дословно, хотя выпады авторов против "политики дореволюционной власти" и некоторые другие места, отмеченные мной курсивом, и свидетельствуют о том, что даже там, в России, после 10-летних кровавых экспериментов жидовластия, далеко еще не все прозрели по-настоящему, если допускают даже отдаленную связь между "политикой дореволюционной власти" и революцией, или думают, что "писатели", особенно те, кто откликался на дореволюционные события в России, клеймил царскую власть и "заступался" за "народ" – являлись действительно "ухом, глазом и совестью мира". Большинство их помогало революции и потому и откликалось, разжигая страсти и вводя в заблуждение доверчивых и легкомысленных людей, ставших жертвой своей доверчивости.
ПИСАТЕЛЯМ МИРА
К вам, писатели мира, обращены наши слова
Чем объяснить, что вы, прозорливцы, проникающие в глубины души человеческой, в душу эпох и народов, проходите мимо нас, русских, обреченных грызть цепи страшной тюрьмы, воздвигнутой слову? Почему вы, воспитанные на творениях также и наших гениев слова, молчите, когда в великой стране идет удушение великой литературы в ее зрелых плодах и ее зародышах?
Или вы не знаете о нашей тюрьме для слова – о коммунистической цензуре во вторую четверть XX века, о цензуре "социалистического" государства? Боимся, что это так. Но почему же писатели, посетившие Россию, – господа Дюгамель, Дюртен и другие – почему они, вернувшись домой, ничего не сообщили о ней? Или их не интересовало положение печати в России. Или они смотрели и не видели, видели и не поняли? Нам больно от мысли, что звон казенных бокалов с казенным шампанским, которым угощали в России иностранных писателей, заглушил лязг цепей, надетых на нашу литературу и весь русский народ.
Послушайте, узнайте!
Идеализм, огромное течение русской художественной литературы, считается государственным преступлением. Наши классики этого направления изъемлются из всех общедоступных библиотек. Их участь разделяют работы историков и философов, отвергавших материалистические взгляды. Набегами особых инструкторов из общих библиотек и книжных магазинов конфискуется вся дореволюционная детская литература и все произведения народного эпоса. Современные писатели, заподозренные в идеализме, лишены не только возможности, но и всякой надежды на возможность издать свои произведения. Сами они, как враги и разрушители современного общественного строя, изгоняются со всех служб и лишаются всякого заработка.
Это первая стена тюрьмы, за которую засажено свободное слово. За ней идет вторая.
Всякая рукопись, идущая в типографию, должна быть предварительно представлена в двух экземплярах в цензуру. Окончательно отпечатанная, она идет туда снова – для второго чтения и проверки. Бывали случаи, когда отдельные фразы, одно слово и даже одна буква в слове (заглавная буква в слове "Бог"), пропущенные цензором, автором, издателем и корректором, вели при второй цензуре к безжалостной конфискации всего издания.
Апробации цензора подлежат все произведения – даже работы по химии, астрономии, математике. Последующая авторская корректура в них может производиться лишь по особому, каждый раз, согласию цензора. Без него типография не смеет внести в набор ни одной поправки.
Без предварительного разрешения цензора, без специального прошения с гербовыми марками, без долгого ожидания, пока заваленный работой цензор дойдет до клочка бумаги с вашим именем и фамилией, при коммунистической власти нельзя отпечатать даже визитной карточки. Господа Дюгамель, Дюртен могли легко заметить, что даже театральные плакаты с надписью "не курить", "запасный выход" помечены внизу все той же сакраментальной визой цензуры, разрешающей плакаты к печати.
Есть еще и третья тюремная стена, третья линия проволочных заграждений и волчьих ям.
Для появления частного или общественного издательства требуется специальное разрешение власти. Никому, даже научным издательствам оно не дается на срок больший двух лет. Разрешения даются с трудом и неказенные издательства редки. Деятельность каждого из них может протекать только в рамках программы, одобренной цензурой. На полгода вперед издательства обязаны поэтому представлять в цензуру полный список всех произведений, подготовляемых к печати, с подробными биографиями авторов. Вне этого списка, поскольку он утвержден цензурой, издательство не смеет ничего выпускать.
При таких условиях принимается к печати лишь то, что наверняка придется по душе коммунистической цензуре. Печатается лишь то, что не расходится с обязательным для всех коммунистическим мировоззрением. Все остальное, даже крупное и талантливое, не только не может быть издано, но должно прятаться в тайниках; найденное при обыске, оно грозит арестом, ссылкой и даже расстрелом.
Один из лучших государствоведов России – профессор Лазаревский был расстрелян единственно за свой проект российской конституции, найденный у него при обыске.
Знаете ли вы все это? Чувствуете ли весь ужас положения, на которое осуждены наш язык, наше слово, наша литература?
Если знаете, если чувствуете, почему молчите вы? Ваш громкий протест против казни Сакко, Ванцетти и других деятелей слова мы слышали, а преследования вплоть до казни лучших русских людей, повинных только в инакомыслии с властью, преследования и казни русских писателей, даже не пропагандирующих своих идей, за полной невозможностью пропаганды, проходят, по-видимому, мимо вас. В нашем застенке мы, во всяком случае, не слышали ваших голосов возмущения и вашего обращения к нравственному чувству народов. Почему?
Писатели! Ухо, глаз и совесть мира – откликнитесь! Не Вам утверждать: "Нет власти, аще не от Бога". Вы знаете: свойства народа и свойства власти в деспотиях приходят в соответствие лишь на протяжении эпох; в короткие периоды народной жизни они могут находиться в трагическом несходстве. Вспомните годы перед нашей революцией, когда наши общественные организации, органы местного самоуправления, Государственная Дума и даже отдельные министры звали, просили, умоляли власть свернуть с дороги, ведшей в пропасть. Власть осталась слепа и глуха. Вспомните: кому вы сочувствовали тогда – кучке вокруг Распутина или народу. Кого вы тогда осуждали и кого нравственно поддерживали? Где же вы теперь?
Мы знаем: кроме сочувствия, кроме моральной поддержки принципам и деятелям свободы, кроме морального осуждения жесточайшей из деспотий, вы ничем не можете помочь ни нам, ни нашему народу. Большего, однако, мы и не ждем. С тем большим напряжением мы хотим от вас возможного: с энергией, всюду, всегда срывайте перед общественным сознанием мира искусную лицемерную маску с того страшного лика, которым является коммунистическая власть в России. Мы сами бессильны сделать это: единственное наше оружие – перо – выбито из наших рук, воздух, которым мы дышим – литература – отнят от нас, мы сами – в тюрьме.
Ваш голос нужен не только нам и России. Подумайте и о самих себе: с дьявольской энергией, во всей своей величине, видимой только нами, ваши народы толкаются на тот же путь ужасов и крови, на который в роковую минуту своей истории 10 лет тому назад был столкнут наш народ, надорванный войной и политикой дореволюционной власти. Мы познали этот путь на Голгофу народов и предупреждаем Вас о нем.
Мы лично гибнем. Близкий свет освобождения еще не брезжит перед нами. Многие из нас уже не в состоянии передать пережитый страшный опыт потомкам. Познайте его, изучите, опишите вы, свободные, чтобы глаза поколений, живущих и грядущих, были открыты перед ним. Сделайте это – нам легче будет умирать.
Как из тюремного подполья отправляем мы это письмо. С великим риском мы пишем его, с риском для жизни его переправят за границу. Не знаем – достигнет ли оно страниц свободной печати. Но если достигнет, если наш замогильный голос зазвучит среди Вас, заклинаем вас: вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь. Норма поведения нашего великого покойника – Л.Н. Толстого, крикнувшего в свое время на весь мир "не могу молчать", станет тогда и вашей нормой.
Группа русских писателей.
Май 1927 г., Россия.
ГЛАВА 38. Земля обетованная
Приведенные мной сведения очень кратки, отрывочны, собраны только из нескольких газет, касаются преимущественно крестьян, не затрагивают ни положения рабочих и интеллигенции, не говорят ни о развале транспорта и промышленности и, разумеется, недостаточны для того, чтобы составить себе представление о тех грандиозных разрушениях, какие превратили всю Россию в развалины. Но они достаточны для того, чтобы сказать, кто это сделал, кто скрывался за так называемым "рабоче-крестьянским правительством", достаточны, надеюсь, и для того, чтобы понять, с какой целью были допущены эти разрушения.
Истребление христианского населения, ликвидация самого христианства, превращение России в "обетованную землю", в Израильское царство с царем иудейским, завоевание, путем мировой революции, всего мира и расширение власти иудейского царя до пределов владычества над всей вселенной, – эти цели, как они ни безумны и фантастичны, лежали в основании вековых иудейских программ, и революция в России была лишь одним из этапов к достижению их.
Это не мое личное предположение, не только вывод из предыдущего, но, кроме того, и откровенное признание самих евреев, поработивших Россию и считающих свое положение в России достаточно крепким для того, чтобы не иметь нужды скрывать свои замыслы.
Вот что мы читаем в превосходной статье "Чека", напечатанной г-жею Е.Глуховцовой в "Новом Времени", от 3 апреля 1924 года, в № 882. Комментарии к этой статье излишни. Мы приводим эту статью целиком. Это не слух и не рассказ с чужих слов, это – личное переживание.
Чека
Это было на шестой неделе Великого поста. Мы сидели у стола: две воспитательницы, я – заведующая педагогической частью – и коммунистка К., назначенная губпартией для контролирования моих действий, как беспартийной, и оживленно высчитывали, во сколько обойдутся куличи, спеченные в складчину.
– Тов. Глуховцова, постановлением губчека вы арестованы, – неожиданно, как выстрел, раздался чеканящий голос одного из ялтинских палачей – Топорельского. Мы вскочили, ошеломленные. В дверях стояли два солдата с ружьями. К. взволнованно подошла к Топорельскому.
– В чем дело? Я здесь наблюдающая и могу удостоверить...
Он перебил ее.
– К товарищу предъявлено тягчайшее обвинение. В Ялте ее бы расстреляли в 24 часа без суда. В Одессе власти гуманнее; но допрос поручен Гальперину; это бывший присяжный поверенный, опытный человек. Его красивыми словами не обойдешь.
– Приговор предрешен, – мелькнуло у меня в голове, и я стала настаивать, чтобы взяли и мою дочь. Все горячо запротестовали, а К., которую я за два месяца успела настолько перекрасить, что благодаря ей завязала знакомство с рабочими, шепнула мне, укладывая вещи:
– Не бойтесь. Завтра иду в партию и устрою скандал. Не поможет – натравлю рабочих. Через три дня вы будете свободны.
Тяжелое, точно в полусне, прощание с дочерью и со всеми плакавшими, точно я уже была покойник, и мы вышли. Прозрачно синело весеннее небо, пушились клейкими листочками деревья. Женщины и дети продавали первые цветы. Жуткий холодок вставал внутри при мысли, что, быть может, видишь все это в последний раз.
Узкая, длинная, полутемная камера была переполнена сидевшими почти вплотную на каменном полу женщинами. Кто-то потеснился и мне дали место в углу. Как только захлопнулась дверь камеры, все устремились с вопросами ко мне: "За деникинцев?" Оказывается, все арестованные – их было 14 – сидели за мужей, сыновей, братьев: все обвинялись, что прятали родных и помогали бежать. Бросались в глаза: сестра милосердия с узким, монашеского типа лицом, обвинявшаяся в выдаче поддельных пропусков "белым", шестидесятилетняя старушка, прятавшая сына, непрерывно молившаяся по четкам из нанизанной фасоли, и помещица Кл., жена полковника, бежать которому помогла какая-то организация. Ее арестовали вместе с дочерью, 15-летней худосочной девочкой, надеясь, что ребенок скорее выдаст фамилии нужных лиц. Первые два дня прошли спокойно; нашу камеру не трогали, и в моральном оцепенении мы томились ожиданием. В 12 часов приносили "передачу с воли" и казенный чан с неопрятной темной бурдой и ломтем черного хлеба. Бурду уносили обратно, хлеб съедался. В 7 часов повторялось то же. С десяти – чека стихала и входил ужас. Смолкали разговоры. Неподвижно сидели мы, боясь шевельнуться, и, затаив дыхание, напряженно вслушивались, не раздадутся ли роковые шаги. Вот хлопнула где-то дверь... Все вытягиваются, кое-кто привстает... Шаги... "Смерть идет"... К кому?.. Кто крестится, кто судорожно впивается в руку соседки, и все пятнадцать пар глаз прикованы к двери. Шаги сворачиваются в сторону и затихают. Животный вздох облегчения... Стыдно его, но он невольно вырывается из груди. Опять шаги... Но их больше... Иногда как будто возня... "Ведут"... Спустя мгновение – шум заведенного мотора. Бьется в истерических рыданиях измученная девочка. Старушка, быстро перебирая дрожащими руками четки, громко читает напутственные молитвы. Схватившись за голову, сидит сестра. Кто-то надрывно выкрикивает: "Не могу!.. не могу!.. Господи, где же Ты?" И во всех камерах огромного здания каждую полночь бились в судорогах страданий сотни запертых на человеческой бойне людей. Страшен был третий день. Как мы пережили его, когда теперь, три года спустя описываю его, я задыхаюсь от жгучей боли. В десять утра пришли на допрос за Кл. с дочерью – это был уже второй, – а часа через полтора девочку внесли в бессознательном состоянии и трупом положили на пол. Из-под короткого платьица багровыми опухолями синели икры. Ее стегали ремнем по ногам, требуя, чтобы назвала фамилии лиц, помогавших бежать отцу. Через минуту ввели мать. Она шла шатаясь, с распущенными волосами; опустилась на пол около дочери, приникнув головой к ее лицу, и общий стон ужаса вырвался у нас: ее голова пестрела широкими белыми плешами. Половина волос была вырвана. Около 11 часов вечера зловещие шаги раздались близко, близко.
Неожиданно щелкнул замок, порывисто отворилась дверь.
– Сестра! – Сидевшая с низко опущенной головой сестра встала так быстро, точно только и ждала этого. Странно выпрямленная, сделала несколько твердых шагов и у двери повернулась к нам. На меловом, разом состарившемся лице выделялись уже потусторонние глаза. Она отвесила широкий поясной поклон и вышла... Завод мотора и... Нет... разве можно описать! Бледно и бессильно человеческое слово. Помню только взлетевший к потолку кощунственно-злобный выкрик "Милосердный!.. Так это милосердие?.."
Ко мне отнеслись "гуманно". К. не ошиблась: протекцию в чека мне составила известная в Одессе Сара одноглазая, служившая у нас кастеляншей. Я обнаружила у нее крупную пропажу белья, и она стала просить, чтобы я написала, что белье раскрадено детьми. На мой категорический отказ она стала отвечать угрозами и заметила мне, что я "угнетаю" ее и остальных служащих – из 13 человек 9 были еврейки – ненавидя евреев. Возражая, я бросила неосторожную фразу: "Говорить об угнетении евреев, когда вся власть в их руках, как будто странно". В тот же вечер был отправлен донос за всеми подписями. Допрашивали меня двое: Гальперин, корректный еврей буржуазного типа, и маленький лохматый жиденок, все время злобно кипевший. На вопрос, сказала ли я такую фразу, я ответила утвердительно, объяснив обстоятельства и весь допрос вертелся на этом.
– Значит, ваше убеждение, что власть в России в руках евреев?
– Это мое впечатление.
– На чем оно основано? – Я называю фамилии одесских властей.
– Значит, вы продолжаете настаивать?
– Я не комментирую, я констатирую.
Еще несколько вопросов по глупым обвинениям, что я перетягивала Сару из партии, превратила К. в "редиску", и я была отведена в камеру, где в присланных папиросах нашли записку, что рабочие отстояли меня, ссылаясь на болезнь дочери, и я буду освобождена. Через два дня меня снова повели на допрос и после вопросов о том же, Гальперин торжественно объявил: "Вы свободны, товарищ, но запомните раз навсегда: железный закон революции... власть попадает в руки умнейших и сильнейших. Русский народ – темное быдло. Русская интеллигенция – св..., ни к чему не способная; лучшими оказались мы. И потому вся власть не в руках евреев, а сильнейших и умнейших. Антисемитизм – тягчайшее преступление в нашей республике, и вы, несомненно, антисемитка и если вы еще раз попадетесь, вас не спасет ничье заступничество".
Он встал. Поднялся и жиденок, все время игравший каким-то желтым предметом.
– Да, сильнейшие и умнейшие! – как-то визгливо выкрикнул жиденок, – так и говорите вашим! И они нескоро простят погромы и дело Бейлиса: пять поколений будут помнить! – Желтый предмет взмахнулся в воздухе. Я инстинктивно закрыла лицо. Ошеломляющий удар в левую часть головы, и я потеряла сознание. Очнулась я в камере. Левое ухо и кожа на голове были рассечены, блузка намокла от крови. В тот же день я на извозчике была доставлена в детдом. Был Страстной четверг. Куличей в складчину мне не пришлось есть: около двух недель я пролежала с затемненным сознанием.
Глуховцова.
Еще более характерное признание жидов мы находим на страницах "Еженедельника Высшего Монархического Совета" в № 74, от 15 января 1923 года.
"Грозные времена переживает человечество. На земле происходит страшная борьба дьявола с Духом Света. Кто останется победителем в этой борьбе, верующим угадать нетрудно, но пока приспешники сатаны не спят и борьбу свою распространяют все шире и наглее. К счастью, одновременно с этим все больше раскрывают они свои карты; и лишь слепые не видят того, что в них значится, лишь предвзято настроенные могут отрицать действительную подкладку того, что совершается.
Приезжий из России рассказывает, со слов своего друга, обстановку одного еврейского концерта, когда после музыкально-вокальных исполнений на кафедру вышел раввин и провозгласил: "Радуйся народ Израилев", и далее сказал, что, наконец, избранное племя нашло свою обетованную землю: земля эта, по определению ее же "населения" (не народа, а именно населения, подчеркнул раввин), велика и обильна, но порядка в ней нет. Еврейский народ призван дать ей порядок. Теперь в этой стране, отданной во владение Израилю, исполняется предсказание о даровании избранному племени "земли обетованной". Это было в Москве.
Но те же нотки ничем не прикрытого торжества сквозят и за границей России в речах приспешников всемирного еврейства. В Европе под видом лекторов от всевозможных общественных и человеколюбивых учреждений открыто выступают проповедники антихристианских учений. Так 8 января с.г. в лагере Целла, в Германии, лектором общества "Свет Востоку" г. Ассур была прочитана лекция на тему "Христос и русская эмиграция", 14-го же, другом Ассура, Шларбом, докладывалось о том, "Что ожидает нас в будущем?".
Ассур утешал русскую эмиграцию тем, что по всем признакам Священного Писания должен явиться пророк, который и облегчит страдания народов. Мысль, недосказанную Ассуром, развил, дополнил и уточнил Шларб, указав, что из всех древних народов евреи единственное племя, не погибшее и сохранившее, несмотря на все притеснения и гонения, все свои особенности. Из этого народа, по мнению Шларба, должен появиться человек, который удовлетворит всех в политическом и религиозном отношениях. Дальше идти некуда. Невольно мысль сопоставляет слова Шларба со столь ненавистными иудеям Протоколами Сионских Мудрецов: уж очень часто происходящее за последнее время на белом свете напоминает предложенную еврейству Ахад-Хамом программу.
После перечисления ряда мер: войн, искусственного голода, правительственных кризисов, развития преступности и т.д., долженствующих разрушить христианские государства, в протоколе № 10 ("Протоколы Сионских Мудрецов". Берлин, 1922) мы читаем под заголовком "Момент провозглашения всемирного царя" следующее: "Признание нашего самодержца может наступить не ранее уничтожения конституции (момента не явного захвата власти в государстве еврейством. – Ред.): момент этого признания наступит, когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами подстроенной, воскликнут: уберите их и дайте нам одного всемирного царя, который объединил бы нас и уничтожил причины раздоров, границы, национальности, религии, государственные расчеты, который дал бы нам мир и покой, которых не можем найти с нашими правителями и представителями".
Вот он, человек, способный, по словам Шларба, "удовлетворить всех в политическом, экономическом и религиозном отношениях". В этой выдержке из "Протоколов" надо, по-видимому, искать и разгадку событий, происходящих ныне и кажущихся часто столь непонятными."
После всего сказанного странно говорить о каком-то "правительстве", хотя бы и называющемся "советским".
В России нет правительства, а есть международная шайка изуверов, осуществляющая директивы того "Незримого правительства", какое управляет всем миром не только помимо, но и против воли народов, и о котором народы не знают потому, что не знают истории и, в частности, библейской истории Ветхого Завета.
Разве можно при этих условиях говорить об "ошибках" или "заблуждениях" власти, или даже о "массовом психозе", когда все эти причины сводятся к одной – порабощению народов жидами и исчезнут с момента их изгнания этими же народами, разве можно говорить о несовершенстве каких-то политических программ или государственного аппарата в применении к этой власти, единственной задачей которой является истребление христианских народностей, уничтожение христианской культуры и завоевание мира?!
Все эти ссылки на русский деспотизм, на устарелые формы правления и русскую отсталость, параллельно с указанием на русскую "природу", требующую соответствующего режима власти, – все это или невежество, или замаскированный обман. Европа знает, что русский народ неизмеримо культурнее духовно, чем европейцы, что русское самодержавие было единственной в мире властью, пользовавшейся христианскими приемами управления, и ставило мораль выше политики. В этом была бессмертная, неувядаемая красота русской власти и ее духовная мощь, но в этом была и ее слабость, какую Европа, никогда не брезгавшая никакими средствами для достижения своих целей и забывшая о морали, использовала для своих выгод. Русские Цари были не только героями долга и чести, но и Помазанниками Божиими, и ни один из них не приносил морали в жертву политике. Император Николай II, имя Которого перейдет в историю святых Православной Церкви, оставался настолько верным союзным обязательствам, что отвергнул руку помощи со стороны немцев даже в тот момент, когда вражеская рука хотела спасти Его и Его Семью, сказав при этом, что предпочел бы скорее отрубить руку, чем изменить данному слову, а правители Европы протягивают руку убийцам и угощают их обедами, срывая аплодисменты у толпы, забывшей Бога. В этом разница между Россией и Европой, и эта разница так велика, что нужно быть очень наивным для того, чтобы ожидать от Европы не только помощи, но хотя бы сочувствия страданиям России.
И, если придет час, когда Россия отступит от своих прежних политических программ и перестанет видеть свое призвание в помощи своим соседям, то на страницах "Истории Русской революции" Европа найдет объяснение такому решению.
Часть третья
ГЛАВА 39. Церковь после революции
Когда государственность была окончательно сломлена и несметные сокровища и богатства необъятной России попали в руки жидов, когда скованное террором, доведенное до людоедства, несчастное население, вынужденное в поисках пропитания вырывать трупы из могил, убивать и есть даже собственных детей, потеряло уже всякую способность сопротивления, тогда жидовская власть набросилась на самое дорогое достояние русского народа, приступила к своей конечной задаче – гонению на Православную Церковь.
Хотя к этой конечной цели сводились все начинания коммунистов, хотя каждая революция знаменует собой лишь борьбу жидовства с христианством, пятиконечной звезды с крестом, однако в области религиозных преследований жиды соблюдали не только последовательность и постепенность, но и величайшую осторожность. Их первые начинания были глубоко замаскированы, и не только не вызывали противодействия со стороны одураченного населения, но встречали даже сочувствие и поддержку. Впрочем, под маской лжи и обмана протекали и все прочие "реформы", однако же в первые годы своего владычества жиды еще не решались трогать Церковь и приступили к открытому преследованию религии уже после того, когда Временное Правительство подготовило достаточную для этого почву и "рабоче-крестьянское правительство" достаточно окрепло.
Останавливаясь на положении Церкви после революции, необходимо выделить два момента: первый – до созыва Всероссийского Собора и избрания Патриарха, второй – после восстановления патриаршества.
Первый момент был кратким и закончился в ноябре 1917 года, второй продолжается и доныне.
Остановимся сначала на первом моменте.
Как известно, Временное Правительство, уничтожив местные органы правительственного аппарата, оставило в неприкосновенности центральные, и проходимцы, выдвинутые революцией и пришедшие на смену прежней власти, гордо величали себя "министрами". Продолжал действовать и Святейший Синод в лице своих прежних членов, с той лишь разницей, что вместо Н.П. Раева обер-прокурором был назначен дегенерат Вл.Н. Львов. Свидетелем его первых шагов в той роли, к которой он так лихорадочно стремился, я не был, но слышал, что он ознаменовал свое вступление в должность тем, что выбросил из залы заседания Св. Синода царское кресло и что ему помогал в этом злодеянии и один из замученных впоследствии большевиками почтенных иерархов, член Св. Синода...
Утверждать этого последнего факта я не берусь, однако хорошо помню то страшное негодование, с которым об этом факте рассказывалось, и не имею данных для того, чтобы его опровергнуть. Следующим шагом В.Н. Львова было изгнание неугодных ему иерархов с занимаемых ими кафедр, и в первую очередь им были удалены митрополиты С.-Петербургский Питирим и Московский Макарий, причем первый был тотчас же арестован и препровожден в Государственную Думу, откуда был выпущен с обязательством покинуть столицу, а второй был вынужден уехать из Москвы и скрыться в Троице-Сергиевскую Лавру. Однако Львов и здесь настиг праведника-митрополита и, полагая, что митрополит может использовать типографию Лавры для контрреволюционных целей, сослал старца в Николо-Угрешский монастырь.
Подобно тому, как повсеместно в России губернаторы сменялись с своих должностей и заменялись либеральными председателями земских управ, углублявшими революцию, подобно этому изгонялись, без суда и следствия, правящие архиереи, и на их место, вопреки канонам, "избирались" викарные епископы... Синод, однако, был безгласен и не только не предъявлял возражений и не выражал протестов, а, уступая силе, безропотно подчинялся таким "избраниям" и даже возводил викарных епископов в сан, соответствующий их новой должности. Не возражали против своего избрания и викарные епископы, находившиеся нередко в оппозиции к правящим архиереям и усматривающие в таком избрании свою победу над ними. Так, тотчас после удаления митрополита С.-Петербургского Высокопреосвященного Питирима, на его место был избран викарный епископ Вениамин, и Синод не только не заступился за митрополита, не только не оказал сопротивления явному насилию со стороны Львова, не только не выразил протеста, что так часто делал в отношении законного представителя Царской власти в Синоде, но даже утвердил "избрание", возведя викарного епископа Вениамина в сан митрополита... Случай в летописях церковной истории небывалый.
Лично я мало знал Преосвященного Вениамина, но слышал о нем добрые отзывы, какие, верно, и были справедливы, ибо впоследствии он был зверски замучен и расстрелян большевиками и сподобился мученической кончины.
Еще более тягостное впечатление произвело отношение Синода к гонимому тем же Львовым престарелому митрополиту Московскому Макарию, одному из величайших иерархов в России, обессмертившему свое имя миссионерскими подвигами на Алтае. Великий подвижник, стяжавший славу святого, митрополит Макарий настолько резко выделялся на общем фоне иерархов, стоял уже на такой духовной высоте, что к нему стекался народ так же, как в былое время к преподобному Серафиму или Амвросию Оптинскому, и высокий сан митрополита уже не отпугивал простецов, не заслонял собою Бога... И глядя на святого Владыку Макария, окруженного небесной славой и так разительно напоминавшего другого великого молитвенника земли Русской – Иоанна Кронштадтского, я дивился милосердию Божиему, явившему в наши дни беззакония таких праведников, и понимал, почему одержимый диаволом Львов не выносил святого.
Однако Синод, хотя и видел самодурство Львова, не только не заступился за праведного старца-митрополита, но, уступая настояниям Львова, уволил митрополита на покой и утвердил "избрание" на Московскую кафедру Виленского архиепископа Тихона, сумевшего сохранить и после поездки своей в Тобольск для канонизации святителя Иоанна, увенчавшей его бриллиантовым крестом на клобуке, расположение к себе со стороны Синода, несмотря на враждебное отношение последнего к архиепископу Варнаве, возбудившему означенное ходатайство.
Вслед за лишением Московской кафедры, праведный старец, как я уже упоминал, был сослан в Троицко-Сергиевскую Лавру, затем переведен в Николо-Угрешский монастырь, где и оставался до упразднения обители, и, наконец, вынужден был переехать в село Котельники Московского уезда, где 16 февраля 1926 года мирно почил о Господе на 92-м году жизни. Много книг нужно было бы написать, чтобы хотя вкратце очертить облик почившего праведника, являвшего примером своей жизни, особенно в последние годы борьбы с большевиками, такую изумительную веру в всемогущество Божие, какая обезоруживала сатанистов, совершавших неоднократные нападения на монастырь с целью убить митрополита и всякий раз отгоняемых невидимой силой Божией. Кто знает, что несколько разбойников, коим удалось проникнуть в монастырь и даже приблизиться к дверям келлии праведного старца, мгновенно ослепли и затем на коленях и со слезами вымаливали прощение, ссылаясь на то, что действовали по принуждению, а не по доброй воле, что в другой раз густое облако окутало целую роту красноармейцев, приближавшихся к Николо-Угрешскому монастырю с целью убить митрополита, и они сбились с пути и, проблуждав до поздней ночи, вернулись обратно в Москву, не выполнив заданного поручения...
И точно, почивший митрополит Макарий был одним из немногих иерархов, знавших, что Господь сильнее большевиков и оставшихся верными Господу и своей вере в силу Божию. И эта вера творила чудеса, пред которыми смирялись и не могли не смиряться слуги диавола. Девятилетняя борьба немощного 90-летнего старца с большевиками неизменно заканчивалась победой старца и славословием Господа, точно предуказывая на опыте самого немощного телом и самого старшего годами иерарха Церкви те орудия, с помощью которых нужно было вести борьбу с сатанистами и побеждать их. Но этот великий пример проходит как бы вне поля зрения и духовенства и мирян...
Церковь трепетала от страха, была загнана в тупик, и иерархи очутились в плену у безбожного Временного Правительства, велениям которого были обязаны подчиняться. По приказу этого правительства Синод вынужден был издавать постановления, глубоко оскорблявшие честных сынов Церкви, оставшихся верными Царю и данной Государю Императору присяге.
Так, тотчас после того злодеяния, какое было названо "отречением Государя Императора от прародительского Престола", а на самом деле было не "отречением", т.е. актом свободного волеизъявления Монарха, а злодейской узурпацией священных прав Его Величества горстью разбойников, Синод запретил поминать на Божественной литургии священное Имя Помазанника Божия "Благочестивейшего, Самодержавнейшего Государя Императора всея России" и предписал молиться за "Благоверное Временное Правительство". Никогда еще Церковь не подвергалась таким глумлениям и издевательствам, как в этот период владычества сатанистов, и в то же время никогда еще не была так запугана, как в это страшное время... В Киеве, например, при нашествиях изуверных банд Петлюры иерархи, страха ради иудейска, даже братались и целовались с разбойником Петлюрой, разрешали совершать богослужение на "украинской мове", предписывали духовенству поминать на литургии всех членов "украинского правительства" поименно, говорили проповеди на ломаном малорусском языке, извиняясь перед слушателями, что не знают "украинской мовы"... Казалось, что "все и вся" сгибалось пред силой и действовало под давлением этой силы, даже не человеческой, а сатанинской, и что будто бы не существовало и не существует той силы Божией, какая бы могла во мгновение ока сокрушить эту силу диавола и укрепить веру людей, если бы только эта вера в чем-либо проявилась, если бы запуганные и трепещущие люди вспомнили о ней в эти жуткие моменты ее испытания.
Обратимся теперь ко второму моменту.
ГЛАВА 40. Всероссийский Церковный Собор. Восстановление патриаршества. Избрание Патриарха Тихона
Одним из самых непостижимых завоеваний революции явился так называемый "Всероссийский" Церковный Собор, созванный в ноябре 1917 года в Москве, не только с любезного "разрешения" Временного Правительства, узурпировавшего власть Помазанника Божия, но и под условием предъявления этому правительству решений Собора "на уважение".
Ни унизительная форма "разрешения" безбожного "правительства", очевидно не имевшего права ни разрешать, ни запрещать созыва Собора, каковое право принадлежало по Основным законам Империи только Самодержавному, Богом помазанному на царство Царю, ни тот факт, что такое разрешение явилось лишь новым издевательством над Государем Императором, неоднократно признававшим созыв Собора несвоевременным, и нарушало волю Монарха, томившегося в заточении в Сибири, ни фактическая невозможность обеспечить соблюдение обязательных канонических требований, – не удержало иерархов от созыва Собора, с которым связывалось так много разнообразных вожделений, столько радостных надежд...
Двести лет боролась-де Церковь, в лице своих иерархов, с ненавистным наследием Петра Великого – синодальной системой церковного управления, два столетия пребывала Церковь, угнетаемая якобы синодальными обер-прокурорами, в оковах рабства, позора и унижений, и стремление вырваться на "свободу" оправдывало, казалось, все средства к достижению этой цели. Да и как было не стремиться к такой свободе, если все вековое зло в сфере церковной жизни, вся вековая рутина в области церковной мысли, объяснялись синодальной системой управления, если Церковь не имела возможности ни возвышать своего голоса в защиту поруганной правды, ни бороться с государственным злом?! Как могла Церковь проявлять свою самодеятельность, если она была на службе у государства и являлась лишь одной из отраслей государственного управления и далеко, притом, не главной, если была обязана сочетать свою деятельность с общими программами и видами правительства, если на протяжении двух столетий не созывалось ни одного церковного Собора, если первенствующий член Синода не имел личного доклада у Государя Императора, а обер-прокурор мог наложить свое veto на любое постановление Синода!..
Где же эта свобода духа Церкви и кто осмелился бы возражать против созыва Всероссийского Собора или признавать его опять несвоевременным?! Именно теперь, когда Царь в заточении и государство гибнет, именно теперь, более чем когда-либо, нужно было спасать самое дорогое достояние России – Православную Церковь и вырвать ее из оков векового рабства... Разорвать эту связь с государством, сбросить с себя "вековые оковы рабства", вырваться на волю, имевшую обеспечить и свободу духа Церкви, – стало стихийным порывом тех, кто в восстановлении патриаршества и созыве Всероссийского Церковного Собора усматривал единственное средство к достижению этих целей.
И Собор был созван, и Церковь, якобы вырвалась на "свободу". В этом стихийном движении к патриаршеству было предусмотрено все, кроме одного условия... личной готовности и способности Патриарха принести себя самого в жертву Православной Церкви. Но именно это условие было не только предусмотрено большевиками, но на нем они и строили свою программу разрушения Церкви, зная, что времена Гермогенов прошли и что борьба с одним Патриархом гораздо легче, чем с собором епископов...
Революция, между тем, все более разгоралась. Временное Правительство, разрешившее созыв Собора, было уже разогнано, и государственная власть очутилась в руках женатого на жидовке Ленина и настоящего жида Лейбы Бронштейна (Троцкого). Большевики, оценивающие события с точки зрения реальных фактов и побеждающие в борьбе с утопистами, не только не препятствовали Собору, но даже приветствовали идею восстановления патриаршества, хорошо сознавая, что, за исключением митрополитов Питирима и Макария, этих немощных телом, но сильных духом иерархов, устраненных от участия в Соборе, да одного и доныне здравствующего архиепископа, кандидатура которого на патриарший престол не была бы допущена самими иерархами, в России не было ни одного иерарха, который бы мог являться для них угрозой. Наоборот, они были уверены, что восстановление патриаршего чина только облегчит им их задачу, ибо знали, какого рода испытания готовили Православной Церкви, и то, что пред этими испытаниями не устоит ни один из намеченных Собором кандидатов в Патриархи.
Разобщенные друг от друга далекими расстояниями, отрезанные революционными событиями от Москвы, не все иерархи могли съехаться на Собор и принять в нем участие... Из общего числа епархиальных архиереев только незначительная часть прибыла в Москву. Но зато много было мирян и, между ними, не только бывший председатель Думы М.В. Родзянко, но даже выгнанный большевиками бывший член Временного Правительства незадачливый обер-прокурор Св. Синода Владимир Львов.
Не буду я останавливаться на работах Собора, не буду касаться и вопроса о том, насколько участие в Соборе мирян оправдывалось каноническими основаниями... Не таково было время, чтобы считаться с формальными соображениями... Патриарх должен быть избран, только он один способен протянуть руку помощи погибающей Церкви, спасти Православие, возродить церковную жизнь, закрепить ее устои и сделать способной выдержать ужасный натиск со стороны озверелых сатанистов-большевиков – таков был единодушный крик участников Собора, и некогда было думать о формальностях. На патриарший престол был избран заместивший кафедру Московского митрополита Макария бывший архиепископ Виленский Тихон, ознаменовавший свое избрание возведением старейших архиепископов в сан митрополита, и церковная жизнь, разорвав цепи "рабства", возглавляемая давно жданным и желанным Патриархом, вырвалась на "свободу"... Отдавал ли себе отчет смиреннейший и любвеобильный Патриарх Тихон в том, на что он шел, чего ждали от него большевики и чего ждала от него Русская Православная Церковь? Знал ли он, что обе стороны ждали от него жертвенного подвига, ждали смерти, большевики потому, что связывали с его смертью и гибель Православной Церкви, верующие христиане потому, что в личной жертве Патриарха видели единственный, при созданных большевиками условиях, путь к ее спасению?
События, между тем, мчались с ураганной быстротой. Гонение на Церковь и духовенство становилось все более открытым, наглым и циничным. Освободившаяся из оков векового рабства, получившая давно жданную свободу, Церковь, в лице своих иерархов, была не только бессильна противостоять сатанинской вакханалии, но, запуганная, трепетала от страха, покорно ожидая своей участи, ожидая своей гибели. Менее чем через два месяца после восстановления патриаршества на Руси начались казни иерархов, превзошедшие по своей жестокости все доныне бывшие злодеяния... Патриарх пользовался только своим званием, но фактически находился в плену у жидов, не имея возможности ни в чем проявлять своей деятельности, тем меньше влиять на характер разворачивавшихся событий. Наконец, он был арестован и лишен свободы. Доведенный в заточении до крайнего изнеможения, страдая за участь Православной Церкви, раздираемой как большевиками, так и внутренними междоусобиями и расколовшейся на массу отдельных "церквей", возглавляемых самозванными пастырями и архипастырями, Патриарх оказался вынужденным подписать составленное большевиками покаянное письмо, коим не только обязался подчиниться советской власти, но и отрекался от своих прежних убеждений. Не в осуждение Патриарха я упоминаю об этом прискорбном факте, а в свидетельство того ужасного, нестерпимого положения, в каком очутилась Церковь, вырвавшаяся из прежних "оков" на "свободу", и в опровержение тех нареканий, какие сводились к обвинениям меня в отрицательном отношении к идее патриаршества как таковой. В пределах требований 34-го правила Св. Апостолов эта идея, конечно, не могла вызывать ничьих возражений, однако же я в полной мере был убежден в невозможности попыток ее осуществления в предреволюционное время, а тем более в разгар революции, при наличности условий, которые бы могли ее скомпрометировать.
В этом отношении я вполне разделял точки зрения моего друга А.С., который писал мне 8 ноября 1922 года: "Не будучи сторонником идеи патриаршества по принципу, я думаю, что Патриарх был бы полезен, как постоянный советник Царя, по древнему взгляду: "nullum regnum sine patriarcha staret".
Раз нет Монарха, не нужно и Патриарха. Управление Церковью, как намечалось перед революцией[12], имеет наиболее оснований в слове Божием. Церковь, будучи учреждением Божественным, объединением людей во имя веры в Святую, Единосущную и Нераздельную Троицу, живет и движется в пределах земных. На земле Церковь организовалась не сразу, а постепенно. Сначала во главе Церкви стоял ее Основатель – Господь Иисус Христос. Он сказал апостолам: "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас" (Иоан. 15, 16). Таким образом, никакой соборности в Церкви не было, а была над Церковью единоличная власть Христа.
После Вознесения Христова не сразу определилось, как будет управляться Церковь впредь.
Апостолы ожидали, что им недолго придется оставаться на земле, что скоро вновь явится Христос и вознесет их с Собою на небо. Поэтому они жили с минуты на минуту, в постоянном страхе перед жидами и в напряженном ожидании вторичного явления Христа. Только постепенно, мало-помалу, эта напряженность ослабела, и жизнь предъявила свои будничные требования. Появились недоумения среди верующих, которые нужно было разрешать. Естественно, управление Церковью вылилось первоначально в форму собора. По вопросу об обрезании язычников – "апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела" (Деян. 15, 6).
Состав собора, таким образом, был ограниченный: апостолы и пресвитеры. Из предшествующего стиха 4-го как будто можно вывести заключение, что евангелист Лука, автор "Деяний", называет Церковью только апостолов и пресвитеров: "Они (Павел, Варнава и пр.) были приняты церковью", и в объяснение последнего слова добавлено – "апостолами и пресвитерами". Хотя, с другой стороны, послание к язычникам написано от имени апостолов, пресвитеров и братий (Деян. 15, 23), и послать Иуду и Силу делегатами к язычникам решили апостолы и пресвитеры со всею Церковью. (Деян. 15, 22). Тут есть нечто недостаточно отчетливое в рассказе евангелиста Луки. Во всяком случае, видно, что в первоначальном христианском обществе придавалось значение не бессмысленной толпе, а людям почтенным, апостолам, старикам, начальствующим между братьями, каковыми были Иуда и Сила (Деян. 15, 22).
Это самое важное указание слова Божия: Церковь не может управляться на началах демократических; церковный собор должен складываться из людей, стоящих выше толпы...
Даже между апостолами наблюдается некоторое первенство. Христос, несомненно, выделял Петра, отмечая его пламенную, хотя и неустойчивую веру.
Христос выделял также апостола Иоанна Зеведеева. Во время Тайной Вечери Иоанн "возлежал у груди Иисуса" (Иоан. 13, 23). Иоанну поручил Иисус заботу о Матери, "и с этого времени ученик сей взял Ее к себе" (Иоан. 19, 27).
В Иерусалиме после того, как апостолы разошлись для проповеди, особенное значение получил апостол Иаков, брат Господень, к которому собирались на совещания: "На другой день Павел пришел с нами (очевидно, тут был и рассказчик – св. Лука) к Иакову; пришли и все пресвитеры" (Деян. 21, 18).
Об этих трех апостолах в Послании к Галатам ап. Павел говорит, что они почитаются столпами: "Узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа (Петр) и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения" (Галат. 2, 9).
Из сказанного мы видим, что в древней Церкви были столпы, т.е. апостолы, стоявшие выше других.
Естественно, что потом и среди епископов появились также столпы.
Ими стали епископы важнейших городов – митрополий. Значение города придавало свой особенный вес и его епископу. Натуральная потребность людей во власти привела к тому, что епископы меньших городов стали в зависимость от епископов областных – митрополитов.
Митрополиты стали на место столпов времен апостольских. Собирание к ним на совещание епископов и пресвитеров являлось бы повторением собраний у ап. Иакова (Деян. 21, 18). Таким образом, намеченные в 1916 году церковные реформы действительно стоят на почве слова Божия и Апостольских правил.
Далее лежит для меня камень преткновения. Каким образом поместные соборы пополнять светским элементом, мирянами? При нынешнем упадке веры у меня постоянно является опасение, что на соборы будут попадать люди равнодушные, если не враждебные к религии, и соборы превратятся в земские собрания, где решения будут постановляться бездушным большинством хотя бы одного голоса, что мне более всего ненавистно в вопросах религиозной совести. Вероятно, тут должен быть применен какой-нибудь другой способ решений; например, последовательные голосования до наступления такого единомыслия, когда уже меньшинства не останется, а все будут заодно – "едиными устами и единым сердцем". Я не помню сейчас всех подробностей папских выборов в Риме, о которых какой-то ученый сказал, что они – "самые совершенные в мире, но, кажется, в основу их положено единомыслие, что только и соответствует духу христианства..."
С VIII века стало уже всеми чувствоваться, что в христианстве нет единомыслия, что последователей Христа нельзя уже узнавать по любви их между собою (Иоан. 13, 35), что на вселенском соборе, если бы он состоялся, повеет дух вражды, недоверия, даже ненависти.
После VII Собора (787 г.) более соборов не созывали.
Хомяков винит Рим за то, что он откололся от общехристианской любви, не захотел во имя единомыслия общего согласия, во имя любви сообща решать вопросы веры, а стал их решать самолично, proprio motu, ex sese.
Я думаю иначе. В Риме просто поняли, что при известном настроении человеческих душ единомыслие невозможно, и что созывать собор во имя любви, когда ее явно нет, будет кощунством, а потому папы приняли на себя решение текущих вопросов веры по необходимости, но оперлись, на всякий случай, и на особые прерогативы, якобы врученные ап. Петру Христом.
Соборность опирается на одну фазу первобытной христианской Церкви, а папизм на другую.
Дальнейшее развитие обеих тез лежит в условиях исторического существования христианства. Если на Западе папизм привел к реформации, кальвинизму, англиканству и прочее, то и соборность на Востоке не привела к единству, потому что согласие всех на добро, как было у древних христиан, заменилось согласием большинства на зло..."
...Положение Русской Церкви отчаянное, особенно ввиду раздирающих ее несогласий, и я прямо страдаю, не умея уяснить себе путей ее спасения.
Мне писали также, что в Сербии православия нет. Недавно мне прислали статью болгарского редактора Цанко Добруджаниева, в которой он предлагает болгарам спокойно вести туркофильскую политику, единственно спасительную для болгарского народа. В статье есть такие выпады: "Ассимиляции обеих наций (т.е. болгар и турок) помешало только христианство – эта греческая дрянь, распространенная греками и введенная в Болгарии царем Борисом I... Вся тогдашняя аристократия... была против введения этой глупой религии, отрицающей земную жизнь, парализующей развитие культуры своим монашеством, и своими епитимиями мешающей размножению (!) населения." Мы, верно, недалеко от того времени, о котором сказано: "Но Сын человеческий, пришедши, найдет ли веру на земле?" (Лук. 18, 8).
В письме от 1/14 ноября 1925 года А.С. еще определеннее высказывается по данному вопросу, раскрывая шаткость основ, на коих зиждется папство, утверждающееся, между прочим, и на 34-м Правиле Св. Апостол, из которого и православные иерархи черпают идею патриаршества, превратно толкуя это правило, отождествляя старшего в области епископа (окружного митрополита в современном понимании) с патриархом и присваивая ему права, канонами не предусмотренные.
Вот что пишет А.С.: "...Ежедневно наблюдая страшный и неуклонный натиск польского католичества на слабое беззащитное православие отданных большевиками Польше русских областей, я в последнее время сосредоточил свою мысль на апостоле Петре, преемниками которого считают себя римские папы, и хочу поделиться с Вами своими наблюдениями.
Андрей, брат Симона, был одним из двоих учеников Иоанна Крестителя, услышавших от него слова об Иисусе: "Вот Агнец Божий", последовавших за Иисусом в его жилище и пробеседовавших с ним с утра до вечера. Андрей нашел брата своего Симона и говорит ему: "Мы нашли Мессию", что в переводе на греческий язык значит "Христос", т.е. Помазанник. Он провел его к Иисусу. Иисус взглянул на него и сказал: "Ты – Симон, сын Ионы; ты должен называться Кифа", что в переводе на греческий язык значит "Петр", т.е. камень.
Вот как описывает Иоанн Богослов (Иоан. 1, 35-42) первое знакомство Иисуса с Симоном. Важно отметить, что Иисус прозвал Симона "Камнем" не после продолжительного с ним общения, а под мгновенным впечатлением первой встречи. Какой смысл могло иметь это прозвище в устах Иисуса: похвальный для Симона или порицательный? По моему мнению порицательный.
Как знаток человеческой души, безошибочно угадывающий ее сокровеннейшие движения и настроения, Иисус по первому взгляду определил Симона как человека увлекающегося, но непостоянного. О людях этого типа в притче о сеятеле Иисус говорил: "Слово, посеянное на каменистом месте (у Луки: упадшее на камень), означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его; но не имеют в себе корня и непостоянны: потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас отрекаются (соблазняются)" (Марк. 4, 16-17). Таков был Симон, и в этом смысле Иисус прозвал его "Камнем" и был в определении его душевных качеств вполне прав и точен, потому что, действительно, Симон быстро вспыхивал, легко увлекался, но в нем не было постоянства, и при первом же гонении за слово он трижды отрекся от Иисуса.
Симон был женат. При нем жила его теща, которую Иисус однажды исцелил от лихорадки (Марк. 1, 29-31). Родом Симон и Андрей были из Вифсаиды (Иоан. 1, 44), но проживали в Капернауме, по-видимому, в собственном доме. По роду занятий оба брата были рыбаки (Марк. 1, 16.). Они имели лодки и сети и промышляли рыбной ловлей на Генисаретском озере. Весьма возможно, что по их настоянию Иисус поселился в г. Капернауме, когда Ему пришлось покинуть Назарет вследствие неприязни к Нему тамошних жителей (Матф. 4, 13).
Пылкость Симона, склонность его к увлечениям – не раз отмечены в Евангелиях. После чудесно-обильного улова рыб, по слову Иисуса, Симон так испугался и растерялся, что припал к коленям Иисуса, говоря: "Выйди от меня, потому что я человек грешный". Иисус должен был его успокоить (Лук. 5, 8-9).
Когда Иисус шел по воде к лодке, в которой плыли по озеру его ученики, то последние приняли Его за призрак и испугались. Иисус ободрил их, сказав: "Это Я, не бойтесь". С обычною пылкостью Симон обратился к Нему: "Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде". Он же сказал: "Иди". И, вышедши из лодки, Симон пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: "Господи! спаси меня". Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: "Маловерный! зачем ты усумнился" (Матф. 14, 28-31).
На вопрос Иисуса, за кого почитают Его ученики, Симон первый вырвался с ответом. "Ты – Мессия" (по гречески: Христос). Иисус запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
И говорил об этом открыто. Пылкий Симон, которому не понравилось, что Иисус не признает себя Мессией, отозвал Его в сторону и начал прекословить. Иисус, отвернувшись от Симона и взглянув на учеников Своих, воспретил Симону продолжать этот разговор и сказал: "Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое" (Марк. 8, 29-33).
Во время Преображения Иисуса склонный к увлечениям Симон, не зная, что сказать по поводу величественного видения, вырвался со словами: "Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии". Увлечение Симона не было одобрено Иисусом, и когда они сходили с горы, Иисус не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых (Марк. 9, 5-9).
При омовении ног опять проявились пылкость и несдержанность Симона. Иисус подошел к Симону, и тот говорит Ему: "Господи! Тебе ли умывать мои ноги?" Иисус сказал ему в ответ: "Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после". Симон возражает Ему: "Не умоешь ног моих вовек". Иисус отвечал ему: "Если не умою тебя, не имеешь части со Мною". Симон впадает в преувеличение: "Господи! не только ноги мои, но и руки и голову". Иисус говорит ему: "Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь" (Иоан. 13, 6-10).
Когда в прощальной беседе Иисус объяснял ученикам, что они не могут следовать за ним туда, куда Он идет, Симон не удержался, чтобы не спросить: '"Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь?" Не соразмеряя своих душевных сил, он добавил еще: "Я душу свою положу за Тебя". Зная пылкость, но и непостоянство Симона, Иисус отвечал ему: "Душу твою за Меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды". Так это, действительно, и случилось во дворе при доме первосвященника (Иоан. 13, 36-38).
Хотя ап. Павел был личным врагом и соперником ап. Петра и можно было бы заподозрить, что его отзывы об ап. Петре пристрастны, однако они вполне совпадают с оценкой Симона Иисусом Христом. В Послании к Галатам ап. Павел упрекает ап. Петра за то же непостоянство и неимение "корня", какие отмечены Иисусом Христом в прозвании Симона "Камнем", невосприимчивым к твердому и устойчивому усвоению "слова".
В Антиохии ап. Петр жил по-язычески и ел вместе с язычниками до тех пор, пока не пришли из Иерусалима иудействующие христиане, приверженцы Иакова, брата Господня; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Ап. Павел сказал Симону при всех: "Если ты, будучи иудеем (по религии), живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски" (Галат. 1, 11-14).
Приведенные факты из евангельской истории заставляют нас прийти к убеждению, что Иисус Христос при жизни невысоко оценивал шаткого Симона, которого однажды в раздражении назвал "сатаной", и что психологически невозможно, чтобы он назначил его Своим "наместником" на земле, как думают католики. Только позднее, когда Римские епископы стали притязать на вселенскую власть над христианами и искали исторических подкреплений для своих притязаний, не только был извращен смысл данного Иисусом Симону прозвища "Камень", из порицательного оно было истолковано в похвальное, т.е. Симону приписана была мнимая каменная твердость в исповедании учения Христова вместо тех непостоянств и шаткости, какие прозревал в нем Иисус, но и присочинены были соответствующие римским притязаниям якобы слова Христовы, вставленные в позднейшие по времени написания Евангелия от Матфея (написано между 75 и 100 гг. по Р.Х.) и от Иоанна (написано после 110 г. по Р.Х.). Я имею в виду Матфея 16, 17-19 и Иоанна 21, 15-17. Эти словеса настолько противоречат общему духу и тону речей Иисуса, что их нельзя не признать поддельными. Особенно грубой подделкой представляются мне стихи 18 и 19 главы 16-й Евангелия от Матфея.
В стихе 18-м все чуждо Иисусу.
Во-первых, Симона, сына Ионина, Иисус прозвал "Камнем" в смысле плохой восприимчивости к преподаваемому ему учению, в смысле его непостоянства, пылкости и шаткости, а в стихе 18-м у Симона подразумеваются обратные душевные свойства: постоянство, уравновешенность и твердость исповедуемых убеждений.
Во -вторых, Иисус не задавался целью создать Церковь, как государственное учреждение с монархом – Римским папой во главе, а, напротив, проповедовал внутреннее перерождение человеческой души ("царствие Божие внутри вас") и обещал своим последователям, что если где двое или трое объединятся во имя Его для общей молитвы Отцу небесному, то там и Он будет посреди их (Мф. 18, 19-20).
В-третьих, заимствованное из древнегреческой мифологии представление о жилище мертвых Аиде или Аде (αδηϖ)[13], окруженном стенами с пропускающими вовнутрь воротами, не могло принадлежать Иисусу. По существу, Иисус ошибался бы, если бы полагал, что Церковь, как земная организация, неразрушима. Пример Русской Церкви показывает, что разрушить Церковь, как всякую иную земную организацию, вполне возможно. Можно уничтожить и папство. Вечно только Божественное учение Спасителя, и эту вечность Своего учения Он утверждал гораздо сильнее, чем в стихе 18-м, но только в других выражениях: "Небо и земля прейдут; но слова Мои не прейдут" (Марк. 13, 31).
Стих 19-й: "И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" – это не что иное, как кощунственно возведенный к Иисусу Христу ложный догмат папской непогрешимости.
Все это я написал Вам для того, чтобы еще раз показать, на каких слабых основаниях стоят притязания Римских пап быть едиными пастырями стада Христова. Вы вполне правы, говоря, что "папство не имеет канонических обоснований, как не имеет его и патриаршество". Как ни бунтовали наши иерархи, но всего нормальнее могла бы быть устроена земная христианская Церковь в "покойной" России, если бы не запоздала с преобразованиями: собор епископов, ктитор – Государь, областные митрополиты и обер-прокуратура, освобождающая иерархов от возни с житейской пошлостью и грязью.
Не думайте, что допускать позднейшие умышленные вставки в текст Евангелия – есть нечто еретическое. Мы не только не имеем автографов евангелистов, но не имеем даже копий с копий, которые были бы более или менее близки ко времени написания Евангелий (между 70 и 110 гг. по Р.Х.). Древнейшая рукопись греческого текста Евангелий относится к IV-V веку по Р.Х... В продолжение каких-нибудь 350-400 лет из поколения в поколение, без всякого контроля, переписывались священные тексты, и переписчики беспрепятственно вносили в них дополнения и изменения в связи со своими верованиями и понятиями.
Только после IV Вселенского Собора (451 г.) был установлен сколько-нибудь единообразный текст книг Нового Завета и был ограничен произвол переписчиков. Полное единообразие достигнуто было только после введения книгопечатания. Критическая работа над разноязычными древнейшими новозаветными рукописями и выяснение всех интерполяций (вставок), разночтений, ошибок и описок – это уже заслуга новейшей богословской, преимущественно – немецкой науки XIX и XX века. Когда "Дух Истины", о котором говорил Иисус Христос "не могущим вместить" ученикам (Иоан. 14, 16-17 и 16, 13), проникнет в головы служителей официальных Церквей, то выводы науки войдут и в церковный обиход. Этот "Дух Истины" не только не умалит Иисуса Христа, но прославит Его, потому что представит Его учение во всей его чистоте и во всем его неземном величии..."
Совершенно очевидно, что ни папство, ни патриаршество не имеют канонических обоснований и что самая идея рождена верой не в силу Божию, а в силу человеческую... В дальнейшем читатель увидит, во что превратило папство католическую Церковь, как параллельно с ростом внешнего могущества католического церковного аппарата и его совершенством понижалось религиозное чувство и ослабевала вера... Мистический центр религиозного сознания был перенесен в другое место. Детское доверие к Богу, чистота, кротость и смирение – эта сила, творящая чудеса, уступила свое место гордости и власти, и многоветвистое древо католической Церкви, покрывши своими ветвями почти весь мир, перестало давать плоды...
Не ждал я ничего и от русского патриаршества... Наоборот, я опасался, что в условиях русской действительности, без Царя, патриаршество только скомпрометирует себя.
Действительность оказалась безжалостнее самых мрачных, сокровенных предположений. И что бы ни говорилось и ни писалось по поводу того, что, несмотря на гонения и преследования, Православная Церковь в России не только не разрушилась, а, наоборот, духовно возродилась и окрепла, но такие утверждения не соответствуют действительности.
Не разрушилось лишь то, что и не могло разрушиться, что не подлежит никаким человеческим влияниям, что не поддается и натиску сатанинских сил, пред чем бессилен и сам диавол – не разрушилась Церковь как Божественное установление, но Православная Церковь как земная организация – уничтожена, и в этом мы убедимся из последующего изложения.
ГЛАВА 41. Гонения на Церковь
Правда сильнее лжи, и нет ничего, что бы могло укрыть ее, тем более победить. Как ни изощряется советская цензура, не только не пропускающая правды за пределы России, но и подменивающая правду сознательной ложью, однако все эти попытки не достигают цели. Правда находит пути, чрез которые пробивается наружу и громко говорит о себе. И не ее вина, если ей не верят...
Вот несколько свидетельств гонения на Церковь, заимствованных из частных писем и официальных сообщений прессы:
"...в Совдепии теперь страшное гонение на Церковь... Возвратились времена Юлиана отступника или иконоборчества. В руку гонителям играют расколы. В Киеве образовалась новая раскольническая церковь – украинская. Украинцы (светские) в прошлом октябре (1921 г.) собрались толпой и "рукоположили" митрополитом священника с Соломенки[14] Василия Липковского, а он стал рукополагать епископов "без монашеского стажа".
Появилось, таким образом, две иерархии: православная и украинская. Епископов украинских набрали очень много из светских, женатых; они ходят в штатском платье, стригутся. Епископы рукополагают священников, себе подобных. Последние ведут отчаянную борьбу за приходы с прежними священниками. Смута невероятная, и все ширится. Украинцы захватили Софийский собор, Андреевскую церковь, Военный собор на Печерске, Ильинскую церковь на Безаковской улице, Петропавловскую на Подоле. Предержащая еврейская власть им покровительствует по понятным причинам... Епископ Алексей – в тюрьме. В будущем трудно ожидать скорого успокоения... Церковное служение на украинской мове производит крайне неприятное впечатление... У украинцев славянский язык изгнан совсем, вся служба в "перекладе". Поэтому нелепые слова и обороты на каждом шагу режут ухо... В Москве смута еще острее, чем в Киеве. Во главе раскола стоит растриженный епископ Антонин (Грановский)..." (19 июля 1922 г.)
"...Вы, конечно, знаете, что, например, мощи святых свезены со всей России в Москву, в виде анатомического материала и помещены в Музее Комиссариата народного здравия (здравкома, по-большевически) на Петровке № 15. Туда попали и мощи Святителя Иоасафа. Киевских мощей еще не трогали ввиду заигрывания с украинцами, образовавшими особую коммунистическую церковь. С весны сего года, когда понадобились церковные ценности, гонение на православие приняло усиленные размеры..." (10 сент. 1922 г.)
"... На православную Церковь обрушился сатанизм в лице большевиков... Мы слабы и разбиты... И.д. Митрополита Киевского, патриарший экзарх, безвластен и безгласен. Жиды – правители Киева. Гамарник, Лившиц и Михайлик – играют им, как пешкой, помыкают, как помелом, и он обязан являться к ним по первому вызову. Громадную, но весьма вредную роль в епархиальном совете играет протоиерей Гроссу, оппортунист, приспособляющийся к большевичеству. Экзарх действует всецело по его указаниям. Юрисконсультом епархиального совета состоит жид, который сносится с большевической властью и дает кому нужно взятки. С помощью взяток епархиальный совет получил обратно в свое ведение социализированный свечной завод. Митрополит прошлой осенью дал подписку, что священники не будут ни крестить, ни венчать, ни хоронить без предварительного разрешения большевической власти. Своей системой гражданских браков и разводов большевики совершенно разрушили христианскую семью. Преподавание Закона Божия лицам моложе 18 лет воспрещено под строжайшей ответственностью. Таким образом, весь школьный возраст изъят из-под влияния религии. Церковные ценности заграблены, причем не остановились даже пред разбитием окованного серебром престола Владимирского собора. Храм пришлось переосвящать... Я был членом поместного собора в Киеве в 1918 г. и вынес крайне тяжелое впечатление. На соборе веяло злым духом ненависти и вражды. Украинцы прямо бешенствовали. А мы ведь собрались во Имя Христа, Который сказал: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга" (Иоан. 13, 34).
Я до сих пор прихожу в ужас, когда вспомню этот собор. Я опасаюсь, что без православного монарха, при соборном строе, наша Церковь рассыпется и появится столько церквей, сколько будет поместных соборов. Отчасти это наблюдается и теперь. На развалинах русской Церкви кроме бесчисленных сект, до жидовствующих включительно, мы имеем: старообрядческую, единоверческую, никонианскую, живую, красную, якобы "древне-апостольскую", и украинскую церковь. Итого уже шесть! Что же будет дальше?!" (8 ноября 1922 г.)
"...Политика губит Церковь с тех пор, как она лишилась опоры в самодержавии православного царя. Над могилой убитого митрополита Варшавского идет уже отчаянная грызня партий из-за того, быть ли одному православному митрополиту в Польше для всех, или трем: русскому, украинскому и белорусскому; если одному, то кто должен занять кафедру: русский, украинец или белорусс. Вы поймите, до чего помутилось русское народное самосознание: украинцы и белоруссы уже не считают себя русскими..." (26 февраля 1923 г.)
"...Посылаю Вам вырезку из газеты "Волынское Слово" от 13 марта н.ст. относительно религиозной жизни в Москве. В ней интересен штрих, рисующий отсутствие собирательной воли у русского народа, как и вообще у всякого народа... Гонения на Церковь продолжаются. Подверглись преследованиям и католики. Преданы трибуналу, вывезены в Москву все петербургские ксендзы с бискупом Цепляком во главе. Среди ксендзов – Иванов и Федоров. Католицизм захватывает и чисто русских людей. Это знаменательно!.." (2/15 марта 1923 г.)
Упоминаемая в письме газетная вырезка до того кощунственна, полна такими глумлениями и издевательствами над святыней, что я не решаюсь ее приводить в своей книге.
Перехожу к дальнейшему изложению писем.
"...Получил из Киева некоторые сведения о тамошних церковных делах. Экзарх "Украины", и.д. киевского митрополита, был арестован за противодействие "Живой Церкви" и выслан на жительство в Архангельскую губернию. Его место занял сторонник "Живой Церкви" Тихон из Воронежа. В руках "живоцерковников" – все епархиальное управление. Из киевских викарных епископов три (Василий, Дмитрий и Назарий) сидят пока на своих местах, а четвертый, Никодим, живший в Михайловском монастыре, – заключен в тюрьму на восемь лет. Екатеринославский епископ Агапит сначала примкнул было к "Живой Церкви" и восстановлен был на кафедре, но потом чем-то провинился против "власти" и был заключен в тюрьму. Освобожденный ввиду тяжелой болезни, он скоро умер, покаявшись в том, что поддался соблазну "Живой Церкви". (26 марта 1923 г.)
"...Часто попадаются газетные сведения о необычайном распространении сектантства в России в связи с разгромом православной Церкви. Энергичную работу по совращению ведут молокане, баптисты, ново- и старо-израилевцы, хлысты и пр. Большевическая печать признает, что борьба с религиозными сектами еще труднее, чем с официальной церковью"... (23 мая 1923 г.).
"...Я уже упоминал о католическом еженедельнике "Lud Bozy", издающемся в Луцке при епископской кафедре. Почти в каждом номере его помещаются отрывки из писем, посылаемых из Большевии. Из страха мести со стороны жидовской власти не называются ни лица, обращающиеся с письмами, ни местности, откуда поступают письма. Сообщаются только факты и мысли. Сведения очень интересные, которые не попадаются в обыкновенных газетах. Один ксендз пишет: "О Боже, Боже Великий, что же это делается, наконец, в православной Церкви, когда не стало царя и синода! О "живой церкви" столько можно было бы рассказать, но боюсь писать... "Украинская Церковь" – священники и миряне рукоположили архиереев, и вот готова целая духовная иерархия. Но из этой невероятной беды вытечет, кажется, благое дело Божие – соединение церквей. Ах, как льнут к нам! Лучшие представители православного духовенства публично выражают свое восхищение и преклонение пред католической церковью..." (№ 4, от 22 апреля.) Другой ксендз пишет: "Я уже в преклонном возрасте, более десяти лет исполняю обязанности настоятеля в приходе. До заключения мира у меня было 3000 прихожан. Теперь в приходе не наберется и 800 душ. Вследствие обременения всяческими повинностями и налогами, прихожане мои совершенно обнищали. Я сам остался без всяких средств к жизни, не имею куска хлеба и не в состоянии уплачивать государственных податей, которые валятся на меня со всех сторон. Хотя я не имею ни ступня пахотной земли, тем не менее, угрожаемый арестом, я должен был купить 10 пуд. и 25 фунт. ржи, чтобы внести "продналог". Но этим не кончилось несчастье. Местный "Исполком" задумал в 24 часа выбросить меня из квартиры, и мне стоило много здоровья и расходов, чтобы хотя на время отсрочить эту затею. Потом опять сорвали с меня и всего католического комитета 150 миллионов "штрафа" за регистрацию костела, угрожая арестом. Под террором я должен был заплатить за приходскую усадьбу – 85 миллионов и за регистрацию меня лично – 40 миллионов. За обязательную страховку костела, колокольни, приходского дома и всего костельного имущества мы заплатили 3.262.000.000 советских рублей. Потом является финансовый агент с газетой в руках и показывает мне распоряжение, по которому я, как священник, обязан взнести 200 миллионов налога за патент на право совершать богослужение в костеле, он требует немедленной уплаты этого налога под угрозой ареста и других наказаний. Сегодня опять новая пытка: пришли брать на учет и описывать мою мебель, из которой несколько предметов уцелело после разгрома плебани (приходского дома). Самоволие мелких агентов власти доходит до того, что в то время, когда я сидел за столом и обедал, из-под меня вырвали стул и забрали в "сельсовет". Не хватает сил выносить все эти вымогательства и преследования..." (№ 7, от 13 мая.) Третий ксендз говорит следующее: "Православие начинает терять почву под ногами. Украинская церковь отделилась от московской. В. Киеве "громада" из мирян и священников выбрала митрополита Липковского. Они нарушают каноны, уставы, служат на украинской мове – одним словом не стало царя, не стало и единства: они должны будут погибнуть... "Советы" пользуются разделением и, угнетая церковь, все более усиливаются. Что касается православного народа, то почти вся молодежь совершенно утратила всякую религию. Богослужение в церквах посещают только старики. Их храмы светят пустками, а наш костел переполнен тысячами людей, из которых половина православных. Большевики бешенствуют, не умея объяснить себе такого необыкновенного явления. Они убедились, что с нашим костелом труднее им воевать, чем с церковью. Великая жатва открывается теперь для Католической церкви. Дайте только сюда самоотверженных, благочестивых священников и миссионеров, и Христова овчарня умножится. Наши передовые посты в страшной опасности. Если мы уступим, тогда все погибнет. Нужно бороться хотя бы до последнего издыхания..." (№ 10, от 3 июня.)
Все вообще ксендзы жалуются на невероятные преследования христианства со стороны большевиков. "Кажется, и сам сатана не мог бы измыслить такой утонченной жестокости, таких подвохов и издевательств, какие применяют большевики по отношению к духовенству как западного, так и восточного исповедания. Нет минуты спокойной – постоянно висит над головой священника опасность то ареста, то подвоха, то, наконец, изгнания из квартиры на улицу..." (№ 12, от 17 июня.)
Однако ксендзы бодры духом, считают себя воинами Христа, не думают сдаваться и ждут мученических венцов. На меня эти письма произвели большое впечатление, и я решил привести для Вас извлечения из них. Это не Антонины и Владимиры Путяты! Что Вы скажете на это?!" (№ 5, от 8 июля 1923 г.)
Таковы данные, заимствованные из частных писем. Добавляю к ним в хронологическом порядке еще несколько журнальных и газетных выписок.
В "Еженедельнике Высшего Монархического Совета" читаем:
"В Петрограде, как и во всей России, закрыты синодальные и монастырские типографии, причем уничтожен церковно-славянский шрифт, вследствие чего церковь лишена возможности печатать церковные книги." (9 октября 1921 г., № 9.)
"В Петрограде снова запрещены крестные ходы и видные пастыри арестованы. Для охраны церковного имущества всюду организованы так называемые коллективы верующих. Все храмы, подворья и часовни, где таких коллективов нет, закрываются." (Там же.)
"В Москве со стороны властей идет сильное гонение на Церковь. Имя Божие хулится, мощи святых угодников выбрасываются, и пред ними совершают кощунства. В Троицко-Сергиевской лавре настоятель и вся братия разогнаны." (Там же.)
"Петербургская Правда" сообщает, что к началу 1921 года советами было разграблено 673 монастыря, отнято у них 827 тысяч десятин земли, изъято 4 миллиарда рублей. Кроме всего перечисленного, было национализировано 84 завода, 436 ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 подворья, 304 пасек, 277 больниц и приютов." (12 декабря, 1921 г., № 20.)
"Большевики уже не скрывают, что на почве отобрания драгоценностей из церквей в России разгорается упорная борьба... Русская Православная Церковь входит в новую полосу гонений со стороны палачей России. Нападки большевиков, поначалу осторожные, прямо направляются на Патриарха... На местах назначены специальные комиссары, ведающие отобранием ценностей; в своем донесении из Киева комиссар Серафимов, поставленный во главе этого дела, доносит, что при осмотре ризницы Киево-Печерской Лавры им обнаружены среди прочих сокровищ две митры, оцененные в 70-м году в 50 миллионов рублей... Беспорядки на почве отобрания из церквей утвари и драгоценностей продолжаются. Учащаются случаи столкновений безоружной толпы с вооруженными отрядами Чека. В Петрограде прихожанами устроено дежурство около Александро-Невской Лавры и некоторых церквей, дабы предупреждать набатным звоном прихожан о приближении красных грабителей. Особенно напряженным стало положение после устроенного ночью ограбления Казанского собора." (10 апреля 1922 г., № 36.)
"В одном из магазинов еврейских улиц Перы, русские евреи братья Меримские откупили оконную выставку и выставили на продажу скупленную ими у внешторга большевиков церковную утварь: чаши, дарохранительницы, потири, лжицы, ризы и пр... Итальянский офицер контрольного пункта, осматривающий прибывающие из России пароходы, сообщает, что он лично видел ящики, набитые серебряной и золотой церковной утварью: чашами, дискосами, углами евангелий, крестами и пр., наложенными в спешке кое-как, причем по оставшимся следам можно с уверенностью сказать, что для большей вместимости они уминались ногами. В Нарве арестован эстонский дипломатический курьер, пытавшийся провезти через границу скупленное им у спекулянтов серебро, "изъятое" из церквей." (24 апреля 1922 г., № 38.)
"Печатаем ниже сведения, почерпнутые в письмах из России и относящиеся ко времени Пасхальной недели. Наш корреспондент пишет:
"Террор" свирепствует вовсю и главным образом направлен против священнослужителей и всех близко стоящих к Церкви. Священников арестовано огромное число в связи с обобранием церквей. Все они томятся в чрезвычайках и тюрьмах, и судьба их неизвестна или, скорее сказать, слишком известна. Гонение на Церковь производится открыто. Большевики стараются подорвать последнюю основу русского народа и его силу – Церковь. Из церквей забрали все, что может так или иначе представить ценность на международном рынке: все ризы с икон, все священные сосуды, паникадила, подсвечники, лампады, иконы – ценные как исторические или художественные произведения и т.д. По выражению авторов писем, больно смотреть на наши церкви, где некогда все блистало, сверкало и горело, теперь они погружены во мрак, с кое-где только-только сохранившимися ликами святых, с болью и упреком смотрящими на то, что творят руки человеческие.
Весь мир – и прежде всего весь христианский мир – должен был бы протестовать против такого поругания святынь.
Мало было большевикам убивать материально русский народ, довести его до ужасов голода, болезней, погромов, побоищ, чрезвычаек – они взялись теперь за его душу, за его веру – за Церковь. Мало им было убить несколько десятков епископов и несколько сотен священников – они хотят их всех уничтожить.
В письмах пишут: "Священников арестовано множество" – так значит уже действительно тысячи, ведь в Совдепии никого не удивишь арестами или убийствами. Повторяем, недопустимо, чтобы на Западе весь христианский мир не заявил громко своего протеста против такого кощунства и поругания Христианской Веры, не говоря уже о гибели стольких невинных жертв – пастырей церкви, стойко принимающих свой мученический венец." (1 мая 1922 г., № 39.)
"Как образчик наглых выходок, которые себе позволяют коммунисты по отношению Церкви, приводим выдержку из газеты "Власть Советов", в следующих злобных выражениях шипящей на то, что рабочие не пожелали работать в один из двунадесятых праздников:
"Сегодняшний номер газеты выходит в уменьшенном размере, так как часть рабочих вчера праздновала. Какой позор! Рабочие праздновали этот поповский праздник, праздник обманщиков-монахов, купцов, лабазников и прочих тунеядцев... Позор тем, кто вчера вместо того, чтобы упорным трудом продолжать постройку великого здания пролетарского государства, отвешивал поклоны деревянным, медным и серебряным идолам, позор тем, кто вчера вместо стука и гула станков и машин слушали протяжный вой лицемерных попов." (25 мая 1922 г., № 41)
"Вести одна ужаснее другой приходят о положении Православной Церкви в России. Гонение на Православную Церковь открылось с самого начала победоносного водворения в Древнем Священном Кремле правительства Ленина, Бронштейна-Троцкого и всех его соплеменников, нажимая как винтом все крепче и крепче: закрытие Московского Кремля для доступа богомольцев, закрытие всех домовых церквей и многих монастырей, запрещение преподавания Закона Божьего в школах, отобрание церковных имуществ и грубое, полное жестокой ненависти отношение к представителям православного духовенства, из которых многие запечатлели мученической смертью свое исповедание веры. Зверски убиты и расстреляны 28 православных епископов и несколько тысяч священников, клириков и монашествующих. В текущем году (1922) гонение усиливается и приобретает новые формы. Под предлогом найти средства будто бы на помощь голодающему населению три месяца тому назад последовал декрет об отобрании изо всех церквей и монастырей всех драгоценных украшений и ценностей. По сведениям, помещенным в советских изданиях, по 15 мая в финансовые отделы 48 губерний поступили следующие изъятые из церквей ценности: золота – 700 пудов, серебра – 9.500 пудов, бриллиантов – 8.000 штук, жемчуга – 48 фунтов, драгоценных камней – 80.000 штук. Но и этого оказалось недостаточным. В изданном им всенародном послании Святейший Патриарх объявил, что Церковь готова пожертвовать всеми своими ценностями, за исключением только священных сосудов, назначенных для совершения Таинства Евхаристии, и ставил единственным условием, чтобы направление церковных ценностей шло под контролем Церкви. Это справедливое требование было отвергнуто и повсеместно производится насильственное отобрание не только церковных ценностей, но и священных сосудов. Вызванные подобным насилием народные волнения – по сообщению самих большевиков они имели место в 1500 случаях – беспощадно подавлялись массовыми расстрелами; приходские священники, обвиняемые в подстрекательстве своих прихожан, приговариваются к смертной казни и, наконец, сам Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России, подвергся оскорбительному допросу революционного трибунала и, по последним известиям, идущим из большевических источников, подвергнут аресту и объявлен лишенным власти.
Последнее сообщение окутано тайной и дает повод к самым разнообразным толкованиям. Несомненно одно, что Святейший Патриарх лишен возможности управлять Церковью, что он, по одним известиям, подвергнут домашнему аресту, по другим – переведен на жительство в Московский Донской монастырь и что Церковью правит кучка революционных священников, возглавляемых епископом Антонином, известным еще с 1905 года своей явно революционной деятельностью. Передают о предстоящем будто бы в августе сего года созыве церковного собора для выбора нового патриарха. Епископ Антонин начал свою деятельность с торжественного признания Именем Божиим "рабоче-крестьянского" правительства и требует суда над Патриархом Тихоном.
Цель советского правительства ясна: нанести последний удар Церкви, разрушив ее священноначалие, и внести смуту и разложение в церковный строй чрез посредство неверующих революционных отбросов самого духовенства. Высокий личный и духовный авторитет Патриарха являлся до сих пор оплотом церковного единства и помехой их богоборческих стремлений. Теперь, когда Патриарх отстранен, за Антонинами пойдут отлученные от Церкви Владимиры Путяты, Илиодоры и отсюда уже недалеко до приписываемого Троцкому намерения упразднить православную церковную иерархию и устроить самоуправляющуюся прихожанами церковь." (22 мая 1922 г., № 42.)
"Официальные данные советской статистики говорят, что стоимость "изъятых" из церквей драгоценностей к маю достигла 200 миллионов золотых рублей. Сумма эта почти удвоилась к 1 июля. В то же время из всей этой суммы истрачено на помощь голодающему населению России один (!) миллион рублей золотом." (31 июля 1922 г., № 51.)
Невольно, скажем мы от себя, напрашивается вопрос, куда же пошли остальные награбленные жидами миллионы? Совершенно ясно и безусловно несомненно, что пошли в их собственные карманы, что изъятие церковных драгоценностей и систематическое ограбление православных церквей, якобы для помощи голодающему населению, явилось лишь способом обогащения жидов, и в этом мы убеждаемся не только по вывозу и распродаже этих ценностей за границей, но и по банковым счетам советских комиссаров... Так, совсем еще недавно сообщалось в газетах, что Апфельбаум (Зиновьев) является обладателем "собственного" капитала в 11 миллионов швейцарских франков, спрятанных в заграничных банках, а Лейба Бронштейн имеет будто бы в Америке капитал в 800 миллионов золотых рублей.
Нужно думать, что такие слухи, вероятно, на чем-нибудь да основаны.
"И.Горный в статье по вопросу о "живой церкви" сообщает, что в России нет ни одной губернии, в которой бы церковный раскол в центре не вызвал бы аналогичного раскола среди местного духовенства: "Гомель, Царицын, Харьков, Вологда, Тюмень, Тула, Воронеж и Северо-Двинск – все это центры тех губерний, где в противовес большинству реакционно настроенного духовенства образовались сплошные группы поборников идей епископа Антонина." В четырех перечисленных выше губерниях во главе "прогрессивных групп" духовенства стоят епископы: в Воронежской губ. – епископ Иоанн, в Минской – епископ Мелхиседек, в Тульской – епископ Виталий и в Царицынской – епископ Модест..." (25 сентября 1922 г., № 58.)
"С грустью приходится отметить, – говорит в своей статье "Церковный соблазн" А.П. Рогович, что далеко не все архипастыри оказались стойкими и преданными служителями Церкви. Архиепископ Нижегородский Евдоким открыто примкнул к живой церкви и пишет воззвание, под которым дают свои подписи Костромской архиепископ Серафим и даже митрополит Сергий, б. Финляндский... Протоиерей Красницкий, являющийся почти единоличным распорядителем в В.Ц.У. (Высшее церковное управление), насаждает красных архиереев и иереев и усердно выполняет все веления власти. Но временные власти земли Русской не хотят ни Красницкого, ни Антонина; для них эти люди лишь этап, который нужно пройти; главнейшая, конечная цель партийной программы – полное уничтожение религии. Откровенным исповеданием их стремлений является статья, помещенная в одном из номеров "Известий": "Либерализм в церкви нам так же мало нужен, как и старая церковь. Мы будем спокойны лишь тогда, когда священники станут не либералами живой церкви, а просто людьми, совершенно не верующими в Бога." Такова основная мысль статьи и таковы задачи коммунистов в церковном вопросе, которые они и не скрывают..." (Еженедельник В.М.С., 13 ноября 1922 г., № 65.)
"В целях расширения городских улиц советское правительство решило приступить в Москве к сносу церквей, построенных на площадях. К разрушению предназначена церковь Свв. Благоверных князей Бориса и Глеба на Арбатской площади, и уже снесена часовня Св. Благоверного князя Александра Невского против Национальной гостиницы в Охотном ряду. На этом месте предстоит сооружение "красного" памятника." (Там же.)
"Недавно была лекция Луначарского о религии будущего, в которой он заявил, что всякий человек, верующий в Бога, является для большевиков контрреволюционером, ибо мешает им устроить царство на земле." (Там же, 5 марта 1923 г., № 81.)
"Во многих местах России большевиками возбужден вопрос о конфискации в церквах всех колоколов для перелива их на пушки. В некоторых местах это уже осуществлено.
"Русспресс" сообщает, что Симферопольский собор реквизирован большевиками, которые устраивают в нем музей предметов религиозного культа, а военная церковь при Сокольнических казармах переделана в клуб для красноармейцев.
В Грузии арестован Католикос-Патриарх Амвросий со всем состоящим при нем Советом.
Из 13 лиц католического духовенства, преданных большевическому суду, епископ Цепляк и прелат Буткевич приговорены большевиками к смертной казни, а остальные – к тюремному заключению на 3 и 10 лет." (Церк. Вед., 1/14 – 15/28 марта 1923 г., № 5 и 6.)
"Из России сообщают: "Переживаем церковную бурю, сродную арианству и лютеранству, эта буря много еще принесет нам крушений, но никто, как Бог. В нашей губернии один уезд чуть не весь примкнул к живой церкви, а остальные уезды объединились около пастырских советов и не признают "обновленческого" высшего церковного управления в Москве и не страшатся живой церкви, устроенной на песке, если еще не хуже – на честолюбии и на очень плохой нравственной репутации ее вдохновителей. Все они щеголяют в званиях высоких и украшениях: провинциальные протоиереи, как благочинные, изъявившие согласие быть членами живой церкви, получают митры; над чем раньше смеялись, теперь то лобызают... Много есть и исповедников, с любовью и самоотвержением идущих в темницы и в изгнания за истину и правду Божию. Обновленцы поставили в своей программе рассмотрение на будущем соборе догматов: о грехопадении, об искуплении, о вечной жизни, о допущении женщин до священнослужения, о дозволении вдовым священникам и диаконам вступать во второй брак, о снятии монашеских обетов, в то же время оставляя в сущем сане епископский и прочие саны, до иеромонашества включительно и пр. Были уже случаи, когда епископы слагали с себя монашеские обеты..." (Еженедельник, 9 апреля 1923 г.)
"Тифлисская газета "Заря Востока" сообщает: "Сегодня состоялась торжественная передача военного собора – комсомолу. В присутствии множества рабочих, красноармейцев, коммунистов и беспартийных, председатель Горсовета тов. Певцов вручил ключи от собора председателю комсомола. На колокольне прогремел "Интернационал", исполненный духовыми оркестрами. Взвивались красные знамена. Вечером бывший военный собор, а ныне – комсомольский клуб, ярко осветился электричеством. Над морем огней царила электрическая советская звезда."
Церковь св. Пимена в Пименовском переулке в Москве реквизирована большевиками и превращена в "комсомольский храм".
В тифлисском "Коммунисте" напечатан список 103 церквей, отобранных от верующих в Грузии и переданных "комсомолу" под клубы.
В Одессе большевики собрали в помещении депо Одесса-Главная церковную утварь, облачения, хоругви и образа из железнодорожных церквей и, облив их мазутом и керосином, сожгли. Во время этого "торжества" исступленные коммунисты кричали: "Долой богов и религиозную тьму".
В Одринском монастыре, близ Карачаева, большевиками произведено вскрытие мощей св. Великомученицы Анастасии. Совершено дикое кощунство над мощами свв. мучеников Давида и Константина, покоящимися в Моцамедском монастыре близ г. Кутаиси. Подобное же кощунство совершено и в Бодбийском монастыре, где покоятся мощи просветительницы Грузии св. Нины". (Церковные Ведомости, 1/4 – 15/28 июня 1923 г., № 11 и 12.)
В статье "Патриарх Тихон", газета "Новое Время" от 7 июля 1923 г., № 657, приводит нижеследующее сообщение рижского корреспондента "Таймса":
"Сюда давно уже приходят сведения о непрестанных усилиях большевиков сломить волю Патриарха Тихона. Всем делом руководит Крыленко – товарищ Абрам. Сведения эти исходят не только из беспартийных источников, но и от самих большевиков. Патриарх подвергается изысканным мучительствам. Ему предлагают пищу, которую он не может есть. Ему не дают ни минуты покоя. Его будят среди ночи под предлогом спешного допроса. Его допрашивают и передопрашивают и днем и ночью. Он почти совсем ослеп, ослабел и еле жив. В точности неизвестно, находится ли он до сих пор в Бутырской тюрьме, куда его перевели из Донского монастыря, или его выпустили на свободу в качестве "гражданина Белавина". Возможно, что этот последний слух верен. Коммунисты довели Патриарха до состояния бессознательности и заставили его подписать сочиненный ими документ, в котором он якобы признает свою вину пред советским правительством, выражает раскаяние, обещает прекратить вражду к советской власти и просит об освобождении из-под стражи. Документ этот обнародован советским правительством. Он состряпан так грубо и неумело, что никому не придет в голову приписать его самому Патриарху. Так называемый верховный трибунал постановил снять с "гражданина Белавина" вооруженную стражу, что, само собою, не обозначает действительного освобождения. Доходящие в Ригу слухи допускают возможность, что Патриарх, изнеможденный мучительством до потери сознания и почти совсем слепой, мог дать свою подпись под документом, сочиненным тов. Крыленком, не зная его подлинного содержания. Здесь полагают, что Патриарху будет предоставлено умереть "собственной смертью."
Та же газета, в № 659, от 10 июля 1923 г., в статье "Совещание о живой церкви" говорит:
"В Москве под председательством коммуниста Преображенского, доверенного и ближайшего сотрудника Ленина, ездившего в Геную в качестве "очей и ушей" политбюро для наблюдения за Чичериным и К°, созвано совещание, которому поручено обсудить вопрос о дальнейшем существовании "живой церкви". Как и следовало ожидать, создание "живой церкви" – это был лишь тактический прием для внесения раскола и разлада, а также для инсценировки "разжалования" Патриарха Тихона. Теперь большевики больше не нуждаются в продажных Антонинах, а потому на очередь поставлен вопрос о дальнейшем существовании "живцов". Совещание созвано ввиду того, что в политбюро поступила записка группы видных коммунистов во главе с Бронштейном, в которой указывается, что "живцы" являются распространителями "суеверий", которые должны быть изжиты в коммунистическом государстве. Эта группа коммунистов является противником существования в советской республике так называемых "служителей культов", требуя упразднения и полнейшей ликвидации "культов". В записке указывается, что наличие "культов" является посмешищем и оскорблением для революционеров, которые "смогли смести буржуазный строй и бессильны бороться с человеческой косностью и темнотой". Коммунисты ссылаются в виде примера на "великую французскую революцию", которая якобы уничтожила "культы", создав взамен их "религию разума". В настоящее время по вопросу о "культах" среди коммунистов происходит острая борьба. Левые коммунисты настаивают на том, чтобы "снять маски" и показать всему миру "настоящее коммунистическое лицо". Более умеренные считают, что полное упразднение "культов" будет невыгодно советскому правительству, которое старается внушить Западу и Америке, что оно разрешает исполнение религиозных обрядов и что "гонения на религию", о которых сообщается в печати, – это лишь "выдумки эмигрантских газет". Совещание по вопросу о "культах" является секретным, и о его работах запрещено что-либо сообщать в советской печати."
"В связи с освобождением Патриарха Тихона из-под ареста и его заявлением, что он не признает поместного церковного собора о лишении его сана, и последних совершенных им богослужений, собравших огромные массы народa, – усилился раскол среди русского духовенства. Поэтому в главном церковном управлении поднят снова вопрос о созыве всероссийского церковного собopa с обязательным участием двух Восточных Патриархов. Бывший противник Патриарха – Сибирский митрополит Петр отошел от группы епископа Антонина, настаивавшей отстранить Патриарха от управления делами Церкви, и в настоящее время является главным инициатором по созыву собора. По его словам, епископ Антонин в вопросе лишения сана Патриарха был весьма пристрастен к последнему ввиду старых личных счетов, имевших место в 1905 г. в бытность епископа Антонина старшим викарием Петроградской епархии. Епископ Антонин постановлением Синода, где участвовал в качестве члена архиепископ Тихон, был тогда отстранен от должности викария и сослан на постоянное жительство в Сергиевскую Пустынь за подписанный им циркуляр петроградскому духовенству, в котором, на основании манифеста 17 октября, предлагалось при поминовениях Императора не называть Его "Самодержавнейшим." (Новое Время, 14 июля 1923 г., № 662.)
"В Слободском уезде Вятской губ. на спичечной фабрике "Якорь" большевики устроили торжественное сожжение икон." (Там же.)
"На Кавказе вспыхнули серьезные религиозные волнения ввиду непрекращающихся гонений большевиков на веру. Арестован целый ряд епископов." (Там же, 26 июля, № 672.)
"Иваново-Вознесенский корреспондент "Правды" с грустью констатирует, что если рабочий освобождается от религиозных предрассудков необычайно быстро, если городские храмы уже начинают обрекаться на запустение, то совсем не то среди крестьянства, где "боги умирают медленно". Религия висит тяжелым ярмом на шее мужика, и в двунадесятые праздники в глуби любого уезда не редкость встретить большие процессии с иконами и хоругвями и с пением молитв об избавлении от засухи и о "благорастворении воздухов". "Отцы наши жили с религией, и нам не переиначивать стать", – обычно говорят пожилые крестьяне. Хотя молодежь и настроена революционнее, однако же и она далеко не вся антирелигиозна: "Оно бы, конечно, религию можно бы и посократить, да вот бабы уже очень на этот предмет крепки... Чуть что, заедят..." (Там же, 29 июля, № 673.)
"Донской областной комитет РКП обратился в областной совет с требованием принять меры для передачи и переустройства церквей и молитвенных домов под общественные клубы и школы, согласно имеющимся в комитете постановлениям обывателей и граждан. Областной совет Дона известил комитет РКП, что он не может приступить к этим переустроениям, так как перечисленные в списке церкви и молитвенные дома находятся в ведении религиозных общин, представивших уполномоченным строительного отдела протокол заседаний религиозных общин, где ходатайство части граждан об обращении церквей и молитвенных домов в общественные здания были отклонены большинством голосов. Меньшинство же от своего имени подало соответственное ходатайство в РКП. Приезжающие из советской России рассказывают, что это за "меньшинство." Дело в том, что Чека, выполняя предначертания политбюро, посылает в церковные общины своих агентов, которые и "выдвигают" вопрос об упразднении церквей. Большинство таких чекистов вскоре же разоблачаются верующими прихожанами." (Там же, 28 июля, № 674.)
"На объединенном заседании центральных комитетов обновленческих групп "живая церковь" и "союз общин древне-апостольской церкви" заслушан доклад Красницкого о событиях в связи с выпуском из тюрьмы Патриарха Тихона и о мерах борьбы с "тихоновщиной." Вынесено постановление признать необходимым для пользы церковного дела создать единый тактический обновленческий фронт. Принята резолюция: предложить всем обновленческим организациям сосредоточить все свое внимание на ликвидации "тихоновщины", как организации политически-церковно-контрреволюционной. Прекратить всякие взаимные публичные споры и обязать всех к взаимной и всемерной поддержке. В целях объединенной работы на местах организовать объединенные собрания комитетов для предварительного обсуждения и решения спорных вопросов. На епархиальных и всех публичных собраниях представители обновленческих групп выступают соединенным списком по одной программе." (Там же, 3 августа, № 679.)
"Церковная борьба между сторонниками Патриарха Тихона и живой церковью принимает все более ожесточенные формы. В храме Христа Спасителя живоцерковцами было созвано собрание, закончившееся избиением "протопресвитера всея России" В.Д. Красницкого. Избиение было прекращено вмешательством милиции. Красницкий был увезен из храма в бессознательном состоянии. В связи с борьбой между Патриархом и его противниками в Москве создалась оригинальная подпольная литература: сторонники Патриарха выпускают листки, объясняющие и оправдывающие отношение Патриарха к советам; противники Патриарха из православного лагеря резко осуждают поступок Патриарха и считают его потерявшим право на руководство православной Церковью.
В Москве говорят, что Патриарх Тихон занят в настоящее время проектом созыва Поместного Собора для возглавления Православной Русской Церкви и осуждения живоцерковников. По слухам, Патриарх на этом соборе сложит с себя свой сан и предложит собору избрать себе преемника. Преемником этим называют приобретающего все большую популярность епископа Феодора, известного своим прямолинейным отношением к живой церкви и бесстрашием по отношению к большевикам." (Там же, 12 августа, № 687.)
"В Кустанайском районе в с. Пешковском комсомольцы произвели вскрытие мощей в местной церкви. Затем они постановили продать всю церковную утварь, чтобы купить трактир." (Там же.)
"Церковь при Ляпинском общежитии в Москве на Б. Серпуховской улице передана под рабочий клуб. Церковь при Бахрушинской больнице и часовня при Ольгинской больнице ликвидируются. Храмы Рождественского монастыря в Москве переданы главмузею." (Там же, 14 августа, № 688.)
"Газета "Дни" передает такой случай: в одном из западных городов Совдепии комсомольцы устроили безобразие на крестном ходу во время пасхальной заутрени – нарядились чертями, ринулись в толпу богомольцев... И все бы по-ихнему вышло хорошо. Но богомольцы-то со свечами. А "черти" – для пущей реальности – насмолили свои бумажные одеяния. Один "черт" загорелся. "Товарищи" бросились тушить – от него и другой загорелся. Первый "черт" сгорел – на виду у всех до смерти. Второго понадобилось отправить немедленно в больницу." (Там же, 1 сентября, № 704.)
"Частые сведения, идущие из России, указывают на все растущую популярность Патриарха среди верующих "староцерковников". "Живая церковь" терпит все большее и большее поражение. Насколько растет успех старой церкви, можно видеть из следующего: перед выходом Патриарха из заточения в Москве оставалось церквей, не перешедших в "живую церковь", – 35-40 (всего в Москве считается 400 церквей). В настоящее время, за исключением 4-5 церквей, все перешли вновь под главенство Патриарха. Церковная интеллигенция продолжает относиться сдержанно ко всем последним выступлениям Патриарха. Отмечают появление посланий Патриарха к пастве, расклеенных по Москве, с крестом наверху и с надписью внизу: "Типография Г.П.У.". Рассказывают приезжающие о приглашении Патриарха на служение "Красной Пресней" – цитаделью большевизма рабочих. Путь Патриарха был усыпан цветами. Благословение верующих, несмотря на крайнюю усталость Патриарха, продолжалось до 6 часов вечера.
Следует отметить рассказы приезжих об имевших большое общественное значение похоронах известного протодиакона Розова. Нужно сказать, что Розов, несмотря на массу выгоднейших в материальном отношении предложений "живоцерковников", твердо оставался верен Патриарху Тихону, дошел до нужды, должен был даже продать для жизни драгоценный для него реликвий, часы – подарок Государя, но убеждений не изменил и завещал, чтобы ни один "живоцерковный" священник не был на его отпевании. В день похорон его большевиками были приняты значительные меры против скопления народных масс, было приказано закрыть кладбище с 4-х часов, но ничего не помогло. Массами народа, пришедшими почтить память Розова, было кладбище открыто, церковь кладбищенская переполнена. Нашелся и живоцерковник, известный протоиерей Красницкий, который, несмотря на завет Розова, явился на его отпевание в облачении. Произошло смятение, бывший во главе протоиерей Любимов несколько растерялся. Решено было Красницкого оставить, но "возгласов" ему не давать. Таким образом, он бессловно простоял в конце многочисленного духовенства во все время отпевания. После окончания отпевания, при выходе Красницкого, по храму пошел гул недовольных голосов. На паперти Красницкого уже просто стали ругать, а когда он садился в трамвай, толпа начала его бить, красная милиция защищала его, но когда милиционеры узнали, что он "красный поп", то пожалели, что защитили его: "Так его и надо было", говорили они.
Заслуживает большого внимания следующее явление, происшедшее с митрополитом Агафангелом, оставшимся, как известно, заместителем Патриарха Тихона при заточении последнего. Вскоре после ареста Патриарха Тихона началось преследование большевиками и всего духовенства, оставшегося ему верным. В первую очередь гонение началось на епископов. В том числе и митрополит Агафангел был назначен к ссылке в Тюмень. Распоряжение об этом пришло совершенно внезапно. Митрополит Агафангел был схвачен в чем был – в одном подряснике. В таком виде он должен был ехать и со станции железной дороги до окрестностей Тюмени – места его ссылки – 150-200 верст при 20 градусах мороза. Было ясно, что Агафангела отправляют в такой обстановке для того, чтобы он погиб в дороге, замерзнув или простудившись насмерть. Так смотрел на это и сам митрополит и, подчиняясь испытанию воли Божией, помолившись, отправился в путь в чем был (в одном подряснике). И вот, здесь произошло нечто удивительное, совершенно неожиданное, как по рассказам самого митрополита Агафангела, так и по рассказам сопровождавших его красноармейцев. Когда повезли митрополита со станции в санях на лошадях, то в продолжение длинного пути, при морозе в 20 градусов, митрополит чувствовал себя все теплее и теплее, точно развивалась в нем какая-то теплота, и прибыл в Тюмень ничего себе не отморозив и нисколько не застывши. Всю дорогу с удивлением на него смотрели ехавшие с ним красноармейцы, так как были уверены, что старик замерзнет в дороге. Надо представить, какое впечатление производят рассказы на массы, и без того приподнятые в религиозном отношении. Все изложенное в настоящей заметке сообщено лицами, вполне заслуживающими доверия." (Там же, 5 сентября, № 707.)
"Советские власти объявили, что открытое признание верующими Патриарха Тихона своим духовным отцом и поминание его за богослужением повлекут привлечение "виновных" к ответственности за контрреволюцию." (Там же.)
"Митрополитом Антонием получено из верного источника письмо следующего содержания: "...Наш Патриарх на свободе. Его, очевидно, пригласили в Чеку на самое короткое время. Теперь он почти каждый день служит и расписание служений составлено у него до декабря. В Москве у живцов осталось только 3 церкви! В Петрограде за Патриархом – 40, а 123 – за живцами; это объясняется тем, что в Петрограде нет законного архиерея. Артемий-живец колеблется. Говорят, что в Петроград будет назначен либо митрополит Серафим (Чичагов), либо епископ Феодор. В Ярославской епархии живцов сплошь вычистили очень быстро. Во Владимире за православие встал один монах. За ним идет весь город. Святейший Тихон вполне здоров. Слухи о его болезни ложны. Он пока еще в Донском монастыре, но просит дать лучшее помещение. Антонин исчез. "Высшее церковное управление" в Москве упразднилось. Боярского недавно оскандалили на собрании в Александро-Невской лавре, Введенского оскандалили в Московской консерватории, Красницкого – в храме Христа Спасителя. Это три главных живца. Москвой управляет теперь епископ Иларион, принимающий и всех раскаявшихся. Он весьма любим и почитаем за проповеди, верность Патриарху и энергию. Я отправил Святейшему свое послание по поводу осуждения его и сообщил о том, как за границей все молились и хлопотали за него, упоминая, конечно, прежде всего о Вашей деятельности. Епископ Феодор освобожден в начале июля, пробыв в Бутырской тюрьме 3 месяца (а раньше 22 месяца). С ним были Герман Волоколамский, Феофил Новоторжский, Варфоломей. Все они здоровы и бодры. Их верующие хорошо питали. Епископ Феодор по-прежнему в Даниловом. В тюрьмах еще находится 80 епископов. Епископ Феодор приобрел в Москве большую любовь за свою стойкость, но он уклоняется от назначений. Митрополит Сергий на Лубянке в тюрьме. Странно, что к нему так строго относятся. Несомненно, что он не будет голоден и его питают жители Москвы как следует. Митрополит Кирилл еще в тюрьме. Макарий Владикавказский объявил себя коммунистом, имеет гарем, кутит и безобразничает открыто и цинично." (Там же, 8 сентября, № 710.)
"Выдержка из письма, полученного из Москвы: "...Сейчас "раскаяние" Патриарха Тихона – событие, которое волнует всех, и каждый по-своему старается его объяснить. Конечно, всем ясно, что это письмо неискреннее, я лично верю, что оно продиктовано не чувством малодушия, а желанием принести в жертву все, даже собственную честь, чтобы быть на свободе и тем объединить Церковь и не дать ей окончательно расколоться. Правда, в этом отношении результат им достигнут – множество священников живой церкви, увидав Патриарха на свободе и снова Патриархом, раскаялись в своем отступничестве. Они являлись к Тихону, прося его простить их, на что он заставлял их при всем приходе раскаиваться в своем заблуждении. Им приходилось становиться на колени в церкви перед всем приходом и каяться всенародно. После этого церковь освящалась кем-нибудь из архиереев и считалась отторгнутой от живой церкви. Каждый день Патриарх, при огромных толпах народа, служит в разных церквах Москвы. Вчера я была на всенощной в одной маленькой церкви на Арбате, где служили Патриарх, митрополит Серафим и несколько других архиереев. Настроение было очень повышенное, после службы Тихону пришлось благословлять до изнеможения, так что его под руки держали, и так, говорят, каждый день. Простой народ встречает его с энтузиазмом и не задумывается о том, правильно ли сделал Тихон, подписав свое "раскаяние", им важно видеть "нашего батюшку", чувствовать его между собою. Я была на днях на диспуте живоцерковников с тихоновцами на тему о "раскаянии" Тихона. Введенский (главный представитель живой церкви и глава церковного совета) производит отталкивающее впечатление – совершенный сатана на вид, и голос у него какой-то отвратительный, козлиный. Вся аудитория, конечно, на стороне тихоновцев, и вообще видно, что живая церковь провалилась совсем." (Там же, 11 сентября, № 712.)
"Рига, "Руспресс". Советские власти воспретили Патриарху Тихону совершение публичных богослужений без особого в каждом случае разрешения со стороны властей. Этот запрет вызван тем обстоятельством, что службы с участием Патриарха неизменно привлекали громадные толпы народа, причем почти никогда не обходилось без столкновения со сторонниками "живой церкви" и других толков, преданных советской власти. Советские власти конфисковали воззвание Патриарха Тихона, осуждавшее автокефалию украинской церкви." (Там же.)
"С целью парализовать усилившееся последнее время в народных массах религиозное движение, весьма беспокоящее советские круги, большевиками ведется самая усиленная антирелигиозная пропаганда, причем особенное внимание уделено пропаганде в красной армии. В Украинском военном округе издается особый орган "Красная Армия", посвященный преимущественно борьбе со всякими верованиями, со всеми религиями, со всеми "богами." Приводим на выдержку несколько примеров, иллюстрирующих эту пропаганду, приводимую систематически при каждой возможности, и с этой целью заимствуем из одного из последних номеров следующие статьи: "Атака на богов и дьявола." Заголовок отбит с клише и потому, очевидно, употребляется в каждом номере; он разукрашен характерными, броскими кощунственными виньетками. Под этим заголовком – следующая заметка: "В конце июля к нам пришли пополнения. Большинство – деревенщина из самых глухих углов. Ровесники тех, которые уже служат с осени прошлого года и достаточно привыкли к нашим военным обычаям; большинство уже записалось в "безбожники". Привели их всех в библиотеку. Им показали разные издания и в числе их журнал "Безбожник".
– Смотри, как хорошо нарисовано, – говорит один из них, – атака на "богов" и дьяволов.
– Ну, как вам нравится? – спрашивает командир взвода.
– Хорошо, – говорят новобранцы, покраснев.
– Чего же вы краснеете? Вы, верно, носите все еще по-прежнему крестики?
– Да! Но мы можем их снять!
В тот же день представлено было четыре крестика, которые и прилагаются при сем в музей "божков" красной армии".
Статейка подписана комиссаром 19 кавалерийского полка Гайдуковым.
Образчик второй.
"Ильин день в лагере".
В день св. Илии вся Казанская дивизия пошла в атаку против "богов" и дьяволов. День был посвящен работе, а вечером из всех уголков лагеря красноармейцы двинулись в лагерный клуб, где предстояла процессия с "попами и божками". На интендантской повозке восседают манекены "попа", раввина и ксендза; по бокам повозки – почетная стража, – взвод красноармейцев и несколько конных, все в траурных одеждах. Процессия медленно двигается. Слышно пение "Святый Боже". За повозкой идет ряженый "поп" и напевает похоронные мотивы за "упокой всех служителей Божиих всех вероисповеданий." Ему вторят из конвоя тем же похоронным мотивом в следующих словах: "На кого же вы нас, святые отцы, покидаете, как же мы без вас, "сволочей", жить будем." Процессия входит на учебный плац, где утверждены два столба с перекладиной, с бочкой под ними и с надписью на перекладине: "вход в рай". Всех "божков" вводят в ворота, где повозка и останавливается. Выступает на сцену оратор и произносит следующую речь:
– Товарищи, во времена оны "попы" жгли ученых, сегодня же мы, воспитанные в красной армии, сжигаем попов и провозглашаем клич в честь всемогущей науки. В это время поджигаются соломенные манекены всех трех "попов", а с другой стороны подъезжает к месту сборища другая повозка с манекеном, изображающим "науку" в образе красивой женщины, опирающейся на руки рабочего и крестьянина. Повозка эта сопровождается отрядом красноармейцев в красных накидках с венками на головах. Церемония заканчивается погребением "божков" под взрывы всеобщего смеха, а "науку" все собравшиеся красноармейцы торжественно провожают обратно в лагерь. До большей мерзости трудно додуматься." (Там же, 25 сентября, № 724.)
"Прибывший недавно из Москвы писатель М.П. Арцыбашев в беседе с сотрудником одной польской газеты нарисовал такую картину положения религии под властью большевиков:
"Большевики объявили отделение Церкви от государства. В свое время они прокламировали и свободу совести. Как все другое, так и эта "свобода совести", декретированная большевиками, является наглой ложью и лицемерием. Религия свободна в России только постольку, поскольку имеется в виду внутренняя духовная жизнь человека. Человеческую мысль, к счастью, нельзя заковать в кандалы.
Большевики подкапываются под религию как только могут. До сих пор, однако, не хватало у них смелости чтобы совершить открытое покушение на самые святые верования человека. Во всяком случае нигде, пожалуй, не проявляют они такой нервности, такой фанатической ненависти, как именно в этой области. Не останавливаясь перед провокацией, под разными предлогами закрывают храмы по всей России. В церквах и костелах устраивают танцевальные вечера, оскверняют алтари, выпускают бесчисленные журналы, плакаты, летучки, цель которых – осмеять веру в Бога и вызвать к ней отвращение. Грубо, цинично и по-хамски оскорбляется в них все, что есть в человеке наиболее возвышенного и чистого.
Ограбление храмов продолжается по-прежнему. Советские власти организуют специальные атеистические процессии. Священнослужители всех вероисповеданий являются настоящими париями под гнетом большевиков. Вообще отделение Церкви от государства свелось к тому, что Церковь утратила все права, государство же узурпировало себе "право" делать с Церковью все, что ему вздумается.
Я должен открыто и искренно сказать, хотя знаю, что касаюсь вопроса очень щекотливого: может быть, потому, что во главе большевического правительства стоят преимущественно иноверцы, а может быть, и потому, что в православной Церкви, в христианстве они видят наибольшую опасность для своей власти, – преследованиям и террору подвергается преимущественно христианство и православная Церковь." (Там же, 27 сентября, № 726.)
Советская печать сообщает, что в Москве за первые 7 месяцев текущего года были ликвидированы: в январе – 5 церквей, в феврале – 6 церквей и 3 религиозных общины, в марте – 10 церквей и 1 община, в апреле – 11 церквей и 1 монастырь, в мае – 12 церквей и 1 монастырь, в июне – 9 церквей, в июле – 8 церквей." (Там же, 29 сентября, № 728.)
"Советский синод прислал Восточным Патриархам уведомление о командировке делегации в Константинополь для ознакомления Патриархов с "истинным положением православной Церкви в России" и приглашения Патриархов прибыть в Москву и внести умиротворение в Русскую Церковь. "Истинное положение церкви" под большевиками лучше всего характеризуется тем, что в состав делегации входит управляющий делами советскою синода Новиков-Айзенштадт." (Там же, 2 октября, № 730.)
Один из русских православных священников, в ответ на заявление советского "митрополита" Евдокима о том, что советская власть борется не с Церковью, а с контрреволюцией, прислал в редакцию газеты "Новое Время" нижеследующую статью, достойную быть отмеченной.
Двадцать две "свободы", дарованные советской властью в России Православной Церкви
1. Допущение и поощрение гнусных издевательств над религиозными верованиями, особенно христианскими, в публичных собраниях и в печати.
2. Устройство кощунственных процессий-маскарадов и всенародных издевательств над религиями.
3. Недопущение свободы церковной и религиозной печати.
4. Отобрание храмов у верующего народа и передача их в ведение "исполкомов".
5. Разрешение "исполкомам" пользоваться храмами для своих "культурно-просветительных" и "общественно-политических" целей.
6. Закрытие домовых церквей.
7. Допущение возмутительного кощунства в храмах и алтарях, над св. престолами, иконами, священными сосудами и другими священными предметами.
8. Запрещение обучения детей Закону Божию не только в школах, но вне школ.
9. Удаление из учебных заведений икон и книг религиозного содержания.
10. Закрытие духовно-учебных заведений, подготовлявших пастырей церкви, и конфискация их зданий и имущества.
11. Конфискация церковного имущества, пожертвованного церкви верующим народом.
12. Ликвидация церковных управлений, церковного суда, хозяйственных и благотворительных учреждений.
13. Кощунственное освидетельствование и отобрание св. мощей и передача их в музеи.
14. Отмена праздников, и притом даже таких великих и чтимых, как праздник Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста.
15. Отобрание из храмов священной утвари.
16. Закрытие монастырей.
17. Запрещение служащим в государственных учреждениях исполнять свои религиозные христианские обязанности.
18. Запрещение учащимся в народных школах говеть, исповедываться и причащаться.
19. Запрещение учителям народных школ иметь иконы в своих частных квартирах.
20. Обложение церковных приходов непосильными налогами за право совершения богослужения в храмах.
21. Преследование, заключение в тюрьмы и расстрелы священников и епископов за протест против насилия над Церковью.
22. Заключение в тюрьму и лишение возможности управлять паствой Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России." (Там же, 16 октября, № 742.)
"В последнем заседании синод живой церкви, по сообщениям советских газет, заслушал доклад о деятельности митрополита Антонина. Было указано, что за последнее время он самовольно присвоил себе титул "митрополита всея России", ввел ряд новшеств в богослужение.
Синод постановил запретить митрополиту Антонину богослужение и пригласил его в синод для дачи объяснений.
Узнав о постановлении синода, митрополит Антонин заявил: "Компетенции синода над собой я не признаю и подчиняться синоду не буду. Еще 29 июля я заявил, что считаю деятельность синода крайне вредной для церкви и провозгласил свою автокефальную (и следовательно, независимую от синода) церковь, назвав ее "церковью возрождения". В общем у меня коренное расхождение с церковными группировками. С Тихоном у меня нет ничего общего, ибо я опираюсь совершенно на иные социальные слои. Синодальную церковь я считаю чисто поповской, кастовой организацией.
Я отвергаю церковную иерархию, будет ли она монархической, как у Тихона, или олигархической, как у синода, и на ее место ставлю общину." (Новое Время, 27 октября 1923 г., № 752.)
"В финляндской газете "Русские Вести" напечатаны нижеследующие письма Святейшего Патриарха Тихона на имя финляндского архиепископа Серафима и игумена Валаамского монастыря по поводу перехода финляндской Православной Церкви на новый стиль.
I.
Высокопреосвященнейший Владыко. Приношу Вашему Высокопреосвященству искреннюю благодарность за Ваши слова братского участия и правды по поводу происходящих у нас церковных событий. Господь да направит все ко благу Святой Своей Церкви.
Благодарю и за сообщение "Всеправославного Собрания" о введении при богослужении нового стиля и благословляю Финляндскую Церковь ввести у себя новый стиль с октября месяца с некоторыми изменениями григорианской пасхалии. Прошу Вас прислать мне в переводе постановление Собрания.
Испрашивая Ваших св. молитв, с братской любовью остаюсь Вашего Высокопреосвященства покорный послушник Тихон, Патриарх Московский и всея России.
16 августа 1923. Москва, Донской монастырь.
II.
Ваше Высокопреподобие. Всечестнейший о. Игумен Павлин.
На днях выйдет послание наше о переходе со 2-го октября на новый стиль.
Прошу Вас и братию св. обители Вашей не смущаться сим переходом, так как этим не вносятся изменения в веру нашу, и Пасхалия остается православная.
Прошу Ваших св. молитв и призываю на обитель Вашу Божие благословение.
Ваш богомолец Тихон, Патриарх Московский и всея России.
23 сентября / 6 октября 1923 г. Москва, Донской монастырь." (Там же.)
"В Москве гонения на Церковь продолжаются. Ряд церквей вновь отобран и обращен под клубы. Население по этому поводу негодует. Характерно и знаменательно, что протесты становятся уже активными; так, когда во вновь отобранной церкви Св. Пимена была устроена первая вечеринка, в ней ночью были побиты все окна." (Старое Время 29 окт. 1923 г., № 4.)
"Наркомвнуделом", на основании представления коллегии наркомпроса, разослан губисполкомам циркуляр, в котором указывается, что во многих местностях республики существуют национальные школы, где, вопреки постановлению государственной комиссии по образованию, введено преподавание религии.
Принимая во внимание "вред, который приносит юношеству изучение религии", циркуляр предлагает усилить надзор за деятельностью преподавателей национальных школ. Одновременно циркуляр указывает, что местные правительственные органы по незнанию поддерживают духовных лиц преподавателей, допуская их состоять членами профессиональных союзов." (Новое Время, 11 нояб. 1923 г., № 765.)
"Совнарком разрешил распродать имущество закрываемых церквей с аукциона. "Правда" требует реквизиции всех церковных колоколов на красный воздушный флот.
"Известия" (№ 232) сообщают о расколе в украинской автокефальной церкви в Николаеве, где образовались две партии: одна во главе с епископом Буцило, другая – с протоиереем Гуличем. Обе стороны начали разоблачать друг друга в советской печати, причем выяснилось, что Буцило присвоил церковные суммы и посвятил в священники своего приятеля Голованя, известного рецидивиста, совершившего кражу церковных ценностей и отбывавшего наказание в доме принудительных работ." (Старое Время, 12 ноября 1923 г № 6.)
"Таймс" печатает следующие впечатления епископа Берри, только вернувшегося из Москвы: "Патриарх Тихон – человек еще не старый, ему сейчас 58 лет, – производит впечатление глубокого старика. Он живет в двух маленьких келлиях Донского монастыря под строжайшим надзором, так что не может иметь никакого общения с епископами православной Церкви."
"Епископ Берри, с разрешения советский властей, участвовал в богослужении Патриарха 1 ноября в Успенском соборе, переполненном молящимися, в противоположность пустым церквам, захваченным представителями "живой церкви". Патриарх, давая епископу Берри объяснения по поводу своего известного "обращения" и приведя слова Апостола Павла: "Быть пред очами Господа Бога и покинуть бренное тело – наивысшая радость", сказал, что лично он с радостью бы принял мученическую кончину, но судьба православной Церкви вверена ему, и оставить ее он не может. Перед своим отъездом епископ Берри посетил Патриарха с намерением предложить ему, ввиду того, что в данное время невозможно созвать церковный собор, назначить себе преемника на случай смерти, в целях сохранения целости православной Церкви. Но ему не удалось осуществить свое намерение, так как Патриарх не мог принять его ввиду полной потери сил от болезни. Епископ Берри приписывает тот факт, что ему была дана полная свобода во все время его пребывания в Москве, точному исполнению всех предписаний советского правительства английской миссией. Тем не менее, он подтвердил, что все без исключения иностранцы испытывают в России тяжелое чувство стеснения свободы, благодаря тому, что щупальцы советов всюду проникают, и что все иностранцы постоянно испытывают страх совершить, даже по неведению, что-либо запрещенное. Епископ Берри вынес впечатление, будто православная Церковь доживает свои последние дни в России. По его мнению, она сможет продолжить свое существование, пока жив Патриарх, но распадется, как только он умрет. Патриарх совсем разбитый человек, и советы, видимо, ждут его смерти, чтобы нанести последний удар православной Церкви в России." (Новое Время, 30 ноября, № 781.)
"В Воронежской губ. большевиками убито 160 священников. В Херсонской губ. три священника были распяты. Духовник монастыря св. Магдалины о. Никольский, 60-летний старец, был схвачен в церкви во время богослужения, его мучители заставили раскрыть рот и с криком: "Вот святое причастие", выстрелили в рот. Священника Дмитриевского силой поставили на колени, отрезали ему уши и нос, а потом отрубили голову. Отца Золотовского, 80-летнего старца, одели в женское платье и потом убили его, когда он отказался плясать. Священника Калиновского засекли до смерти." (Церковные Ведомости, 1/14 – 15/28 декабря 1923 г., № 23-24.)
"Епископ Павел, викарий Владивостокской епархии, вернувшийся из Японии во Владивосток, выслан в Самару. Епископ Охотский Даниил, викарий Камчатской епархии, хиротонисанный во епископы по определению Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей, более 8 месяцев сидит в тюрьме на Камчатке в г. Петропавловске за отказ признать как живоцерковников, так и большевицкую власть. Владыка известен крепостью веры и твердостью взглядов. И теперь он на представленных ему от живцов в тюрьму обращениях пишет резолюции "еретики", "богоотступники". Продолжает сидеть любимый паствой епископ Благовещенский Евгений. Арестован он за совершение в соборе в день рождения Государя Императора Николая II заупокойной литургии." (Там же.)
"Газета "Le Journal" сообщает: "Датский писатель Галлинг Келлер, возвратившийся из путешествия по России, рассказывает, что он присутствовал в Свияжске на открытии памятника Иуде Искариотскому. Местный совдеп долго обсуждал, кому поставить статую. Люцифер был признан не вполне разделяющим идеи коммунизма, Каин – слишком легендарной личностью, поэтому и остановились на Иуде Искариотском, как вполне исторической личности, представив его во весь рост с поднятым кулаком к небу". (Там же.)
"Из Москвы сообщают: ввиду приближающихся праздников Рождества Христова, центральный комитет РКП разослал во все культурные организации циркуляр с требованием немедленно приступить к планомерной и систематической антирелигиозной пропаганде. Главное внимание следует обратить, гласит циркуляр, на исследование и собирание соответственных материалов для пропаганды. Основным лозунгом и целью этой пропаганды должно быть изгнание религиозных начал из домашней жизни и замена их "пролетарской революционно-светской культурой". Пропаганда должна носить "эстетический характер". Антирелигиозная пропаганда будет происходить в закрытых помещениях." (Нов. Вр., 19 декабря, № 796.)
"Приводим выдержки из частного письма от 15 ноября с.г.: "Вероятно, и до вас дошли слухи, какие кошмарные события пережила и продолжает переживать св. Церковь, и центром этих переживаний служит Петербург. Божиим попущением церковное управление временно оказалось в руках захватчиков; путем обмана и насилия, потерявшая и честь и страх Божий группа священников с весьма громкими именами (Боярский, Введенский) взяла в свои руки церковную жизнь, при этом искусно прикрывая свои честолюбивые и сатанинские замыслы обещанием создать для Церкви в государстве легальное положение и обновить самую жизнь и строй Церкви реформами в строго каноническом духе. Много нашлось доверчивых и еще больше легкомысленных. Но все это оказалось шантажом. Большую твердость проявил народ и, не взирая на агитацию и запугивания, в массе остался верен православию. Создался ужасный раскол. Церкви стали пустеть. Духовенство потеряло доверие, а некоторые особенно ревностные последователи нового движения стали предметом презрения. Как ни странно, и здесь начались ссылки и тюрьмы. И много слез было пролито, много, много пережито скорби. В настоящее же время совершился полный переворот. Всё и все постепенно объединились вокруг своего главы Патриарха Тихона; каялась Лавра, а на следующий день Воскресенский монастырь, при огромном стечении народа. Есть и протестующие, но народ определенно обрек их на вымирание. Благодаря Бога, меня эта волна не коснулась, но пережить пришлось очень и очень много горького и обидного. Недавно в одном храме служил представитель Патриарха Тихона епископ Мануил при громадном стечении народа. Служба – какой не запомним. Такой подъем и настроение, словно переживали Пасхальную ночь. И чувствуется, что словно все ожило и духовно окрепло, и я счастлив был за всех участников и, конечно, за себя. Порадуйтесь и вы за нас и помолитесь, дабы Господь продлил Свою милость..." (Новое Время, 23 декабря, № 800.)
"Полное поражение "живой церкви" на Украине (глава ее митрополит Тихон, бывший архиепископ Воронежский, вынужден был покинуть Покровский монастырь в Киеве и уехал в Москву) вновь обострило, по словам "Рускульта", борьбу между "черной" (тихоновской) и "жовто-блакитной" (национальной) церквами. Первая по-прежнему имеет силу в городах, вторая – в селах, где низшее духовенство является вместе с учителями и другой сельской интеллигенцией надежнейшей опорой украинского национализма. "Национализация", проводимая теперь большевиками, значительно укрепила "жовто-блакитну" церковь, и на поверхность начинают выплывать внутренние споры о степени украинизации богослужения, о форме взаимоотношения с Московским синодом и выплывший в последнее время выдвинутый выходцами из Галиции вопрос об украинском патриархе. Московский синод, с которым на бывшем весной в Москве соборе связала себя живая "жовта" церковь, пользуется в национально церковных украинских кругах очень печальной репутацией, а так как связь с Патриархом Тихоном порвана уже давно (и в этом главнейший пункт расхождения с "черной" церковью), то является необходимость решись вопрос об "ориентации".
Константинопольский Патриарх, в связи с последними в нем настроениями, не пользуется авторитетом, и сторонники ориентации не чувствуют под собой твердой почвы. Это одно время дало перевес сторонникам новой идеи о создании украинского патриарха, но, помимо прочих затруднений и отрицательных соображений, есть одно, которое делает невозможным осуществление этой идеи: отрицательное отношение к ней большевиков." (Там же, 26 декабря 1923 г., № 802.)
"Рига, "Русспресс". "Правда" сообщает, что в 51-й красной дивизии красноармейцам при прибытии в часть приказывается снимать с шеи кресты." (Там же, 27 декабря 1923 г., № 803.)
"В связи с борьбой против религии и церковных обрядов советским правительством опубликованы инструкции о праздновании "красного Рождества" в школах, рабочих организациях и т.д... Празднование Рождества должно быть постепенно сведено к соблюдению древних языческих обычаев и обрядов. (Там же, 28 дек. 1923 г., № 804.)
"В Белоруссии комиссариат просвещения постановил отменить в учебных заведениях рождественские и пасхальные каникулы." (Там же.)
"В Киеве закрыт целый ряд церквей: религиозно-просветительного общества, Братства Воскресения Христова, на Сенной площади, Александровской и Кирилловской больниц и др. Введен новый устав о перерегистрации религиозных общин, в силу которого приходские советы упраздняются, а на их место избираются уполномоченные. Дела должны решаться на общих собраниях, созываемых с разрешения советских властей в каждом отдельном случае. Закрыт также ряд монастырей, а именно: Пустыни Китаевская и Преображенская, монастыри Михайловский и Фроловский; две церкви этого последнего переданы живой церкви, а здания монастыря отданы в аренду союзу металлистов. Сестры должны платить арендную плату за помещение. В Печерской Лавре здания заарендованы для инвалидного городка и отделом народного образования. Закрыты также Покровский женский монастырь и церковь на Шулявском и Лукьяновском кладбищах.
Совершение ночных служб воспрещено." (Церковные Ведомости, 1/14 – 15/28 января 1924 г., № 1 и 2.)
"Вот что пишет прибывший в Ригу корреспондент лондонской газеты "Дейли Мэйл" Ричард Итон своей газете:
"Меня арестовали большевики за то, что я прибыл в Москву без разрешения. Едва удалось избавиться из тюрьмы. В тюрьме я познакомился с религиозной политикой большевиков.
После освобождения Патриарха Тихона, террор против духовенства усилился. Коммунисты боятся все возрастающего влияния Патриарха и хватают его сторонников. 400 священников выслано без денег и одежды в Архангельск на верную смерть от голода. 300 священников и все архиепископы и епископы, кроме восьми, ввергнуты в тюрьму. Их обвиняют в контрреволюционной деятельности.
В тюрьме я видел престарелых священников в ужасающей обстановке. Они спят на каменном полу и получают в день четверть фунта хлеба и отвратительную похлебку. Большинство их старше 60 лет. Одного совершенно больного старца перевели в больницу только после того, как у него от голода случился обморок и он больше часа пролежал без сознания. На прогулках чекисты бьют старцев палками и хлыстами, чтобы они гуляли быстрее. Я видел архиепископа, который 9 месяцев заключен в одиночной темной камере на хлебе и воде.
Религиозные преследования относятся не только к священникам. Один мой знакомый, видный советский чиновник, был ввергнут в тюрьму за то, что посещал церковь.
В больницах и тюрьмах запрещено исповедывать умирающих." (Там же.)
"По официальным советским данным, только до сентября 1920 года чрезвычайками было расстреляно:
Епископов – 28, священников – 1215, а всех вообще за указанное время расстреляно – 1.755.810 чел." (Там же.)
"По сообщениям "Русспресса", на улицах Москвы было расклеено следующее воззвание:
"Православные люди! Около храмов, где служит Святейший Патриарх Тихон, часто происходят ожесточенные споры и столкновения. Бывали даже случаи насилия. А что всего хуже, так это то, что ведутся речи контрреволюционного содержания. Все это совершенно недопустимо. Врагам нашего государственного строя, разного рода черносотенцам, нет места около Святейшего Патриарха, который ясно сам сказал, что он ничего общего с контрреволюцией не имеет. Богослужение совершается только для молитвы. Злые и ненужные политические разговоры, а тем более всякое насилие, совершаемое около храма, оскорбляют храм и набрасывают тень подозрения на святую Церковь и ее служителей.
Прошу и умоляю православных людей никогда не безчинствовать, особенно около храмов. В ком горят политические страсти, тот лучше оставайся дома. Упорные же нарушители мира и порядка да знают, что таковых мы будем отлучать от св. Причащения, как не щадящих святую Церковь и позорящих ее.
Управляющий Московской православной епархией.
Епископ Иларион."
(Церковные Ведомости, 1/14 – 15/28 фев. 1924 г., № 3-4.)
"Освобожденные из тюрьмы на праздник Рождества Христова Митрополит Арсений и Архиепископ Никандр вновь арестованы через четыре дня по освобождении.
Алексеевский монастырь в Москве превращен в клуб комсомольцев.
На Преображенском старообрядческом кладбище в первой молельне вместо образа повешен портрет Ленина.
В Пскове закрыты Георгиевская и Пантелеймоновская церкви. Имущество церквей описано и увезено. Здания церквей приспособляются под клубы.
Иоанновский монастырь в Петрограде разорен большевиками. Покоящееся в монастыре тело протоиерея о. Иоанна Кронштадтского предположено было перенести на Смоленское кладбище, где был приготовлен для него склеп. Но это большевикам не удалось. По сообщению из Петрограда, при вскрытии гроба большевики страшно испугались о. Иоанна, грозно посмотревшего на них, и они отступились, закрыв гроб и заделав досками церковь. Так гроб о. Иоанна Кронштадтского и остался на прежнем месте, но сведения эти не проверены. При разорении монастыря большевики совершили дикие непередаваемые кощунства. Главная вина этого разорения – сами сестры. Они разделились на партии. Этим воспользовался большевический агент – протоиерей Журавский. Он и довел монастырь до закрытия. Монастырь обращен в увеселительное заведение.
Троицкое подворье в Петрограде закрыто и обращено в театр.
В подворье Валаамского монастыря в Москве решено поселить беспризорных женщин, а монахов предполагают выселить оттуда, разместив их в свободных торговых помещениях; причем сроку на выселение дали им несколько дней.
Здание Московского Всехсвятского единоверческого монастыря передано под рабочий клуб завода "Серп и Молот".
"Русспресс" сообщает, что коммунисты – служащие комиссариата юстиции вынесли резолюцию с требованием закрыть все церкви на Красной площади в Москве, для обращения их в музей имени Ленина. Это предложение будет обсуждаться на ближайшем заседании совнаркома.
Только что получены нами сведения о том, что арестованы: Епископ Мануил – управляющий Петроградской епархией, Епископ Серафим и около 70 священников." (Церковные Ведомости, 1/14 – 15/28 марта 1924 г., № 5 и 6.)
ГЛАВА 42. Официальные сведения Архиерейского Синода Русской Церкви за границей
Заканчиваю свой обзор официальными данными, помещенными в издаваемых при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви за границей "Церковных Ведомостях" от 1/14 – 15/28 июля 1923 г. в статье под заглавием: "Сведения об убитых, замученных и заключенных в тюрьмах большевиками Русских Православных епископах за время с 1918 года и о других актах насилия над Русской Православной Церковью".
"Смертные казни архиереев начались с 1918 г. Первым был убит Макарий, Епископ Орловский. Затем в том же году и в следующем были расстреляны: Первенствующий Иерарх России Митрополит Киевский, а раньше – Петербургский, Владимир. Медленно были замучены Архиепископ Астраханский Митрофан и викарий Епископ Леонтий. Тела их были брошены в яму, и христиане не допускались погребсти их. В Перми достойнейшему Архиепископу Андронику отрезали щеки, выкололи глаза, долго водили его по улицам и, наконец, утопили в реке. Там же расстреляли присланных Священным Синодом для расследования этого события Архиепископа Черниговского Василия и Пермского викария Епископа Феофана. В Тобольске замучили Архиепископа Гермогена, а в Свияжске умертвили, привязав к хвосту бешеной лошади, Епископа Амвросия. Епископа Исидора в самарской губернии посадили на кол и так предали медленной мучительной смерти. Так же долго мучили в Белгороде Епископа Никодима, ударяя по голове железным прутом, и затем, бросив его тело в сорную яму, не дозволяли его хоронить, пока через полгода не пришли добровольцы и не погребли его останки, узнав их среди прочих трупов только по монашескому параману. Епископа Ревельского Плафона, обливая водой на морозе, обратили в ледяной столб. Менее известны подробности о расстрелах Преосвященных Лаврения, Епископа Балахнинского, Пимена, Епископа Верненского, Мефодия, Епископа Павлодарского, Германа, Епископа Камышинского, Варсонофия, Епископа Кирилловского, Ефрема, Епископа Селенгинского. Затем умерщвлены в собственных домах Архиепископ Иоаким в Крыму, Епископ Симон в Уфе. Последний убит в ночь на 6-е июля 1921 г. Весной 1921 г. убит Епископ Акмолинский Мефодий. Наконец, расстреляли в Петрограде любимого избранника паствы митрополита Вениамина. Называют еще 6-7 имен архиереев, замученных в тюрьмах, но вполне точно о их смерти ничего не известно. Но сверх того умерли в тюрьмах от голода и жестокого обращения Архиепископ Крутицкий Иоасаф, Архиепископ Екатеринославский Агапит, Архиепископ Симферопольский Никодим, Епископ Василий, Ректор Киевской Духовной Академии. А большинство прочих, не пожелавших признать "живую церковь", томится в тюрьмах.
По сведениям 1920 года священников было убито – 1215, а с тех пор число их, вероятно, удвоилось. Не щадили большевики и монахов и монахинь. Так, например, в г. Богодухове всех монахинь, не пожелавших уйти из монастыря, привели на кладбище к раскрытой могиле, отрезали им сосцы и живых побросали в эту глубокую яму, а сверху бросили еще дышавшего старого монаха и, засыпая всех землей, кричали, что справляется монашеская свадьба.
Кроме сего имеются у нас документальные сведения об арестах архиереев к 1/14 сентября 1921 года. Архиепископ Вятский, впоследствии Крутицкий, Никандр с осени 1918 года до Пасхи 1920 года сидел в тюрьме, затем с осени 1920 года до июля 1921 года вновь был посажен в Бутырки (тюрьма). В настоящее время он вновь содержится в тюрьме. С 1921 года находился в тюрьме Пинежский Епископ Павел. В конце 1920 года арестован был Епископ Брянский Амвросий, которого продержали в тюрьме более года.
В сентябре 1921 года посажен в тюрьму быв. Варшавский Архиепископ Серафим. Долгое время держали в чека и тюрьме Митрополита Владимирского Сергия, арестованного в январе 1921 года, который затем был освобожден, а теперь вновь заключен в тюрьму. В Муроме долгое время держали в тюрьме Епископа Муромского Серафима. Также долго томили в тюрьме Епископа Уржумского Виктора. Томился в тюрьме и был приговорен к расстрелу Архиепископ Иркутский Анатолий. Правда, приговор не был приведен в исполнение, т.к. он признал "живую церковь" и для окончательного решения его дела увезен в Новониколаевск.
До сих пор томится в Таганской тюрьме, в Москве, арестованный в Казани в июне 1920 года Митрополит Кирилл. В Москву же вывезен и его викарный Епископ Чистопольский Анатолий, которого долгое время держали в тюрьме. В концентрационном лагере держали долго Архиепископа быв. Иркутского Серафима. Долго держали в тюрьме в Ростове-на-Дону и затем сослали в Нижний Новгород Епископа Ейского Филиппа. Очень долгое время держали в тюрьме и престарелого Архиепископа Могилевского Константина. Несколько раз арестовывали Епископа Подольского (Москов. губ.) Петра, которого в последний раз арестовали 12 августа 1921 года; сведений об освобождении его не имеется. Епископ Волоколамский Герман некоторое время был в тюрьме, затем освободили, но без права выезда из Москвы. В тюрьму же заключены Иринарх, Епископ Тюменский, и Виктор, Епископ Барнаульский. Был под арестом, судим революционным трибуналом и присужден к высылке в Архангельск Митрополит Новгородский Арсений. Очень долго томили в тюрьме Епископа Пензенского Иоанна, с 5 апреля 1921 г. состоящего Архиепископом Рижским и Митавским. Томились долго в тюрьме и Епископы Лужский Артемий и Псковский Геннадий, ныне умерший от пережитых волнений. Держат под арестом и Епископа Смоленского Филиппа. В заточении в Великом Устюге находится управляющий Черноморской епархией Епископ Сергий. В Таганской тюрьме содержатся Епископы: Волоколамский Феодор и Алатырский Гурий. Архиепископ Черниговский Пахомий сослан в Реснянский монастырь. По слухам, Нижегородский Архиепископ Никодим умер в концентрационном лагере от сыпного тифа. Назарий, Епископ Енисейский, отстранен от должности.
Независимо от активного гонения большевиками представителей Русской Православной Церкви, выразившегося в убийстве 28 епископов и арестах епископов, число коих не поддается учету, в особенности в настоящее время, когда большевики вызвали в Церкви смуту и стали поддерживать ничтожную группу церковных мятежников, арестовывая и отправляя в ссылку положительно всех епископов, оставшихся верными Св. Патриарху Всероссийскому Тихону (из этих 215 православных канонических епископов почти никто не участвовал на московском лже-соборе; в созванном большевиками лже-соборе принимали участие только 46 епископов, из коих только 2-3 епископа канонического поставления, но с восстанием против Св. Патриарха потерявшие свою каноничность, а остальные 43-44 епископа – лжеепископы, как поставленные церковными мятежниками – "живоцерковниками", и, таким образом, более 200 епископов правомочных насилием большевиков устранены от участия в церковных делах), и самые законодательные акты советской власти носят характер явного насилия и гонения Православной Церкви. А именно: все декреты и постановления советской власти сводятся к тому, что Православная Церковь, отделенная от государства, считается как частное общество, и при этом совершенно лишенное прав юридического лица и не пользующееся никакими преимуществами и субсидиями. Права собственности Церковь не имеет, и "все ее бывшее имущество объявляется народным достоянием", причем под понятие имущества подходит не только недвижимое имущество (земли, заводы, церковные лавки, дома), но и движимое, в том числе и всякого рода капиталы и церковные сборы, примерный перечень которых помещен в приложении II к ст. 658 Собр. Узак. и распоряжений советского правительства. Здания же и предметы, предназначенные для богослужебных целей, являясь собственностью государства и находясь в заведывании местных советов, отдаются последними в пользование религиозных обществ. Под религиозном обществом (коллективом) понимается определенное, по усмотрению местного совета, число местных жителей, заявивших о желании взять в свое пользование указанное выше имущество.
Образовавшейся такой группе передаются здания и предметы, специально предназначенные для религиозных и обрядовых целей, на основании особого договора, налагающего на лиц, его подписавших, ряд обязанностей по отношению к власти и принятому имуществу.
Храмы и часовни обращаются для других целей, если местный совет, нуждаясь в помещениях для общеполезных целей, постановит об обращении храма для этих целей. Этим правом большевики страшно злоупотребляют, обращая храмы в клубы, театры и др. увеселительные учреждения.
"По инициативе трудящихся масс", с особого постановления Съезда советов или губисполкомов, могут подвергаться исследованию и передаваться в местные музеи св. мощи. Это право привело к кощунству и издевательству большевиков над святынями православного народа.
Предоставленные верующим храмы могут быть одновременно использованы властью и для культурно-просветительных и общественно-политических целей.
Монастыри, как особые религиозные общины, закрываются.
Все церкви домовые, при учебных заведениях, правительственных, общественных и военных учреждениях властью объявлены закрытыми.
Святые Таинства и церковные обряды для государства никакого значения не имеют. Властью прекращена выработка церковной парчи. Отобраны церковно-свечные заводы.
Распоряжением советской власти закрыты Епархиальные Советы.
Духовные лица лишены активного и пассивного избирательного права и права преподавания и службы в учебных заведениях. Это по декрету, фактически же они лишены всех прав. Им отказывали даже в выдаче продуктов и хлеба, а обязанностям, возлагаемым на всех граждан, в одинаковой и даже большей мере и степени подлежат и священнослужители. Руководствуясь этим положением, большевики отправляли некоторых священнослужителей, коим св. Церковь запрещает употребление оружия, на фронт.
Преподавание Закона Божия совершенно изъято из учебных заведений.
Духовно-учебные заведения властью закрыты. До сих пор священнослужителям разрешали обучать детей Закону Божию частным образом в храме. А впоследствии и это право отнято и теперь им совершенно воспрещено под угрозой смерти преподавание детям Закона Божия и вероучения, равно как воспрещено им и крестить малолетних детей.
Общее положение Православной Церкви в Советской России определяется:
1) "Конституцией (основным законом) РСФСР", принятой Всероссийским съездом советов 10 июля 1918 г. (ст. 582 Собр. Узак. и Расп. Прав., № 51);
2) "Декретом Совета Народных Комиссаров об отделении Церкви от государства" (распубликовано 1 января 1918 г.);
3) "Постановлением (инструкцией) Народного Комиссара Юстиции о порядке проведения указанных декретов и постановлений центральной власти" (помещающихся в Собр. Узак. и Расп. Прав.), как изданных в дополнение и развитие общих начал, заключающихся в перечисленных выше постановлениях, так и касающихся других сторон государственной жизни, но имеющих отношение и к Церкви. К последним относятся "Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве", "Декрет социализации земли" (Собр. Узак. и Расп. Прав., № 89), "Кодекс законов труде" и некоторые другие декреты.
Среди постановлений первого рода особенное значение имеют:
1) "Декрет о кладбищах и похоронах" (распубликован в № 271 "Известий Всероссийской Центральной Исполнительной Комиссии (ВЦИК)" 11 декабря 1918 г.);
2) "Инструкция о порядке осуществления этого декрета" (распубл. в № 15 "Изв. ВЦИК" 22 января 1919 г.);
3) "Постановление государственной комиссии по просвещению о духовных учебных заведениях" (расп. в № 191 "Изв. ВЦИК" 5 сентября 1918 г.);
4) "Инструкция Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины";
5) "Циркуляр по вопросу об отделении Церкви от государства Комиссариата Юстиции" от 3 января 1919 г.;
6) "Циркуляр того же Комиссариата по поводу ст. 12 декрета об отделении Церкви от государства" от 18 мая 1920 г.;
7) "Циркулярное письмо об отношении к религиозным обществам" Народного Комиссара Внутренних дел Петровского от 29 февраля 1919 г.
Кроме этих общих декретов и распоряжений центральной власти положение Православной Церкви регулируется и декретами местных советов, которые зачастую ограничивали и без того ограниченные права Церкви и вызывали явное гонение на Церковь, запрещая крестные ходы, ремонт церквей, звон церковный. Все вышеприведенные декреты и распоряжения советской власти, содержащие в себе безусловное преследование Православной Церкви, относятся ко времени до 1921 года.
С 1921 года положение Церкви в Советской России стало еще более тяжелым. Она превратилась в явно гонимую и преследуемую большевиками. Так, они не позволили Св. Патриарху Всероссийскому созывать Церковный Собор, совершенно закрыли органы Церковного Управления: Св. Синод, Высший Церковный Совет, Епархиальные Советы, а в последнее время, с мая 1922 года, лишили права власти и личной свободы и Св. Патриарха, его заместителя, епархиальных архиереев и священнослужителей, оставшихся ему верными, а также распустили Церковные Приходские Советы. Запрещали выдавать в церкви муку для просфор и вино для Св. Евхаристии, так что священнослужители вынуждались совершать величайшее Таинство Евхаристии на суррогатах вина (настойка клюквы, черемухи, черники и т.п.). Кроме того, в течение 1922 года совершенно ограбили все церкви путем изъятия ценностей, якобы на помощь голодающим, несмотря на сильное сопротивление сему со стороны верующего народа. И в довершение всего этого большевики судят Св. Патриарха Тихона с явным намерением лишить его жизни."
Автор этой статьи Управляющий канцелярией Архиерейского Синода Русской Прав. Церкви за границей Е.И. Махароблидзе оговаривается, что сведения эти собраны для печати к 1 мая 1923 года.
Не подлежит, конечно, сомнению, что с того времени положение Церкви еще более ухудшилось. Об этом свидетельствует каждая страница как официального органа русской Церкви за границей, так и любой русской или иностранной газеты. Гонения на Церковь не только не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются, и террор растет в соответствии с теми мерами, какие советская власть применяет в целях закрепления своего положения, сознавая, что последнее становится все более шатким.
Таковы сведения, пробившиеся сквозь толщу советской цензуры, сообщенные случайно вырвавшимися из России людьми и тем или иным путем доведшие к нам. Как ни отрывочны эти сведения, как ни разнообразно их содержание, однако допустить в них какие-либо преувеличения – совершенно невозможно. Напротив, несомненно, что многое смягчено, многое недоговорено, еще большее умышленно сокрыто. Однако, ужасная картина гибели православной Церкви, как земного организма, регулирующего церковную жизнь России, предстает пред нами во всей своей наготе. Мы видим натиск сатанизма на Церковь и ожесточенную борьбу с ним со стороны верующих, смело и безбоязненно защищающих святыню, видим и сознательных предателей, изменяющих своему долгу, видим и попытки приспособляться к требованиям сатанистов и всякого рода компромиссы с долгом и совестью, какие всегда останутся нравственно преступными, какими бы мотивами ни вызывались и чем бы ни объяснялись, но мы не видим... веры в чудо Божие, веры в всемогущество Бога, и мы неминуемо приходим к заключению, очень тяжкому для нашего сознания, что православная Церковь, как земная организация, лишившись опоры в православной государственности, пред натиском сатанизма – не устояла.
Об этом свидетельствуют и приведенные нами письма Патриарха Тихона к Финляндскому Архиепископу Серафиму и Валаамскому игумену Павлину, и "раскаяние" Патриарха, и вызвавший столько соблазна циркуляр Архиепископа Илариона, и нижепомещаемая "беседа" Патриарха Тихона с сотрудниками "РОСТА", напечатанная в газете "За свободу" от 3-го апреля 1924 г., и вся русская действительность.
Однако же было бы в высокой степени несправедливо обвинять в такой катастрофе личный состав православных иерархов и духовенства или обусловливать катастрофу органической связью православной Церкви с государством, как это делают католики. Наоборот, Церковь потому и пала, что лишилась опоры со стороны православной государственности, и ей не на чем было держаться. В случае торжества большевичества в Италии, т.е. падения Квиринала, Ватикан оказался бы в таком же плену у сатанистов, как и православная Церковь в России, и католическая Церковь явила бы еще более яркие картины разложения, чем православная.
ГЛАВА 43. Беседа с Патриархом Тихоном
Разумеется, к советским "Известиям" нужно относиться с величайшей осторожностью, и я не берусь утверждать, что беседа с Партиархом воспроизводит подлинные мысли и слова Патриарха, однако же общее содержание беседы, по-видимому, передано правильно, ибо подтверждается и действиями Патриарха, несомненно вызывавшими соблазн среди верующих.
Упразднение Высшего Церковного Управления за границей, распоряжение о переходе на новый стиль, впоследствии взятое назад, неоднократные заявления об аполитичности Церкви и пр. и пр. – все эти действия допущены, несомненно, под давлением большевиков. В этом их объяснение, но не оправдание. Если такие действия были мыслимы в отношении русской Церкви за границей, находящейся вне пределов досягаемости советской власти, то тем более были возможны уступки большевикам в самой России, и, с этой стороны, допустимо предположение о том, что и приводимая нами беседа Патриарха Тихона действительно имела место, хотя и могла быть в некоторых своих частях искажена.
"Москва, "Русспресс". "Известия" (№ 68) помещают беседу сотрудника РОСТА с Патриархом Тихоном. Журналист сообщил Патриарху о решении президиума ЦИК'а прекратить его судебное дело. Прочтя это постановление, Патриарх, по словам "Известий", сказал: "Передайте советскому правительству и президиуму ЦИК'а СССР глубокую благодарность, как от меня, так и от моей паствы за такое милосердное отношение к моей прошлой деятельности. Правительство может быть вполне уверено, что оно найдет во мне лояльнейшего гражданина Советского Союза, добросовестно выполняющего все декреты и постановления гражданской власти". По словам газеты, в дальнейшей беседе Патриарх "опроверг" сообщение газеты "Накануне", что с ним был удар. Врачи, лечившие его, нашли у него нефрит (болезнь почек) и предписали избегать переутомления. Касаясь планов своей дальнейшей деятельности, Патриарх сказал, что он займется теперь организационной стороной своей Церкви, считая, что рамки советского законодательства дают для этого широкий простор. Что касается замешанного в контрреволюционной деятельности американского митрополита Платона, то Тихон заявил, что он уже наметил ему заместителя, который в скором времени будет послан в Америку для вручения Платону указа о вызове в Москву и для принятия от Платона дел. Тихон отрицает газетные сообщения, исходящие из кругов синода о своих сношениях с католической церковью. Ни у меня, ни у моих епископов, говорит Тихон, не только не было разговора о каком бы то ни было примирении с католичеством, но и не возникало этого и в мыслях. Примирения с Ватиканом нет и быть не может. Этот план противоречил бы всему мировоззрению православной Церкви. Относительно примирения с синодом и той частью духовенства, которая стоит за ним, Тихон говорит, что его точка зрения на этот вопрос не изменилась: он по-прежнему ждет покаяния от синода и молится о том, чтобы Бог вразумил и смягчил сердца его членов."
Ниже "Известия" приводят беседу сотрудников РОСТА с управляющим "тихоновской" московской епархией Архиепископом Крутицким Петром, который сказал, что на днях в московских церквах будут отслужены благодарственные молебны по поводу милосердного отношения советской власти к Патриарху Тихону. ("За Свободу", 3 апр. 1924 г.)
По поводу этой беседы я получил нижеследующее письмо А.С., отражающее, как мне кажется, общее отношение верующей интеллигенции к ней.
"...Посылаю Вам газетную вырезку о Патриархе Тихоне. Одно из двух – или приписанные Патриарху слова вымышлены большевиками, или "страха ради большевическа" он не отдает себе отчета в том, что он говорит. Напр., из Киева мне пишут: "Бедные церковники наши страдают страшно. Скорпионы и бичи каждый день им преподносятся бесконечными декретами. Все же вера не ослабевает, и с истинно христианским терпением несут они свой крест." В это время глава русской Церкви заявляет, что "правительство" (кто же это? три мерзавца: Апфельбаум, Розенфельд и Джугашвили – пресловутая "тройка") найдет в нем "лояльнейшего гражданина Советского Союза, добросовестно выполняющего все декреты и постановления гражданской власти." Чувствуете ли Вы всю нелепость этих слов? Патриарх обещает добросовестно выполнять все декреты, которыми и Церковь и религия совершенно упраздняются, уничтожаются, как вредный для народа "опиум." Разве так поступали древнехристианские исповедники веры Христовой, когда их вынуждали исполнять неприемлемый для их совести римский закон, – какой-нибудь Севастиан или Евстафий? Патриарх заявляет, что "рамки советского законодательства дают широкий простор" для организации Церкви. Вся русская действительность прямо кричит против подобного утверждения. Как может организоваться Церковь, когда каждый день читаешь в газетах о расстрелах священников, о превращении церквей в клубы, об упразднении монастырей и т.д. Я, кажется, писал уже Вам, что церковь Религиозно-Просветительного Общества в Киеве на Б. Житомирской ул. обращена в клуб, где пляшут танго, говорят митинговые, противохристианские речи и поют интернационал, а бывший настоятель ее о. Анатолий Жураковский выслан в Архангельскую губернию. Зачем под давлением большевиков вмешивается Патриарх в американские дела и отставляет митрополита Платона? Зачем ему понадобилось задевать Ватикан, хозяин которого Пий XI не только молится за Россию, но и тратит громадные суммы на "обеды для голодных детей" внутри России и на помощь эмигрантам вне ее? Вопреки утверждению Патриарха Тихона, тяготение к соединению с Римом, по-видимому, довольно сильно в России не только среди мирян, измученных церковной борьбой между "тихоновцами" и "живоцерковниками", но даже среди архиереев. На днях в польской газете я читал, будто бы недавно два архиерея в Большевии А. и П. (не догадываюсь кто) выразились так: поедем на Ватиканский собор, припадем к ногам Наместника Апостольского и всецело ему отдадимся".
Нижеприводимая статья г. П. В-ева, напечатанная в "Новом Времени" 7 мая 1924 г., № 908 не нуждается в комментариях. Я могу добавить к ней только свои впечатления от личных бесед с проф. М. д'Эрбиньи (ныне епископом D'Ilion), с которым неоднократно встречался в Риме и нахожусь в переписке. Глубоко образованный и превосходно владеющий русским языком, епископ М. д'Эрбиньи, известный каждому, лично его знающему, за искреннего друга России, напечатавший несколько книг о положении России под гнетом советской власти, горько жаловался мне, что те самые русские люди, о которых он так болеет, а особенно русские иерархи, отказывают Папе в простом милосердии к горю ближнего и во всех начинаниях Ватикана, направленных к облегчению этого горя, видят задние мысли и корыстные расчеты. Между тем от одних только русских беженцев, рассеянных по всему миру, Папа ежедневно получает свыше 200 писем и старается удовлетворить каждую обращаемую к нему просьбу в пределах своих возможностей. Епископ М. д'Эрбиньи является одним из тех немногих людей, которые в полной мере учитывают большевичество как мировое зло и громко взывают о борьбе ним.
Приводим в подлиннике статью г. П. В-ева.
Помощь Ватикана русским детям
"Читатели помнят, что два года тому назад отправившаяся в Россию папская миссия, посланная с целью оказания помощи голодающим и, главным образом, детям, вызвала в русском обществе толки и опасения возможной пропаганды католицизма среди наголодавшегося и во всем нуждающегося населения.
– Когда дом горит, не приходится думать, какие пожарные спасают его обитателей, – говорил мне тогда один француз, далеко не сторонник Ватикана, – важно только то, чтобы они спасали, что можно спасти. Да к тому же, поверьте, большевики, принужденные впустить миссию, сами позаботятся о том, чтобы не позволить членам ее заниматься прозелитизмом. Не в их интересах подчинение русского населения первосвященнику, находящемуся вне их досягаемости.
Миссия эта теперь возвратилась в Рим, и о. Михаил д'Эрбиньи, президент папского Восточного Института в Риме, начал совершать поездку по Европе с целью ознакомления европейского общественного мнения с тем, что сделала папская миссия в России. Свой доклад он сделал в Париже и говорил не столько о работах миссии, сколько о разрушительной деятельности советского правительства. Делаемые им доклады являются наилучшей пропагандой антибольшевизма, и я, присутствуя на его сообщении, пожалел, что не видал там ни г. Эррио, ни де-Монзи, ни других сторонников сношения с большевиками.
Начиная свой доклад, о. д'Эрбиньи заявил, что Папа, посылая свою миссию в Россию, руководствовался исключительно чувством помощи христианскому народу; дальнейший же его рассказ указывал на то, что если бы миссия и пожелала заниматься католической пропагандой, то не имела бы к тому возможности: миссия состояла из девяти священников и трех послушников; при таком малочисленном составе ей пришлось работать с помощью русских, которых на службе миссии было свыше 2500 человек. От членов же миссии советское правительство потребовало, чтобы они заменили духовное платье светским и воспретило им служить мессы.
Сами члены миссии могли совершать свои мессы лишь в собственной среде, и то в секрете. Папа Римский, посылая миссию, отдал категорический приказ, чтобы все посылаемое было раздаваемо притесняемым и не попадало бы в руки притеснителей. Эта задача была не из легких, но выполнена. Миссия распространила свою деятельность на весь юг России, Восток и на некоторые центральные губернии. Ею было устроено более тысячи столовых и кухонь; несколько госпиталей и мастерских для починки обуви, при которых обучались сапожному мастерству дети-сироты,
В столовых обедали дети, взрослым раздавалась провизия. Одежды роздано на 250.000 американских долларов, медикаментов – на 50.000 долл., провизии на 170.000 долл., в столовых ежедневно раздавалось 160.000 обедов. Всего израсходовано свыше 31 миллиона итальянских лир.
Занимаясь благотворительной деятельностью и закрепляя свои отчеты фотографическими снимками, они в то же время фотографировали все то, что может быть характеристикой современного положения в России, положения, созданного советским режимом. Фотографии эти появились на экране волшебного фонаря и буквально терзали нервы слушателей. Только последствия катаклизмов, вызываемых либо явлениями природы, либо людским озверением, могут создавать то, что в России создала гуманитарная теория Маркса и заботы о благе пролетариата. Толпа в несколько сот голодных, оборванных и беспризорных детей брела в поисках хлеба... Обессиленная холодом и голодом, она упала в поле на снег и больше не встала... Эта фотография производит потрясающее впечатление... Эти сотни детских трупов оставлены на добычу ворон, собак и волков: их никто не подбирает. В городах больше порядка: за ним следит милиция, и вот вы видите грузовик, на котором навалено до 40 трупов, десятки носилок тянутся к нему с новыми трупами, а еще десятки в различных позах валяются на улице в ожидании уборки. Это все умершие за ночь, которых утром подбирает милиция... Новая картинка: полуразваленная изба... В ней, выбившись из сил жена ухаживает за умирающим от истощения мужем, оборванные детские скелетики, обтянутые кожей, плачут и виснут на юбке матери.
А вот женщина с дико блуждающими глазами: она убила мужа, чтобы его телом накормить голодных детей.
При виде этой фотографии в зале вздохи и стоны...
Вот вид открытой миссией столовой... У входа сотни оборванных детей, худобы невероятной, у всех раздутые животы и чувство животной радости при виде накрытых столов... А вот кухня: у невероятных размеров котла суетятся стряпухи; форма котла необыкновенная...
– Это морская мина, служащая для заграждения входа в порт, – поясняет о. д'Эрбиньи. – Раздобыть котел в России очень трудно, а потому миссия пользовалась разряженными минами.
В то время, когда благотворительная деятельность миссии достигла своего апогея, советский трибунал судил прелата Буткевича и Цепляка, а советская печать утверждала, что это, как и православные епископы, лишь второстепенные преступники, главные же преступники Патриарх Тихон и Папа Римский, которые морят русский народ голодом, препятствуя через подчиненное им духовенство изъятию церковных имуществ.
Миссия уже возвратилась в Рим, и в Ватикан поступают тысячи благодарственных писем из России: и от интеллигенции, и от православных священников, и от детей. Некоторые из писем он процитировал, одно из них было написано по-русски: "Милый святой Папа, – пишет маленькая девочка, – благодарю, очень вас благодарю за белый хлеб и за молоко." Подписано: Таня. Другая благодарит по-французски за молоко, шоколад и просит прислать ей башмачки.
Дама из общества прислала длинное послание на латинском языке, которое докладчик огласил.
Из Парижа о. д'Эрбиньи отправился в Бельгию, затем поедет в Голландию и дальше, повествуя о разрушении великой страны представителями III интернационала и иллюстрируя свое повествование фотографиями, этими нелицеприятными свидетелями."
К приведенному выше письму А.С. я могу добавить только мою глубокую уверенность в умышленном искажении слов Св. Патриарха большевиками, что явствует из каждой строки приведенной статьи советских "Известий" и особенно из приписываемой Патриарху Тихону непримиримости с Ватиканом. Разумеется, жиды ничего так не боятся, как примирения православной Церкви с католической и образования единого христианского противожидовского фронта. Углублять расстояние между христианскими Церквами и ссорить их друг с другом всегда составляло их первейшую задачу, о чем главы христианских Церквей должны помнить, дабы своими раздорами не укреплять позиции своих врагов.
И невольно вспоминаются слова А.С., писавшего мне 2/15 августа 1919 года: "Я полагаю, что именно теперь пришло время христианству забыть богословские распри и поставить на очередь, как злободневный, вопрос о соединении Церквей. Силы ада, мощь сатаны, дьявольские поспешения вылились в попытках "советских республик"; нужно и христианам объединиться в христианскую монархию, которая была бы достаточно могущественная, чтобы повести за собой народы под знамением Христа для попрания "советских" организаций мирового замысла."
"Указание митрополита Антония на то, что "соединение Церквей есть выражение на русском языке бессмысленное, потому что Церковь никогда не разделялась и разделиться не может, по обетованию Христа: врата адова не одолеют ея", – свидетельствует о слабом понимании евангельского текста и отсутствии логики.
Что значат слова: "Врата адова не одолеют ея?"
Слово "ад" здесь не имеет смысла, усвоенного ему позднее, т.е. – место мучения грешников (inferno), а употреблено в старом смысле, как оно понималось в дохристианской греческой литературе, начиная с Гомера, т.е. – жилище мертвых вообще.
Итак, в словах евангелия дело идет о бессмертии Церкви.
При чем же тут разделение?!
Я полагаю, что в приведенных словах не содержится обетования, что Церковь не разделится, потому что в Откровении Иоанна Богослова мы видим, что отдельным церквам присвоены отдельные ангелы: Ангел Ефесской Церкви, Ангел Смирнской Церкви и т.д., Ангелы семи Церквей...
Можно считать западных христиан еретиками, но от этого не изменится тот факт, что втрое более людей исповедуют католицизм, чем православие, что они принадлежат к наиболее образованным нациям и что католическая Церковь организована прочнее православной. Теперь на православную Церковь обрушился сатанизм в лице большевиков. Мы слабы и разбиты. Католикам также грозит сатанизм. У Спиридовича приведено сознание еврея Монда, что "Рим – величайший враг большевизма." Что же может быть естественнее, как не союз двух Церквей, хотя и несогласных в догматах, но все-таки христианских, против общего врага – сатанизма. Митрополит Антоний написал целую книгу о невозможности примирения с Римом до тех пор, пока католики не признают, что они – еретики, и не перейдут в православие. Но пока мы этого дождемся, может быть, и православной Церкви, как земной организации, не останется..." (Из частной переписки.)
Как ни издевалась "советская" власть над несчастным Патриархом Тихоном, как ни глумились жиды над верой русского народа, подвергая ее жестоким, безжалостным испытаниям, как ни терзали православную Церковь, но добиться того, чтобы сам Патриарх разрушил возглавляемую им Церковь, иначе, чтобы открыто признал жидовскую власть и повелел русскому народу подчиниться ей, – этого жиды не могли... Патриарх Тихон был их пленником и заложником, он изнемогал в борьбе с жидами, вынуждался на уступки, вызывавшие соблазн и причинявшие ему самому величайшие нравственные страдания, но далее компромиссов Патриарх не шел и бесстыдных требований безбожников никогда бы не исполнил... Большевики это знали, им надоели не дававшие результатов переговоры с Патриархом и... опасаясь открытого убийства Главы Русской Православной Церкви, жиды тайно отравили Патриарха, в надежде достигнуть свою цель с помощью Заместителя Патриарха или его кандидатов, список которых был утвержден Святейшим еще при жизни... Патриарх Тихон скончался в ночь на 26 марта 1925 года, факт отравления был тщательно скрыт, и не только в Европе, но, верно, и в России живет убеждение в естественной смерти Патриарха... Намеченные Патриархом Заместитель и его ближайшие кандидаты не могли вступить в исполнение своих обязанностей, ибо жиды еще до смерти Патриарха Тихона позаботились об их аресте и высылке из Москвы, на их место выдвигались новые кандидаты, которых ожидала та же участь и пред которыми стояла та же альтернатива: или подчиниться требованиям сатанинской власти, отречься от Христа и сделаться гонителем Христовой веры, или же подвергнуться мучениям, пыткам и казни.
Неугодные жидам Заместители подвергались аресту, заключению в тюрьме, быть может, даже пыткам и мучениям, жидовская власть вступала с ними в переговоры, склоняя к разного рода компромиссам с совестью и угрожая расстрелом, однако же цели не достигала и, не решаясь приводить свои угрозы в исполнение открыто, изгоняла таких неподатливых и стойких иерархов не только из столицы, но и за пределы Европейской России, ссылая их в Сибирь, где страстотерпцы-иерархи обрекались на заведомую смерть...
Вакансии Заместителя и его кандидатов замещались последовательно новыми лицами и так продолжалось до тех пор, пока номинальная церковная власть очутилась в руках Нижегородского митрополита Сергия, б. архиепископа Финляндского и Выборгского, раньше арестованного, заключенного в тюрьму, а затем выпущенного на свободу под условием выполнения предъявленных к нему жидами требований...
В чем эти требования заключались, видно из нижепомещаемого нами "Послания Патриаршего Синода", коим митрополит Сергий, признавая "советскую" власть "нормальной" и обязываясь повиновением этой власти, объясняет самый факт "Послания" сознанием необходимости довершить дело, начатое Патриархом Тихоном, стремившимся изыскать пути и способы соглашения с большевиками и не успевшего, за смертью, выполнить эту задачу.
Это "Послание Патриаршего Синода" явилось естественным апофеозом борьбы официальной Церкви с безбожниками и меня не удивило.
Удивительным было не содержание "Послания" и даже не самый факт его возможности, а то, что печальный опыт использования Патриаршего авторитета в борьбе с безбожниками оказался недостаточно убедительным для того, чтобы не повторить его... Удивительным было то, что иерархи продолжали сосредоточивать свое внимание на церковном аппарате и стремились воссоздать его, что было невозможно и не нужно, вместо того, чтобы изыскивать иные пути и способы борьбы с гонителями Христа и ограждать веру от соблазнов, опасаясь собственным примером вызывать такие соблазны, удивительным было это непонимание природы советской власти как власти диавола, с которым невозможны никакие соглашения, наконец, наиболее удивительным было то, что иерархи точно забыли о всемогуществе Божием и выпустили из своих рук сильнейшее орудие в борьбе с диаволом – обращение к Богу, свою веру в чудо, свое убеждение в том, что невозможное для человека – возможно Богу...
ГЛАВА 44. Послание Патриаршего Синода
"Божиею милостию смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, заместитель Патриаршего Местоблюстителя, и Временный Патриарший Священный Синод – Преосвященным архипастырям, Боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Святой Всероссийской Православной Церкви о Господе радоваться.
Одной из забот почившего Святейшего отца нашего Патриарха Тихона пред его кончиной было поставить нашу Православную Русскую Церковь в правильные отношения к советскому правительству и тем дать Церкви возможность вполне законного и мирного существования. Умирая, Святейший говорил: "Нужно бы пожить еще годика три". И, конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских трудов, он довел бы дело до конца. К сожалению, разные обстоятельства, а главным образом, выступления зарубежных врагов советского государства, среди которых были не только рядовые верующие нашей Церкви, но и водители их, возбуждая естественное и справедливое недоверие правительства к церковным деятелям вообще, мешали усилиям Святейшего, и ему не суждено было при жизни видеть своих усилий увенчанными успехом.
Ныне жребий быть временным заместителем Первосвятителя нашей Церкви опять пал на меня, недостойного митрополита Сергия, а вместе со жребием пал на меня и долг продолжать дело почившего и всемерно стремиться к мирному устроению наших церковных дел.
Усилия мои в этом направлении, разделяемые со мною и православными архипастырями, как будто не остаются бесплодными: с учреждением при мне Временного Патриаршего Священного Синода укрепляется надежда на приведение всего нашего церковного управления в должный строй и порядок, возрастает и уверенность в возможность мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона.
Теперь, когда мы почти у цели наших стремлений, выступления зарубежных врагов не прекращаются: убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Все это нарушает мирное течение жизни, созидая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. Тем нужнее для нашей Церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством.
Засвидетельствовать это и является целью настоящего нашего (моего и синодального) послания. Затем извещаем вас, что в мае текущего года по моему приглашению и с разрешения власти организовался временный при заместителе Патриарший Священный Синод в составе нижеподписавшихся. Отсутствуют Преосвященные Новгородский митрополит Арсений, еще не прибывший, и Костромской архиепископ Севастиан по болезни. Ходатайство наше о разрешении Синоду начать деятельность по управлению Православной Всероссийской Церковью увенчалось успехом. Теперь наша православная Церковь в Союзе имеет не только каноническое, но и по гражданским законам вполне легальное центральное управление; а мы надеемся, что легализация постепенно распространится и на низшее наше церковное управление: епархиальное, уездное и т.д. Едва ли нужно объяснять значение и все последствия перемены, совершающейся, таким образом, в положении нашей православной Церкви, ее духовенства, всех церковных деятелей и учреждений...
Вознесем же наши благодарственные молитвы к Господу, тако благоволившему о святой нашей Церкви! Выразим всенародно нашу благодарность и советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения, а вместе с тем заверим правительство, что мы не употребим во зло оказанного нам доверия.
Приступив с благословения Божия к нашей синодальной работе, мы ясно сознаем всю величину задачи, предстоящей как нам, так и всем вообще представителям Церкви. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза "не только из страха, но и по совести", как учил нас апостол (Рим. XIII, 5). И мы надеемся, что с помощью Божией, при вашем общем содействии и поддержке, эта задача будет нами разрешена. Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности. Это – недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране. Утверждение советской власти многим представлялось каким-то недоразумением, случайным и потому недолговечным. Забывали люди, что случайностей для христианина нет и что в совершающемся у нас, как везде и всегда, действует также десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели.
Таким людям, не желающим понять "знамения времени", и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах и навлекавшее подозрения советской власти, тормозило и усилия Святейшего Патриарха установить мирные отношения Церкви с советским правительством. Недаром ведь апостол внушает нам, что "тихо и безмятежно жить" по своему благочестию мы можем, лишь повинуясь законной власти (1 Тим. II, 2), или должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша православная Церковь со всею ее организацией, может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша Патриархия, исполняя волю почившего Патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя и, оставив свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру и работать с нами только во имя веры; или, если переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь отношение к власти, а вера и православно-христианская жизнь остаются незыблемы.
Особенную остроту при данной обстановке получает вопрос о духовенстве, ушедшем с эмигрантами за границу. Ярко противосоветские выступления некоторых наших архипастырей и пастырей, как известно, заставили почившего Патриарха упразднить заграничный Синод (5 мая – 22 апреля 1922 г.). Но Синод и до сих пор продолжает существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на власть даже расколол заграничное церковное общество на два лагеря. Чтобы положить этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Не давшие такого обязательства или нарушившие его будут исключены из состава клира, подведомственного Московской Патриархии. Думаем, что, размежевавшись так, мы будем обеспечены от всяких неожиданностей из-за границы. С другой стороны, наше постановление, может быть, заставит многих задуматься, не пора ли и им пересмотреть вопрос о своих отношениях к советской власти, чтобы не порывать со своей родной Церковью и родиной.
Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к созыву и самый созыв нашего второго Поместного Собора, который изберет нам уже не временное, а постоянное центральное церковное управление, а также вынесет решение и о всех "похитителях власти" церковной, раздирающих хитон Христов. Порядок и время созыва, предметы занятий Собора и пр. подробности будут выработаны потом. Теперь же мы выразим лишь наше твердое убеждение, что наш будущий Собор, разрешив многие наболевшие вопросы нашей внутренней церковной жизни, в то же время своим соборным разумом и голосом даст окончательное одобрение и предпринятому нами делу установления правильных отношений нашей Церкви к советскому правительству.
В заключение усердно просим всех вас, Преосвященные архипастыри, пастыри, братие и сестры: помогите нам каждый в своем чину вашим сочувствием и содействием нашему труду, вашим усердием к делу Божию, вашей преданностью и послушанием святой Церкви, в особенности же вашими за нас молитвами ко Господу, да даст Он нам успешно и богоугодно совершить возложенное на нас дело к славе Его святого имени, к пользе святой православной Церкви и к нашему общему спасению.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Аминь. 16/29 июля 1927 г., Москва.
За Патриаршего Местоблюстителя Сергий, митрополит Нижегородский
Члены Временного Патриаршего Священного Синода: Серафим, митрополит Тверской, Сильвестр, архиепископ Вологодский, Алексий, архиепископ Хутынский, управляющий Новгородской епархией, Анатолий, архиепископ Самарский, Павел, архиепископ Вятский, Филипп, архиепископ Звенигородский, управляющий Московской епархией, Константин, епископ Сумский, управляющий Харьковской епархией."
Рижский корреспондент "Таймса" сообщает:
"Сов. правительство освободило из заключения митрополита Сергия, заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола и еще нескольких иерархов, долго содержавшихся в тюрьме.
Освобождение иерархов последовало в результате переговоров, начавшихся еще весной.
На каких условиях состоялось соглашение между сов. правительством и иерархами "временного синода", видно из напечатанного выше послания." (Новое Время, 15/28 августа, 1927 г., № 1896.)
Как ни тягостно впечатление, вызываемое этим беспримерным в истории Церкви "посланием", этим приказом служить сатане, а не Богу, однако же было бы несправедливо возлагать единоличную ответственность за такой приказ на подписавших его иерархов Церкви. Они ответственны не за содержание "послания", несомненно исторгнутого у них силой и угрозами расстрела, а за маловерие и малодушие, заставившее их уступить этой силе и этим угрозам.
"Спаситель учил, – пишет мне один из моих друзей, – что никакой слуга не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадет. Не можете служить Богу и маммоне[15] (Лук. 16, 13).
Митрополит Сергий, очевидно, совершенно не отдает себе отчета в том, что большевичество, или, правильнее, ленинизм – это религия, но только без Бога и нравственного идеала, каким для христиан является личность Иисуса Христа; это мрачная и подлая религия сатаны, укрытого от глаз людских, ибо в ленинизме нет культа сатаны, как и вообще нет никакого культа. Подчиняясь распоряжениям ленинской власти, митрополит Сергий тем самым порывает связь с Христом и приглашает к тому свою паству.
Большего издевательства над душами христианскими я не могу себе представить. Одно из двух: или нужно любить Христа с Его дивным Божественным учением и всем существом ненавидеть ленинизм, добиваясь возможно скорого и полного искоренения этой духовной чумы, или, наоборот, нужно сделаться ленинцем, поклоняться его мумии в мавзолее на Красной площади и преследовать христианскую религию, считая ее опиумом для народа; или нужно распластываться перед советской властью, ничком лежать под ее пятою, а о Христе не радеть, или, наоборот, нужно служить Христу, проводить в жизнь Его учение, призывая всех и каждого к свержению сатанинской власти. Христос говорит: "Не можете служить Богу и маммоне", а митрополит Сергий, мнящий себя христианским пастырем, утверждает: "Можем служить и Богу и сатане". В моем сознании такая мерзость не вмещается. Неужели в самом деле митрополит Сергий не понимает, что признание советской власти "нормальною" есть прямое и бесповоротное отречение от Христа. Вероятно, в нынешней России, под гнетом беспрерывного террора, все понятия у людей поставлены вверх ногами. Иначе нельзя себе объяснить выступления митрополита Сергия. Или, может быть, это мистификация со стороны советской власти, выпустившей нужное послание ей, только вынудив силой принуждения у митрополита Сергия и семи епископов их подписи?!
Я убежден, что обращение написано кем-либо из членов советского правительства, и если подписано митрополитом Сергием и другими семью епископами, то только разве под дулами револьверов. Не может быть, чтобы православные епископы решили произнести такие слова:
"Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами, как удар направленный в нас."
В отвлечении это выходило бы так, что всякий успех сатаны мил и приятен служителям истинного Бога. Обращение лягает и монархию будто бы за то, что она под видом покровительства Церкви использовала ее в своих целях. Не верю, чтобы так думал митрополит Сергий.
Прямо кощунственная ссылка на 1-е послание ап. Павла к Тимофею (1 Тим. II, 1), словами которой митрополит Сергий приглашает православных "совершать молитвы, прошения, моления и благодарения" за сатанинскую жидовскую власть. Неужели подтвердится подлинность обращения?!" (Из частного письма от 26 августа 1927 г.)
Не скрываю, что лично я переживаю менее остро впечатления, рожденные посланием Патриаршего Синода. Несомненно, что и митрополит Сергий, и подписавшие послание иерархи так же гнушаются общения с сатанинской властью, как и все прочие христиане, что содержание послания ни в малейшей степени не отражает убеждений подписавших его, а знаменует собой лишь самое заурядное свидетельство того малодушия и маловерия, которые обычно утверждаются на вере в человеческую силу, когда не хватает веры в силу Божескую. С точки зрения земных расчетов и преображений, патриаршее послание может быть если и не оправдано, то найти свое объяснение. Оно было продиктовано надеждой на облегчение положения Соловецких узников, надеждой на возможность получения хотя бы минимальных льгот, обеспечивших бы возрождение церковной жизни и пр. Однако же все эти надежды, разумеется, были необоснованны и могли явиться следствием того же маловерия. С диаволом немыслимы никакие соглашения, и там, где недостаточны для борьбы с ним силы человеческие, там нужна только помощь Божия и прежде всего вера в силу этой помощи. Этой-то веры и не оказалось... Отсутствие ее тонко подчеркнуто и "Отповедью" митрополита Антония, составляющей содержание следующей главы.
ГЛАВА 45. Отповедь митрополита Антония на послание Московского Синода
"В послании моего бывшего ученика и исконного друга митрополита Сергия есть одна бесспорная мысль: "Только кабинетные мечтатели могут думать, будто такое огромное общество, как наша Православная Церковь со всею ее организацией, может существовать спокойно, закрывшись от власти".
Однако и к этой бесспорной мысли надо сделать дополнение: "Мечтатели или обманщики, ни во что не верующие, а желающие свести церковную жизнь на полное уничтожение и под предлогом аполитичности ведущие республиканскую еврейскую политику". Так было в 1905 году в России, а теперь по всей Европе, особенно же в Париже.
Там были мечтатели или обманщики, но к числу последних, конечно, нельзя отнести благородного мечтателя митрополита Сергия, который еще в 1917 году задался мечтой совместить православную церковную жизнь с подчинением Русской земли советской власти, – хотя последняя продолжает срывать кресты с наиболее дорогих православному сердцу храмов, умерщвлять десятками ни в чем не повинных архиереев, а священников и монахов – тысячами; хотя она убила отравой Патриарха Тихона два года тому назад, а теперь держит в тюрьмах и в ссылке сто пятьдесят архиереев только за то, что они архиереи.
Не довольствуясь этим, она учредила из подонков духовенства и всяких проходимцев два обновленческих Синода: один – в Москве, а другой – в Харькове; она закрыла и запечатала величайшую народную и церковную святыню – Московский Успенский собор, Соловецкий монастырь, Оптину и Саровскую пустыни и многие другие, а святые Лавры Московскую и Киево-Печерскую отдала в руки обновленцев и большинство храмов в них обратила в музеи. Она разрушила все наши духовные школы, начиная с Академий, и сожгла склады духовных книг в магазинах.
Такое-то, с позволения сказать, правительство нас приглашают признавать как законную власть и вдобавок ссылаются на слова Апостола Павла о подчинении власти не токмо за страх, но и за совесть, как будто не зная, что те слова относятся к почитанию власти царской и начальников от нее посылаемых (Рим. 13, 1 – 7; 1 Пет. 2, 13 – 14), а не к разбойникам, открыто глумящимся над всякой верой в Бога и поработившим русский народ евреям.
Нерон, Декий, Диоклитиан и Юлиан Отступник были менее враждебны Христовой Церкви, чем эти звери, это диаволы во образе человеческом.
В послании Синода, неизвестно откуда появившегося, говорится: "Мы не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством".
Русский народ с этим "правительством" ничего общего не имеет: народ –христианин, а правительство – враги Христовы; народ умирает за святую веру, а правительство – убивает верующих; "безумные интриги" затевают не враги правительства, а руководители последнего – евреи, которые кроме интриг и уголовных преступлений ничем не занимаются. И вот к послушанию такому правительству нас призывает Московский Синод.
А как относились к врагам Христовым святые отцы?
Укажем на одного из последних между ними, на святителя Патриарха Ермогена. Он из темницы, умирая с голоду, ободрял своими грамотами восставший против засевшего в Кремле правительства русский народ, а правителям-насильникам посылал проклятия.
Обратимся ли к глубокой древности и там увидим св. Василия Великого, пламенно молящегося пред иконой Божией Матери и св. великомученика Меркурия о погублении Юлиана Отступника; на мгновение с иконы исчезло изображение св. Меркурия, а затем оно появилось вновь, но уже с окровавленным копием.
В это время в далекой Персии на поле брани против Юлиана появился таинственный всадник и бросил в него копие; умирая, Юлиан воскликнул: "Ты победил меня, Галилеянин".
Не только храбрые мужи, но и преданные Богу женщины и словом и делом боролись против безбожных носителей власти.
Так поступила праведная Соломония, убедив своих семерых сыновей не отступать от веры, но поругаться мучителю-язычнику, а великомученица Параскева плюнула в лицо императору, похулившему Христа.
Так поступал и целый сонм мучеников и преподобных, а наш русский угодник Божий св. Иосиф Волоколамский в своей книге "Просветитель" пишет приблизительно так: "Повиноваться подобает Царем верным, а не врагам Христовым, их же Господь не нарицает Цари, глаголя сице: "Идите и рцыте лису тому (Ироду). Убо несть той беззаконник Царь, но лис."
Еще худшего отношения заслуживает от Церкви и от христиан советское правительство, ибо прежние гонители веры хоть в своих-то богов верили, а эти открыто объявляют себя врагами небес; поэтому приходится краснеть за Московский Синод, читая его призыв "выразить всенародно нашу благодарность советскому правительству за такое внимание к нуждам православного населения".
Какое внимание? Легализация Синода? Но ведь в этом оно отказало Преосвященному Сергию по его ходатайству в прошлом году и до последнего времени, пока Братья Русской Правды не стали систематически истреблять его представителей как бешенных собак и пока, увы, Преосвященный Сергий не начал подкреплять своего прежнего ходатайства призывами паствы к верности этим разбойникам.
Мы не теряем уверенности в том, что Владыка Сергий находится в добросовестном заблуждении, как в этом общем, так и в другом, частном, своем заявлении, которое он теперь повторил снова. Разумеем его вторичное неправильное заявление о том, будто "Святейший Патриарх Тихон 22 апреля 1922 года упразднил заграничный Синод, но Синод и до сих пор продолжает существовать" и т.д.
Ответим. 22 апреля 1922 года Заграничного Синода вовсе не было, а было Высшее Церковное Управление, которое и было немедленно закрыто нами, согласно распоряжению Патриарха: оно состояло из выборных епископов, клириков и мирян.
По своем упразднении оно было заменено постановлением Всезаграничного Архиерейского Собора – Архиерейским Синодом, состоявшим только из 4-6 архиереев, подчиненных Собору, под покровительством Сербского Патриарха, которому представляются протоколы Соборных заседаний, открываемых каждый раз с его же Святительского разрешения.
Кратко говоря, тут была проявлена высшая степень послушания двум Патриархам, хотя упомянутый указ Патриарха Тихона обнаруживал полную неосведомленность своих составителей в положении дела, если не намеренное затуманивание последнего. Именно там значится, что с назначением митрополита Евлогия (согласно представлению того же Высшего Управления) Управляющим западно-европейскими церквями "самому Высшему Заграничному Церковному Управлению не остается никакой сферы деятельности", – тогда как оно получило от Собора Архиереев в свое управление церкви не только Западной, но и Восточной Европы, а также на Дальнем Востоке, Китае, Японии, в обеих Америках, в Африке и в Палестине.
Послание говорит, что русские клирики, которые не дадут письменного обязательства повиноваться советскому правительству, будут исключены из состава Московского Патриаршего клира (а досужие Ракитины в Западной Европе подменили это выражение так: будут отлучены от Церкви).
Тщетная угроза! Мы сами постановили еще в заседании Собора 1924 года не исполнять распоряжений Московского Синода, идущих во вред Церкви, каковое постановление подписано и митрополитами Платоном и Евлогием. А в прошлом году, по получении послания митрополита Сергия, от 28 мая – 10 июня, каковым посланием он отгораживается от управления Заграничной Церковью, Архиерейский Синод твердо решил держаться на позиции этого послания, не принимая могущих быть изменений.
Мы желаем подражать великому учителю Церкви Максиму Исповеднику, который на приглашение восстановить общение с монофелитами, как это сделали тогда три Патриарха, причастившиеся с последними, ответил: "Аще и вся вселенная с ними причастится, аз един не причащуся".
Да сподобит Господь и нас всех такого мужества и да откроет глаза нашим поколебавшимся московским собратиям на их заблуждение." (Новое Время, 4 сентября 1927 г., № 1902.)
Самым ценным местом в этой отповеди маститого иерарха является указание на молитву св. Василия Великого к Матери Божией, повелевшей св. великомученику Меркурию исполнить просьбу св. Василия.
Свв. отцы Церкви учат, что молитва является самым главным делом жизни, а история христианской Церкви на земле свидетельствует целым рядом доказательств, что молитва к Богу является ничем не победимым орудием в борьбе человека с диаволом и его кознями. Бесчисленные сонмы немощных телом, но сильных духом подвижников Церкви вели борьбу не только с сатанинскими кознями, но и с самим диаволом и побеждали его своею верою в всемогущество Божие, верою в чудо. Вне этой веры нет жизни, нет духовных опор, которые бы осмысливали земное существование человека. Вера в чудо есть синтез всего христианского вероучения, она является той лестницей, какая соединяет небо и землю и по которой человек может восходить до наивысших горних высот, до Самого Бога, претворяя свои мистические ощущения в нечто реальное, осязаемое, дающее реальные плоды. Объемом веры измеряется и объем чуда. Там, где нет веры, там нет и чуда. Сначала вера, потом чудо. Чудо неотделимо от веры и является самым нормальным явлением, самым реальным фактом жизни духа, и приобщенные еще здесь, на земле, к духовной жизни являются не только свидетелями чуда, но и живут в сфере чудес, точнее в той сфере, какая только кажется "чудесной" духовно слепым людям, а на самом деле является реальнее видимого преходящего мира.
Но где и как найти веру, если ее нет, если она утрачена, если исчезла?!
"Просите, и дано будет вам" (Матф. 7, 7), – отвечает Спаситель.
"Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам" (Марк. 11, 23 – 24).
"Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит..." (Иоан. 14, 12).
Неужели эти прописные истины, ставшие уже азбучными, были неизвестны митрополиту Сергию или иерархам, подписавшим "послание", и кто из нас может сказать, что эти истины были забыты и что иерархи, томящиеся в ужасных оковах сатанинской власти, не взывали к Милосердному Господу о помощи и спасении, просили и молили?!
Кто может бросить подобный упрек и Зарубежной Церкви, какую никто не гонит и не преследует, над которой никто не глумится, которая имеет в своем составе выдающихся иерархов и пастырей Церкви, и непрерывно возносит свои молитвы к Богу о спасении погибающей России, порабощенной жидами?! А между тем 10 лет возносятся эти молитвы и здесь, и за рубежом, а Бог точно не слышит их и не отзывается на них...
А наряду с этим, чудеса Божии не прекращаются, и в России их еще больше, чем в иных местах: то обновление древних икон в храмах, сопровождаемое рядом чудесных, мгновенных исцелений страждущих, то обновление куполов на глазах сатанистов, не имевших возможности отрицать чуда, то исцеление слепых (Нов. Вр., 27 июля 1927 г., № 1868), то целый ряд чудес, явленных среди красноармейцев и обративших на себя внимание, дававшее и дающее повод говорить о нарастании религиозного чувства и пробуждении веры даже у большевиков. И в иностранных газетах стали попадаться сообщения о необычных явлениях чудесного порядка, особенно в местах, пострадавших от землетрясений и наводнений и небывалых раньше стихийных бедствий. Конечно, этими чудесами принято лишь восторгаться, но мало кто думает о том, чтобы собрать их и запечатлеть в памяти изданием специально посвященной им книги... Их в лучшем случае отмечают на страницах газет как интересный материал для чтения, с тем, чтобы выбросить потом газету и забыть о них.
Привожу одно из разительных чудес, случайно попавшее на страницы "Нового Времени" (1 сент. 1923 г., № 704):
"Шестого июля в четверг мы все – жители Киева были свидетелями величайшего чуда, записанного когда-либо в летописях России. С быстротой молнии по городу распространилась весть о том, что в церкви Всех Скорбящих Радосте, что на Сенном базаре, чудесно обновился купол над колокольней, а также икона Казанской Божией Матери при входе в церковь. Я об этом узнал перед вечером и, конечно, мгновенно отправился туда. Вся площадь перед церковью и все прилегающие к ней улицы были усыпаны многотысячной толпой. Солнце заходило, наступал вечер, и обновленный купол сиял белым золотистым светом. Этот купол я знал прекрасно. Он всегда поражал меня своей потускневшей позолотой, местами совсем сошедшей. Весь он был какого-то смутно-песочного неопределенного цвета. Блеску не было на нем никакого. И вдруг он теперь не только покрылся совершенно новой, блестящей позолотой, но даже светился каким-то таинственным светом. С самого утра 6-го июля, как только стало известным дивное обновление купола и Казанской иконы Божией Матери, десятки тысяч народа хлынули туда, чтобы созерцать дивное проявление Божественной силы. На глазах всех собравшихся происходило чудесное знамение Божие: одна за другой постепенно таинственно обновлялись иконы св. Серафима, Елены, Константина и Феодосия Черниговского, писанные на купольном барабане колокольни. Все с замиранием сердца следили за тем, как с минуты на минуту появлялась позолота, светлели лики и выступали краски на потускнелых и обветшалых иконах. Теперь они стоят как новые, как только что написанные.
После долгих усилий к вечеру мне удалось протиснуться в церковь. В самой церкви обновились трехсотлетняя плащаница, Распятие и две хоругви. Плащаница была совсем старая и потускневшая. Теперь плащаница вся сияет в золоте и серебре и поражает всех своей красотой и художественностью. То же самое и хоругви. Материя как была, так и осталась – порванная, местами зачиненная, а краски и золото блестят и производят впечатление совершенно новых. Но никогда в жизни я не забуду чудесного обновления образа св. Николая Чудотворца, которое происходило на моих глазах. Надо заметить, что с первого же момента, когда выяснилось обновление, "наши власти" поспешили послать в церковь комиссию для выяснения обстоятельств дела. Комиссия прибыла в церковь часа в 2 дня и приступила к осмотру плащаницы. Было, конечно, решено, что все это обман, что попросту вместо старой плащаницы повесили новую. Но в это время одна из женщин воскликнула: "Смотрите, на этой иконе появилось светлое пятно". И действительно, все находившиеся тогда в храме обратили свой взор на совершенно темную икону, висевшую на стене. На ней было светлое сияние, в виде пятна, которое начало разрастаться все более и более. Не прошло и получаса, как перед потрясенным народом, просиял лик Святителя и Чудотворца Николая. После этого комиссия моментально ушла из храма и больше туда не показывалась. Когда я пришел в церковь, обновилась уже вся средняя часть образа Св. Николая, но кругом была совершенная чернота. И вот на моих глазах и на глазах бывших тогда (6-го июля 1923 г.) в церкви свет, исходящий от лика Святителя Николая, проникал все дальше и дальше, поглощая еще необновившуюся часть иконы и, наконец, выступило во всей своей красе все изображение Святителя Николая.
Наступил уже вечер. В храме было темно. Электричество не горело. Но лик Святителя сиял каким-то особенным сверхъестественным внутренним светом. Это была потрясающая картина. В первый раз в жизни я увидел всю силу и все очарование религиозного порыва толпы. Святитель Николай сиял среди нас как живой, и все чувствовали его присутствие.
Обновленный образ изображает Св. Николая в его историческом виде: в древней фелони с омофором, правой рукой он благословляет, а левой держит Евангелие. Все, кто видел теперь эту икону, в один голос говорят, что подобного изображения Св. Николая по красоте и по величию никто из нас в жизни не встречал. Я, потрясенный, вышел из храма. Спустилась ночь. Толпа стояла и не расходилась. Все потрясены. Некоторые из евреев пытаются доказать, что это "влияние атмосферы". Их никто не слушает. У большинства одна лишь мысль – молитва к Богу.
На следующий день, 7-го июля, началось обновление второго купола той же церкви и икон, расположенных над куполом. Надо сказать, что нашлись какие-то эксперты, которые взяли два куска – от обновленного купола и от второго купола для обследования. Но результатов обследования не опубликовали. Второй купол начал понемногу обновляться. В течение трех дней совершенно обновились все иконы, находящиеся над куполами – св. Владимира, Ольги, Николая, Александра Невского, Алексия, Петра и других. Но самый купол совершенно не обновился. В тот же день началось обновление Георгиевской церкви. Особенно замечательно обновление в ней иконы, изображающей "Моление о чаше", а также обновление иконы Покрова и изображения Христа Спасителя с Крестом, идущим на Голгофу. Кроме того обновился еще купол на церкви Рождества на Подоле. Одно из самых замечательных обновлений произошло над колокольней Софийского собора. Там с давних пор, чуть ли не со времени Петра Могилы, висит изображение чуда Св. Николая (Мокрого) с ребенком, утонувшим в Днепре в 1072 г. На ней кроме двух-трех темных фигур ничего нельзя было разобрать. Теперь древняя икона представляет собою картину дивной красоты. Перед сияющим в золоте образом Св. Николая лежит ребенок, вытащенный из воды и стоят родители, священник и монахи-старики, а вдали виднеется Днепр, нарисованный с величайшим искусством. Все художники поражены этим дивным образом.
В духовных кругах Киева придают огромное значение тому обстоятельству, что обновилась икона Казанской Божией Матери при входе в церковь Всех Скорбящих Радосте. Казанская икона считается величайшей святыней России и покровительницей русской государственности. Отмечают также, что обновление началось с колокольни (благая весть для всех скорбящих) и произошло в четверг, т.е. в день, посвященный Православной Церковью памяти величайшего из всех святых Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского, особенно чтимого у нас в России." Н.Р.
И каждый по-своему объяснял эти чудеса, толкуя их то как предзнаменование близкой победы христианства над безбожием (Нов. Вр., 5 сентября 1923 г., № 707), то как знамение, что русские люди на пути к обновлению (там же, № 709), то как уступку Бога нашей нечувствительности к мистике мира (там же, № 727) и т.д., тогда как достаточно было осмыслить совершающееся и увидеть, где, когда и при каких условиях происходили эти чудеса, чтобы сказать, что они являли собою только грозное свидетельство бытия Бога, отрицаемого людским безумием, потерявшим веру в Бога и распинавшим Бога, глумящимся над Ним и Его законом, но не содержали никаких обетований Божиих, никаких обещаний или указаний на скорое падение жидовской власти в России и спасение нашей измученной, истерзанной России... Наоборот, эти чудеса еще более ярко подчеркивали, что Бог не только существует, но и видит все, и слышит возносимые к Нему мольбы о спасении, но не желает внимать им и отвергает их...
И, изнывая от тоски по Родине, всеми помыслами своими сливаясь с ее жестокими страданиями, я мучительно искал ответа на вопрос, почему Милосердный Господь не принимает возносимых к Нему молитв и не спешит с помощью, почему даже Матерь Божия не могла в течение 10 лет замолить людских грехов и умилостивить Своего Сына и Бога... и спасти Россию?!
Почему, вопреки обетованиям Спасителя, мы просим и ничего не получаем, ищем и не находим, стучим и никто не отворяет нам?!
Почему Господь милует Европу, гораздо более грешную и далекую от Него, и губит самую христианскую страну в мире, смиренную и кроткую Россию, почему попускает такое неслыханное в истории глумление над православною Церковью и даже над Своими Угодниками, почему являет Себя красноармейцам и не внимает мольбам пастырей Церкви?! И Сам Господь словами Своего Апостола Иоанна ответил мне на мои недоуменные вопросы.
Да, говорит Апостол Иоанн, Господь и точно сказал, что исполнит все, чего мы попросим у Него, и даже подтвердил Свое обещание словами: "Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут" (Лк. 21, 33), но при каких условиях дано такое обещание?
"...Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего ни попросим, получим от Него... Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все" (1 Посл. Иоанна 3, 21 – 22, 20).
"...Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство" (Марк. 7, 21 – 22).
Вот при каких условиях, вот почему ваши молитвы бесплодны, говорит как бы Апостол Иоанн, вот почему вы уже 10 лет топчетесь на одном месте и, верно, еще долго будете топтаться и никогда не увидите вашей Родины... Только чудо Божие может победить большевиков, а дарует вам Господь это чудо тогда, когда ваши молитвы получат дерзновение к Богу, а получат они такое дерзновение тогда, когда ваше сердце перестанет осуждать вас.
И у меня опустились руки... Соглашательство и компромиссы с большевиками в самой России, церковные и политические распри за рубежом ее, зависимость от "общественного" мнения и страх иудейский и там и здесь, нежелание считаться с единым непогрешимым мнением сердца, которое резко осуждает и мысли и действия наши и на осуждения которого не обращается ни малейшего внимания потому, что они никому не видны и не слышны, – разве это не ответ на вопрос о том, почему Господь отвергает наши молитвы и не внимает им?!
"Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей" (Псал. 50, 12).
ГЛАВА 46. Причины
Почему же Русская Православная Церковь попала в такое ужасающее положение? Причин много, и на них я остановлюсь ниже, а пока укажу только на ближайшие: общую и частную.
Первая причина заключалась в общем сдвиге христианского сознания в сторону рационализма, что понизило качество веры, ослабило ее интенсивность и разорвало мистическую связь с небом. Человек не только стал больше бояться человека, чем Бога, но и верить в человеческую силу больше, чем во всемогущество Божие. Отсюда и все, совершающееся вокруг него, стало оцениваться с земных, а не с духовных точек зрения, и самое явление большевичества объяснялось не выражением Новозаветных пророчеств Господа Иисуса Христа, а бытовым явлением, с которым и надлежало бороться обычными человеческими способами. Ни Церковь в лице своих представителей, ни рядовые миряне не угадали природы большевичества, а потому и не знали, как бороться с ним. Большевичество явилось выражением той суммы зла, какая перевесила чашу Добра на весах Божеского Правосудия.
Следовательно, все усилия человека должны были бы направляться к увеличению суммы Добра и уменьшению суммы зла, именно к тому, на что указывал Апостол Иоанн, когда говорил об условиях, низводящих благодать Божию и требовал предварительного очищения сердца нашего от всего, что преграждало путь к Богу, причем с нашей стороны нужны были бы только усилия, только сознательное желание стремиться к такому очищению сердца, только воля к Добру, а остальное уже сделал бы Сам Господь, увенчивая наши усилия победою. Но таких усилий не наблюдалось... Наоборот, наблюдалось упорное и настойчивое стремление к еще большему увеличению суммы зла и... что же удивительного, если сроки спасения России отдаляются и не видны даже в перспективе?! И совершенно прав митрополит Антоний, когда, касаясь чуда обновления икон, говорит: "...Если покаетесь и будете с верою призывать Божию помощь, то близко твое избавление, русский народ! А если не обратитесь к Богу, явление чудесное окончится ничем или чем-либо еще худшим" (Новое Время, № 707).
Очень интересную статью по этому поводу написал покойный А. Столыпин, развивающий ту мысль, что всякое вольное или невольное накопление зла не проходит бесследно, а, наоборот, удлиняет сроки возрождения России. Мне хотелось бы привести некоторые выдержки из этой статьи, не сказавшей ничего нового, но характерной и показательной, как выражение точек зрения образованного мирянина на события нашего времени.
Усматривая в явлении большевичества выражение мессианических пророчеств, А. Столыпин говорит:
"Многие из нас в изгнании и еще большее количество страдальцев в России это знают и чувствуют, но все-таки поражает количество непостижимо слепых людей, которые продолжают приписывать все бедствия ничтожным причинам и ничтожным действиям людей, партий и правительств. Как будто те или иные поступки отдельных карликов соизмеримы с кипением чаши Господнего гнева!
Наступление ясно предсказанных и с малых лет известных нам из Писания исключительных событий должны бы, кажется вызвать в совести людей тревожный вопрос, какими исключительными и всенародными грехами, какою непостижимою изменой высшим и духовным задачам человечества вызваны эти кары?
Ведь и с точки зрения нехристианской и даже совсем нерелигиозной понятно, что такое явление природы, как бешеный волк, подлежит уничтожению, а такое историческое явление, как народ, угрожающий совершенствованию человечества, обречен на историческую неудачу. Но с такой, чисто практической точки зрения русский народ не угрожал никому: миролюбие его было вне сомнения, экономически и научно он быстрыми шагами стремился к тем целям, которые принято называть "целями прогресса". Наоборот, роль "бешеного волка" приписывалась, – и не без основания, милитаристической Германии. Но сейчас народы Европы стоят лицом к лицу с бешеным волком по преимуществу, с большевистским волком, и он их менее тревожит, чем даже намек на возрождение былой России.
В силу большевистского волка не верят, потому что он голоден и беден, в силу Германии верили, потому что она располагала невиданной военной мощью, в силу бывшей России тоже верили, потому что она могла поднять и вооружить несметное количество людей. Мы познали цену этим силам на горьком опыте, но весь мир продолжает верить подобным силам, а силы безусловного зла не боятся только потому, что безусловное зло вооружено такими мало осязаемыми средствами, как способность разлагать и растлевать слабую человеческую природу.
Большевизм – это отвратительная религия зла – обладает такою же притягательной силой, как и добро притягательно для ревнителей добра. Считать большевизм местным русским явлением было бы так же ошибочно, как считать католицизм итальянской религией потому, что глава католической церкви пребывает в Ватикане. Большевизм – это религия всемирная и воинствующая, пытающаяся выделить злое начало в человечестве и доставить ему торжество. Такого явного, такого бесстыдного утверждения зла человечество еще никогда не видело. Злое начало уживалось с добрым, как плевелы с пшеницей, и потому все страстные обвинения, направленные против сословий, против народов, против того или другого политического строя, всегда грешили несправедливостью. Зло переплеталось с добром и у аристократов, и у пролетариев, и у эллинов, в самодержавных государствах и в свободных республиках. Отделить резко эти два начала представлялось нашему мышлению действием невозможным и противным человеческой природе. Для этого требовалось бы вмешательство чуда. И чудо это проявилось со всеми признаками чудесности для тех, кто желает его осмыслить, и со всеми признаками бессмысленной катастрофы для упорствующих в слепоте.
Когда Ленин заявлял, что "чудом" он достиг власти, что "чудом" победил врагов и "чудом" продержался, несмотря на страшное разорение России, он не подозревал, какой верный и глубокий смысл он вкладывал в это слово. Являясь тем роковым человеком, через которого должны придти соблазны, он одновременно явился и тем орудием, которое отделяет плевелы от пшеницы. Он создал те условия, при которых нельзя служить злу, лицемерно прикрываясь добром, потому что, принимая большевизм, нельзя не принять и ответственности за ненасытное человекоубийство, за бездну предательства и зла. Но стать при этих условиях на сторону добра, значит сознательно выбрать тесный путь и узкие врата подвига, значит быть готовым на крестную муку[16]. Здесь нет места ни для равнодушного зрителя, ни для высокомерного Пилата, умывающего руки. Поэтому не может и не должно быть, чтобы большевизм ограничился географическими пределами России. Та сила злой мистики одушевления, которая в нем заложена, достаточна, чтобы распознать ее духовный первоисточник. Решительный и беспощадный бой против религиозной связи человека с Творцом, одной из степеней которой является христианство. Большевистские плакаты, на которых начертано: "Религия – это яд", являются с их стороны обычным приемом лжи. Потому что своя, очень крепкая и ужасная религия у них есть, во имя ее они борются, и если еще не провозглашают ее явно, то потому, что не пришло время открыть ее тайны непосвященным. Впрочем, они выдают себя некоторыми внешними знаками, вроде магических начертаний и эмблем, украшающих их обмундировку. От людей, посвятивших себя изучению и борьбе с этими мерзостями, я слышал о невероятном распространении всяких "черных" культов вроде люцифериан и сатанистов, с главными центрами их распространения в очень неожиданных государствах: в Испании и в Китае. К большевизму это не имеет отношения, это только характерно как явление времени. Большевикам не до забавы нелепыми ритуалами; жертвенная кровь людей проливается ими на обширном алтаре нашей оскверненной родины, пока не откроется для них новое, еще более широкое поприще. Нам неизвестно, куда ведет их таинственная власть третьего интернационала, но и для них загадка, насколько их возвысит и когда их сокрушит всесильная рука Провидения.
Поэтому праздны споры о том, какой способ борьбы против них необходим, что лучше: вооруженное вмешательство или революция на месте; бороться ли с ними во имя демократии или монархии? Всякая борьба со злом является святым начинанием, всякое противодействие зачтется, но большевизм будет побежден не падением Ленина и Троцкого, но объединением той части человечества, которая не согласится даже за цену жизни осквернить свою бессмертную душу. Распри между противниками большевизма – это такое же "порождение диавола", как и сам большевизм. Это – одно из невесомых и невидимых оружий злого начала, которого люди не страшатся, потому что оно не олицетворяется ни в виде стреляющих орудий, ни в виде наступающих войск. Но оно сильней армий всего света, и оно завоюет еще много стран и народов. Когда не останется больше прибежища для колеблющихся, когда перед всяким предстанет грозная необходимость выбора: быть злодеем или праведником, тогда наступит конец. Потому что перед оружием праведников, которое называется: мир в единении духа, не устоит зло. Я верю именно в такой конец большевизма: неожиданный, мирный и нравственно для него постыдный." (Новое Время, 22 апреля 1921 г., № 1.)
Тот же А. Столыпин, останавливаясь на знамениях Божиих, явленных обновлением икон и куполов храмов в России, писал:
"Еще недавно противники веры объединились под знаменем точной науки, но эти времена прошли. С одной стороны, столько научных незыблемых утверждений потерпели крушение, что наука уподобилась царству, разделившемуся и погибающему, а с другой стороны, многие светила точной науки, пораженные обилием сверхъестественных фактов, прежде просто отрицавшихся, теперь увлечены их исследованием. Назовем хотя бы метапсихический институт Шарля Рише, существующий на французские правительственные средства.
Многие исследователи утверждают и доказывают, что т.н. оккультные науки дают возможность воспитать человеческую волю и довести ее до сверхъестественного могущества, и представляется почти несомненным, что возглавители древних теократий – первосвященники и жрецы – были одновременно и хранителями древней тайной науки, недаром они заслужили упрек Господень в том, что, владея ключами Царствия Божия, они сами не входят и других не пускают. И великим откровением Нового Завета было то, что все, доступное раньше только редким избранным, стало достоянием всех простых, немудрых и детей, при одном условии – веры. Потому, что одно состояние человеческой души – вера, соединенная с одним действием человеческой воли – молитвой дает безгранично больше, чем даже достижения тайной науки, делающей человека повелителем стихий, вводящей его в общение с существами потустороннего мира и иерархией духов..." (Новое Время, 1923 г., № 710.)
Итак, и Церковь в лице своих представителей, и миряне, короче сказать – вся Россия, просмотрела и Новозаветные пророчества Спасителя о наступлении событий, разыгрывающихся пред нашими глазами, просмотрела и истинную природу большевичества как религии диавола, не нашла и не находит даже до сих пор, спустя 10 лет, того единственного орудия в борьбе с сатанинской властью, которое бы победило и сокрушило эту власть, если бы держалось чистыми руками и чистым сердцем. "Мира в единении духа" – нет, а без него нет и не будет угодной и приемлемой Богом молитвы, а без молитвы не будет и чуда, не будет и России.
Вторая, частная, причина развала Православной Церкви вытекала из вышеуказанной общей причины и выяснена на страницах предыдущего изложения устами не только православных, но и католиков.
"Без православного монарха наша Церковь рассыпется", – читаем мы в одном письме.
"Политика губит Церковь с тех пор, как она лишилась опоры в самодержавии православного Царя", – значится в другом письме.
"О Боже, Боже Великий, что же это делается, наконец, в православной Церкви, когда не стало Царя и синода", – говорится в донесениях одного из ксендзов.
"Не стало Царя, не стало и единства", – восклицает другой.
Правда, со стороны официальной Церкви мы такого признания еще не услыхали, но это нисколько не ослабляет того вывода, который мы делаем, говоря, что как государство не может существовать без Церкви, ибо погибнет духовно, так и Церковь не может существовать без государства, ибо ей не на чем будет держаться. Ссылки на сравнительно большую устойчивость римской Церкви, существующей якобы вне какой-либо связи с государством, доказывают лишь наивность тех, кто так думает. Русская официальная Церковь очень любит эту ссылку, но делает ее только потому, что наши иерархи, никогда раньше не бывшие за границею, даже не представляют себе природы отношения западной Церкви к государству. Римская Церковь, как я уже указывал, держится не на своей обособленности от государства, не на папстве, как таковом, а на государственном правопорядке, как реальной силе, и на тех внешних устоях, которые очень глубоко скрыты в самом механизме католического церковного аппарата и превращают Ватикан в могущественную государственную организацию. События последнего времени особенно резко подчеркнули факт теснейшего единения между католическою Церковью и государством. Так, в целях поддержать правительство Муссолини на происходивших в 1924 году выборах, в них впервые после 1870 года участвовали прелаты, голосуя все без исключения за правительственный "фашистский" список. Монахи тоже отдали свои голоса Муссолини.
Таково отношение между Церковью и государством там, где торжествует парламентаризм, где они не связаны ни мистическими связями, ни взаимными обязательствами, где на обеих сторонах стоят только практики, учитывающие значение связи между Церковью и государством и опасающиеся нарушить эту связь!
В России же, где природа отношения между Церковью и государством совершенно иная, где в лице самодержавного Царя православные русские люди видят прежде всего Помазанника Божия, Ктитора Церкви, коему Сам Господь вручил охрану и защиту Церкви, официальные представители св. иерархи, находились, за немногими исключениями, в оппозиции к престолу Царя, создавая иллюзию того "гнета", который, в действительности, был их опорой.
"Как наши миряне были ослеплены свободами гражданскими и вследствие этого попали в революционное рабство интернациональной тирании, – пишет "Еженедельник", 16 – 29 июля 1923 г., № 99, – так и многие из русского духовенства и церковников, увлекаемые фантастическим зрелищем христианской Церкви, свободной от христианского государства, по сей день не замечают, что ныне христианская Церковь попала в порабощение антихристианской власти. Вся русская православная Церковь – в ее земном естестве – находится не только в гонении и пленении, но и в послушании у врагов Христа.
Да, в послушании! Это страшно, но это так!
Все иерархи, которые не хотели слушаться слуг антихристовых, либо мученически погибли, либо томятся в тюрьмах, ожидая мученической гибели. Томился в тюрьме и ожидал мученической гибели и Патриарх Тихон, пока не заявил своего послушания вражеской власти."
Словом, имеется и Патриарх, имеются и десятки митрополитов, но Церкви – нет, и без Царя ее не будет.
ГЛАВА 47. Церковь и государство
В чем же причина, что Церковь, в лице своих иерархов, не дала организованного отпора революции и оказалась неспособной устоять под натиском большевиков, и притом в тот именно момент, когда, освобожденная от прежних "оков рабства", получила наконец столь долгожданную всепобеждающую свободу духа?
Забыли ли иерархи о той мистической силе, какая заключается в Церкви как Божественном установлении и какая пребывает с нею вечно, являясь тою бессмертною твердынею, какую не одолеют, т.е. не пропустят пройти сквозь себя и ворота жилища мертвых – "врата адовы"?
Каким образом могло случиться, что Церковь, отличаясь от государства и своим происхождением и своими основами, очутилась после революции в положении еще худшем, чем государство?
Подобно тому, как государство, вступившее на путь "самоопределения народов", рассыпалось на массу отдельных государственных образований и мелких единиц, не связанных между собою единством политических программ, целей и задач, подобно этому и Церковь стала постепенно раскалываться на бесчисленное количество "церквей"; появились национальные церкви, взаимно отрицающие друг друга и враждующие между собою.
Отчего, пребывая раньше в "оковах", изнемогая якобы под гнетом всесильной обер-прокуратуры, угнетаемая государством, Церковь не только успешно и планомерно осуществляла свои земные задачи, но и выдвинула за синодальный период своего существования целый сонм величайших подвижников, причтенных даже к лику святых?
На эти вопросы может дать ответ только история, которую мы и спросим. Однако, прежде чем перелистать ее страницы, я хотел бы сделать оговорку и сказать, что именно я понимаю под словом "Церковь". Тогда не будет ни недоумений, ни недоразумений.
Под этим словом я разумею не мистическую Церковь, как Божественное учреждение, какую действительно не одолеют никакие силы смерти, какая вечна и несокрушима так же, как вечно и несокрушимо Святейшее Слово Божие, а Церковь, как земную организацию, живущую в условиях пространства и времени и призванную осуществлять на земле свои специальные задачи, или, как удачно выразился митрополит Антоний, "как лестницу Иакова, вершиною своею уходящую в небеса, а основанием своим утверждающуюся все-таки на земле, низводя благодатное благословение на все стороны человеческого бытия". Только в этом смысле и можно рассматривать Церковь при сопоставлении ее с государством и оценке ее деятельности на земле.
В глубоких недрах истории кроются причины, то сближавшие Церковь и государство на почве общих задач и стремлений, то разделявшие их друг от друга. До пришествия Христа Спасителя на землю, Церкви, в нашем понимании, не существовало вовсе. Был только языческий культ, который поощрялся языческой властью, как один из устоев, на которых она держалась, и между этим культом и государством царило не только единение, но и полное единомыслие, несмотря даже на крайнее многообразие особенностей этого культа. Вполне вероятно, что в момент своего основания Господом Иисусом Христом, Церковь не могла находиться в союзе с языческим государством. Противоположность задач и целей, преследуемых Церковью и государством, не могла родить церковно-государственного единения. Однако, создавая Свою Церковь на земле, Спаситель не только не отрицал возможности такого единения, а, наоборот, старался его вызвать. И как бы красноречивы ни были указания на то, что в Евангелии нет политики, что из евангельского учения нельзя выкроить никаких политических программ, ибо Христос имел в виду царство "не от мира сего", все же они будут бессильны доказать, что, возвещая свое учение, Господь Иисус Христос ограничивался лишь передачей отвлеченных истин, без мысли воплотить их в толщу жизни.
Наоборот, в низведении небесных истин на землю, во внедрении их в сознание человечества, с целью его духовного перерождения, в переустройстве законов общежития на новых, возвещенных Христом началах, в пересоздании самых форм такого общежития и, следовательно, в коренном изменении языческой государственности и заключалась одна из задач Иисуса Христа.
Такие задачи предопределяли и то место, какое должна была занять Церковь в отношении к государству. Это – не место противника из враждебного лагеря, не место враждующей, хотя, может быть, и справедливо враждующей стороны, а место Пастыря в отношении к пастве, место любящего Отца в отношении к заблуждающимся детям. Даже в те моменты, когда между Церковью и государством не было и не могло быть ни единомыслия, ни единения, Христос Спаситель запрещал Церкви стоять в стороне от государства, а тем более рвать связь с ним, сказав: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Лк. 20, 25). Хотя эти слова и не решали общего вопроса об отношении Церкви к государству во все времена, а относились к римской власти над иудеями, предупреждали против восстания, имели целью отвлечь умы от революции к Богу, были произнесены "к случаю'' и имели временный характер, однако же в них нельзя видеть компромисса между Церковью и государством как таковым, а совершенно определенное признание государственной власти, поскольку она направлена на благо людям, указание на возможность единения даже с языческим государством в области чисто государственной, уважение принципа государственности. Не забудем, что эти слова были сказаны Христом в ответ на запрос книжников и фарисеев по поводу того, насколько вообще допустимо, с точки зрения учения Христова, вносить подати кесарю и тем поддерживать один из главнейших устоев языческого государства, и притом государства, под игом которого якобы томились иудеи, мечтавшие о свержении римского владычества. Христос, таким образом, не только не отрицал государства, а, наоборот, оберегал государственность, являя Собою пример уважения к государственным законам, повиновения и послушания.
Такого же отношения к государству требовал Господь Иисус Христос и от Своих учеников. Свв. Апостолы впервые создали христианские основы государственного права, а Апостол Павел в своем послании к Римлянам (13, 1-8) указал даже на конкретные обязанности, вытекающие из этих основ. Насколько глубоко уважал Ап. Павел римскую государственность, несмотря даже на то, что она была языческой, свидетельствуют Деяния Апостолов (гл. 25, 10-12). Апостол Павел гордился своим званием римского гражданина и до того верил в справедливость власти римского императора, что, будучи арестован иудеями, не пожелал идти на суд в Иерусалим, а, сославшись на свое звание, потребовал над собою суда кесаря, чем подчеркнул самодовлеющее значение государственности, которая сама по себе, даже не будучи связана союзом с Церковью, а являясь лишь наиболее совершенной формой общежития, способна обеспечить правопорядок и законность.
С основанием Христовой Церкви на земле началась деятельная христианизация сначала нравов и обычаев населения, а затем законов страны. Христианское учение стало постепенно вливаться в толщу государственной жизни, и, озаренные светом учения Христова, языческие государства – превращаться в христианские.
В каких же формах протекал процесс христианизации?
В какие отношения ставила себя Церковь к государству и что такое представляла собой Церковь в момент своего возникновения?
На эти вопросы отвечает Апостол Лука, автор "Деяний Свв. Апостолов", самим заглавием своей книги.
"Деяния святых Апостолов" – это не "деяния" Соборов или Св. Синода, не журнальные постановления иерархов, написанные высоким стилем и в торжественной форме, а личные подвиги и страдания Апостолов, их личная, активная, непосредственная борьба не с государством, как таковым, а с государственным злом, разъедавшим государственность и подрывавшим ее устои, смелое и самоотверженное исповедание Христовых истин личным примером, проповедь Евангелия личной жизнью.
Гонения и преследования, аресты, заключение в тюрьму, избиение камнями, мучения, пытки и казни – вот путь, которым шли Апостолы и их последователи, христианизируя жизнь. И это тогда, когда Апостолы находились не только в положении изменников ветхозаветной веры, но и в положении контрреволюционеров, преследуемых жидовским фанатизмом и шовинизмом, когда еще не существовало христианской государственности и проповедь Евангелия встречала всеобщее противодействие, когда Церковь еще не была сорганизована и в распоряжении Апостолов, кроме личной веры и горения духа, не было иных способов влиять на окружающих. Свв. Апостолами были не нынешние папы, патриархи, митрополиты и епископы, а нынешние босоногие странники и юродивые, нынешние "старцы" и Божии люди, эти истинные строители духа жизни, каких всегда гнал мир, как гонит и до сих пор. Однако у них – и только у них – полнота откровения Духа Святаго, они – держатели Вечной Истины, и вне их и без них немыслимы ни религиозное пробуждение человечества, ни творческий процесс религиозной мысли.
Не изменились методы и приемы христианизации и после того, как Церковь получила свою внешнюю организацию и вылилась в форму церковного организма. Они и не могли измениться, ибо перестраивается дух жизни не словами, а делами, личным примером, подвигами и страданиями, опытом, а не теорией. Процесс организации Церкви совершился не сразу, а постепенно.
Единовластие Христа Спасителя заменилось Единодушием Апостолов. Но как в первом, так и в последнем случае идея личного подвига, освященная Голгофской Жертвой, лежала в основании программ Апостольской деятельности, христианство побеждало не натиском и силою, а смирением и любовью. Как прежде, так и теперь позиция Церкви в отношении государства оставалась неизменной. Ограничивая свою задачу духовным просвещением народа, внедряя в понятия народа высокие начала христианского долга, пробуждая его религиозное сознание, Церковь не только не стремилась к власти и могуществу, а, наоборот, сосредоточивала свое исключительное внимание на культуре духа, требуя не только отречения от земных благ, но даже бегства из мира.
Проникая в самую толщу мирской жизни, Церковь потому и не заражалась мирскими настроениями, что не соблазнялась никакими мирскими приманками, а бережно хранила свою чистоту, источник силы и влияния. Но так продолжалось не всегда и, по мере проникновения христианских начал в языческий мир и превращения языческих государств в христианские, грань между Церковью и государством постепенно сглаживалась, становилась менее резкой, и в ограду церковную стали просачиваться мирские элементы и настроения. В результате изменились и отношения между Церковью и государством. Церковь перестала казаться в глазах государства Пастырем Добрым, государство перестало казаться Церкви паствою. Линии церковной и государственной жизни стали все более резко расходиться в разные стороны, возникли нестроения в самой Церкви, какие продолжались до полного разделения Церквей, вызванного расхождением их представителей даже в области догматической, и какие продолжаются и доныне. Церковь и государство заняли положение враждующих сторон, и возник вопрос даже об отделении Церкви от Государства, иначе – о сложении с себя Церковью той миссии, какая была возложена на нее ее Основателем, Господом Иисусом Христом.
Западная Европа уже давно провела, если не везде юридически, то повсюду фактически, этот принцип, и только в одной России связь между Церковью и государством зиждилась на христианской основе.
Эпоха Царя Алексея Михайловича являла собой наиболее яркое отражение взаимодействия между Церковью и государством, однако с течением времени эта связь постепенно ослабевала, и идея совершенного отделения Церкви от государства стала встречать сочувствие даже среди некоторых иерархов, мечтавших о восстановлении патриаршества в целях освобождения Церкви от воображаемого гнета со стороны государства и ссылавшихся на эпоху Царя Алексея Михайловича как на время наибольшего расцвета церковно-государственной жизни России. Царствование "тишайшего" Царя было действительно историческим феноменом, опрокинувшим все доводы о различии земных задач Церкви и государства и, следовательно, о невозможности единения между ними, однако же наличность такого единения вовсе не зависела от самого факта патриаршества как такового, а объяснялась тем, что между Царем и Патриархом существовало полное единомыслие в церковной и государственной области, что официальная Церковь, учитывая религиозную сущность Самодержавия, исповедывала в лице Царя – Помазанника Божия, Ктитора Церкви, коему Сам Господь вручил охрану и защиту Церкви, что, наконец, был строго выдержан принцип "nullum regnum sine patriarcha staret", отводивший Патриарху роль советника Царя, а не самодовлеющее место в сфере церковно-государственного управления. И в царствование Царя Алексея Михайловича этот принцип нашел свое наилучшее выражение. Власть Патриарха не противопоставлялась и даже не сливалась с властью Царя, а была властью любящего Отца, бережно охранявшего прерогативы Помазанника Божия для блага Церкви и государства.
Когда в царствование Императора Петра Великого этот принцип был нарушен, тогда исчезло и патриаршество, ибо последнее, само по себе, не составляло русского явления, и идея патриаршества была не только чужда, но и враждебна русскому церковному правосознанию. Русскому православному народу чуждо понятие αρχη с коим связано представление о власти восточных деспотов, и идея патриаршества, особенно в понимании современных иерархов, будет всегда встречать противников со стороны тех, кто полагает силу Православия в его смирении и чистоте, а ктиторство над Церковью признает неотъемлемым правом Помазанников Божиих, русских православных Царей.
Западная Европа, которой непонятна природа отношений между Церковью и государством в России, отождествляет ктиторство с главенством Русского Царя над Церковью. Католики, например, говорят, что Государю Императору принадлежит высшая правительственная власть в православной Церкви, т.е. право издавать обязательные церковные законы, замещать епископские кафедры, увольнять епископов и производить суд по всем отраслям церковного управления, что Царь является церковным законодателем и источником церковного права и церковных полномочий, управляет Церковью в силу Своего Божественного назначения, как Помазанник Божий, о чем свидетельствуют и Основные Законы, указывающие, что "в управлении церковном Самодержавная Власть действует посредством Св. Прав. Синода, Ею учрежденного", а постановления последнего составляются "по Указу Его Императорского Величества".
Из этого католики выводят, что в России видимым Главою Церкви был Самодержавный Монарх, что государственная власть узурпировала права православной Церкви, лишила ее свободы и держала два столетия в плену. Такое предположение позволяет католикам быть вполне искренними в своих убеждениях, по силе которых они доказывают, что Русская Православная Церковь не была истинной Церковью, коль скоро попала в такое унизительное, зависимое от государства положение, что в России, кроме Арсения Мацеевича, не было иерархов, способных предпочесть лишение епархии, ссылку и заточение в тюрьму признанию прав государства над Церковью, что, наконец, и нынешний развал Церкви, вызванный революцией, был возможен только потому, что в самой конструкции православной Церкви были элементы разложения.
Такие убеждения понятны и неудивительны со стороны Запада, вообще незнакомого с Россией. Но они являлись странными и малопонятными со стороны тех русских иерархов, которые не только разделяли их, но даже основывались на них, когда говорили об отделении Церкви от государства, или о восстановлении патриаршества в России.
Русские Цари никогда не именовали Себя Главою Церкви и таковыми никогда не были. Связь же Русских Самодержцев с Церковью обусловливалась не узурпацией государством прав Церкви, а вытекала из природы Русского Государства как единственного в мире государства феократического.
ГЛАВА 48. Природа Русского Самодержавия
Русское Самодержавие есть не политическая, а религиозная идея.
В то время, как в Западной Европе восторжествовал принцип парламентаризма, и республиканская власть, как результат бездушного арифметического большинства, по природе своей не имеющая совести и потому не могущая подлежать воздействию Церкви, постепенно вытесняла христианские начала из государственной жизни, – только в одной России христианская государственность сохранялась свято и нерушимо.
Христианский Монарх – это не только самая совершенная, но и единственная форма Божеской власти на земле. Это – Боговластие, не имеющее никаких точек соприкосновения ни с народовластием, ни с иными формами и видами многоразличной земной власти и существовавшее до революции только в России.
Вот что мы читаем в превосходной статье г. Н.Дивеева "Помазанник Божий", напечатанной в "Еженедельнике" от 13/26 августа 1923 года, № 102:
"...Только на Руси, как в древней Византии, Царское венчание сопровождается таинством Миропомазания; на западе лишь в Англии совершается миропомазание королей, но Английская Церковь ни признает за миропомазанием таинства Богоустановленного – там это только обряд. Миропомазание наших Государей не есть восьмое или какое-либо новое таинство, но высшая степень Миропомазания. Совершается Царское венчание и Миропомазание так.
При вступлении Их Величеств в Успенский собор певчие поют умилительный псалом: "Милость и суд воспою Тебе, Господи..." Государь и Государыня прикладываются к местным иконам, а потом, взойдя на трон, садятся. Тогда первоприсутствующий митрополит, по древнему обычаю, приглашает Его Величество вслух всех подданных исповедать православно-кафолическую веру: "Како веруеши?" Государь встает и громко произносит Символ веры. "Благодать Пресвятаго Духа да будет с Тобой", – говорит ему митрополит. Следует великая ектения, в которой св. Церковь от лица всех верноподданных испрашивает у Царя царствующих благословления небесного на главу Царя земного и всех даров Духа Божия, необходимых ему в предстоящем великом служении; св. Церковь просит Царю премудрости и силы, благопоспешения во всем и долгоденствия, чтобы услышал Его Господь в день печали и защитил Его, чтобы ниспослал Ему помощь Свою и заступил Его, чтобы неподкупны были суды Его, чтобы грозно было оружие Его врагам отечества и пали под ноги Его все враги и супостаты... После ектений поется тропарь: "Спаси, Господи, люди Твоя..." и читается паремия из книги пророка Исаии. После паремии возглашается прокимен: "Господи, силою Твоею возвеселится Царь..." и читается Апостол, в котором св. Павел учит о повиновении властям предержащим, о том, что царская власть происходит от Бога и потому всякий противляющийся царской власти сопротивляется повелению Самого Бога. За Апостолом следует чтение Евангелия, в котором из уст Самого Господа Иисуса слышится заповедь: "Воздадите кесарево Кесареви..." После Евангелия митрополиты подносят Государю Императору царскую порфиру, и Государь возлагает ее на себя при их содействии, причем первенствующий митрополит произносит: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь". Его Величество преклоняет главу, а первенствующий митрополит, осенив ее крестным знамением, возлагает на нее крестообразно руки и читает молитву, в которой просит Господа, чтобы удостоил Своего верного раба, Государя, священного Миропомазания подобно Давиду, который приял помазание от Самуила пророка, чтобы облек Его Своею силою Божественною для великого подвига царствования, чтобы явился Он твердым хранителем догматов веры православной и, совершив свое царское служение на земле, удостоился быть наследником небесного царства. Вслед за тем митрополит подает Государю Императору корону, и Он возлагает ее на Свою главу, а митрополит произносит: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь..." Потом первосвятитель говорит Его Величеству: "Благочестивейший, Самодержавнейший, Великий Государь Император Всероссийский, видимое сие и вещественное главы Твоея украшение явный образ есть, яко Тебе, Главу Всероссийскаго народа, венчает невидимо Царь славы Христос благословлением Своим благостным, утверждая Тебе владычественную и верховную власть над людьми Своими". Подобным же образом митрополит подает Его Величеству в десницу скипетр, а в шуйцу державу, говоря, что они служат видимым знаком данной Ему от Бога власти самодержавной. Облеченный во все знаки царского достоинства Государь садится на своем Царском престоле. Вскоре потом Он приглашает к Себе Свою Августейшую Супругу. Она подходит и становится пред Ним на колена. Государь снимает с Себя корону, касается ею главы Государыни и снова возлагает ее на Свою главу. В это время подносят меньшую корону, которую Государь и возлагает на главу Императрицы. Подают Ему порфиру и бриллиантовую цепь: Он ту и другую возлагает на Свою Августейшую Супругу, после чего Императрица встает и отходит на свой престол. Следует провозглашение многолетия. Богом венчанный Государь отдает скипетр и державу ближайшим сановникам и один за всех преклоняет колена пред Господом и вслух всех читает молитву... Как трогательна эта молитва Царская, в которой Он смиренно благодарит Господа за Его неизреченные к Нему милости и подобно древнему Царю Соломону взывает: "Да будет со мною приседящая престолу Твоему премудрость. Посли ю с небес святых Твоих, да разумею, что есть угодно пред очима Твоима и что есть право в заповедях Твоих!.. Буди сердце мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных мне людей и к славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово..." По окончании молитвы Государь встает, а вся церковь, все верные его подданные в свою очередь становятся на колена и первосвятитель от лица всех произносит молитву – ту самую, которая ежегодно потом повторяется на молебном пении в день восшествия на престол и в день воспоминания коронации Государя. Так утверждается союз Царя с Его верными подданными, утверждается молитвою Царя за подданных и подданных за Царя. Так еще более скрепляются узы любви пред лицом Божиим обетом царского служения благу народа и послушания подданных своему Богом данному Государю... Остается Богом избранному Самодержцу облечься силою Духа Божия в священном Миропомазании и соединиться с Самим Господом в таинстве св. Причащения, и это совершается на Божественной литургии. Во время причастного стиха два архиепископа идут к трону Государя и приглашают Его приблизиться к Царским вратам. Государь идет в порфире. Тогда первенствующий митрополит берет сосуд, помазывает Его Величество св. Миром на челе, очах, ноздрях, устах, ушах, персях и руках, произнося: "Печать дара Духа Святаго", а второй митрополит отирает места помазания. В это время происходит звон и 101 выстрел. Государь отходит к иконе Спасителя. Приближается Государыня и митрополит помазует Ее только на челе. Она отходит к иконе Богоматери. Тогда Первосвятитель вводит Помазанника Божия чрез Царские врата во св. алтарь: здесь Государь делает поклонение св. Престолу и приемлет от руки митрополита св. Причащение: особо Тело, и особо Кровь Христову, как приобщаются священнослужители. Государыня Императрица причащается в Царских вратах по обычаю...
В этом таинственном обряде сказывалась вся особливость Православной Монархии. Восточные деспоты правили во имя собственного произвола; государи Запада – во имя мнимой народной воли; наш Самодержец – во имя Христа, как послушный раб Его и исполнитель Его Божественных велений, как руководимый Духом Божиим в силу благодатного таинства Миропомазания при венчании на Царство.
Вот основа и опора нашего государственного бытия. Забыли мы о значении Великого таинства Помазания на Царство, стали увлекаться примерами впавшего в материализм Запада, утратили отечественную самобытность и оказались в бездне..."
Что можно прибавить к этим прекрасным словам?
Разве лишь указать на то, что забыли об этом не только "мы", под каковым словом автор, вероятно, разумеет русскую интеллигенцию, но и вожди ее, пастыри и архипастыри Церкви. Еще совсем недавно один из иерархов писал мне, что "Господь покарал Государя и Государыню как некогда праведнейшего Моисея, и отнял у них царство, что они противились Его воле ясно выраженной Вселенскими Соборами касательно Церкви", причем такой упрек был брошен Монарху в связи с отношением Государя к вопросу о восстановлении патриаршества.
Нет, не Царя покарал Господь, а покарал Россию, отняв у нее Своего Помазанника, покарал и официальную Церковь в лице иерархов, дождавшихся Патриарха и очутившихся пред дилеммою: подчиняться ли его указам и велениям как выражениям воли Божией, или не подчиняться, усматривая в них выражение воли сатанинской.
Нет нужды доказывать, насколько брошенный упрек несправедлив в отношении Праведного Царя Николая Александровича, Который не только ни в чем не обнаруживал склонности к цезаропапизму, но даже тяготился короной и мечтал о принятии монашества. Однако упрек характерен в том отношении, что говорит о том, как в действительности относились к таинству Миропомазания Царя даже те иерархи, которые принимали участие в священном короновании Государя. Не только иерархи, но даже священники говорили мне, правда, только после революции, что они все помазанники Божии, а на мои возражения отвечали оскорбительными ссылками на подхалимство и заискивание пред "мирской" властью, какую дружно высмеивали, с тем чтобы теперь плакать и каяться в собственной гордости и неразумии.
ГЛАВА 49. Происхождение власти
На чем же основана вера русского народа в ктиторство Царя?
На этот вопрос дает ответ один из русских ученых в своем письме ко мне от 3/16 августа 1923 года.
"В душах человеческих, – пишет он, – искони было заложено сознание, что править людьми на благо им может только Бог, чрез избранных Им мудрых и вдохновенных мужей. Это сознание мы находим у всех языческих народов, как бы различны ни были их верования и какие бы имена ни носили их божества. Отсюда произошла та форма земной власти, которая называется боговластием, или феократией. Носителем верховной власти является Бог, на земле Его власть осуществляют слуги Божии – жрецы или священники. Такая форма власти существовала и у древних евреев до призвания на царство Саула. Но параллельно, с древнейших времен, появлялись многие другие формы власти, как бы независимые от Бога и Его служителей. Аристотель перечисляет и характеризует с необыкновенной обстоятельностью и точностью различные типы государственной власти. Его определения так хороши, что и теперь их нельзя заменить какими-нибудь лучшими. До появления христианского учения различие между боговластием и иными типами власти в точке их происхождения было смутно и неясно. Евангелие принесло ключ разумения. Основным евангельским текстом по этому вопросу является рассказ евангелиста Луки о втором искушении Христа Спасителя сатаною: "И, возведши Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: "Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи" (Лук. 4, 5 – 8; Второзак. 6, 13).
Перед лицом Господа нашего Иисуса Христа диавол смело и открыто утверждает, что власть над земными царствами отдана в его распоряжение и что он, по своему усмотрению, передает ее тому, кто ему поклоняется. Христе не отрицает утверждения диавола и этим как бы признает права диавола на распоряжение земною властью, однако, будучи в этот момент человеком, тем не менее не соблазняется блеском и славою царского величия, отказывается поклониться диаволу и, очевидно, в поучение самому диаволу повторяет ветхозаветную заповедь о нераздельном служении Богу, исключающем всякое иное поклонение. Христос как будто хочет напомнить диаволу, что он, диавол, – тварь, что предмирное происхождение его известно Христу ("Я видел сатану, спадшаго с неба, как молния" – Лук. 10, 18) и что он по временам обязан представать пред Господом ("Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана предстать пред Господа" – кн. Иова 2, 1). Христос мог бы еще пространнее сказать диаволу: "Ведь ты знаешь, что Я – Сын Божий; на Моих глазах ты был низвергнут с неба за гордость и противление Богу; как же ты осмеливаешься только потому, что видишь Меня в человеческом образе, предлагать Мне поклониться тебе, соблазняя Меня привлекательностью земной власти". Христу не нужно было тратить столько слов, потому что Он одним взором мог дать понять диаволу всю Свою мысль.
С другой стороны, в евангелиях немало имеется указаний на властность Иисуса Христа: "Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи" (Матф. 7, 29). "Слово Его было со властью" (Лук. 4, 32). "Кто это, что и ветры и море повинуются Ему?" (Матф. 8, 27). "Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи" (Матф. 9, 6). "Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней" (Лук. 9, 1). Можно было бы продолжать цитаты, но и приведенных достаточно. Христу принадлежала власть над людьми, направленная всецело к их благу. Сатане предоставлено было облекать властью отдельных лиц на гибель их самих и на горе управляемых ими народов. Вот точка происхождения власти, освещенная светом Христовым, по словам Христа: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет во тьме, но будет иметь свет жизни" (Иоан. 8, 12). После крестной смерти Христос передал Свою власть Церкви (Матф. 10, 1; 16, 18 – 19; 18, 18; Лук. 22, 31 – 32; Иоан. 21, 15 – 17).
Из различного понимания указанных евангельских текстов возникли две формы христианской феократии: западное папство и восточная соборность. Вся древняя и средневековая история Европы и прилегающих к Средиземному морю частей Азии и Африки со времени появления христианства прошла в том, что последователи Христа стремились христианизировать лиц, облеченных от диавола земной властью. Вот в чем смысл крещения Константина и разных средневековых варварских королей. Помните слова Иоанна Богослова: "Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола" (Иоан. 3, 8).
Папы трудились над торжеством западной феократии, пока она не дошла до зенита в лице Иннокентия III, а Соборы устраивали по христианскому идеалу власть византийских императоров... Сижу я теперь без библиотеки, а то я выбрал бы Вам факты из великолепной книги В. Герье: "Расцвет западной феократии", из книг Ю. Кулаковского о Византии и других.
Со времени Владимира Святого русская Церковь стремилась охристианить власть сначала русских князей, а потом московских царей. Сатанинское начало власти обезвреживается и уничтожается, если над носителем власти совершается священное миропомазание. Тогда власть обращается на служение Богу и должна подчиняться велениям Церкви. Поэтому в христианском государстве главою его может быть только человек, исповедывающий Христа и от полноты сердца исполняющий заповеди Христовы. Как живой член Церкви, он должен жить ее жизнью, следовать ее заветам, чтить служителей Божиих и заботиться о земном благополучии Церкви. Таким образом, наилучшее определение задач христианской власти в названии ее ктиторством. Носитель власти (князь, король, царь, император, вообще монарх, а не безвластный президент республики – une machine a souscrire) – ктитор Церкви. Поведение его направляется уставами Церкви, а попечение о земных нуждах Церкви лежит на его обязанности. Государство, не верующее во Христа, без помазанного носителя власти, внецерковное, – непременно, по самой природе своей, явится сатанинским. Оно будет бороться с Церковью (как боролись со времен французской революции все западные демократии) и вообще будет руководиться не началами любви, а началами злобы, ненависти, зависти, лжи. По своей сатанинской природе оно и не может поступать иначе. Вся деятельность его будет проникнута сатанизмом. "Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего" (1 Иоан. 3, 10). Царь Алексей Михайлович "тишайший" является законченным типом восточного православного царя (в Малороссии в 1654 г. говорили: "Волим под царя восточнаго православнаго"). Власть русского императора, в ее теоретическом построении, как доказал одесский профессор Казанский в своей огромной книге "Власть русского императора" – идеальное внешнее выражение христианской власти.
Но сатана сохранял свои права и работал в своем направлении. Орудием его работы были его дети – жиды, о которых Христос сказал: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца[17] от начала, и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он лжец и отец лжи" (Иоан. 8, 44). Сатана, окончив искушение Христа, отошел от Него до благоприятного времени (во французском переводе: jusqu'a im moment favorable; в немецком: bis zu einer gunstiger Gelegenheit). Вскорости через жидов он начал отвоевывать завоевания христиан. В борьбе германских императоров с папами, несмотря на Каноссу, уже рисуются перспективы будущего. Потом пришли: протестантство, деятельность Кромвеля, развитие масонства, французская революция. И на Западе, и на Востоке – боговластие (феократия) рушится, сатанинские начала берут верх, из всех щелей лезут революционно настроенные жиды. Явно дух Христа слабеет, а дух сатаны – усиливается; опять пришло его время. Наконец мы переживаем полный расцвет сатанинской государственности, свергшей государственность христианскую. В России устроилось настоящее жидовско-сатанинское государство и полная осязаемость и непреложность этого факта все более и более входит в общее сознание.
Кажется, только сами русские недостаточно еще прозрели и продолжают доверять тем разнообразным вывескам, которыми прикрыли себя жиды: "большевики", "третий интернационал", "российская коммунистическая партия", "рабоче-крестьянская власть", "советы", "эресефесер" и т.д. Находятся даже русские, которые учреждают в Париже "Лигу борьбы с антисемитизмом в России". Лучше других поняли сущность дела наши ближайшие соседи на западе – поляки.
Недавно польский публицист Антоний Холоневский напечатал в газете "Rzecz Pospolita" (№ 159 от 13 июня с.г.) отличную статью о жидовском государстве, построенном на развалинах России. Охарактеризовав нынешний фазис жизни русского народа как колоссальный процесс гниения, автор подчеркивает, что начало этому процессу положили не какие-нибудь ходящие на двух ногах бестелесные доктрины, а люди с костями и кровью – жиды. Над достижением этого гниения работали жидовские мозги, одни из самых старых мозгов на свете. "Из выдающихся деятелей большевизма, – привожу слова Холоневского, – только Ульянов (Ленин) да еще два или три человека – по происхождению как-будто арийцы. В составе советского правительства заседают преимущественно жиды. Всё это вещи общеизвестные. Европейские газеты неоднократно перечисляли Бронштейнов, Нахамкесов, Собельзонов и иных им подобных жидов, надевших русские маски. Советскими комиссарами, тучи которых шныряли и свирепствовали в Польше во время нашествия в 1920 г., были в огромном большинстве случаев жиды. Одним словом, мозг большевизма – это мозг жидовский." Антоний Холоневский не упомянул еще о преобладании жидов в "советской" дипломатии. За спиной старого, больного неврастеника Чичерина руководят в комиссариате иностранных дел Финкельштейн (Литвинов) и Вайнштейн. Последний, между прочим, написал дерзкую ноту Англии, впечатление которой сглаживал недавно перед лордом Керзоном вездесущий Красин. Жид Иоффе (Крымский) подвизается в Азии. Он подготовил раскрытый в начале июня с.г. грандиозный коммунистический заговор в Японии, а сейчас суетится и старается разводить смуту в Китае.
Далее Холоневский перечисляет, чем обязана Россия жидам: своими нелепыми декретами о землепользовании и продуктовом налоге они подорвали производительность русского сельского хозяйства и довели население до людоедства и голодной смерти; запрещением работать свыше дозволенной нормы они уничтожили русскую промышленность; для ста миллионов людей они устроили публичный дом вместо семьи; преследуя христианство, они искореняют в населении всякое нравственное чувство и приводят его в скотское состояние. Все эти преступления обязательно должны быть записаны на счет жидовства. Все человечество должно знать, что жиды, захватившие власть над одной его частью, заразили ее гангреной и грозят остальным его частям таким же заражением и если не физическою смертью, то задержанием роста, вырождением и моральным упадком. Позорные лавры жидовства не должны быть скрыты в тумане лживых слов. Каждый грамотный человек на свете должен знать и понимать, до чего безгранично преступна жидовская власть в России.
''Как же могло образоваться в наши демократические времена жидовское государство, не имея под собою широких нижних слоев жидовского населения?" – спрашивает А. Холоневский. – Для творчества жидовского духа в этом нет ничего нового.
Четыре тысячи лет тому назад приблизительно таким же образом, как теперь в России, устроили себе жиды государство в "земле обетованной" – в Палестине, подчинив своей власти иноплеменных туземцев. В древнееврейском государстве, о котором обыкновенно мы получаем в школе совершенно ложное представление, жиды были только правящим сословием, работали же на них аморреи, хеттеи, фарезеи, хананеи, евеи, иевусеи и гергесеи, бывшие до появления жидов исконными обладателями своих стран и управлявшиеся своими национальными царями и своей народной аристократией. Библейские тексты рисуют нам ход событий, почти совпадающий с русскою действительностью.
1. Из повествования книги Иисуса Навина видно, что, овладевая постепенно Палестиной не столько открытой военной силой, сколько обманными способами (напр., с помощью блудницы Раав и труб Иерихонских и, наверное, не без лозунгов коммуны), жиды истребляли местных царей и те группы людей среди живших там племен, которые могли давать им отпор, т.е., главным образом, правящую и военную интеллигенцию, "людей сильных" – умственно и имущественно (Иис. Нав. 6, 1), "буржуев", "мозг народа". Жестокой исступленной кровожадностью звучат слова упомянутой книги: "И убил их (пять царей), и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера" (Иис. Нав. 10, 26); – "И поразил их мечем, и предали заклятию их и все дышащее, что находилось в нем (в г. Давире); никого не осталась, кто уцелел бы" (Иис. Нав. 10, 39); – "И побили все дышащее, что было в нем (в г. Асоре), мечем, все предав заклятию; не осталось ни одной души" (Иис. Нав – 11, 11). – "Людей же всех перебили (в городах) мечем, так что истребили всех их; не оставили из них ни одной души (Иис. Нав. 11, 14).
2. Имущество истребляемых "сильных людей" жиды присваивали себе: "А всю добычу городов их и весь скот разграбили сыны Израилевы себе" (Иис. Нав. 11, 14). Иисус Навин говорил жидам от имени Бога Израилева: "Дал я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды" (Иис. Нав. 24, 13).
3. Людей, обнищавших после ограбления, и людей ремесленного и земледельческого труда жиды не истребляли, а обратили их в своих данников и оброчных работников. Об этом говорится так в книге Судей Израилевых: "Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он Хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал Хананеев... и они платили им дань. И Завулон не изгнал жителей Китрона... и они платили им дань. И Ассир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дань. И Неффалим не изгнал жителей... земли той; жители же Вефсамиса и Бефанафа были его данниками... Рука сынов Иосифовых одолела Амореев, и сделались они данниками им" (Суд. Изр. 1, 28 – 35).
О Соломоне повествуется: "Весь народ, оставшийся от Амореев, Хеттеев, Ферезеев, Хананеев, Евсеев, Иевусеев и Гергесеев, которые были не из сынов израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками; но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников" (3 Цар. 9, 20 – 22).
Вот картина древности, которая получает особенную яркость и жизненность при сравнении ее с тем, что наблюдается сейчас в России: тут жиды истребили не менее двух миллионов служилой интеллигенции, офицерства, земельного дворянства и зажиточного крестьянства подлинно русской крови ("людей сильных" – умственно и имущественно) с Императорской семьей во главе. Десятки тысяч жидов живут не только в домах, но даже во дворцах, которых не строили, и если не едят поголовно плодов из виноградных и масличных садов, то только потому, что климат России не позволяет таким садам произрастать; зато они по горло сыты тем, что дает русская земля, в то время как не менее сорока миллионов русских погибло от голода; весь русский народ жиды обратили в крепостное состояние, гоняя всех обывателей на принудительные работы ("всеобщая трудовая повинность") и облагая их данью в виде непомерных и бесконтрольных налогов.
История не знает подробностей сожительства жидов с туземцами Палестины: аморреями, хеттеями и пр., но по аналогии с Россией, можно о них догадываться. Наверное, были чрезвычайки, исполкомы, совнархозы и иные измышления жидовского ума, но только под другими названиями. В результате исторического процесса оказалось, что все палестинские туземные племена исчезли, а жиды живут и нашли себе новую "землю обетованную" – Россию. За сорок веков не изменились ни стильные жидовские физиономии, ни способы их политических действий. Русскому народу, если он не решится быстро сбросить с себя жидовское иго, грозит судьба палестинских племен, т.е. полное исчезновение.
"Народных Комиссаров" можно сравнить с "судиями Израилевыми", но жиды подумывают уже о новом Соломоне. В Совдепии усиленно распространяется легенда, будто Лейба Давидович Бронштейн самим Богом предназначен в русские цари.
Таково жидовско-сатанинское государство, создавшееся на месте бывшей России. В Германии, во Франции, в Англии, в Северной Америке – к тому идет. Я только что закончил чтение американской книжки, переведенной с английского на польский язык: "Международный Жид" (2 тома). Ужас охватывает при ознакомлении с теми фактами антихристианской деятельности жидов в Америке и Европе, которые там изображаются. Книга написана очень спокойно "холодным" христианином, но факты говорят сами за себя. Между прочим, в ней есть несколько глав, посвященных проверке "Протоколов" совершившимися фактами. Впечатление получается неотразимое. Это прямо чудо, что С.А. Нилусу удалось опубликовать документы столь мировой важности.
Каким же образом, ссылаясь на сатанинское происхождение власти и указывая на господство сатанизма в наше время, сочетать слова Апостола Павла: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены" (Рим. 13, 1)?
Еще Апостол Петр заметил, что в посланиях Ап. Павла, несмотря на всю его премудрость, "есть нечто неудобовразумительное", или, как лучше сказано во французском переводе: "il y a des points difficiles a comprendre" (2 Петр. 3, 16). Таким местом, трудным для понимания, является вышеприведенное наставление относительно власти, столь любимое ленивыми умами наших иерархов, начиная с Филарета Московского. Патриарх Тихон тоже имел его в виду, примиряясь с московскими жидами. Христианская совесть никак не может согласиться с мнением Ап. Павла, ибо в Евангелии от Луки в рассказе об искушении Христа сатаною, о происхождении власти говорится совершенно иное. Из заявления диавола совершенно ясно, что власть над людьми есть собственно прерогатива диавола (ему передана, вручена, с соизволения Бога-Творца... видимым же всем и невидимым). Ап. Павел очень ошибался, когда писал: '"Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее" (Рим. 13, 3). Таким образом, Ап. Павел смотрел односторонне, предполагая, что власть стоит всегда на стороне добра, охраняет благо. Ап. Павел в эту минуту упустил из виду, что всеобщее человеческое согласие на зло так же возможно, как и согласие всех на добро. По замыслу сатаны, который дает власть кому он хочет (Лк. 4, 6), власть может быть организована на зло. Начальствующие, как сейчас жиды в России, могут быть страшны не для злых дел, а для добрых. Власть, как жидовско-большевическая, может требовать: делай зло и получишь похвалу от меня; нарушай Божеские заповеди – убивай, кради, прелюбодействуй (отвержение церковного брака), лжесвидетельствуй (в отношении контрреволюционеров), желай чужого ("в борьбе обретешь ты право свое", "мир хижинам, война дворцам") – этим ты заслужишь благоволение власти. Буквально такая власть теперь в России. Очевидно, в сознании Ап. Павла в то время, когда он писал свое послание к Римлянам, не явилось представления о возможности такой власти. Ап. Павел, как большинство его современников, высоко ценил римскую власть и советовал новым христианам беспрекословно ей подчиняться, благодаря за нее Бога. Сам Ап. Павел в других посланиях выражает иные мнения: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?" (2 Кор., 6, 14). "Их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном" (социалисты всех толков). Начальники такой власти – не Божии слуги, а, напротив, слуги сатаны. Такая власть, будучи воплощением сатанинских начал, "ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1 Петр. 5, 8). Живя в Одессе под большевиками, я именно испытывал такое чувство, как будто по улицам города мечется "рыкающий лев", глотающий кого попало. Рычание автомобилей, усаженных вооруженными чекистами, наводило панический страх, как рев льва где-нибудь в пустыне. Подчиняться такой власти не довлеет христианину, и он должен стремиться устранить ее. В этом смысле и величие средневековых "крестовых" походов.
Как половое сожитие только после благословения Церковью становится браком, так и власть делается приемлемой для христианина только после помазания ее носителя. Венчание монарха с обязательством его следовать велениям Церкви снимает с власти ее сатанинское происхождение, освящает ее и дает верующим уверенность, что власть будет действовать на добро. О таком носителе власти можно сказать словами Ап. Павла: "Начальник – Божий слуга, тебе на добро" (Рим. 13, 4).
Отчего же у Ап. Павла мог вылиться из-под пера такой неправильный взгляд на власть, тем более что христианской правительственной власти в то время еще нигде не было. Я объясняю себе это так.
Ап. Павел писал к Римлянам, т.е. к немногим жителям г. Рима, обращенным уже в христианство. Под "властью" он подразумевал римскую власть, власть римского императора, о которой, как увидим, был самого высокого мнения. Действительно, римская власть, хотя и языческая, была организована, вопреки намерениям сатаны, на добро и приветствуема всеми странами тогдашнего культурного мира (pax romana), как высшее благо. Отражение всеобщей радости установления императорской власти Августа мы находим даже в рождественских песнопениях.
Счастье римских граждан было в том, что императорская власть Августа и Тиберия, хотя и не помазанная Богом, все-таки служила добру, водворяла везде законность и справедливость. Римское право – это величайшее создание арийского гения, как и христианская религия, с которой оно впоследствии сочеталось. Сам Ап. Павел гордился своим званием римского гражданина и так верил в справедливость власти римского императора, что для себя потребовал от Феста суда Кесарева: "Требую суда Кесарева!" И Фест должен был ответить: "Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься" (Деян. 25, 11-12). Поэтому христианин должен понять слова Апостола Павла к Римлянам не как вечный его завет на все времена, а как временное наставление именно Римлянам, т.е. жителям того великого города, где тогдашняя мирская языческая власть была направлена на добро. Наверное, Ап. Павел иначе выразился бы о власти Ирода, который поднял руки на некоторых из принадлежащих к Церкви, чтобы сделать им зло (Деян. 12, 1). Власть Ирода была злая, и начальники, ею поставленные, были, конечно, слугами сатанинскими, а отнюдь не Божьими. Сам Ирод был заживо съеден червями (Деян. 12, 23).
Тем более большевики являются исчадиями сатаны, с которыми у христиан не может быть никакого общения. Вот почему меня так возмущают такие архиереи, как Антонин, Евдоким, Владимир Путята, Тихон (кажется, Курский), которые или не отдают себе отчета в том, что они делают, или умышленно идут на компромиссы с большевиками из-за личных интересов.
Россию, – заканчивает автор этого интересного письма, – исцелила бы только христианская государственность, но дождемся ли мы ее когда-нибудь при той страшной силе, какой обладает в настоящее время "международный жид"?!"
ГЛАВА 50. Православная Церковь в России до революции
В России православная Церковь занимала не только совершенно отличное от Западной Европы, но и единственно соответствующее ей, как Божественному Установлению, положение, вытекавшее из христианских основ русской государственности. Нарекания на подавление Церкви государством, на пленение и гнет, на оковы рабства и пр. и пр. – все это отражало или невежество и незнакомство с государственными основами Православия в России, или сознательные революционные приемы со стороны тех, кто стремился к развалу, как государства, так и Церкви. Доказывать это положение, после приведенных мною в предыдущих главах иллюстраций, едва ли нужно.
Однако и до сих пор, несмотря на ужас положения православной Церкви в России в настоящее время, точнее, несмотря на окончательное уничтожение Церкви как государственного организма, не все в равной мере убеждены в благодетельности церковных реформ Петра Великого, не все в равной мере оценивают их с верных точек зрения. И до сих пор некоторые иерархи называют Великого Петра – "Первым Большевиком" и проклинают синодальную систему управления.
"Общепризнанные" истины имеют привилегию не оспариваться, их попросту повторяют, не стараясь даже рассмотреть их сущность и содержание. К числу таких истин относится и та, какая связывает все беды и несчастия, обрушившиеся на православную Церковь, с обер-прокуратурою, как средоточием того зла, какое угнетало Церковь, держало ее в оковах и лишало свободы.
Но такие утверждения в корне неверны и опровергаются не только историей, но и, что гораздо важнее, самой сущностью Православия как Божественной истины, какая вечна и незыблема и не может зависеть от человеческих влияний. Реальная сила каждой истины заключается не в ее признавании, а в ее исповедании, без которого немыслимо ее действие. И нет той человеческой силы, какая бы могла не только сокрушить Божественную истину или уменьшить ее значение и влияние, но и не склониться пред нею. В этом смысле Церковь, даже с точки зрения своей внешней организации, могущественнее государства, если является носительницей чистоты Божественной истины и воплощает ее собою. И это доказали те подвижники Церкви, которые вели за собою верующих и были могущественнее всех царей, патриархов и земных владык.
Иерархи Церкви, не исключая и наиболее искренних противников синодальной системы, конечно, отлично знали, что ссылки на оковы и рабство, в коих Церковь находилась 200 лет, на отсутствие свободы духа и пр. и пр. – все это только ходячие фразы, выдуманные честолюбцами и повторяемые прогрессивной общественностью, что в действительности никакого гнета со стороны обер-прокуратуры не было и не могло быть – как потому, что ее представители были часто не только более образованными, но и более верующими сынами Церкви, чем сами иерархи, так и потому, что участие обер-прокуратуры в области чисто церковного управления было фикцией и ни в чем не выражалось, а вся деятельность обер-прокуроров Синода сводилась лишь к контролю синодальных чиновников, кадетствующих семинаристов, к добыванию средств на содержание ведомства, да к скучной канцелярии. Вся же церковная работа велась иерархами, и даже о соглашении с обер-прокурором, имевшим право возражать по существу тех или иных синодальных постановлений, но никогда не осуществлявшим такого права, не могло быть и речи... Вносимые иерархами предложения принимались столь же дружно и единогласно, как дружно и единогласно пресекались попытки обер-прокурора вносить те или иные поправки и замечания. Синодальные постановления скреплялись трафареточным "читал", даже без подписи обер-прокурора или его товарища и подносились последним уже после того, как были подписаны всеми членами Синода, и синодальная обер-прокуратура давно перестала быть тем, чем должна была быть по мысли законодателя.
Нет, дело не в обер-прокурорах, боровшихся с рутиной и бывших почти единственными вдохновителями и проводниками в толщу жизни всякого рода церковных начинаний, любивших и оберегавших Церковь и пребывавших в теснейшем духовном общении с лучшими из иерархов, а в самом принципе преобладания (?) государственной власти в Христовой Церкви.
В чем же выражалось "преобладание" этого принципа в России?
Действительно ли церковная жизнь России тяготилась таким "преобладанием" и возможно ли вообще указывать на преобладание этого принципа в России, государстве, основанном на совершенно особых началах и осуществлявшем принципы боговластия, а не народовластия?
Казалось бы, что одно указание на природу русского Самодержавия, в отличие от парламентного строя, было бы достаточным для того, чтобы усматривать в самом понятии "государственной власти" различное содержание в зависимости от существа и характера того или иного государственного строя. Содержание "государственной" власти в России было иным, чем на Западе, и по отношению к России такое "преобладание" выражалось не в подавлении церковности государственностью, а в преимущественных заботах и попечениях государства о материальном благоденствии и духовном процветании Церкви.
И лучшим свидетельством этого положения являются именно церковные реформы Петра I.
Чем были вызваны эти реформы, какая идея лежала в основании синодальной системы церковного управления?
Только ли каприз самовластного восточного деспота, или сведение личных счетов с неугодившим ему Патриархом, или замаскированное безверие, посягнувшее на свободу Церкви и отдавшее ее под опеку государства?
Нет, строились Петром Великим церковные реформы на гораздо белее глубоком основании. В царствование Царя Алексея Михайловича линии церковной и государственной жизни сливались, жизнь являла собою трогательное единение между Церковью и государством, церковность объединялась с государственностью, проникая в толщу государственной жизни и христианизируя ее. Но такое явление было случайным и обусловливалось только личностью Царя и Патриарха.
Такое основание было шатким. Благоденствие Церкви и государства не может покоиться только на личности Царя и Патриарха, и вот почему Император Петр Великий провозгласил и провел в жизнь принцип не только морального, но и юридического единения между ними. По мысли Императора, интересы Церкви и государства не только могли, но и должны были слиться друг с другом, ибо у государства феократического должны были быть общие с Церковью программы, общие задачи и цели. Здесь было не посягательство на права Церкви, а убеждение, что только христианская государственная власть в состоянии сохранить и обеспечить эти права.
И совершенно прав г. Дивеев в своей статье "Блюдите Церковь Христову" (Еженедельник, 16/29 июля 1923 г., № 99), когда, останавливаясь на церковных реформах Петра и подчеркивая Его мысль о неразделимости в христианском государстве церковных и государственных задач и необходимости иметь единый церковно-государственный план, говорит:
"В этом своем убеждении Петр был вместе со Вселенскими Соборами, вместе со всей традицией Византии. Если православный Император Византийский председательствовал на Вселенском Соборе, утверждал его постановления, даже самый Символ Веры, назначал и удалял Патриархов, имел вход в Царские врата, если Византийский Патриарх для церковного богослужения облачался в одежды Императоров и принимал действенное и непременное участие в делах государственных, то как можно утверждать, что Богопомазанный Император Всероссийский не имеет права заниматься делами Церкви?
Лютеранствующая и англиканствующая школа наших современных церковников затмила великий смысл Богопомазания православных царей. Недавно на одном из религиозных собраний пришлось услышать из уст православного иерарха, что Помазание на царство есть лишь пережиток библейского обряда и что Богопомазание не имеет больше значения, чем елеопомазание, совершаемое над верующими в известные праздники. Не удивительно, что следующие по стопам подобных архипастырей церковники с настойчивостью твердят о свободной от монархии Церкви и восхваляют блага церковной "аполитичности"...
Но и независимо от исторических обоснований Петр Великий руководствовался и чисто практическими соображениями, желая дать Церкви ту государственную опору, без которой она, как земное учреждение, разумеется, существовать не могла. В этом заключается идея церковных реформ Петра Великого, в этом был и залог процветания Церкви в России. И что бы ни говорилось и ни писалось по поводу означенных реформ, как бы тяжки ни были обвинения Петра в произволе и насилии, но факты без слов опровергают их. Синодальный период церковной жизни был эпохою наибольшего расцвета Церкви в России.
Об этом безмолвно свидетельствуют прежде всего причтенные к лику святых величайшие подвижники Церкви этого периода: Митрофаний Воронежский и Иннокентий Иркутский, Иоасаф Белгородский и Димитрий Ростовский, Феодосий Углицкий и Питирим Тамбовский, Серафим Саровский и ожидающие прославления Филарет и Макарий Московские, Филарет Киевский и незабвенный молитвенник Земли Русской Иоанн Кронштадтский, не говоря уже о бесчисленном сонме праведников, коими так богаты были наши монастыри и вся наша родная Русь, имевшая даже в своих деревнях и селах священников, подобных Алексею Колоколову, Алексею Гневушеву, коему я отвел несколько страниц в своем первом томе "Воспоминаний", и мн. др.
Однако ни от митрополита Макария и Иоанна Кронштадтского, ни от великих праведников, старцев Саровских, Оптинских, Валаамских и пр. и пр., я не слышал нареканий на синодальную систему, а, наоборот, слышал, что благоденствие Церкви связано с государственным правопорядком, что нужно беречь и любить Государя, охранять прерогативы Царской власти, ибо воля Царя выражает на земле волю Божию.
Не порабощение Церкви государством, не лишение свободы и гнет, не один только контроль государства над Церковью лежали в основе реформ Петра, а защита и охрана Церкви, составлявшая прямую обязанность Монарха как Божьего Помазанника и Ктитора Церкви.
При этих условиях принцип преобладания государственной власти в Христовой Церкви, абсолютно недопустимый в государствах парламентарных, где он стал бы выливаться неизбежно в формах, враждебных Церкви, приобретал в России и другой характер и другие выражения и не только оправдывался историческими причинами, но и являлся необходимым – как условие, обеспечивающее благо Церкви.
ГЛАВА 51. Отношение Русских Царей к Церкви
Остановимся теперь на личном отношении Русских Царей к Церкви.
Нужно заметить, что в России очень часто смешивают понятие "Церковь" с церковной иерархией, благодаря чему отрицательное отношение к личности иерархов часто рассматривается как неуважение к самой Церкви. Здесь недоразумение, ибо русский народ самый религиозный народ в мире, что не мешало ему подчас относиться критически к тем или иным представителям Церкви.
Как относились к Церкви Русские Цари?
Я уже указывал, что Русские Государи были преданнейшими сынами Церкви и не только связывали, но и обусловливали благо государства благом Церкви. В этом отношении Русские Монархи стояли на такой высоте, что даже злейшие враги России не могли им бросить упрека и поэтому отыгрывались лишь на "секуляризации церковных имуществ", допущенной Императрицею Екатериною II. Но в этом акте выразилось отношение Императрицы не к "Церкви", а к монашеской братии, личное же отношение Екатерины к Церкви нашло свое выражение в том акте, который уже был отмечен мною на странице 245 моего первого тома "Воспоминаний".
Отношение Императора Павла I к Церкви было таково, что только революция 1917 года прервала работы по Его канонизации, однако сознанием русского народа Император Павел давно уже причислен к лику святых. Дивные знамения благоволения Божия к Праведнику, творимые Промыслом Господним у Его гробницы, в последние годы пред революцией не только привлекали толпы верующих в Петропавловский собор, но и побудили причт издать целую книгу знамений и чудес Божиих, изливаемых на верующих молитвами Благоверного Императора Павла I.
Император Александр I отошел в историю с именем "Благословенного", и народная молва упорно отождествляет Его со старцем Феодором Кузьмичем, отшельником Сибирским, и видит в Нем святого. История не имеет достаточных оснований опровергать такую легенду, а, наоборот, склоняется к тому, чтобы признать в ней несомненный исторический факт, вытекающий из миросозерцания и настроения Благословенного Царя.
Премудрый Император Николай I провозгласил принцип: "Церковность – основа государственности" и проводил этот принцип неуклонно, с твердостью Ему свойственной.
Император Александр II, являвшийся воплощением трогательной любви Монарха к своему народу, Сам пал жертвою христианского долга к ближнему, Своему подданному.
Император Александр III отошел в историю с именем "Миротворца", являя своим царствованием пример и Христианского Монарха и великого христианина в частной жизни.
Царствование Императора Николая II даст Православной Церкви нового святого и в будущем будет оцениваться как "Житие Святаго Благовернаго Царя-Мученика Императора Николая Александровича".
Но, может быть, несмотря на Свои высокие личные качества, Русские Цари вмешивались в область церковного управления и выходили за пределы прав, отведенных Ктитору Церкви, может быть, если не сами Цари, то Их слуги, в лице обер-прокуратуры, злоупотребляли этими правами?
Нет, недовольство вызывал самый принцип синодального управления, представители же обер-прокуратуры были в подавляющем большинстве выдающимися церковными и государственными деятелями, с которыми лучшие из иерархов находились в теснейшем единении.
К.П. Победоносцев, знаменитый цивилист, автор приобретшего мировую известность "Курса Гражданского права", ближайший сподвижник Императора Александра III и воспитатель Императора Николая II, был одним из столпов русского самодержавия в эпоху его наибольшего расцвета.
B.К. Саблер, б. профессор Московского университета, был гораздо популярнее среди иерархов, чем среди мирян.
Князь А.А. Ширинский-Шихматов, также сподвижник Императора Александра III, принадлежал к числу тех немногих выдающихся церковных и государственных деятелей, которые, учитывая все чрезвычайное значение церковно-государственного единства в эпоху Царя Алексея Михайловича, старались вернуть церковно-государственную жизнь в ее прежнее русское русло. Глубокий знаток церковной истории, князь властною рукою срывал с церковной жизни все пристававшие к ней на протяжении веков чуждые ей наслоения, восстановляя подлинный облик ее в эпоху Св. Руси и встречая с этой стороны полную поддержку у благостного Государя Императора Николая Александровича, прямого продолжателя дела Царя Алексея Михайловича.
C.М. Лукьянов находился в теснейшем единении с иерархами, и его деятельность в качестве обер-прокурора Св. Синода приветствовалась даже ярыми противниками синодальной системы. Одни только синодальные чиновники, от которых Сергей Михайлович, будучи неутомимым тружеником и просиживая в Синоде до позднего вечера, требовал усиленной работы, относились к нему враждебно и, читая "Отче наш", заканчивали молитву Господню таким прошением: "...не введи нас во искушение, но избави нас от Лукьянова".
П.П. Извольский, один из великолепных представителей большого света, придворный кавалер, бывший товарищ министра народного просвещения, с определенным уклоном влево, назначение которого обер-прокурором Св. Синода трактовалось как случайное недоразумение, оказался на самом деле типичным представителем той среды, какая была и глубже и чище тех, кто, за покровом внешности, не угадал ее подлинной сущности и осуждал ее. Петр Петрович был не только церковным, но и истинно религиозным человеком, и ни изумительно быстрая служебная карьера, ни придворные связи, ни исключительное положение, какое он занимал в обществе, – не заглушили в нем той религиозной настроенности, какая в результате привела к принятию им священного сана. Свой жизненный путь он, бывший член Государственного Совета и гофмейстер Высочайшего Двора, заканчивает в скромной должности настоятеля православного храма в Брюсселе и в сане протоиерея.
Н.П. Раев был сыном бывшего Петербургского митрополита Палладия, родился и воспитывался в духовной среде и был насквозь проникнут церковностью, и, может быть, именно по этой причине вызывал к себе оппозицию, ибо духовенство вообще недолюбливает выходцев из их среды.
Остается сказать еще о А.Н. Волжине и А.Ф. Самарине, которые действительно были случайными людьми в ведомстве. Однако же во всякого рода столкновениях их с государственною властью или иерархами Синод являлся их союзником и стоял на стороне этих обер-прокуроров.
Таким образом, и личность обер-прокуроров не давала иерархам повода для недовольства, и таковое вызывал самый принцип синодального управления.
Как же в действительности осуществлялся этот принцип?
Издавал обязательные церковные законы, замещал епископские кафедры, увольнял епископов и производил суд по всем отраслям церковного управления не Царь, а Синод, Царь же только санкционировал синодальные решения и постановления, проявляя чисто сыновнее послушание собору епископов даже в тех случаях, когда такие решения не совпадали с Его личной волей. Целый сонм "живоцерковных" епископов, возглавляемых Антонинами и Евдокимами, свидетельствуют о том, что не только Царь, но даже обер-прокуратура была бессильна бороться с Синодом в этой области и что Синод действовал как учреждение не только независимое, но нередко даже как враждебное государству. В глазах Синода всякий епископ как таковой являлся неприкосновенным, ни перемещение, ни тем более увольнение считалось недопустимым и рассматривалось как посягательство на самую Церковь, ревизии признавались оскорблением священного сана, и такая презумпция давала повод к величайшим злоупотреблениям и соблазну, какие разъедали церковный организм и вносили в него именно те элементы разложения, какие оппозиция приписывала "преобладанию" государственной власти в Христовой Церкви.
В течение всего Своего царствования Государь Император только три раза проявил Свою Самодержавную волю в отношении Синода.
Первый раз в 1910 году, когда Синод под разными предлогами затягивал длившееся 5 лет дело канонизации св. Иоасафа Белгородского, и Государь был вынужден Лично назначить срок торжества прославления святителя, идя навстречу обращаемым к Его Величеству просьбам населения, да и то лишь после того, когда Синод, оставаясь глухим к этим просьбам, не внимал им. Я помню свою личную беседу с Государем Императором по этому вопросу, когда от имени кружка почитателей св. Иоасафа, являвшегося средоточием подготовительных работ по прославлению угодника Божия и буквально забрасываемого ходатайствами со всех концов России об ускорении торжества, ездил к Его Величеству.
Внимательно выслушав меня, Государь ответил, что не только лично глубоко почитает св. Иоасафа, но, в свою очередь, с нетерпением ожидает указа Синода о прославлении Угодника, однако торопить Синод не считает для Себя возможным. И здесь, как и во всех прочих случаях, сказалась столь свойственная Государю деликатность. И только тогда, когда обер-прокурор Св. Синода С.М. Лукьянов явился с докладом по этому делу, причем основываясь на мнении Синода, высказал мысль о желательности отложить по каким-то причинам торжества прославления, Государь Император не согласился с доводами обер-прокурора и Синода и Лично назначил срок торжества, в чем был со всей верующей Россией.
В другой раз Самодержавная воля Царя сказалась в отношении Его Величества к столь нашумевшему в свое время делу о прославлении святителя Иоанна Тобольского, связанному с именем епископа Варнавы и обер-прокурора Самарина. На этом деле я уже останавливался на страницах первого тома своих "Воспоминаний". И здесь вся верующая Россия была на стороне Государя Императора, а не на стороне Синода, находившего, по условиям политического момента, канонизацию св. Иоанна "неблаговременной".
Наконец, в третий раз Государь Император проявил свою волю в перемещении первенствующего члена Св. Синода митрополита Владимира с Петербургской кафедры на Киевскую. Хотя такое перемещение вызывалось одновременно и необходимостью заместить пустующую, за смертью Киевского митрополита Флавиана, кафедру и желанием Государя приблизить к Себе экзарха Грузии, архиепископа Карталинского Питирима, назначенного митрополитом Петербургским, и архиепископа Макария Тобольского, назначенного митрополитом Московским, из коих первый был умным церковно-государственным деятелем, чрезвычайно любимым и ценимым Кавказом, а второй – великим подвижником и праведником; хотя, перемещая митрополита Владимира в Киев, Государь и сохранил за ним первенствующее место и руководящую роль в Синоде, однако этот акт Самодержавной Воли Помазанника Божия иерархи рассматривали и до сих пор рассматривают как незаконное вторжение Царя в "дела Церкви". Митрополит, да еще первенствующий, являлся, по мнению Синода, неприкосновенным, и Царская Власть на него не распространялась...
Этим актом Монаршей Воли нарушался принцип неприкосновенности иерархов, и этого было достаточно для того, чтобы Синод очутился чуть ли не в авангарде той оппозиции к Престолу, какая использовала означенный акт для общих революционных целей, в результате чего оба иерарха, митрополиты Питирим и Макарий, были объявлены "распутинцами".
Во всех описанных случаях сказалось не вмешательство Государя в "дела Церкви", а та любовь Царя к русскому народу, то участие к религиозным нуждам последнего, та великая вера, словом, все то, что окружает имя Государя ореолом святости.
О каком же "преобладании" государственной власти в Церкви Христовой можно говорить в применении к России?
Каким глубоким слоем греха, каким непостижимым затмением были окутаны те русские люди, не исключая и иерархов Церкви, которые не прозревали за внешним покровом кротости и смирения величавого облика святого Царя, Его ума облагодатствованного, прозрачной чистоты Его души, Его пламенной веры, Его горячей любви к русскому народу!..
Наш Царь был одним из величайших подвижников Церкви последнего времени, подвиги которого заслонялись лишь Его высоким званием Монарха. Стоя на последней ступени лестницы человеческой славы, Государь видел над Собою только небо, к которому неудержимо стремилась Его святая душа, тяготившаяся этой славой, желавшая сбросить с себя и корону, и царскую порфиру и уйти от мира, чтобы всецело отдаться служению одному только Богу.
В 4-й книге "Луч Света", периодического издания Ф.В. Винберга, на страницах 393-394 помещена коротенькая статья г. Б.Потоцкого, под заглавием: "К материалам новейшей истории".
Статья эта до того знаменательна, что мы приводим ее целиком.
"В зиму 1904-1905 года, – пишет Б.Потоцкий, – в покоях Петербугского митрополита Антония (Вадковского) имел место следующий случай, достойный занесения его в анналы истории.
Сообщивший мне его свидетель состоял в то время студентом Петербургской Академии и, по рекомендации академического начальства, был привлечен к работам по приведению в порядок библиотеки митрополичьего дома. В конце каждого рабочего дня студент должен был являться к митрополиту с докладом о результатах своей дневной работы по разборке книг. Так было и в тот памятный для него день, когда он вошел в комнату, где ежедневно докладывал о своих изысканиях в богатом книгохранилище. Увлеченный успехом своих занятий в тот день, он не обратил внимания на то, что митрополит находился не один, и с жаром приступил к докладу, хотя и заметил, что митрополит был не в скуфейке, как обыкновенно, а в белом клобуке, который он надевал лишь в официальных случаях. Студент был очень удивлен тем, что митрополит, обыкновенно с интересом слушавший его доклады, на этот раз сразу прервал его словами: "Потом расскажете, разве не видите, что у меня гости?"
Тут только студент заметил сидевших против митрополита офицера и даму. Однако, считая свой дневной труд в книгохранилище особо выдающимся по результатам изыскания, он рискнул еще раз привлечь внимание митрополита на свой доклад, но на этот раз был строго остановлен:
"Вы не узнаете, кто у меня?"
На лице студента ясно выразилось недоумение; тогда митрополит добавил: "Неужели не узнаете? Это Их Величества – Государь и Государыня".
Молодой человек крайне смутился и, раскланиваясь, растерянно произнес: "Очень приятно". Радостное лицо юноши выдало, однако, волновавшее его чувство умиления при виде Царственной Четы в такой обстановке.
Государь и Государыня переглянулись и, улыбнувшись, ответили на приветствие. Вслед за тем митрополит встал, повернул студента за плечи кругом и, направляя его к двери, сказал: "Идите, после расскажете".
Конечно, этот приезд Государя к митрополиту вызвал большой интерес среди постоянных обитателей митрополичьего дома, и, разумеется, все стали быстро доискиваться причин этого посещения.
Оказалось, что Государь приезжал просить благословения на отречение от Прародительского Престола, в пользу недавно перед тем родившегося Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, с тем чтобы по отречении постричься в монахи в одном из монастырей.
Митрополит отказал Государю в благословении на это решение, указав на недопустимость строить свое личное спасение на оставлении без крайней необходимости Своего Царственного долга, Богом Ему указанного, иначе Его народ подвергнется опасностям и различным случайностям, кои могут быть связаны с эпохой регентства во время малолетства Наследника. По мнению митрополита, лишь по достижении Цесаревичем совершеннолетия Государь мог бы оставить Свой многотрудный пост.
Этот случай ясно показывает, как чутко и проникновенно сознавал Государь Император Николай Александрович все непомерно трудные условия Своего Царствования, при которых Венец Мономахов становился терновым венцом." Вскоре после описанного случая Государь Император сделал и другой раз попытку принять иноческий сан, но тоже неудачно. Об этом последнем факте, какой передаю по рассказам иерархов и других лиц, у меня сохранились такие воспоминания.
Принимая депутацию духовенства, в лице его высших представителей, ходатайствующих о созыве Всероссийского Собора для избрания Патриарха, Государь Император спросил, имеется ли у иерархов намеченный кандидат на патриарший престол. Этот вопрос озадачил депутацию, какая не была к нему подготовлена... После некоторого замешательства последовал отрицательный ответ. Тогда Его Величество осведомился у депутации, согласились ли бы иерархи, чтобы на патриарший престол Государь Император выставил бы Свою собственную кандидатуру? Произошло еще большее замешательство, а на вопрос Государя последовало гробовое молчание.
Государь духовным оком Своим прозревал ту политическую подоплеку, какую скрывала за собою идея восстановления патриаршего чина в России, особенно в предреволюционное время, когда среди ее апологетов были и иерархи, неустойчивые в своих политических убеждениях, и враги Церкви, домогавшиеся разорвать и ту ниточку, на которой в последнее время держались отношения между Церковью и государством. Теперь об этом времени уже забыли, а между тем нужно только вспомнить, как ратовали за восстановление патриаршества те самые люди, какие уже тогда видели в лице Антонинов и Евдокимов своих кандидатов на патриарший престол.
Если бы иерархи, защищавшие интересы Церкви, не связывали восстановления патриаршества с созывом Собора, который, по условиям политического момента, легко мог превратиться в земское собрание, где общее согласие на добро обычно сменяется согласием большинства на зло, а предоставили бы Самодержавной Власти Помазанника Божия возвести на патриарший престол достойнейшего, то возможно, что Россия имела бы давно своего Русского Православного Патриарха и давно бы осуществила принцип "nullum regnum sine patriarcha staret". Такой Патриарх, будучи советником Царя, явился бы для всех православных сынов Церкви дорогим и желанным. Когда же в идею восстановления патриаршества враги Церкви вкладывали мысль о разрыве Церкви с государством, когда мечтали создать в лице Патриарха оппозицию Самодержавной Власти и опору своим революционным вожделениям, тогда против восстановления патриаршества возражали не только те, кто видел в нем путь к восточному папизму, но и прежде всего самые наицерковные люди. В предреволюционное время натиск на Царскую Россию вели не только пиджаки и мундиры, но и смиренные рясы, а этим последним Патриарх был нужен лишь для опоры их революционных замыслов и вожделений.
ГЛАВА 52. Церковно-государственное значение синодальной обер-прокуратуры
Отрицательное отношение к принципу синодального управления Церковью сказывалось в России не только со стороны иерархов, но и со стороны верующей интеллигенции. Один из моих друзей пишет мне 2/15 августа 1919 года:
"Если качественный состав духовенства низок, то следует напрячь все усилия, развить всю энергию, возвысить голос елико возможно громче, чтобы поднять умственный, нравственный, образовательный и даже родословный уровень духовенства и сделать его представителей достойными править Церковью, ибо при всех случаях светским людям, как бы велики ни были их преимущества, не годится заступать место духовенства и осуществлять государственный контроль над Церковью. Нужно стремиться к восстановлению в европейских умах идеалов папы Иннокентия III, который правильно понимал, что без контроля Церкви над действиями светской государственной власти не может быть ни мира на земле, ни в человецех благоволения. Мы на опыте видим, до чего довели Европу либеральные парламенты, освободившиеся от обязательства считаться с велениями Церкви. Буквально ужас объемлет, когда перебираешь в уме, что делается сейчас в России, да и во всей Европе, когда отвергшие Бога и покорившиеся сатане вожди зверской черни пляшут свой диавольский танец на развалинах церковной и светской гражданственности."
И однако здесь великое недоразумение, основанное или на смешении понятий ''церковь" и "церковная иерархия", или на незнакомстве с функциями Синода как церковно-государственного учреждения. Синодальная система управления Церковью нуждалась в некоторых преобразованиях, однако же конструкция ее была такова, что совершенно не затрагивала церковной области, а сводилась к контролю в отношении государственной деятельности иерархов да к контролю в отношении синодальных и епархиальных чиновников ведомства, что однако вовсе не составляло ее единственной задачи, ибо первейшей задачей обер-прокуратуры являлась правовая защита и охрана Церкви как церковно-государственного организма и создание условий, обеспечивавших бы выполнение Церковью ее церковных задач.
Но и государственный контроль существовал больше на бумаге, в теории, а не на практике, ибо малейшие попытки обер-прокуратуры в этой области пресекались дружной оппозицией иерархов. В том же, что такой контроль был нужен и вызывался столько же церковными, сколько и государственными интересами, – в этом я убеждался с каждым днем и часом все больше.
Печальные результаты недостаточности такого контроля были уже частично отмечены мною в пределах, диктуемых уважением к священному сану, на страницах моего первого тома "Воспоминаний", и я не имею в виду дополнять эти страницы новыми иллюстрациями, или посягать на неприкосновенность Синодального архива. В этом и нет нужды, ибо это сделала революция, явившая всему миру портретную галерею революционеров, облеченных высоким саном пастырей и архипастырей Церкви, борьба с которыми, встречавшая противодействие со стороны Синода, оказывалась не по силам и обер-прокуратуре.
Что касается канонической деятельности Синода, то с этой стороной обер-прокуратура не только не соприкасалась, но и не могла соприкасаться хотя бы потому, что Синод такой деятельности вовсе не проявлял, а занимался рассмотрением бракоразводных дел, мелочными делами провинциальных епархий, только по недоразумению восходившими на рассмотрение Синода, вместо того чтобы разрешаться на местах властью местных епархиальных архиереев, замещениями вакансий, перемещениями и увольнениями служащих ведомства, разного рода финансовыми вопросами и пр. и пр. Синод был в буквальном смысле генеральным штабом духовных консисторий, от которых отличался только своим названием, и являлся типичным учреждением дореформенной России, не изменив на протяжении 200 лет ни своего внешнего облика, ни содержания, не имея даже писанного церковного законодательства; ни с которой стороны не был он похож на Собор епископов, предназначенный осуществлять непосредственную задачу – блюсти Церковь Христову, стоять на страже Православия и христианизировать жизнь государства.
Вернуть Синоду то значение, какое он должен был бы иметь, как Собор епископов, разгрузить его от мирских дел, приняв этот груз на свои плечи, разграничить сферу чисто церковную от государственной и создать наилучшие условия для оживления церковной жизни России – и составляло задачу обер-прокуратуры. И, однако, иерархи или не понимали этой задачи, или сознательно противились ей, стремясь, наоборот, расширять свои государственные функции в ущерб церковным, благодаря чему Синод постепенно утрачивал свой первоначальный облик и превратился в чисто бюрократическое учреждение, влияние которого на церковную жизнь России ни в чем не сказывалось.
В результате Православная Церковь в России распалась как бы на две церкви: официальную и неофициальную.
Официальную церковь составлял Св. Синод как высшее средоточие церковной власти, в состав которого, в качестве его непременных членов, входили три митрополита – Петербургский, Московский и Киевский, а также экзарх Грузии и в последнее время два протопресвитера от придворного и военного и морского духовенства. К ним добавлялись и поочередно вызываемые епархиальные архиереи, в числе 5-6 епископов, так что личный состав Синода обычно состоял из 12-14 членов во главе с первенствующим членом, каковым являлся митрополит Петербургский. Государственная власть была представлена в Синоде в лице обер-прокурора и его товарища.
Неофициальную церковь составляли монастыри, с их старцами и подвижниками, как высшее средоточие церковной правды. Между официальной и неофициальной церковью с одной стороны, и между Синодом и обер-прокуратурой с другой, шла глухая борьба, какая сдерживалась только опасением соблазна среди мирян, хотя нередко и выходила наружу.
Рассматривая обе церкви с точки зрения нравственного влияния их на массы, нужно признать, что деятельность официальной церкви ни в чем не выражалась, и вера народная, религиозное развитие и настроение держались или на традициях поколений наследственными влияниями семьи, или же поддерживались влиянием единичных людей высокой религиозной настроенности, главным образом простецами-монахами, живущими вне мира, в ограде монастырской. Эти последние пользовались чрезвычайной любовью со стороны русского народа и были одинаково близки как простолюдину, так и высшему классу, являясь подлинными и притом единственными вождями, премудрыми учителями и наставниками своих духовных чад. В противоположность представителям официальной церкви, они совершенно не интересовались внешностью мирян, не делали различия между бедными и богатыми, простецом и ученым, простолюдином и знатным, а всех, притекавших к ним, дарили одинаковою любовью, со всеми говорили одинаково определенно, открыто и правдиво, ибо видели пред собою не носителей званий и положений, а в каждом – его душу, тоскующую и страдающую, обремененную немощами и грехами; знали, зачем эти души пришли к ним, и щедро наделяли их своим духовным врачевством. Так как значение врача может учитываться лишь с точки зрения его знаний и приносимой им пользы, то столько же естественно, сколько и правильно верующие оценивали значение представителей официальной церкви лишь постольку, —поскольку они приближались своими личными качествами к этим духовным врачам. Внутренняя религиозность, уровень духовной высоты, подвижническая жизнь, личный пример – были единственным мерилом отношения народных масс к духовенству и единственной связью между ними. Такая связь была весьма незначительной, точнее, ее вовсе не было. Однако же было бы несправедливо объяснять отсутствие означенной связи только качественным составом иерархов, между которыми было и много выдающихся подвижников Церкви. Нет, объяснялось это явление, главным образом, удаленностью архипастыря не только от мирян, но и от подчиненного ему епархиального духовенства и перегруженностью епархиальными делами, отвлекавшими архипастыря от его непосредственных задач.
Всегда и во все времена христианизация в самом широком смысле достигалась не наказом, а показом, не проповедью, а личным примером, и самыми великими общественными и государственными деятелями были не министры и архиереи, а те невидимые никому затворники и отшельники, которые укрывались в укромных келлиях монастырей с мыслию о спасении собственной души. Но, спасая свои собственные души, они спасали весь мир и были теми строителями духа жизни, на которых и держался мир. С точки зрения государственной даже, значение молитв Афонского или Валаамского подвижника было неизмеримо больше, чем значение самых красноречивых проповедей архиерейских с высоты кафедры Государственного Совета или Государственной Думы. Великий архиерей православной Церкви Феофан Вышенский или знаменитый епископ Игнатий Брянчанинов – оба оставившие свои епархии и добровольно ушедшие на покой – сделали больше для Церкви и России в своем добровольном затворе, чем на поприще своей официальной деятельности, ибо оба признали абсолютную невыполнимость пастырского долга в положении официальных представителей Церкви, правящих архиереев.
Приблизить представителей официальной церкви к типу этих людей – это и значит улучшить качественный состав духовенства, о чем говорит приведенный мною отрывок частного письма. А сделать это было бы возможно только намеченными обер-прокуратурою в 1916 году реформами, сводившимися к сокращению территориальных размеров епархий, что приблизило бы архипастыря к пастве и к разгрузке епископа и подчиненного ему духовенства от мирских епархиальных задач, превращавших их в чиновников государства в рясах...
Это не внедрение государства в область Церкви, не посягательства на ее права, а заботливое попечение о благе Церкви, вытекающее из убеждения, что Церковь не может и не должна быть орудием в руках государства ни для каких целей, как бы возвышенны они ни были, ибо Церковь имеет свою цель – указывать людям пути и способы спасения души, и государство обязано обеспечить Церкви всеми доступными ему средствами достижение этой высокой цели.
Так и понимала синодальная обер-прокуратура свою задачу в отношении Церкви. Какие бы мотивы ни лежали в основании ее учреждения, но фактически она осуществляла собою не идею контроля государства над Церковью, а, наоборот, содействовала и облегчала Церкви задачу контроля над государством, снимая с ее плеч не только тяжелый груз мирских забот, неизбежно связанных с нею как с земной организацией, но и давая правовую государственную защиту и обеспечивая в пределах, доступных государственной власти, условия ее духовного процветания. Там, словом, был не контроль государства над Церковью, а та опора со стороны государства, без которой никакая Церковь, как земное учреждение, не может существовать и без которой должна неминуемо рушиться. И лучшие из представителей Церкви это знали и понимали и потому не только не тяготились обер-прокуратурою, а, наоборот, тяготились своим вынужденным образом жизни мирян в рясах, жалуясь на то, как невыразимо трудно монаху быть архиереем, как часты коллизии между долгом совести и долгом службы, как несовместимы обеты монашеские с требованиями, предъявляемыми к епископу, как "правящему" архиерею. И эти жалобы не были фразами, а были криком души, скрывали великую драму, каковую наиболее чуткие из епископов, не считая возможным изменять служебному долгу, разрешали добровольным уходом на покой.
Но так думали далеко не все... Общий же голос официальной Церкви усматривал в государственном попечении о благе Церкви только посягательства государства на прерогативы Церкви, государственный контроль, осуществляемый светскими людьми, гнет и оковы, и пр. и пр., забывая, что, только освободившись от мирского груза, Церковь могла бы получить возможность осуществлять свою миссию на земле и что этот груз неизбежно должен был быть возложен на государство.
И если миссия Церкви заключалась в спасении душ пасомых, если для достижения этой цели пастыри и архипастыри должны были быть окружены условиями, какие позволяли бы им самим возноситься к Богу и вести за собою паству, то, разумеется, в первую очередь их надлежало освободить от всего того, что вольно и невольно пригибало их к земле, что отягощало их бременем повседневных житейских забот, что отнимало у них время на занятия, превращавшие их в чиновников.
В какой мере обер-прокуратура или консистории мешали или содействовали спасению душ и, следовательно, в какой мере имелись основания видеть в означенных бюрократических учреждениях и в стремлении государства расширить их функции посягательства на прерогативы Церкви?!
Между Церковью и государством может быть только нравственная связь, и какими бы званиями ни облекались представители Церкви, какой бы ни обладали "властью", но покорять будет только звание подвижника, побеждать будет только власть праведника. Поведет за собой народ не Патриарх, а Василий Блаженный или Серафим Саровский, а значение Патриарха выразится лишь постольку, поскольку он приблизится к ним. Это положение до того очевидно, что едва ли его нужно доказывать.
Гораздо важнее указание на то, что, ограничивая земные задачи Церкви лишь духовным врачевством душ, высказанное положение тем самым еще более якобы усиливает принцип преобладания государственной власти в Христовой Церкви, еще более якобы расширяет сферу влияния чинов обер-прокурорского надзора, передавая их ведению всю церковную жизнь государства, поскольку она выходит за пределы этих задач. Да, так может казаться, но в действительности это не так.
В результате получится не порабощение Церкви, не отделение Церкви от государства, как думают легкомысленные люди, а отделение государства от Церкви, а это не все равно. Ибо одно дело изгнать Церковь из государства, и иное дело очистить обмирщившуюся Церковь, иное дело не пустить подвижника-монаха в гостиную, и иное дело изгнать мирской сор из его келлии. И только тогда Церковь получит истинную свободу, только тогда взойдет на подобающую ей высоту, когда епископ захочет и получит возможность быть только епископом, а священник – только священником, т.е. тогда, когда они перестанут быть чиновниками, безразлично государственными ли, или церковными. Так сказал Господь, повелев отдавать Божие – Богову, а кесарево – кесарю, но и в области церковной есть много кесарева, и его тоже нужно отдать кесарю, а оставить Церкви только Божие.
Эта мысль превосходно выражена автором "Аскетических опытов", епископом Игнатием Брянчаниновым, сказавшим, что оставаться в миру и спастись так же невозможно, как гореть в огне и не сгореть. И чем большими "правами" будут облечены представители Церкви, чем шире будут их государственные функции, тем слабее будет их влияние в области церковной жизни.
Остается неизменным и непоколебимым этот принцип и в сфере даже частной жизни духовенства. Чем шире станут раскрываться пред духовенством двери мира, с его суетой и грехом, тем меньше будет пользы и для пастыря и для его паствы, тем скорее растратит духовенство свое духовное богатство, тем безуспешнее будут его попытки выполнить свою задачу христианизации мира. И, наоборот, чем замкнутее и удаленнее от мира будет пастырь, чем больше будет крепнуть духовно, тем сильнее будет мир стучаться в его двери, тем неотразимее будет его влияние. Это доказывает нам сама жизнь, являющая собой примеры пастырей и архипастырей, высоко ценимых общественностью, дипломированных ученых с громкими именами, но с ничтожным авторитетом, не знакомых с азбукою "науки из наук", но глубоко внедрившихся в самую толщу мирской жизни – и, наоборот, примеры пастырей и архипастырей едва соприкасавшихся с миром, но за которыми толпами ходил народ, чутьем угадывая в них подлинных вождей духовных.
Не могу, в заключение, не вспомнить впечатлений далекого прошлого, наглядно иллюстрирующего высказанные мною положения.
В бытность мою земским начальником в одной из южных губерний России, я, по долгу службы, весьма близко соприкасался с местным сельским духовенством, среди представителей которого встречал достойнейших пастырей Церкви, что не мешало, однако, крестьянству приносить на них всякого рода жалобы. И вот один из таких смиреннейших пастырей чрезвычайно просто и мудро разрешил церковно-государственную проблему, когда, оправдываясь в взведенных на него обвинениях, сказал мне:
"Вот Вы сами изволили не раз говорить мне, что министры законодательствуют, губернаторы передают законы, а проводят их в толщу жизни только земские начальники да полиция, что нет ведомства, которое не заваливало бы Вас грузом дел, коих не только исполнить невозможно, но в коих нет времени даже разобраться... А тут еще судебные дела, ревизия волостей, разъезды по участку в 50-70 верст в конец и пр. и пр. И точно, Ваши слова справедливы. Но то же самое испытываем и мы, пастыри. И нас со всех сторон заваливают предписаниями и отношениями, и не только благочинный, но и губерния, и земство, и полиция... И нас рвут на все части; и бывает, что не только не хватает времени для исполнения треб, иногда срочных, но, прости Господи, иной раз и в праздничный день обедни не отслужишь из-за того, что сразу не поспеешь во все стороны... А ведь нам приходится не только службою заниматься, но часто и хозяйством. И скотину нужно напоить, и лошадке дать корму, да, что греха таить, и землю иной раз вспахать, за плугом походить... Снимите с нас хотят бы бремя заботы о хлебе насущном да канцелярщину, избавьте нас от метрик, да отчетов, да от разных там статистик и ведомостей, дайте нам возможность быть только пастырями Церкви да хранителями вверенных нам душ наших пасомых, а тогда и взыскивайте с нас строго. А теперь что же я могу сказать в ответ на взводимые на меня обвинения в "нерадивости"? Факты справедливы, но "нерадивости" не было, а был лишь недостаток времени, неуправка..."
И вот эту страницу далекого прошлого я и вспомнил, когда вскоре после назначения своего товарищем обер-прокурора Св. Синода услышал из уст одного из высоких чинов ведомства пожелание видеть в каждой епархии представителя обер-прокуратуры, задача которого сводилась бы к урегулированию всех недочетов церковной жизни на местах и, в частности, к оказанию помощи сельскому духовенству в его безмерно трудном деле.
Вот как понимали обер-прокуратуру не только лица близко стоявшие к ней, но и православное духовенство в массе!
ГЛАВА 53. Государственные задачи Церкви
В чем заключаются "государственные" задачи Церкви?
У Церкви – только одна государственная задача и эта задача заключается в христианизации мысли и жизни.
Официальная Церковь в России этих задач не выполняла, между епископом и народом не существовало ни единения, ни общения столько же по причинам территориальной удаленности его от паствы, сколько и вследствие переобремененности его епархиальными делами.
Идея намеченных обер-прокуратурою в 1916 году реформ и заключалась в децентрализации церковного аппарата, в разграничении церковной и государственной сферы управления, в сближении архипастыря с паствой, в создании условий, имевших обеспечить архипастырю возможность выполнять его непосредственные задачи, что, в совокупности, возродило бы и оживило церковную жизнь на местах.
Только при этих условиях епископы могли бы отдаваться своему прямому делу, какое заключалось первее всего в оживлении источника христианской мысли и перестройке современного уклада их жизни в соответствии с требованиями уставов, создавших институт "старчества". В этой области царил наибольший хаос, и между епископами и монастырями существовало не только великое средостение, но и великая вражда.
В поднятии уровня монашеской жизни и в соответственной перестройке личных отношений к монастырям заключалась, по моему мнению, первейшая государственная задача епископов вне мира.
Понимаемая в широком смысле слова государственная задача каждого епископа только и могла заключаться в укреплении фундамента государственности, а таким фундаментом является религиозная основа государства, иначе – монастырь как источник религиозной мысли и чувства.
В миру же задача епископа заключалась в христианизации жизни, в привлечении своей паствы к повседневному практическому Христову делу созданием связи между Церковью и прихожанами ее. Такая задача могла быть выполненной чрез достойных пастырей, настоятелей церквей при всяких условиях, и в том, что между пастырями и паствой не существовало никакой связи, виноваты как пастыри, так и пасомые.
Достаточно указать на существующую у католиков организацию прихода для того, чтобы в этом убедиться.
В то время когда при Синоде созывались всякого рода комиссии по выработке законоположений о приходе под председательством архиепископов Сергия Финляндского и Стефана Курского, в то время когда Государственная Дума, в свою очередь, изощрялась в тонкостях юридических норм, способных ввести в надлежащее русло приходскую жизнь, – в это время настоятель Екатерининского костела в Петербурге, прелат Буткевич, расстрелянный большевиками в 1923 году, личным примером своим свидетельствовал, что дело Христово на земле не требует никаких юридических нормировок и писанных установок, что нравственный долг немыслимо превращать в юридическое обязательство, что единственной базой этого дела является добрая воля человека, пробуждение которой и составляет задачу пастыря. Прелат Буткевич осуществил в Петербурге идеальную форму приходской жизни в своем приходе, и для меня казалось непостижимым, каким образом Синод, имея готовый, практически осуществленный план такой организации, не только проходил мимо него без внимания, но, по-видимому, даже не знал о его существовании.
Исходя из мысли, что задача Церкви заключается в христианизации жизни на пространстве отведенного ей прихода, прелат Буткевич, не задаваясь общецерковными и общегосударственными задачами широкого масштаба, ограничил свою деятельность только территорией своего Екатерининского прихода и начал ее прежде всего с переписи своих прихожан, подразделил их соответственно полу, возрасту и социальному положению. Закончив эту предварительную работу, о. Буткевич созвал общее собрание своих прихожан и объявил им, что служение Христу является долгом каждого христианина и должно выражаться не только в посещениях богослужения, ибо молитва призывает лишь благословление Божие на дело Христово, низводит благодатную помощь Божию на это дело, но непременно в самом деле, в работе, в труде, предпринимаемом специально в силу прямого повеления Христа делать это дело. Объяснив, далее, в чем должно заключаться дело Христово на земле, прелат Буткевич разъяснил, что оно обнимается общим понятием любви к ближнему и выражается в мелких, повседневных услугах, такие каждый может оказывать друг другу, безотносительно к средствам, занятиям и социальному положению.
"Дело Христово" есть основа и нашего личного блага и блага государства, в котором мы живем. Его нужно делать столько же по идейным, сколько и по практическим соображениям, ибо то, что мы сегодня сделаем нашему ближнему, то завтра наш ближний сделает нам, а если он не сделает, то Бог сторицею вернет нам награду за наше послушание Богу, приказавшему нам любить ближнего. То, чего мы не дадим своему ближнему сегодня, того не получим от него завтра, когда сами будем нуждаться в его помощи. В чем же заключается "дело Христово"?
Накорми голодного, посети страждущего или заключенного в тюрьме, пригрей несчастного, вразуми заблудшего, войди в положение нуждающегося и обремененного и облегчи его тяготы, не задавайся широкими целями, не связывай себя никакими программами, а твори каждый день маленькие дела любви и милосердия, с кротостью и смирением, и веди борьбу со злом и неправдою там, где будешь встречаться с ними.
Вся человеческая жизнь на земле состоит из таких крошечных дел, а между тем люди проходят мимо них и, вырабатывая программы для борьбы с мировым злом, не замечают, что это мировое зло давно было бы уже изгнано из мира, если бы не питалось маленькими ничтожными проявлениями, борьба с которыми под силу каждому человеку при всяких условиях. Церковь не призвана перестраивать государственные и социальные формы жизни и ломиться в двери государства, хотя бы и была одушевлена самыми высокими побуждениями. Территория деятельности Церкви очень ограниченна, и ее сферою является только душа человека. И однако нет большего государственного дела, как увеличение контингента подлинных христиан, не только слушающих Слово Божие, но и выполняющих его, честных и добросовестных работников "дела Христова".
Таким приблизительно было содержание первой беседы прелата Буткевича с его прихожанами в первое воскресенье после произведенной им переписи их. И когда о. Буткевич спросил, кто из них желает записаться в число "работников Христовых", то записались все единогласно, и тут же решено было обложить себя ежемесячным денежным взносом, начиная от 50 копеек для простого люда и кончая 10 рублями для интеллигенции. Территория Екатерининского прихода была разбита на участки, участки на улицы, улицы на дома, и каждый "работник Христов" получил определенное задание, сводившееся к обходу прихожан, выяснению их духовных и материальных нужд и пр. и пр. Спустя неделю, в понедельник, было созвано по именным повесткам первое заседание простого люда мужеского пола, куда явились чернорабочие, прислуга и др. Во вторник такие же повестки получили женщины, в среду состоялось соединенное заседание тех и других, в четверг был созван образованный класс прихожан мужеского пола, в пятницу – женского пола, в субботу – оба вместе, а в воскресенье состоялось объединенное собрание интеллигенции и простого класса. Заседания продолжались не более одного часа и имели в виду связь простых людей с интеллигенцией на почве совместного служения "делу Христову", непрерывность такого служения и знакомство пастыря с пасомыми и этих последних между собой. На этих заседаниях рассматривались как вновь поступающие к прелату Буткевичу ходатайства, прошения и обращения самого разнообразного содержания, так и отзывы "работников Христовых", коим на предыдущих заседаниях было поручено произвести проверку поступивших раньше прошений и удостовериться в их справедливости. По расследовании ходатайств, последние удовлетворялись полностью или частично из собранных сумм прихода, причем достойно внимания, что ходатайства о материальной помощи были редкими и составляли исключения в той массе обращений, какие имели в виду преимущественно духовную помощь и моральную поддержку. Спустя месяц созывалось генеральное заседание под председательством епископа и давалась оценка труда каждого отдельного работника или работницы, причем наиболее отличившиеся получали награды. Эти награды заключались или в праве участия в религиозных процессиях, чем особенно дорожили "работницы Христовы", облачавшиеся в белые платья и получавшие венки и гирлянды зелени, или же в праве прислуживать епископу при торжественных богослужениях, каковой чести особенно добивалась молодежь... Все было продумано до мелочей, преследуя не только задачу развития и усиления религиозного чувства и сознания долга к ближнему, но и удовлетворения самолюбия прихожан, гордившихся званием членов прихода и ревностно выполнявших свои обязанности.
Нужно ли говорить о том величайшем значении, какое имела подобная организация приходской жизни! Ее результаты сказывались не столько в облегчении материальных нужд прихода, сколько в единении прихожан, в знакомстве их друг с другом, в установлении теснейшей связи между собой, в духовном единстве. Когда прислуга, приносившая больному или тюремному сидельцу чай и сахар встречалась там с своими "господами", приносившими им Евангелия и читавшими его, когда сливалась с господами на почве общего служения ближнему, тогда, быть может, впервые стала давать им иную оценку и видеть их подлинный облик, часто заслоняемый блеском салонов и гостиных. Тогда и господа приближались ближе к своим слугам и распознавали их души, каких на далеком расстоянии раньше не видели. Но не только в этом сказывалось значение организации прелата Буткевича, но и в том, что он сам получал возможность поименно знать своих прихожан, их духовную жизнь, содержание и образ их жизни, и даже высоту духовного развития. Это был в полном смысле пастырь добрый, ведущий свою паству к Богу в сознании, что обязан дать за нее ответ пред Богом.
И так ясно и просто было, что все сложное дело урегулирования начал приходской жизни сводилось не к правам и преимуществам прихожан, а только к их обязанностям, к этому маленькому делу Христовой любви к ближнему, к тому, чтобы облегчить каждому в отдельности выполнение его христианских обязанностей, связать каждого с определенным повседневным делом, составлявшим частицу общего дела прихода.
Не было бы тогда и того томления духа у прихожан, не знавших, что делать с избытком своего времени и искавших удовлетворения запросов своего духа там, где их нельзя было найти, бродивших, как овцы без пастыря, не было бы и того средостения между бедными и богатыми, которым так преступно пользовались те, кто еще более увеличивал расстояние между ними, не было бы и того разительного отчуждения от действительной жизни, с ее ужасами, горем и страданиями, о которых знали лишь те, кто испытал их.
И, глядя на некоторых известных мне "работников Христовых", я не знал, чему удивляться, мудрости ли ксендза Буткевича, продуманности ли действий и приемов католической Церкви, или героизму и самоотвержению, с каким эти "работники" несли так радостно и легко свою тяжелую работу служения ближнему, не встречаясь на своем пути ни с Распутиными и Митями Косноязычными, Василиями Босыми, Иванушками и прочими аномалиями, выраставшими, как бурьян, на заброшенном, невозделанном поле.
И какое-то острое ощущение боли, щемящее чувство досады охватывало меня при встрече с теми представителями нашего духовенства, особенно иерархами, которые громко и красноречиво осуждали Распутина, а вместе с ним и своих, якобы изменивших православию пасомых... В увлечении Распутиным и подобными ему "старцами" сказывалось, наоборот, органическое тяготение православной души к Богу, а не измена православию, и не вина пасомых, если такое тяготение выражалось в уродливых формах...
И когда разразилась революция, то эти "работники Христовы" не растерялись, не примкнули к толпам хулиганов, а бросались в самую толщу толпы, громко обличая безбожников и лелея, быть может, тайную мысль пострадать за "дело Христово", в чем видели завершение своего земного подвига.
Организация церковно-приходской жизни у католиков идеальна и именно эту организацию я и имел в виду, когда, ознакомившись с деятельностью прелата Буткевича, буквально кричал о ней, указывая нашим епископам на необходимость забросить все эти комиссии о приходе, а использовать готовый пример о. Буткевича.
И однако один из архиепископов, которому я рассказал о прелате Буткевиче и его деятельности, коротко ответил мне: "У нас это не привьется". Подобное же отношение проявили и прочие епископы, несмотря на то, что деятельность о. Буткевича явится на все времена показателем того, в каких формах может и должна проявляться государственная деятельность Церкви и в чем вообще заключаются ее государственные задачи.
ГЛАВА 54. Трагедия детской души
Огромному большинству людей некогда быть христианами, некогда не только выполнять христианские обязанности, но даже задумываться над их значением. Многие даже не знают, в чем их обязанности заключаются, и, в лучшем случае, ограничивают их областью внешнего дела, да и то только тогда, когда находят время его делать.
Обязанности службы, общественные, семейные отвлекают от богомыслия, медленно и постепенно удаляют от Бога и, наконец, разрывают даже связь с Богом, ту невидимую связь с Небом, какая является источником поэзии и красоты жизни, ее идейного содержания, возвышенных порывов и светлых духовных радостей.
И человек настолько свыкается со своим делом и своим земным настроением, что совершенно искренно не знает того, что делает не то, что нужно делать и не делает того, что нужно.
И пастырь Церкви, совершающий богослужение в храме по долгу своей службы, и министр, погруженный с раннего утра до поздней ночи в кабинетную работу, и писатель, пишущий о том, что нужно делать, но не делающий того, что советует своим читателям, и все прочие люди, связанные с тем или иным "делом", – все они сознают себя христианами и не спрашивают себя, почему же это "дело" не удовлетворяет их, почему они тяготятся им, почему оно радует только тех, кто несет его во имя свое, движимый личными, корыстными целями честолюбия и славолюбия, и является ярмом всех прочих, проникнутых стремлениями идейными, мыслями о неосуществимом "народном благе", почему это дело не только не приближает их к Богу, а как будто даже удаляет от Него, не согревает их сердца, не растворяет его небесными ощущениями, а нервирует и раздражает, почему так тяжело живется и дышится в этой жизни, такой серой и угрюмой, такой неинтересной и скучной?!
И хорошо, что не спрашивают, ибо ответ был бы ужасен и убил бы их.
Но есть люди, которые еще не успели обзавестись своей семьей, которые нигде не служат, никаких общественных обязанностей не несут и никакого "дела" еще не имеют, у которых есть время осмыслить свое отношение к окружающему и отношение окружающего к себе...
Эти люди – наша молодежь, одинокая и беспомощная, ищущая и порывистая...
Все мы были когда-то в ее положении и нам стоит только вспомнить наши собственные переживания и ощущения... К ним нужно отнести и тех людей, которые и в годы зрелости и старости сохранили идеалы молодости и являются поэтому еще большими мучениками и страдальцами, к ним нужно отнести и все наше монашество, порвавшее все связи с внешним миром и разрешившее свою душевную драму бегством из мира, какого не могли переделать, но с которым и не могли ужиться.
Было время, когда в годы нашей юности нетронутая грехом душа наша была связана крепкими нитями с Небом, чувствовала Бога и не только согревалась, но и светилась Его светом. И этот свет, точно сильный рефлектор, освещал всю грязь, всю нечисть, все пороки и преступления, как бы глубоко они ни прятались, в какую бы нарядную внешность ни наряжались, в каких бы невидимых щелях жизни ни укрывались...
И везде господствовала ложь. Говорилось одно, а делалось другое, учили вере, а сами ни во что не верили, учили добру, а делали зло, воспитывали и растили высокие понятия об Истине, Добре и Красоте, а сами точно умышленно убегали от правды и добра и красоты, какой не понимали и стремиться к которой не чувствовали потребности.
А юная, неиспорченная душа, с обостренным духовным зрением, ее природным свойством, все это подмечала, и авторитет ее руководителей и воспитателей, какими бы искусственными мерами ни поддерживался, все более падал. Она недоумевала, почему взрослые люди не верят тому, что она видит правду, что еще можно обмануть взрослого человека, привыкшего ко лжи, но обмануть детскую душу невозможно, ибо она, если и не увидит правды, то почувствует ее... Она не понимала, зачем и почему взрослые люди насилуют живущую в ней правду, умышленно толкают ее на ложь, на все, с чем она борется и чему противится, и заставляют ее подражать не тому хорошему, чем она жила и питалась, а тому дурному, чем они сами жили и от чего предостерегали словами, какие опровергали собственными делами и поступками.
И не растерявшая своих Божественных свойств, неспособная к компромиссам, с негодованием отвергающая соглашательство с неправдою, чуткая душа все более и более отдалялась от своих руководителей, переставая им верить, углубляясь в самое себя и... ограждала свою правду, свою чистоту... ложью, скрывая от окружающих свою внутреннюю жизнь, свое настроение. О как ужасно было для нее это первое соприкосновение с ложью, как нестерпимо было скрывать свои наблюдения и ощущения... Точно вор, она скрывала свои ощущения, от Бога полученные, боясь, чтобы их не расхитили; точно одинокий странник, без роду и племени, блуждала она в мире, не зная, куда идти и где найти того, кто бы не высмеял ее, кто бы не надругался над ее сокровищами, имевшими высокую небесную ценность, но никакой стоимости на земле, где побеждали натиск и злоба, ложь и пороки, но где никому не были нужны ни кротость и смирение, ни правда и любовь, ни все то, с чем она родилась и что так берегла.
И бедная душа, зная, что обладает жемчужиной, какая дороже всего мира, не знала, что делать со своим сокровищем, не знала и того, почему это величайшее духовное богатство не делает ее радостной и счастливой, а, наоборот, причиняет так много боли и страданий, почему вокруг нее все были радостны и довольны, веселы и беззаботны, а только она одна тосковала в мире и не находила себе места... И чем больше людей ее окружало, тем более одинокой она себя чувствовала.
Она чувствовала свою правду, но не знала того, что грех настолько далеко удалил людей от этой правды, что ее перестали уже узнавать.
К кому же идти, кого спрашивать, с кем советоваться?!
Самые близкие из людей, родители, сберегшие душу своих детей в чистоте от соблазнов и соприкосновения с грехом мира, проникнутые благочестием, но ограничивавшие его пределами внешнего добра, не понимали духовных запросов своих детей и видели в их душевных тревогах выражение естественной дани молодости, выражение того, что "с годами пройдет", уляжется и... забудется. Они не понимали того, что детская душа искала не внешних проявлений того добра, коим была полна, которое рвалось наружу и которое распространяла вокруг себя, а искала ответа на вопрос о том, почему это добро нужно делать украдкой, почему его нужно скрывать от окружающих, почему нельзя быть искренним и простосердечным, а нужно хитрить и лукавить, приспособляться ко злу и неправде, вместо того чтобы вытеснять их из нашей жизни, бороться с ними, почему нельзя делать всего того, чему учили в детстве и родители и воспитатели, почему так много зла в жизни и почему это зло так сильно, что с ним не только никто не борется, а все точно боятся его, служат ему и задабривают его.
И не находя ответов на свои вопросы, душа нашей юности не раз задумывалась о том, что, может быть, и правы те, кто осмеивает ее порывы, считая их обычными проявлениями молодости, куда-то стремящейся и ничем не удовлетворяющейся, или же выражением нездорового мистицизма, какого нужно опасаться, может быть, и в самом деле лучше заглушать в себе эти высокие порывы и стремления и махнуть на все рукой, последовать примеру старших, окунуться в толщу земных наслаждений и не пытаться более разрешать неразрешимое, обнимать необъятное...
"Нет, – отвечала себе душа, – не может того быть, чтобы мои ощущения меня обманывали и чтобы правда была там."
И кто из нас в годы юности своей, перебирая все земные сокровища, все то, что так дорого ценилось людьми и к чему они так настойчиво и упорно стремились, не спрашивал себя: "Ну, а дальше что?"
Дальше шла смерть, опрокидывавшая самые причудливые воздушные замки, сокрушавшая самые смелые полеты фантазии и превращавшая в ничто весь мир, всю вселенную с ее сокровищами...
"Нет, нет, – говорила нам наша юность, – правда не там, а вот здесь, в нашем сердце, которое нас не обманывает, и не нужно слушаться того, что говорят старшие, а нужно..."
Что же нужно? И душа не знала, что делать...
Она чувствовала только, что потерялась в лабиринте перекрестных вопросов, искала выхода, страдала, изнемогала, но не могла найти его.
Самая ужасная потеря – потерять себя.
Когда человек чувствует, что потерял себя, когда ищет и не находит себя и не может разобраться в своих противоречиях, падает и изнемогает, то часто ищет единения с другими людьми в надежде, что они помогут ему разобраться в себе и дадут ему то, чего он сам не мог дать себе.
Ему дороги те люди, которые сохранили чистоту своей души и донесли ее, непорочную, к Тому, от Кого получили ее. Он ищет этих людей не без тайной надежды, что они скажут ему, каким образом они сохранили свою чистоту и научат его. Ему дороги и те люди, которые умеют говорить ангельским языком, помогают ему найти себя. И он ищет этих людей постоянно, и к ним бежит навстречу, и разыскивает их, и слушает, что они говорят ему... И опять возвращается к себе домой утомленный поисками этих людей, а между тем ищет все новых и новых, бросается из одного места в другое в надежде отыскать нового человека и услышать новое слово, в сущности же ответ на все тот же старый, роковой вопрос: "Что же нужно делать?".
Если в зрелые годы такое душевное состояние характеризует тех, кто слывет под именем "неуравновешенных" натур, то для юности, с ее безоблачными мечтами и высокими порывами, жаждой подвига и желанием жертвы, – такое состояние душевной тревоги и беспокойства является общим. Кто не переживал его?
Кто не знает этих мучений, непередаваемых и ужасных, этой страшной борьбы, с неумолимостью рока, с беспощадной жестокостью сокрушающей молодые жизни, выбрасывающей лучших людей, с наиболее чуткой душой, из общей колеи жизни только потому, что они не желали входить в компромиссы с неправдою, или с тем, что считали неправдою, еще не умея разбираться в правде?!
Кто не знает, как часто душа, сталкиваясь с мучительными противоречиями жизни, раздираемая ужасным дуализмом, не знала, куда идти и что делать с собою?!
Допустим, что в такой борьбе силы были не равны, допустим, что на одной стороне была безграничная высота порывов и недосягаемые цели, а с другой стороны – полное неведение детства, совершенная неприспособленность к борьбе и отсутствие надлежащих средств и орудий для борьбы...
Но разве это несоответствие сил рождало страдание, разве сознание личной слабости и собственного бессилия губило юные души?
Нет, губил их вопрос – должны ли они оставаться тем, чем они родились, или должны переделывать себя согласно требованиям окружающей их обстановки, должны ли беречь свою жемчужину, то сокровище, какое получили от Бога и какое дороже всего мира, или должны променивать его на земные блага, на все то, чего от них требовал мир? И этот вопрос причинял им тем большие страдания, что у них был только один ответ на него и этот ответ требовал от них идти против течения, бороться с окружающей обстановкой, отстаивать свои идеалы, хотя бы для этого нужно было переделывать и весь мир.
Задача оказывалась непосильной, наступали потрясающие душевные драмы, какие заканчивались или самоубийством, или... изменой всем прежним идеалам, крушением кумиров и тем ожесточением, какое заставляло молодые души бросаться в самый омут греха и с каким-то азартом наслаждаться сознанием своей гибели.
Страдание духа было сильнее физических страданий и даже страха смерти.
Несчастные, погибшие молодые люди! Они не знали еще роли страдания на земле и того, что человек одинаково страдает и тогда, когда плывет по течению жизни, и тогда, когда идет против течения, что область причин, вызывающих страдания, только одной стороной соприкасается с внешним миром, что источник страдания зарыт в глубоких недрах сознания, распинаемой на земле правды Божией и что страдают только те, кто чувствует эту правду и любит ее, – земные люди с небесным настроением... Они не знали, что не должны были бояться своего одиночества, что только потерявший себя ищет единения с другими людьми и ждет от них помощи, а человек, нашедший себя, – все более уединяется, углубляется, затворяется, ибо то, что он искал от общения с другими людьми, он находит в общении с самим собой, со своей душой, в безмолвии и тишине говорящей с Богом... Они не знали, что келлия, пещера и затвор являются конечными земными этапами на пути к Богу и что духовно сильные люди всегда одиноки, всегда отшельники, независимо от того, где они живут и что делают... Они многого еще не знали, они знали только то, что гибнут и нет никого, кто бы мог спасти их...
И такую потрясающую душевную драму, вдвойне мучительную потому, что ее обыкновенно скрывают, испытывает едва ли не все юношество, хотя несомненно, что русское юношество особенно остро переживает ее, ибо его духовные запросы шире и глубже. То огромное количество писем, с которыми обращались ко мне совершенно неизвестные мне молодые люди, преимущественно студенты Московского университета, неудовлетворявшиеся существовавшими в Москве в начале 1900-х годов религиозно-философскими кружками и искавшими ответов на свои духовные запросы, обнажали такую потрясающую драму их души, что, опасаясь худшего, я мысленно желал, чтобы они приобщились к соблазнам мира и перестали себя мучить. Некоторые из них и действительно кончили жизнь самоубийством, другие, после бесплодной борьбы с собой, пошли на уступки греху и только немногие выдержали борьбу до конца, перебороли себя и... укрылись в подмосковных обителях.
Увидел я отражение такой душевной борьбы и в Италии, в которой живу с 1920 года, хотя здесь такая борьба выражена более бледно и не проявляется столь ярко, как в России. Я записал разсказанный мне факт и привожу его как иллюстрацию к предыдущему изложению.
"Шестнадцатилетний Альдо, сын богатых родителей, проснулся в день своего Ангела позже обычного и, лениво потягиваясь на постели, раздумывал, вставать ли ему, или нет. Он вышел уже из того возраста, который рассказывал ему об этом дне волшебные сказки, а его самого превращал в героя, являвшегося центром общего внимания, принимавшего поздравления и подарки, его не манили уже ни игрушки, ни сладкие пирожные, ни имянинный пирог, ни суета и нарядные гости. Он был уже в том возрасте, который оторвал его от детей и не связал с взрослыми, переживал то время, когда дети чувствуют себя наиболее одинокими и непонятными для окружающих. И сегодняшний день не только не забавлял его, а, наоборот, угнетал, и он готов был уже укрыться с головою в одеяло и снова заснуть, если бы его взор не остановился на новенькой бумажке в сто лир, лежавшей у изголовья и бережно положенной туда его матерью в качестве имянинного подарка.
Эти деньги заставили его очнуться, и он крепко задумался.
"Но мне нужно только 50 лир, – думал Альдо, припоминая то, что ему хотелось купить, – а что же мне сделать с другими 50-ю лирами?!"
И мгновенно в его сознании воскресли все советы и наставления его родителей и учителей, с детства приучавших его любить ближнего, помогать бедным, утешать скорбящих, и под напором этих мыслей он решил послать эти 50 лир своему товарищу, русскому беженцу, такому же юноше, как и он сам, случайно проживавшему с ним в одном городе. Вскочив с постели и наскоро одевшись, Альдо тут же написал записку: "Дорогой друг, посылаю тебе эти 50 лир. Прими их от неизвестного и не ищи его, ибо подпись здесь и адрес вымышленные".
Счастливый, Альдо побежал на почту, опустил письмо и почувствовал после этого такую чистую радость, такое блаженство, такой праздник, какие говорили ему столько же о чистоте его души, сколько и о том, что он поступил правильно и что так и нужно было поступить. Одно только смущало его: он чувствовал, что почему-то должен был скрыть свой поступок не только от своих товарищей, но и от родителей. Он знал, что со стороны товарищей встретит только насмешки, а родители его осудят. И то, что он это знал, связывало и мучило его. Альдо не мог понять, почему его хвалили тогда, когда он внимательно слушал хорошие советы и наставления, одобрял их и проникался ими, и почему его порицали за то, что он старался воплощать эти советы в жизнь и осуществлять их. Почему помощь ближнему считалась не только добрым делом, но и признавалась долгом христианина, а между тем никто такой помощи никому не оказывал и все проходили мимо страшной нужды, горя и страданий, точно не замечали их... Почему люди точно стыдятся быть хорошими людьми и настоящими христианами, а только и делают, что осуждают друг друга в разного рода грехах и преступлениях, противных христианским требованиям.
И, не находя ответов на эти вопросы, Альдо признал, что лучше всего делать добро украдкой, чтобы никто не знал, что не нужно никого ни о чем расспрашивать и ни с кем советоваться, а нужно поступать так, как будет подсказывать его личная совесть. Правда, он сознавал, что в таком решении скрывалось не только малодушие, но и ложь, но он утешал себя мыслью, что эта ложь являлась вынужденной и что он не виноват, если ему не позволяли быть искренним.
И чем больше думал Альдо о русском беженце, тем яснее сознавал, что он не сделал ошибки, а поступил так, как нужно было поступить. Между тем русский беженец получил эти 50 лир, и краска стыда залила лицо юноши. Беспомощно оглядываясь по сторонам, он точно искал того, кто прислал ему эти деньги и до того часто наводил справки у своих знакомых итальянцев, что над ним сжалились и выдали ему эту тайну.
"Мы догадались, – сказала ему знакомая итальянская семья, – что деньги послал Альдо, но не были в этом уверены, пока он сам себя не выдал своим отношением к нашему выговору. Он обиделся на нас и больше не заходил к нам. Но вы не судите его строго за его необдуманный поступок... Все же он это сделал от чистого сердца." Выговор ошеломил Альдо, он не знал, за что получил его и почему взрослые люди считают дурным то, что он считал хорошим. Он сердился и на самого себя за то, что не сумел скрыть тайны и своим смущением пред старшими выдал себя, однако же этот выговор дал его мыслям другое направление, и в его воображении стали рисоваться фантастические картины, превращавшие его поступок в чудовищное преступление, он готов был уже обвинять себя в том, в чем еще вчера черпал источник радости, и видел в чистом порыве своего сердца кровную обиду, нанесенную его бедному другу.
И эти картины, как кошмар, давили и терзали его. Не зная, куда укрыться от своих мыслей, избегая встреч со своими знакомыми, с товарищами, которые уже знали о его поступке и смеялись над ним, и более всего опасаясь встречи с русским беженцем, которого он "обидел", Альдо, под каким-то предлогом, упросил родителей отпустить его в Рим, откуда написал родителям такое письмо: "Я не знаю, как надо жить, я поступил так, как подсказала мне совесть, как требовало мое сердце, как вы с детства учили меня поступать... Я не знал, что хорошее в теории признается дурным на практике. Мне стыдно смотреть в глаза, я знаю только, что не знаю, как надо жить".
Кто у кого должен учиться жить: дети у взрослых или взрослые у детей? Господь наш Иисус Христос давно ответил на этот вопрос – Мф. 18, 2-3; Марк. 10, 14-15."
Думаю, что юношество всего мира находится в таком же положении и что везде и повсюду оно чувствует себя одиноким и беспомощным именно в ту пору, когда так нуждается в опоре, в посредниках между небом и землей, в духовных наставниках и руководителях.
Их не было... В лучшем случае были только книги... Официальная церковь, творившая свое великое дело в широком масштабе, была далека и точно стояла в стороне от них, в стороне от отдельных жизней, с их неразрешимыми проблемами, драмами и трагедиями...
ГЛАВА 55. Душевная драма обывателей
Если детская душа страдала потому, что была чистой и всякое прикосновение к ней мирской грязи причиняло ей мучительную боль, то не меньшими были страдания и тех взрослых людей, которые мучились сознанием своей нечистоты и духовной темноты, желали очиститься и просветиться и не знали, как это сделать.
Прожив всю жизнь, стоя уже у порога смерти, эти наиболее чуткие и лучшие из людей увидели, что точно просмотрели самое главное, самое важное, что было нужно в жизни, просмотрели науку жизни, которой не обучались ни дома, ни в школе... Все, чему их учили и что почиталось важным и нужным, сводилось к умению извлекать из жизни земные блага и умению пользоваться ими, и пока эти блага удовлетворяли их, пока интересовали и забавляли, до тех пор они не сталкивались с теми "проклятыми" вопросами, какие были ужасны, какие не только обесценивали все блага мира и желание ими пользоваться, но убивали и самую идею их жизни, ее смысл и содержание и делали их глубоко несчастными людьми... Оглядываясь на прожитую жизнь, они убеждались в том, что даже самые высокие идейные цели, к которым они стремились в полной уверенности, что делали нужное и доброе дело, вся их самоотверженная работа, проникнутая заботами о "народном благе", не достигала и не могла достигнуть той единственной разумной цели, какая заключалась в уменьшении суммы зла и в увеличении суммы добра в жизни, т.е. в борьбе с грехом в себе и вокруг себя.
Их мучили не только перекрестные вопросы и то, что они не умели их разрешать, но мучили и угрызения совести, сознание своей греховности и виновности пред Богом, и последние страдания были горше первых.
Подобно детской душе, и их души также искали духовных наставников и руководителей и, или не находили их, или находили тех, которые много знали, обладали великим духовным опытом, были святы, но не умели передать им свои знания, говорили с ними на непонятном языке и не могли ни утолить их духовной жажды, ни избавить от мучительных страданий духа...
Тогда они бросались в другие двери, хватались за науку, обращались к откровениям Священного Писания, доискивались ответов на запросы встревоженной совести и... нигде не находили этих ответов.
В первом томе своих "Воспоминаний", описывая религиозную атмосферу С.-Петербурга (гл. 57, стр. 247), я указывал на многочисленные "салоны" знати, являвшиеся средоточием религиозной мысли высшего столичного общества. Я и сейчас не могу без боли вспомнить о тех впечатлениях, какие я выносил оттуда, глядя на ту великую духовную жажду, какая влекла в эти салоны лучших людей и какая оставалась неудовлетворенной всеми этими беседами и рефератами на религиозные темы.
Выступал с этими беседами и покойный митрополит С.-Петербургский Владимир и пребывающие в столице епископы, читали свои рефераты и миряне, посещали означенные салоны все, кто хотел, начиная от членов Государственного Совета и сенаторов и кончая гимназистами и семинаристами, не говоря уже о светских дамах, для которых эти беседы являлись чуть ли не единственной духовной пищей, какой они питались.
После бесед происходил обмен мнениями... Я видел, как почтенные генералы, с громкими именами, сановники и вельможи, завершившие уже свой путь, робко подходили к лектору и задавали ему ряд таких вопросов, какие свидетельствовали как об их великой душевной драме, так и о той великой вере, какая была, казалось, способна на героические подвиги и жертвы, но с которой они не знали, что делать.
Я видел и таких, которые даже не решались делиться своими недоуменными вопросами и сомнениями из опасения, чтобы их вопросы не показались слишком элементарными и не обнажили бы их полного неведения в области религии. И эти люди страдали еще больше... Они были постоянными посетителями этих салонов, с особенным вниманием вслушивались в слова лектора, отмечали его слова в своей записной книжке, в надежде осмыслить их и найти в них ответы на мучившие их вопросы.
И глядя на эту подлинную аристократию, какую так строго судили, обвиняя в безверии и лицемерии, в черствости и эгоизме, в гордости и надменности и какая в действительности была виновата только в том, что не знала, что делать с избытком своей веры и как утолить свою жажду добра, я поражался темами духовных бесед и рефератов, подносимых вниманию этих столь ревностных и добросовестных искателей Бога.
Эти темы отражали совершеннейшее незнакомство лекторов с психологией их слушателей. Митрополит Владимир читал ряд лекций о пьянстве и его губительных последствиях для души и тела. Архиепископ Евдоким, обнаруживая недопустимое для монаха непонимание иноческой идеи и не учитывая обстановки, развивал ряд рискованных и в корне неверных соображений о роли монастырей и высказывал пожелание реорганизовать их на почве более активного служения ближнему и теснее связать с миром. Шумевший в то время архимандрит Михаил Семенов (впоследствии старообрядческий епископ) углублялся в первоисточники Божественного Откровения и распинал веру. Лекторы-миряне шли еще дальше и останавливались преимущественно на проблемах христианского социализма или на религиозно-философских темах, играя, точно мячиками, словами "Логос", "София", "Эрос", говорили о Бого-человечестве и человекобожестве, о самоотверженности и кафоличности, единосущии и подобосущии, о соборном единстве и соборной множественности, о самости и всеединстве, теофании, теократии, антропократии, временности и сверхвременности, о трансцендентном отношении Бога к человеку и, само собою разумеется, о "я" и "Я", цитировали ученых, о существовании которых никто не знал, – словом, говорили обо всем, о чем нужно было говорить для того, чтобы увеличить томление духа и что заставляло нередко присутствовавших на этих лекциях простецов монахов Александро-Невской Лавры, сопровождавших Владык, глубоко вздыхать и со словами: "Прости Господи, вот искушение", осенять себя крестным знамением и отмахиваться от красноречия лекторов, как от нечистой силы...
Ученые лекторы не понимали того, что их слушатели – это те же простецы, с великой верой и великой жаждой добра, только пышно и нарядно одетые, что им нужна не философия, а самое простое дело любви к ближнему, что они хорошо знают о подавляющем их совесть горе и страданиях ближних и мучатся сознанием неумения придти им на помощь, что им нужно дать маленькое, но конкретное, определенное дело, т.е. именно то, что давал своим прихожанам прелат Буткевич, о котором я говорил в 53-й главе, и что могло бы утолить страдания их духа и дать нравственное удовлетворение.
И сколько раз я порывался взойти на кафедру и громко крикнуть о том, что открыло бы глаза и лекторам и слушателям, но всякий раз меня удерживало сознание, что не подобает мирянам выступать с проповедями, да еще в присутствии иерархов Церкви, нескромно выступать в роли учителя христианской жизни, стыдно говорить об азбучных истинах, каким бы великим откровением они ни казались этой блестящей аудитории искателей Бога.
Я видел пред собою людей с тонко развитыми нравственными понятиями, с возвышенными стремлениями и горячими порывами, людей, ищущих выхода этим высоким движениям души и не знавшим, где найти его. Я знал, что их не нужно было учить вере, ибо они ее имели, не нужно было разогревать сердце, ибо оно уже пылало любовью к ближнему, не нужно было кричать об окружающем зле, что они знали об этом, тем меньше были нужны абстрактные рассуждения на религиозно-философские темы, а нужно было только показать им картины действительности, показать то, что они знали и слышали, но чего они не видели, еще лучше повести их туда, где царствовали порок и преступления и побеждала злоба, где несчастные жертвы этой стихии, точно отгороженные высокой стеной от всего прочего мира, тщетно взывали о помощи и куда никто не заглядывал, куда не проникали ни свет, ни жалость и сострадание, а царила вечная тьма...
Кругом было столько видимого горя и еще больше горя невысказанного, живущего в недрах чуткой души, боявшейся выносить его наружу, а наряду с этим столько душ, жаждавших подвига и способных на самопожертвование, а между тем обе стороны одинаково страдали, не находили друг друга, и действительность стояла на одном месте и не двигалась в сторону правды и добра.
И предо мною воскресали картины той ужасной действительности, какие я сам видел и какие показывала мне моя бабушка, дивная старица 92-х лет, у которой я жил одно время в Петербурге, мой друг и мудрый учитель жизни.
"Сегодня Рождественский сочельник, день Вашего Ангела и рождения, – сказала мне однажды бабушка, обращавшаяся, по старинному обычаю, на "вы" и к своим внукам, – чем же Вы намерены ознаменовать Ваш день?!"
И, не дожидаясь моего ответа, бабушка продолжала: "Теперь принято устраивать обеды, пить шампанское, подносить подарки, а в старину было не так. В мое время во дни имянин или рождения старались творить сугубое добро и отваживались даже на подвиги во имя своего святого... Возьмите "Новое Время", там на последней странице печатаются в этот день адреса тех несчастных, которым нужно помочь, выберите себе кого-либо, найдите их и помогите им, вот и дело сделаете доброе и сами радость получите..."
Стояли трескучие морозы... Было уже темно, когда я подъехал к Обводному каналу, разыскивая адрес бедной вдовы с пятью малолетними детьми. Переходя из одного двора в другой, спускаясь то с одной грязной лестницы, скользкой, облитой помоями, то с другой, я только и слышал грозные окрики: "Да разве их понаходишь-то, все подвалы битком набиты, ищите по нарам, да и на что они вам понадобились", – кричали дворники...
И ощупью, с закрытыми глазами, чтобы не наткнуться на гвоздь, стуча впереди себя палкой, я пробирался по темным коридорам подвального этажа огромного дома в поисках бедной вдовы и не находил ее...
"Может быть, Господу и не угодно принять мою лепту," – тревожился я...
Вдруг откуда-то послышался плач ребенка... Я подошел к дверям. Они были полуоткрыты... Было темно...
– Кто здесь? – спросил я.
– Мы, мы, – раздалось несколько голосов.
– Что же вы делаете здесь, где мама? – спросил я, зажигая спичку.
– Мама пошла за хлебом, – ответили все сразу.
Я увидел перед собой крохотных детей, из коих старшему было не более 5-ти лет. Все трое копошились на высоких нарах, рискуя каждый миг свалиться на грязный каменный холодный пол и искалечить себя.
Я не знал, что делать... В расположенных вдоль длинного коридора комнатах, сверху донизу уставленных нарами, никого не было и некого было попросить присмотреть за детьми.
– Когда ушла мама, скоро придет? – спросил я детей.
– Утром, – ответили они, – дайте кусочек хлеба, кушать хочется, – лепетали дети, очевидно голодавшие целый день.
У меня же, кроме денег, ничего не было. Я не догадался взять с собою ничего, что было так нужно взять, чтобы оказать несчастным действительную помощь.
– Сидите смирно и не двигайтесь, – сказал я им, закутав детей в грязную тряпку, служившую им одеялом, – я сейчас принесу вам покушать, но только сидите смирно, иначе попадаете на пол.
Обрадованные дети обещали сидеть смирно, а я бросился к извозчику и приказал ему как можно скорее ехать в ближайшую булочную или паштетную.
– Что вы, что вы, – встрепетнулся извозчик, – сегодня же сочельник, какие там булочные и паштетные, все позакрыто, да тут и булочной не найдешь поблизости, а пришлось бы возвращаться в город.
У меня опустились руки... Возвращаться домой, на Марсово поле, где я жил, значило потерять около двух часов, давать деньги детям было невозможно, и я решил обойти квартиры жильцов этого огромного дома и попросить их помочь бедным голодным детям.
Но не успел я подойти к первой освещенной квартире, как встретился с входившей во двор оборванной полуобнаженной женщиной с грудным младенцем на руках. За нею, держась за юбку матери, шел мальчик лет четырех, волоча по земле... маленькую елочку.
У меня дрогнуло сердце при виде этой картины и слезы показались на глазах.
От волнения я ничего не мог сказать ей, а только быстро сунул ей в руку деньги, побежал к своему извозчику, провожаемый злобными выкриками дворника: "Ишь какая, выпрашивает у господ деньги, а сама покупает елки, подумаешь, барыня какая!"
Но то, что вызвало досаду у дворника, то побудило в моей душе совершенно иные ощущения.
Вот она, та награда небесная, о которой предваряла меня моя бабушка, думал я, возвращаясь домой. Да разве можно забыть когда-либо этот факт, который был способен исторгнуть из самой черствой души, из самого окаменелого сердца слезы умиления, утолить самую великую духовную жажду, зарядить душу неисчерпаемым запасом духовной бодрости и энергии и ответить на все недоуменные вопросы встревоженной совести?!
Вот где настоящий подвиг, вот где подлинный отблеск небесного сияния на земле, думал я, и может ли быть что-либо выше и чище этого чувства, которым руководилась голодная мать, отказывая себе в куске хлеба для рождественской елочки детям?!
С тех пор прошло уже 20 лет, а эта картина дрожащей от холода матери, в одной руке державшей грудного младенца, а другой рукою трепетно закрывавшей обнаженную грудь своими лохмотьями, этот растерянный вид несчастной женщины, точно ошеломленной неожиданной встречей со мной, этот четырехлетний мальчик, цеплявшийся за юбку матери и крепко державший в руке семикопеечную елочку, – эта картина и до сих еще пор стоит перед моими глазами и учит гораздо большему, чем все эти собеседования, лекции и рефераты, казавшиеся мне таким жалким, ненужным и ничтожным, собиравшие в салонах знати скучавшую публику, томившуюся от безделия в то время, когда вокруг было столько дела и дела срочного.
Перед моими глазами стояла вереница экипажей, с замерзающими на козлах кучерами и ливрейными лакеями, ожидавшими у блестящих подъездов, залитых светом электричества, своих господ, и я глубоко жалел... господ. Я знал, как несправедливо осуждают их, как знал и то, что их грех заключается не в том, что они, сытые и довольные, не хотели думать о меньшем брате и помогать ему, а в том, что не знали, как это сделать, что любая из этих светских дам, сводившая, казалось бы, все интересы своей жизни к заботам о своем туалете, не задумалась бы отдать этой меньшей, голодной братии, вместо куска хлеба, все свои драгоценности, если бы только увидела то, о чем слышала на лекциях и собеседованиях или читала в газетах.
И я вспоминал покойную княжну М.М. Дондукову-Корсакову и Е.Н. Воронову, приводивших в изумление своими подвигами окружавших, Ф.К. Пистолькорса, не разлучавшегося с Евангелием и читавшего его оборванцам в Галерной Гавани, и целый ряд других представителей столичной знати, самоотверженно отдававших себя бескорыстному служению ближним...
О, если бы эта аристократия вместо того, чтобы терзаться над измышлением способов помощи ближним или над разрешениями религиозно-философских проблем, увидела бы эту елочку в 7 копеек, то ринулась бы в эти трущобы нищеты и увидела бы Бога, Которого искала в салонах знати... И эта елочка переставила бы все старые точки зрения, опрокинула бы все прежнее миросозерцание, разрешила бы все доныне неразрешенные проблемы духа и сказала бы, что подлинное Царство Божие находится внутри нас, в сердце нашем, а не там, где его искали и все еще продолжают искать и нигде не находят.
Но кто же мог показать им эту елочку, кто должен был бы повести их к родникам чистой воды и напоить их, утолить их жажду духовную и дать им, вместе с делом Христовым, те небесные ощущения, какие с этим делом связаны...
Я приподнял только уголок душевной драмы обывателя. Но разве только эти житейские вопросы, хотя и высшего порядка, терзали его душу?! Разве эти люди спрашивали только о том, почему так много зла в жизни и как бороться с ним, как и где найти выход своим стремлениям к добру?! Нет, они спрашивали и о том, откуда взялось это зло, где спрятаны его причины, почему мир ведет борьбу со злом в области его последствий, а не в области его причин, почему не вырывает его корней, а в лучшем случае только отбивается от него?
Ответы на эти вопросы были, но их никто не давал.
И как у детей, так и у взрослых не было посредников между небом и землей, как те, так и другие ощупью добирались до Бога, падали и некому было поднять их... И это в России, в лоне Православной Церкви – средоточии величайшего в мире духовного богатства, крупицами которого пользовались лишь единицы.
ГЛАВА 56. Пастыри и паства
Мы видели уже из предыдущего, что иерархи были склонны объяснять всякого рода нестроения в церковной жизни то внешними причинами, разумея под ними синодальную систему, то внутренними, связывая их со свойствами самой паствы, оторванной от Церкви, безверной и безрелигиозной. Но это неверно. Формы всегда неодушевлены, жизненно только содержание. И никакая форма не способна убить духа, если он есть. И те, кто имел его, те не только являли его, но и одухотворяли других.
Синодальная система, как я уже неоднократно указывал, явила целый сонм подвижников, причтенных к лику святых Православной Церкви, целый ряд выдающихся церковных деятелей, из коих ни один не жаловался на тот гнет и оковы рабства, о которых стали говорить в России лишь с момента общего революционного брожения, заразившего и некоторых иерархов, вторивших общим крикам о "свободе".
Нет, нестроения в церковной ограде нужно искать совершенно в другом месте, и я частично уже отметил их, когда говорил о взаимоотношениях между официальной и неофициальной церковью, между епископами и монахами, между образованным классом и духовенством.
Авторитет духовенства в России действительно был невысок, но вызывалось это явление не безверием и безрелигиозностью русского народа, а как раз наоборот, его повышенными религиозными требованиями, не находившими удовлетворения со стороны русского духовенства в массе.
"Богоискательство" – чисто русское явление, рожденное именно на этой почве религиозной неудовлетворенности и одиночества духовного.
Авторитет духовенства и не мог быть высоким при той кастовой организации, какая если не исключала, то во всяком случае сильно затрудняла доступ в его среду представителей других сословий. Причины этого последнего явления сложны, и я не буду их касаться, однако тот факт, что состав русского духовенства был ограничен рамками кастовой к нему принадлежности, а между "духовными" и светскими учебными заведениями стояла непроходимая стена, чрезвычайно резко отражался на его общем уровне. Можно сказать больше того. За последние 25-30 лет перед революцией служение Церкви в России сделалось как бы привилегией для детей церковных причетчиков, зажиточных крестьян и мещан, потому что даже дети бедного духовенства, в особенности городского, получали обыкновенно образование в светских учебных заведениях и не шли по стопам отцов, а устраивали свою будущность на разных поприщах государственной и общественной деятельности.
В связи с этим и епископат пополнялся преимущественно представителями мало тронутого культурой русского простонародья. Такие иерархи, не соприкасавшиеся вовсе с интеллигенцией и не знавшие ее вплоть до епископской хиротонии, открывавшей им доступ в чуждую для них среду, относились к последней не только отрицательно, но часто даже враждебно. Воспитанные на началах оппозиции "дворянству", как к таковому, в специфической обстановке домашнего очага, а затем в условиях семинарского быта, русские иерархи в большинстве случаев не только не умели приблизить к себе паству, но и не желали этого и не собирались входить в более тесное общение со средой, чуждой им и по рождению и по воспитанию.
Из смиренных и простых крестьянских и псаломщицких детей, зачастую с добрыми навыками и наклонностями, они чрезвычайно быстро превращались в гордых и надменных Владык, воспринимали почести и славу, пресыщались честолюбием и ограничивали свою задачу служения народу лишь совершением торжественных богослужений или подписыванием консисторских бумаг. Но духовная жизнь паствы, общие церковно-государственные задачи протекали не только вне поля их зрения, но и вне поля их разумения. Это были духовные сановники, неудачно копирующие губернаторов и генерал-губернаторов, бравшие от своей паствы все и взамен ничего ей не дававшие.
При таких условиях верующие люди по необходимости должны были искать удовлетворения своих духовных запросов в других местах, и неудивительно, если наталкивались на тех, кто эксплуатировал их веру.
О темноте русского народа и его религиозном невежестве, о гордости и надменности русской интеллигенции и особенно ее аристократии писалось и говорилось так много, что потребовались бы томы для того, чтобы опровергнуть ту ложь, которая скрывалась за этими писаниями и разговорами. И однако в области своей религиозной жизни ни один народ в мире не проявлял столько смирения, столько пламенной веры, столько уважения к достойным представителям духовенства, как русский народ.
Значительно выше был общий духовный уровень низшего духовенства и особенно подвижников монастырских и сельских священников, между которыми встречались выдающиеся представители, фактические держатели веры русского народа и его подлинные воспитатели. Эти последние, разумеется, не только никогда не жаловались на какие-то "системы" церковного управления, но даже не замечали своего архиерея или игумена монастыря, ибо их начальниками были не Синод и епископ, не обер-прокурор или секретарь консистории, а их вера, страх Божий, сознание нравственного долга.
При отсутствии регламентации церковной жизни в России и неорганизованности приходской жизни, эти подвижники были единственными, к коим тянулись русские люди, начиная от Царя и кончая простолюдином. Официальная же Церковь стояла в стороне, и духовная жизнь русского народа протекала помимо ее, чего бы никогда не случилось, если бы ее представители были похожи на этих подвижников и являлись бы в глазах народа подлинными пастырями Церкви. И чем больше тянулись иерархи к власти, чем больше погружались в сферу государственных дел, своеобразно ими понимаемых, чем более резкую грань проводили между церковными и государственными делами, тем дальше уходили от своей паствы, тем меньше были ей нужны.
Вот где источник нестроений в области церковной жизни России.
ГЛАВА 57. Епископы и монахи
Мы подошли к вопросу, на котором уже останавливались на предыдущих страницах. Душевная драма епископа, если он монах не по должности, а по призванию и убеждению настолько велика, что у епископа имеется только два выхода: или опуститься в толщу мирской жизни и заглушить грехами свою совесть, перестать думать о данных при пострижении в иночество обетах Богу, или, оставаясь верным этим обетам, сбросить с себя ярмо своих обязанностей "правящего" архиерея и уйти на покой.
Наиболее чуткие из епископов после бесплодных попыток найти средний путь и примирить непримиримое так и поступали и слагали с себя свои обязанности, понимая, что никакая церковно-государственная деятельность несоединима с иночеством. Перед ними была дилемма: или, оставаясь в миру, перестать быть монахом, или, оставаясь монахом, не соприкасаться с миром. В большинстве случаев, однако, практика разрешала эту дилемму не только в ущерб, но даже противно иноческой идее, в результате чего в России было много архиереев, но среди них очень мало монахов, тогда как первейшая и главнейшая задача русского православного епископа заключалась именно в поддержании и укреплении иноческого духа, этой главной основы и опоры Православия.
Отсюда получилось два роковых последствия.
Первое из них выразилось в оскудении монашества и гибели монастырей, утративших свое первоначальное значение, второе – в фактическом отделении Церкви от государства, хотя и связанной с последним юридическими связями, однако фактически не выполнявшей своей задачи.
Обратимся сначала к первому.
Естественно, что контролировать деятельность монастырей, следить за иноческой жизнью и содействовать ее процветанию может только монах, опытно прошедший школу иночества, знакомый с приемами, задачами и целями внутреннего духовного делания, и потому совершенно правильно, что монастыри были отданы ведению епископа, как лица не только прошедшего все ступени иноческого подвига, но и вознесенного на самую высшую ступень последнего. Теоретически мысль была построена правильно и возражений не вызывала.
Но что же получилось в действительности и во что превратились наши современные монастыри?
Являясь по мысли и духу иноческих уставов духовными лечебницами для больных, зараженных грехами людей, той школой бесстрастия, где научаются замечать свои греховные навыки, бороться с ними, искоренять их и возноситься душою к Богу, теми единственными оазисами в пустыне мира, которые призваны беречь правду Христову от мирской заразы и приобщать к ней ищущих ее, – монастыри стали постепенно превращаться в общежития людей, связанных между собой только общими грехами, где бушевали все свойственные человеку страсти, на общем фоне которых особенно резко выделялось безмерное, не знающее никаких пределов, ничем неутоляемое честолюбие – эта главная ось, вокруг которой вращались все прочие страсти. И это понятно!
Начиная от иерархов и кончая послушниками, иноческая братия выходила обычно из той среды, которая воспиталась на ненависти к высшему сословию, но в то же время стремилась сравняться с ним. Здесь сказывались столько же зависть к преимуществам, сколько и совершенно неверное представление об интеллигенции, являвшейся, по мнению непринадлежащих к ней, обладательницей всех доступных человеку земных благ. Ведь одна только Россия являла собою примеры, когда родовитая знать, движимая высокими идейными побуждениями, шла в толщу народную, надевала свитки и лапти и превращалась в мужиков, а мужики, движимые непомерным честолюбием наряжались в пиджаки и рясы, уподобляясь "господам". Побудительным мотивом к иночеству для весьма многих являлось даже не это, столь характерное желание отмахнуться от упорного физического труда, сколько это неукротимое честолюбие, стремление сравняться с настоящими "господами". А уклад монастырского быта, с его системою "наград" и "повышений по службе", как нельзя более культивировал эту страсть, открывая полуграмотным и невежественным монахам перспективу достижения даже епископского сана. Отсюда соревнование и зависть, отсюда самая обыденная проза жизни, столкновение самых грубых, разнородных, взаимно пересекающих друг друга интересов, постепенно вытеснявших главную идею монастыря – спасение души, смысл и основу иноческой жизни.
Что представляла собой братия любого монастыря, а особенно многолюдных Лавр? Это было сборище людей, чуждых культуре, живущих интересами желудка, зачастую эксплуатировавших веру простого народа, развращенных леностью и тунеядством, сгоравших от честолюбия и страстно добивавшихся всякого рода "отличий" и "повышений по службе".
Окруженные исключительно благоприятными внешними условиями жизни, вдали от шума и житейской суеты, свободные от необходимости добывать себе средства к жизни упорным физическим трудом, имея выработанные великими подвижниками святые уставы, а часто даже великих учителей жизни, опытно усвоивших эти уставы, насельники монастырей в своем большинстве не были способны воспользоваться ни одним из этих условий и отличались от своих собратьев крестьян только тем, что вместо шапок носили клобуки, вместо свиток – рясы; освободившись от прежней приниженности и смирения, они стали надменными и гордыми; вместо того, чтобы приблизиться к Богу, – ушли от Него на такое расстояние, откуда уже перестали и видеть и слышать Его.
Каким же образом произошла такая "эволюция" и кто в этом повинен? Почему монастыри, гордость и краса Православия, стали хиреть и утрачивать свой первоначальный облик и значение?
На фоне исторической жизни монастырей можно было бы найти много самых разнообразных причин, разлагавших жизнь обителей, однако наблюдательный историк сведет их к одной и скажет, что погубили монастыри главным образом сами же епископы.
Пока монастыри жили своей обособленной от епархии жизнью и над ними главенствовал не епископ, а игумен, причем должность настоятеля монастыря не являлась переходной ступенью к епископству, а была высшей ступенью иноческого подвига, пока монастыри не участвовали в расходах на содержание епархиального архиерея и его штата и были независимы от него, до тех пор они и вращались в сфере, отведенной им их уставом и, работая на себя, не имея подчас и нужды возрастать материально, росли духовно, и за оградой монастыря жила только одна идея – спасение души и нравственное совершенствование.
С того же момента, когда монастыри стали рассматриваться как учреждения, подведомственные епархиальному архиерею, обязанные перед ним отчетностью и контролем, когда должность настоятеля монастыря стала переходной для соискания епископского сана и на эту должность стали назначаться не умудренные духовным опытом старцы-учителя иноческой жизни, каковыми и были прежние игумены, а юноши-карьеристы, окончившие курс Духовной академии и мечтавшие об архиерейской кафедре; когда монастыри были приобщены к расходам на содержание епископа, что погрузило их в заботы об изыскании таких средств, когда, наконец, стали резиденциями епископов, втащивших за их ограду тяжелый груз епархиальной жизни, заразивший своим мирским ядом самый воздух обители, – тогда и началось разложение монастырей.
И такое разложение сделалось бы неминуемым даже при условии, если бы сами епископы были подвижниками-монахами, ибо приобщение монастырей к материальному участию в расходах на содержание архиерея само по себе заключало в себе элементы такого разложения, так как превращало монастыри в данников архиерея, налагало на них преимущественные заботы об изыскании потребных для этой цели средств и отвлекало их от прямых задач.
Когда же большинство епископов были монахами только по должности, а не по призванию, и не только не имели никакого понятия об иноческой жизни, но даже не видели этой жизни, не бывали ни в Оптиной, ни в Глинской, ни в Саровской и др. пустынях, ни на Валааме или в Соловках и не чувствовали потребности в общении с подвижниками этих обителей, светившими даже миру, считая монастыри вообще бесполезными учреждениями, тогда между епископом и монастырем образовалась с течением времени уже такая непроходимая бездна, такая пропасть, что они и не видя, и не слыша, и не понимая друг друга, только враждовали между собой.
Как ни низко пали монастыри нашего времени, как ни удалились от своих первоначальных целей и заданий, однако они имели писанные уставы величайших подвижников и мудрецов, и тот, кто пользовался этими уставами и добросовестно выполнял программу жизни инока, оставаясь верным обетам пострижения, тот достигал и горних высот, доходил до такого совершенства, какое делало его поистине святым даже при жизни.
Иным был путь молодого постриженника, двигавшегося по направлению к епископской кафедре. Обыкновенно начальным этапом такого пути была семинария, куда молодой постриженник назначался инспектором или ректором, а конечным этапом – великосветские гостиные и салоны знати, где он появлялся уже по достижении сана архимандрита, находясь, так сказать, уже в преддверии епископского сана.
Но этот путь даже не соприкасался с оградой монастыря, и епископы, вооруженные, в лучшем случае, лишь теоретическими познаниями, приобретенными в Духовной академии, оказывались мало подготовленными к сложному делу управления епархиями, а в сфере иноческой жизни так и совсем не разбирались, ибо не имели ни малейшего духовного опыта.
Вот где нужно искать причины тех взаимоотношений, какие существовали между епископами и подлинными монахами, между епископами и монастырями. Между ними шла страшная борьба и, хотя побеждали епископы, но правыми были монахи. Не только подвижники-монахи, но мало-мальски духовно просвещенные миряне понимали, что как иночество является (теперь нужно сказать должно являться) основой Православия, так основой иночества является старчество, а между тем старчество почти повсеместно изгнано самими же архиереями и теперь существует в некоторых монастырях лишь как редкое явление. Не имея понятия о природе этого дивного института, сохранившегося только в одной России, близорукие епископы видели в старчестве явление, подрывавшее не только нравственный, но и юридический авторитет епископа.
Кто не знает, например, той упорной и жестокой борьбы, какую вели Калужские архиереи с Оптинскими старцами и, в частности, со знаменитым старцем Амвросием?!
"Это не старцы, а анархисты, – сказал мне однажды один из Калужских Владык, – они отбирают от епископа его паству... Там, где заведется такой старец, там народ толпами ходит к нему, днем и ночью простаивает перед его келлией, слепо повинуется ему, и, конечно, не только епископ, но и всякая власть становятся народу ненужными, ибо старец для него – все. Он для народа и епископ, и врач, и судья, и ходатай по делам... Я бы разогнал всех этих старцев, чтобы они перестали морочить головы простому люду, и послал бы их копать огороды", – говорил Владыка, все более раздражаясь.
Эти слова, кстати сказать, относились к одному из выдающихся старцев Оптиной пустыни, недавно скончавшемуся иеросхимонаху Анатолию, одна из бесед с которым была приведена мной в первом томе моих "Воспоминаний".
Я не был удивлен таким отзывом о старцах Калужского епископа. Я увидел в этих словах лишь новое свидетельство того, что большинство епископов имеет слабое представление об иноческой жизни, до пострижения не проходило требуемого уставами искуса, а после пострижения не выдержало определенного монашеского стажа в стенах монастыря и совершенно незнакомо с иноческими уставами.
Нисколько не удивительны и отзывы Калужского епископа о старцах и отношение большинства архиереев к "старчеству". Здесь нашло свое отражение и общее незнакомство с природой и сущностью монашества, и непонимание психологии народной веры и государственного значения деятельности старцев, которые были и навсегда останутся единственными учителями жизни, единственными светочами веры, и к которым до скончания веков будет тянуться Святая Русь.
К иноческой идее нельзя подходить с общегосударственными мерками, ибо эта идея – внегосударственная, точнее – надгосударственная.
С точки зрения архиерея, как церковно-государственного деятеля и начальника епархии, всякий подвижник, не имеющий нужды в земной власти, может казаться анархистом, не в обычном, конечно, смысле этого слова, с коим связано непризнание или отрицание власти, а потому что подвижник свободно обходился без нее; власть попросту не нужна ему в том деле возношения души к Богу и нравственного усовершенствования, какое составляет его единственную задачу на земле.
Но с другой стороны, с точки зрения подвижника, монах, давший обеты Богу при пострижении, и не может иметь никаких других задач и целей на земле, и монах-епископ, управляя епархией и живя в миру, – нарушает данные им Богу обеты.
Разногласия между монахами по призванию и монахами по должности неизбежны и неустранимы, но правда на стороне первых, ибо идея монашества неделима, и к этому выводу приходили и те из наиболее чутких сердцем епископов, которые покидали свои епархии и уходили на покой или даже в затвор, признавая невозможным при иных условиях выполнить обеты, данные при пострижении Богу.
Возможно, что иерархи, прочитав настоящую главу, осудят меня и припишут мне мысли, каких я не имею, однако же я повторяю лишь то, что всегда искренно исповедывал, говоря, что Россия должна всемерно беречь иноческую идею, ибо эта идея является ее главной опорой.
Я искренно сочувствовал проектам церковных реформ 1916 года и в выработке некоторых из них принимал даже личное участие, однако я сознавал и сознаю, что все они в большей или в меньшей степени являлись только паллиативами, что для возрождения церковной жизни России необходимо прежде всего оберегать иноческую идею от мирской заразы, ибо глубоко верю, что обещанное Спасителем Царство Божие на земле наступит только тогда, когда весь мир превратится в монастырь, когда религиозное сознание пробьется в самую толщу жизни, когда государственные цели и задачи сольются с церковными и идея спасения станет государственной идеей.
ГЛАВА 58. Православие и Католицизм
Заканчивая обзор церковных вопросов, я не могу, в заключение, не коснуться параллели между Православием и Католицизмом в сфере их практической деятельности в России. Такая параллель может оказаться полезной при оценке той лжи, какая витала вокруг обвинений государства в насилиях и гнете, чинимых над Православной Церковью, и вокруг жалоб на синодальную систему как источник всех бед и несчастий, обрушивавшихся на Церковь и державших ее в оковах.
Нужно было бы исписать много страниц для того, чтобы только перечислить функции этого католического церковного аппарата, вливающего струи католицизма во все поры государственной, общественной и личной жизни и регламентирующего жизнь католического населения с помощью приемов, недоступных даже государству.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что, с точки зрения своих земных устоев и совершенства церковного аппарата и технических орудий управления церковью, Католическая Церковь имеет все преимущества перед Православной... Однако только незнакомство с плодами католицизма может связывать с папством процветание Церкви.
Источники земного могущества Католической Церкви восходят ко времени разрыва между Квириналом и Ватиканом. Лишившись опоры со стороны государства, не понимая, что без них немыслимо земное существование Церкви, Ватикан поневоле был вынужден изыскивать свои собственные опоры. А земные опоры не только везде одинаковы, но и создаются одинаковыми способами и приемами. С этого момента начался рост внешнего могущества Католической Церкви, но одновременно и упадок ее как Божественного установления. Медленно и постепенно Католическая Церковь стала превращаться в государство, сумевшее подчинить католиков своей воле, дисциплинировать их на началах абсолютного повиновения, связать их церковно-политическими задачами, преследующими земные цели, но не сумевшее ни поддержать, ни развить у населения религиозной настроенности и убившее у него мистические начала веры, являющиеся сердцевиной веры и столь дорогие в Православии. Даже лучшие из представителей духовенства являлись только выдающимися церковными деятелями, очень ценными церковными чиновниками, но не пастырями душ в православном понимании. Они умело выполняли свою миссию христианизации жизни, но выполняли ее государственными, а не церковными способами, звали к практическому деланию, осуществляли, подобно прелату Буткевичу, о котором я упоминал в предыдущих главах, те задачи, какие у нас выполнялись разного рода благотворительными обществами и учреждениями, развивали вкус к добру, но... оценивали своих пасомых с точки зрения их служения общецерковным целям, а не с точки зрения высоты их нравственного уровня и степени религиозной настроенности.
Обладая огромными средствами и совершенным техническим аппаратом, Ватикан имел во всем мире бесчисленную армию церковных чиновников в рясах, но весьма мало подлинных пастырей церкви. Все эти чиновники, начиная от высших, облеченных высоким званием кардиналов, и кончая ксендзами, были вполне законченно образованными людьми высокой культуры, но все они сводили свою задачу к укреплению позиций Ватикана, к распространению Католицизма в мире, но не простирали ее за пределы загробной жизни, не связывали ее с идеей спасения души.
Несмотря на крайне своеобразные отношения, существовавшие между Ватиканом и Квириналом, несмотря на "юридическое" отделение Церкви от государства в Италии, ни одна страна в мире не являет более яркого примера служения интересам государства, как Италия. И это объясняется не только тем, что Ватикан считает своей паствой весь мир, но и тем, что отдает себе отчет в значении земных устоев Церкви и старается их всячески поддерживать, зная, что без них рушится и Церковь. И эти земные устои Ватикана действительно прочны. Развалить их было бы способно только большевичество. Однако свою земную устойчивость, совершенство своего технического аппарата Ватикан купил дорогой ценой, перестав быть Церковью.
Сияющая блеском своего внешнего могущества, обладающая колоссальными средствами, окружающая своих представителей сказочной помпой, распространившая свою деятельность по всему миру, Католическая Церковь стала бесплодной, перестав быть Церковью, превратилась в мировое учреждение, преследующее высокие благотворительные и просветительные цели, поддерживающее интересы государства и населения, но утратила даже понимание своих непосредственных задач духовного окормления многочисленной, разбросанной по всему миру паствы.
Все это очень нужно. Слабое участие в культурно-просветительской работе государства было недостатком Православной Церкви в России. Однако же видеть в означенной работе задачу Церкви – нельзя. Ее задача – спасение душ пасомых; но переобремененная грузом мирских дел, озабоченная своей внешней устойчивостью, Католическая Церковь не имела даже времени и возможности отдаваться своей непосредственной задаче.
Вот те перспективы, какие стоят и перед Православной Церковью в России на пути к обособлению Церкви от государства.
Бесспорно, что всякого рода земные организации, живущие в пределах государства, тем жизненнее, чем прочнее их земные опоры, но опыт Католической Церкви доказывает, что такие опоры должно давать Церкви государство, а отнюдь не сама Церковь, если хочет оставаться Церковью.
ГЛАВА 59. Дурман
Как ни разнообразны узоры истории, как ни извилисты линии жизни, но наблюдательный взор историка не только подметит определенную систему в направлении этих линий, но сумеет, основываясь на прошедшем, сделать выводы и для будущего. То же сделает и психолог, наблюдая внутреннюю жизнь людей, так же подчиненную непреложным законам духа и слагающуюся в соответствии с отношением человека к этим законам.
Это не пророческий дар неба, не прозорливость праведника, а свободное произволение смотреть и видеть, и только непривычка всматриваться вглубь окружающих нас явлений рисовала нам картину внешних фактов, будто не связанных друг с другом и разъединенных между собою, тогда как они составляли собою лишь звенья общей длинной цепи...
Начало XIX века в России было ознаменовано одним страшным и поистине ужасным явлением, природа которого не только не была в свое время разгадана, но и до сих пор, спустя 100 лет, остается загадкой для каждого, кто не видит корней этого явления в глубочайших недрах истории.
Имевшее обманчивую внешность, выражавшуюся в неудержимом стремлении к "новшествам" в многоразличных областях русской жизни, и даже в сфере религиозной мысли, такое явление, преследуя внешние цели, стремилось, в действительности, к искоренению самого духа христианства, находившего для себя наиболее полное и яркое выражение в древнем русском быте, верном историческим заветам Православия и Самодержавия.
Праотеческая вера, предковский уклад жизни, все "старое", на чем держались главнейшие устои русской церковности, государственности и народного быта, чем жили, мыслили и чему поклонялись предыдущие поколения, все это под влиянием массового гипноза, навеянного жидовством, стало ниспровергаться, опрокидываться, уничтожаться и заменяться новым знанием, новыми достижениями и откровениями, изобличающими сатанинскую ложь вдохновителей, слепоту и ничтожество тех, кто им верил и следовал.
Корни этого движения были запрятаны так глубоко, что их не замечали ни идейная молодежь, им охваченная, ни литература и пресса, руководившая этим движением, ни те неумные, так называемые "передовые" люди, какие создавали "прогрессивную" общественность и какие до сих пор еще рассматривают историю человечества как смену отживающих "старых" понятий – или добровольно уступающих свое место "новым", или насильственно вытесняемых революциями, этими якобы неизбежными историческими факторами, знаменующими собой лишь "изменение символики внутренней жизни народов" (Н.Бердяев. Журн. "Путь", № 1, стр. 43).
Здесь величайшее заблуждение, ибо с момента возвещения человечеству идеи Вселенского Бога, т.е. с момента явления Христа Спасителя на землю, Истина уже сказала людям Свое последнее слово, выразительницей этой Истины явилась Церковь, идеалы которой вечны, неизменны и независимы ни от духа времени, ни от его требований, так что историю человечества никак нельзя рассматривать как смену "старого" чем-то "новым", ибо ничего "нового" в сфере возвещенных Богом идеалов и способов их достижения не может быть, а нужно рассматривать лишь как смену исторических процессов, то приближавших человечество к возвещенной уже Истине, то удалявших его от Нее, то сокращавших расстояние людей от Бога, то увеличивавших его.
Рассматривая историю под этим углом зрения, мы заметим и те причины, какие вызывали означенные процессы, и нам станет до очевидности ясным, что с момента низведения Божественной Истины на землю вся история человечества свелась, в сущности, к истории борьбы двух мировых процессов – процесса христианизации мира и процесса его сатанизации, или ожидовления.
Пересмотр, а возможно и составление заново истории человечества под указанным углом зрения, обнаруживание подлинной роли еврейства в истории мира, указание на процесс его ожидовления, как на тот фактор, который не только являлся постоянным спутником исторической жизни народов, но и составлял ее главнейшее содержание, подчиняя ее своим директивам, господствуя над нею, направляя ее в заранее намеченное русло и порабощая ум и волю человека, – все это задачи уже недалекого будущего, над разрешением которых трудятся русские и иностранные ученые, разоблачающие еврейскую ложь везде, куда она вкралась, и справедливо относящие корни этого ужасного процесса сатанизации мира к моментам зарождения той борьбы, какая выразилась в бунте сатаны против Бога, началась на небе и продолжается до наших дней на земле с целью разрушения дела Христова и уничтожения его плодов – христианской веры, цивилизации и культуры.
В дальнейшем я имею в виду развернуть несколько страниц истории и показать, в каком месте запрятаны корни того процесса, который в своем результате дал ужасы революции, частично отмеченные мною в предыдущих главах моей книги, сейчас же достаточно сказать, что именно это стремление к "новшествам", шедшее параллельно с разрушением "старого", диктовалось не действительными требованиями времени, отражавшими "изменение символики внутренней жизни народов", а было одним из способов, который практиковался жидами на протяжении веков в целях сатанизации мира и который и погубил Россию.
И это видно из того, что всё, тяготевшее в сторону ожидовления мира, – все те приманки, на которые столь жадно набрасывались так называемые "идейные" люди, порвавшие связь с Богом, – признавалось "новым", знаменовало "весну", окрашивалось радужными цветами, выражало жизнь, прогресс, культуру; и, наоборот: всё, оберегавшее заветы прошлого, исходившие из родников предковской православной веры, этих священных недр подлинной культуры духа, – признавалось реакцией, застоем, отсталостью.
Этот дурман продолжается и до сих пор и будет продолжаться, пока не установится общий взгляд на революцию, как на одно из звеньев единой цепи исторических событий, искусственно вызываемых с целью ожидовления или сатанизации мира, а не как исторический фактор, отражающий изменение "символики внутренней жизни народов" в понимании Н.Бердяева. Да, это символика, но символика колоссального невежества и духовной слепоты народа, а не его борьбы со старыми, отживающими понятиями, добровольно не уступающими своего места новым понятиям и потому насильственно вытесняемыми через революцию.
То, что названо словом "большевичество" и еще долго будет скрываться под этим именем, составляет обычный прием, коим жидовство пользовалось на протяжении веков в целях завоевания мира, и непостижимо, что это нужно объяснять даже теперь, когда жиды уже стоят у порога своей цели и почти овладели миром.
В № 9 "Русской Трибуны" от 15 июля 1923 г. помещена замечательная статья[18] под заглавием "Уроки прошлого", которую нужно отметить как свидетельство того, что эти уроки ничему не научили русских людей, даже доныне не распознавших природы "большевичества".
Эти же мысли, в применении к конкретным действиям жидов, выражены в не менее яркой статье В.В., напечатанной в № 1421 газеты "Новое время" от 24 января 1926 г. и присланной редакции из Москвы. Автор справедливо отмечает, что русское беженство не только не разгадало корней революции, но даже не разбирается в ее внешних проявлениях.
В.В. пишет: "Когда читаешь статьи в эмигрантской печати (до сих пор такие доходят), касающиеся еврейского вопроса в общем и вопроса о колонизации евреями юга России в частности, – не знаешь, чему больше удивляться: неосведомленности ли, или непонятной наивности русских авторов. Более всего смешны и наивны предостережения, которые направлены по адресу евреев. "Советская власть-де не вечна и не пеняйте на нас, если волна народного гнева пробежит над вашими головами".
Кто-то из еврейских публицистов уже ответил на это ясно и определенно: "Не запугаете!" Но никто, по-видимому, этих слов не понимает и упорно не хочет понять. Уже кажется чего яснее: и палкой по голове бьют, так что череп трещит, и говорят ясно, а нет – не понимают! Все не укладывается в сознании, что т.н. русская революция не с неба свалилась, что советская власть не так себе что-то случайное, а продуманное проведение в жизнь открытого осуществления неограниченной государственной власти еврейства над жизнью и имуществом русского народа. Первый опыт перехода от скрытых форм власти к открытым формам. И надо отдать им должное – опыт очень удачный. Когда мы говорим о завоеваниях революции – это звучит так глупо и подло. Но когда эти слова произносит еврей, они для него полны глубокого смысла. Да – завоевание! Завоевание как результат длительной и упорной войны, как результат беспощадной борьбы за осуществление власти. Когда русские соц.-революционеры повторяли свой лозунг "в борьбе обретешь ты право свое", – о каком таком праве они говорили? Когда еврей соц.-революционер говорит эти слова, он вкладывает в них определенный смысл: о праве на власть, о борьбе за эту власть.
Не о моральном праве бороться за житейскую несправедливость, как кажется это русским соц.-рев., а о том самом реальном праве на власть, которое есть не что иное, как физическая сила, перед которой все склоняются, признавая бесполезность и ненужность борьбы с ней и ставят штемпель "de jure". Так неужели не должно быть ясно каждому здравомыслящему человеку, что отступать назад евреям теперь, когда они заняли в России командные высоты, когда они подчинили себе всю жизнь страны, когда они достигли того, к чему стремились, когда перед ними открываются необозримые горизонты могущества и наслаждения всеми радостями жизни, когда мечты из сказки превратились в действительность, – неужели они могут бросить все это только потому, что мы пугаем их будущим гневом народным?! "Не запугаете!" – кричит нам парижский еврей. И он тысячу раз прав. Он не думает спать, он не останавливается в своей борьбе, он упорно работает над укреплением занятых позиций, он продолжает войну. И мы видим, как шаг за шагом он одерживает одну победу за другой, от "de facto" переходит к "de jure", причем везде и повсюду еврейство всемерно поддерживает свою советскую власть.
Формы этого содействия весьма различны, колеблясь от форм пассивного неповиновения до форм активной и открытой помощи. Невозможно и глупо требовать от евреев иного отношения к своему кровному делу. Пора бы уже кажется нам понять, что все революции во все времена истории всегда приносили наибольшую выгоду еврею, ибо он всегда был первым и активным работником всех революционных лабораторий. Больше, чем когда-либо, еврей пожал от последней русской революции. Ведь не надо закрывать глаза на то, что евреи численно сильно разбогатели и продолжают богатеть на наших глазах; есть, конечно, и потерпевшие, но их число ничтожно в сравнении с громадным числом разбогатевших и сделавших большие запасы богатств, которых хватит и на детей, и на внуков. Само собой разумеется поэтому, что еврей будет всячески поддерживать советскую власть! Иначе и быть не может.
Не требуйте от еврея того, чего он дать не может. Не требуйте этого даже от еврейской эмиграции: реки назад не текут. Сходите в разные полпредства, советские и полусоветские учреждения – вы обязательно встретите там 90 процентов еврейской эмиграции. Они делают дела! Они спешат использовать момент, спешат нажиться и укрепиться. У каждого из них там, в России, плеяда зятьев, шурьев и всяких родичей, которые стали из маленьких еврейчиков такими, от которых многое зависит. Конечно, они должны соблюдать в делах известную осторожность, но к цели идут вместе, хотя и немного разными дорогами. И если есть между ними пять-шесть белых ворон из стариков, которые утратили бодрость духа и которых можно запугать, то это – единицы. А те, кто помоложе, – их не запугаешь, они исполнены энтузиазма от достигнутых завоеваний и с удовольствием говорят о власти и значении своих сородичей в России. Без боя власти этой не отдадут. Наивно думать, что советская власть осуществляет колонизацию России евреями, имея в виду заполучить на это дело какие-то американские миллионы. Этих миллионов у советской власти еще достаточно припрятано из наших российских запасов. Не в этом дело – это раз. А затем, разве, давая миллионы долларов на заселение евреями России, не свое ли национальное еврейское дело они делают? Разве не для таких целей собиралось золото, накоплялись богатства, разорялись народы и государства? Центр тяжести не в этом. А в том, что верхи еврейства прекрасно понимают, что при переходе от форм невидимого осуществления власти к формам открытого ее осуществления, связанного с государственной территорией, необходимо создать свой класс землевладельцев, то есть класс, неразрывно связанный с судьбой государства и наиболее заинтересованный в сохранении того государственного порядка, который даровал ему землю и защищает результаты его труда, вложенного в землю. Должен создаваться класс еврейского земельного дворянства. Это вполне логично, естественно и в порядке вещей.
Всегда так оно и бывало, стоит хотя бы вспомнить историю колонизации евреями древнего Египта. И остановить и запугать еврейство на этом пути невозможно, ибо это относится всецело к завоеваниям революции. После 1905 года, казалось бы, картина существа "завоевания революции" для каждого русского должна была быть ясной. Но русский мозг был безнадежно поврежден социалистической эквилибристикой и из-за деревьев не видел леса. Пора бы хоть теперь поставить его на свое место.
Но что же делать? Неужели для нас картина полной безнадежности? Евреи нам ясно говорят, что делать. Надо только не извращать смысла их слов. Надо перестать носить свой мозг наизнанку. "Не запугаете!" – кричат нам они. И это правда: их не запугаешь. И не запугиванием надо заниматься, а борьбой. Надо раз и навсегда понять, что мы с ними находимся в состоянии войны и не о братании с ними приходится сегодня думать: братание с врагом всегда было и есть предательство родной земли и родного народа!"
Итак, по совершенно справедливому убеждению В.В. нужна борьба. Но для того, чтобы начать ее, нужна прежде всего общая идейная почва. Имеем ли мы ее, готовы ли русские люди начать такую борьбу?!
На эти вопросы ответит следующая глава.
ГЛАВА 60. Уроки революции
Прошло уже 10 лет с тех пор, как жиды, вызвавшие роковой сдвиг влево в сознании русской "передовой" интеллигенции, погубили Россию и столкнули ее в бездну. Срок достаточный для полного отрезвления, для того, чтобы отказаться от самых крайних заблуждений и сделать верные выводы из фактов, каких не допускало никакое воображение и какие однако же стали ужасной действительностью.
Позволительно поэтому спросить, чему же научила революция нашу "передовую" интеллигенцию и здесь, в беженстве, и там – в России?
В среде русского беженства, там, где русские люди еще не сговорились между собой на почве общего понимания природы и психологии революции, там, где вся беженская масса, с Зарубежною Церковью во главе, раскололась на множество самых разнородных партий, взаимно пожирающих друг друга, где нет общих программ спасения России, нет единомыслия, а царит ненависть и злоба, где всё беженство являет собой картину Вавилонского столпотворения, – там еще нельзя говорить об отрезвлении. Оно наступит тогда, когда русские люди поймут природу поработившей Россию злой стихии и проникнутся мистическим сознанием необходимости бороться с ней способами, указанными нам Господом нашим Иисусом Христом, стараясь увеличивать сумму добра в жизни и уменьшать сумму зла. Оно наступит тогда, когда, спускаясь с неба на землю, русские люди оценят значение монархического начала как единственного орудия в борьбе с этой злой стихией и перестанут верить тому, чему их учили и продолжают учить слепые люди, говорящие, что "самодержавия никогда не было и никогда не будет. Это утопическая, мечтательная идея, основанная на смешении царства кесаря с Царством Божиим. Восьмого таинства помазания царя на царство догматическое сознание Церкви не знает, оно целиком относится к исторической, а не мистической стороне Церкви... Теократическая утопия есть источник всех социальных утопий" (Н.Бердяев, журн. "Путь", № 1, стр. 4). Отрезвление наступит тогда, когда русские люди распознают природу интернационала, как того апокалипсического зверя, который вырвался из бездны и которого нужно уничтожить, ибо "победа интернационала, – как справедливо говорит проф. Локоть, – смерть культуре и свободе человечества.
Поскольку есть возможность бороться с интернационалом вооруженной силой, непременно нужно бороться и так. Освобождение России от присосавшегося к ней интернационала, безусловно, требует и широкого всестороннего применения вооруженной силы. Защита Китая от того же интернационала, действовавшего из того же центра – из недр советской власти в Москве, была бы точно также безуспешна без применения вооруженной силы.
Но – помимо вооруженной силы – необходима и духовная моральная реакция против интернационала. Т.е. необходима самая отчетливая кристаллизация человеческого сознания, понимания разрушительной сущности интернационала и в связи с этим – кристаллизация активной решимости бороться за все то, против чего направляет свои разрушительные усилия интернационал. Принцип национальной свободы и независимости, воплощенный национальным государством. Принцип национальной религии, воплощенный национальной Церковью. Принцип хозяйственной самостоятельности, воплощенный национальной буржуазией, в которую здравый смысл должен включать все население, обладающее хотя бы малейшей долей национального богатства страны в виде ли заработной платы – безразлично. Принцип морали, выработанный вековой работой всего человечества.
Таково знамя человечества в противовес знамени интернационала. Эти принципы общи для всего человечества, хотя оно и поделено на национальные группы. И уничтожить это деление на группы, слиться в какое-то общее сверхчеловечество оно не может и не должно, если не желает утерять своей главной жизненной, творческой силы – национальной индивидуальности. Утерявши ее, оно скоро станет стадом, которым будет владеть и править интернационал. Национальные группы человечества должны отчетливо понять и признать, что "интернационал" – по существу – злостная фикция, так как в интернационале безусловно господствующую и руководящую роль играет одна, ярко выраженная национальность – еврейская..." (Новое Время, 10 сентября, 1927 г., № 1907).
К этим прекрасным словам профессора Т.Локотя я могу добавить лишь указание на необходимость противопоставить интернационалу жидовскому Интернационал Христианский, который, не уничтожая национальных перегородок между христианскими народами, объединил бы их в общей борьбе с врагами Христа на почве служения Единому Вселенскому Богу.
В сознании русского беженства ни одна из означенных целей не стоит даже в перспективе.
Значит и говорить не о чем, отрезвления в среде русского беженства нет.
Если оно наступило, то, наверное, только в самой России, где несчастный русский народ не только стоит перед лицом апокалипсического зверя, но и является его жертвой, где мучится, страдает и извивается от боли в когтях этого страшного вампира, злорадного, торжествующего, откровенно циничного, не имеющего и нужды скрывать свое настоящее лицо...
Увы, прозрели только руки и ноги России, прозрел только простолюдин, да и то не умом, а сердцем, но ни официальная Церковь, продолжающая ссылаться на слова Апостола Павла о происхождении всякой власти от Бога и логически докатившаяся до повеления повиноваться сатанинской власти, ни мозг страны, каковым себя считали "писатели" и признавала себя "передовая" интеллигенция, еще не прозрели и находятся по-прежнему в состоянии дурмана и гипноза. Об этом свидетельствует приведенное нами в 37-й главе "Обращение русских писателей к писателям мира", ставшее известным всему миру и, вероятно, вызвавшее у всех прочитавших его одинаковые мысли.
Красочно очерчены невыразимые страдания авторов этого "обращения", но тем более тяжелое впечатление производит то, что даже эти ужасные муки оказались бессильными открыть им глаза на природу окружающей их действительности и заставить их понять ее причины и психологию.
По поводу этого "обращения" я получил от своего друга А.С. письмо, помеченное 5 августа 1927 г., такого содержания:
"Два или три года тому назад (точно не помню, а не хочется рыться в Ваших письмах, чтобы найти, когда именно это было) Вы настойчиво меня уговаривали написать воззвание к читателям газет в целом мире и в этом воззвании выразить весь ужас большевического владычества над Россией, чтобы разбудить совесть мыслящих и чувствующих людей разных стран и толкнуть их на борьбу с международной организацией, одинаково опасной для всех государств и народов. Я не чувствовал в себе достаточно вдохновения, чтобы исполнить Ваше желание. Все обращения к совести иностранцев, какие я пробовал набрасывать, казались мне слабыми и бледными выражениями непостижимого ужаса русской действительности.
Одним словом, я не нашел достаточно сильной формы изложения, способной воздействовать на души людей, и отклонил Ваше настояние.
Теперь приблизительно такое воззвание, какого Вы желали, появилось. Оно называется обращением русских писателей, оставшихся в Большевии, к писателям мира. Вероятно, оно перепечатано в белградском "Новом Времени", которое Вы обыкновенно читаете. Многое в этом обращении хорошо выражено, но есть несколько строк, которые показывают, что писатели, сидящие в большевическом застенке, все-таки не понимают сущности происходящего в России переворота и причин, почему заграничные писатели не вскрывают ужасов большевичества, а упорно молчат. Они выражаются так:
"Вспомните годы перед нашей революцией, когда наши общественные организации местного самоуправления, Государственная Дума и даже отдельные министры звали, просили, умоляли власть свернуть с дороги, ведшей в пропасть. Власть осталась глуха и слепа. Вспомните: кому вы сочувствовали тогда – кучке вокруг Распутина или народу? Кого вы тогда осуждали и кого нравственно поддерживали? Где же вы теперь?"
Разберемся в высказанных здесь мыслях. Авторы обращения считают как будто бы для себе несомненным, что Императорское правительство с Государем во главе вело Россию в пропасть, а революционеры всех мастей указывали путь спасения. Нужно быть круглыми дураками, чтобы думать так теперь, после всего того, что произошло и раскрыто в воспоминаниях участников трагических событий, принадлежавших как к правительственному, так и к революционному лагерю. Как раз наоборот. Революционеры разных оттенков, но двигавшиеся к одной цели, вели и привели Россию к гибели, столкнули ее в пропасть, на дне которой барахтаются под большевической пятой авторы обращения. Императорское правительство честно и благородно, насколько умело и могло, отбивало подкопы и атаки революционеров и стремилось предотвратить гибель России. Кто же виноват, что глупое общество, с писателями во главе, не понимало положения вещей и поддерживало не правительство, а революционеров? Теперь воочию видно и доказано, что Императорское правительство заключало в себе лучшие и благороднейшие умственные силы русского народа, а на стороне революции стояли или сомнительные ничтожества вроде членов Временного Правительства, или форменные негодяи всяких типов от Керенского и Чернова до Ленина и Бронштейна. Но самое главное, что упускают из вида авторы обращения, – это участие в революции жидов, как капиталами (вспомним Якова Шиффа, Варбургов, Гуггенгейма и пр.), так и лично, в таком количестве, какое дает возможность сказать, что русское государство в настоящее время находится под полным владычеством жидовского народа. Между тем участие жидов в революции дает ключ к объяснению тех недоумений, над которыми мучаются близорукие наши писатели не только в большевической преисподней, но и в Европе.
Иван Бунин пишет: "Семь лет, прожитых мною в Европе, целых семь лет с несказанным изумлением и ужасом восклицаю я внутренно: да где же вы, совесть мира, прозорливцы, что же молчите вы, глядя на то, что творится рядом с вами, в цивилизованной Европе, в христианском мире?!"
Иван Шмелев пишет: "Помнятся случаи и не столь трагичные, как с Россией, – и тогда совесть мира, писатели, – протестовала, возмущалась. Почему же теперь – молчание? Или заснула совесть? Или весь мир – пустыня? И вопль оттуда, и русские голоса оттуда – лишь глас вопиющего в пустыне? Почему не слышат? Почему не чуют? Почему десять лет – молчание?! Необъяснимо. Непонятно".
Бедные писатели! – они не понимают, в чем дело. Они забывают, что так называемое общественное мнение создается газетами, что 95% европейских газет принадлежат жидам и что, следовательно, от жидов зависит, пропустить или не пропустить на столбцы газет чей бы то ни было голос. Когда обезумевшие русские люди с писателями во главе в ложном представлении, будто бы они борются с "кучкой вокруг Распутина", на самом деле бессмысленно разрушали свое умно и удобно построенное историческое государство, что было в интересах международного жидовства, – о! тогда не было конца приветствиям и выражениям сочувствия со стороны печати. Писатели изливались в восторгах на столбцах европейских и американских газет, захваливая безумцев до полного их одурения. Жидовские деньги всемогущи, и всякого писателя могут заставить или говорить в интересах жидов, или молчать. Теперь жиды достигли своей цели. Россия не только разрушена, но и подпала под их власть. О чем же говорить? И вот настало то явление, о котором пишет Иван Шмелев: "Воистину, страшное явление! Скоро десятилетие угнетения русского народа коммунизмом (по нашему с Вами пониманию: жидами), а не помнится случая, когда бы раздался голос писателей в мире, их возмущенной совести. Молчание, как в пустыне!" Да, молчат писатели, ибо жиды не могут допустить, чтобы они заговорили, и столбцы газет закрыты для всякого, кто вздумал бы посочувствовать русскому народу. Цель жидов достигнута. Россия повержена, и жиды над нею властвуют якобы по последнему слову социалистического учения. Какой же может быть вопрос о пересмотре этого положения, хотя бы русский народ и страдал безмерно? Пусть себе страдает во имя торжества жидов и социализма.
Я удивляюсь Бунину и Шмелеву, что они, живя в Париже, не делают никаких выводов из того, что там можно наблюдать. Приближается время суда над часовщиком Шмулем Шварцбартом, убившим Петлюру 25 мая 1926 г., и посмотрите, как писатели не только говорят, но кричат о несчастных жидах, подвергшихся погрому со стороны петлюровских банд. Печать поднята на ноги. Bernard Lacasche – зять известной писательницы m-me Severine – выпустил целую книгу под возбуждающим заглавием: "Quand Israel meurt", чтобы перед судом окружить жидов ореолом мученичества, а из Шварцбарта создать жидовского народного героя, чуть ли не эпического богатыря, мстителя за народные обиды. Почти с уверенностью можно предсказать, что Шварцбарта оправдают, что жидовские миллиардеры доставят ему богатство и что долго еще будут прославлять его "писатели" наравне с какой-нибудь Юдифью, фигурирующей, к стыду нашему, в православных святцах.
Из этого вы можете заключить, что в наше время на каждом шагу применяются две меры: если задет один жид (например Дрейфус, Бейлис, Шварцбарт), то весь мир приводится в движение, чтобы его защитить, оправдать, прославить, возвеличить; но страдание даже стомиллионного народа всем безразлично, если жидам оно выгодно и они постановили его замолчать. Вот почему меня поражают слова Н.Е. Маркова: "Впутывать антисемитизм в нашу веру не только кощунственно, но и практически бесполезно". Как раз напротив. Когда иудейский народ почти целиком попал в вавилонский плен и, находясь в состоянии полного уничтожения, предавался отчаянию, тогда духовные вожди его, чтобы подтянуть дух народа и пробудить надежды на лучшее будущее, начали внедрять идею, что иудеям нечего унывать, ибо они – избранный народ Яхве, который возвратит им утерянные временно блага самостоятельности, независимости, богатства, славы и величия.
В таком духе переработаны были вывезенные с родины древние сказания, исторические повествования, сборники законов, песни, стихотворения и сведены в ряд книг, из коих пять главнейших, якобы откровения самого Яхве, приписаны полулегендарному Моисею. На идее избранничества иудейский народ помешался, и она изуродовала всю душу этого народа. Христианство до нашего времени не разбиралось в этих вопросах и молчаливо поддерживало самомнение и гордость иудеев, доверяя грандиозному подлогу, учиненному жидовскими книжниками 2500 лет тому назад. С тех пор как в вавилонском плену сформировался тип вечного жида, все народы, входившие в соприкосновение с жидовским народом, инстинктивно чувствовали необычайную зловредность жидов, но не доискивались ее причин, а в тех случаях, когда эксплуатация со стороны жидов становилась невыносимой, прибегали к погромам. Теперь все убедились, что погромы не достигают цели, не обуздывают жидовской хищности, и погромы отходят в область преданий. Единственно правильный путь борьбы с жидовством – это разоблачить его идейно, и вот, вопреки Н.Е. Маркову, разоблачение подлога, учиненного жидовскими книжниками 2500 лет тому назад, – практически полезно. Оно снимет с жидов тот ореол избранничества, которым они были, благодаря подлогу, окружены и поставит их на свое место – самых презренных и отвратительных представителей человеческого рода. Практически необходимо, чтобы христианские Церкви признали наличность подлога и стремились к очищению христианства от тех жидовских наслоений, какие веками на нем накопились. От этого христианство не только ничего не потеряет в своей религиозной привлекательности, но, напротив, оживет и расцветет. Жидовская религия, вне связи с христианством, будет поставлена в ряд с другими древневосточными религиями: египетской, вавилонской, ассирийской, персидской и пр., как это и следует. При ближайшем изучении она оказывается по внутреннему содержанию ниже этих религий. Если до образования жидовства в израильском и иудейском царствах выступали высокие представители религиозного чувства, как Исайя и Иеремия, то этих людей нельзя класть на весы при оценке жидовства, ибо в иудейском народе они не нашли сочувствия, и оба, по преданию, кончили мученичеством: Исайя был распилен, а Иеремия побит камнями. Христос, обращаясь к Иерусалиму, восклицал: "Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!" (Лк. 13, 34; Мф. 23, 37). Вероятно, он имел в виду эти предания..."
Вот когда в сознание официальных христианских Церквей проникнут убеждения автора приведенного письма, когда мировое жидовство будет лишено той христианской базы, какую незаконно занимает и на которую опирается, когда христиане признают, что им нужно соединиться на почве общей борьбы с жидовством, вместо того чтобы или пользоваться им в интересах личного земного блага, или делаться его жертвою, – только тогда наступит подлинное отрезвление в умах и сердцах и человечество освободится от той злой силы, какая его обезличивала, порабощала и вела к гибели.
Практическим результатом такого отрезвления явится Христианский Интернационал, без которого и вне которого немыслима не только победа, но даже борьба с интернационалом жидовским, как той злой стихией, какая, прикрываясь обманными вывесками, преследует только одну цель – владычество диавола на земле и мировое господство его "избранного народа".
И, может быть, только тогда христиане вспомнят о том необходимом оружии в борьбе со злой силой, каким всегда была и на вечные времена останется молитва к Богу, а мы, русские, вспомним пророческий глас св. Иоасафа, еще в 1912 году предупреждавшего русских людей о надвигавшейся революции и указавшего пути спасения России; покаемся в том, что отвергли его, не поверили ему, а теперь уже и забыли о нем. И только тогда, когда весь русский народ повергнется в слезах умиления пред Песчанским образом Матери Божией и широкой волной потечет к св. мощам Угодника Божия Николая, исконного Заступника и Покровителя России, только тогда можно будет говорить об отрезвлении, только тогда придет спасение нашей Родины.
Читатели первого тома моих "Воспоминаний" знают, о чем предупреждал и что говорил, по велению Матери Божией, святитель Иоасаф. Но первый том весь разошелся, и нет возможности переиздать его. Разошлись и те брошюрки, какие были мной составлены для широкого оповещения русских людей о пророчестве св. Иоасафа, какие были изданы усердием настоятеля Казанско-Богородицкого монастыря в г. Харбине, всечестного о. архимандрита Ювеналия, под заглавием: "Свыше указанный путь ко спасению России". Этой брошюрой, дополненной примечаниями о. архимандрита, я и заканчиваю свой второй том.
ГЛАВА 61. Свыше указанный путь ко спасению России
Как тучи скрывают от взора нашего солнце, так грехи заслоняют от нас Бога. Воздвигли они между небом и землей стену непроницаемую, закрыли лик Божий и, чем грешнее человек, тем темнее и холоднее у него на душе, тем труднее непосредственное общение с Источником Света, тем меньше веры даже в возможность такого общения, тем непонятнее для него все вокруг происходящее.
Не поняли русские люди и даже ослушались Гласа Свыше, явленного двукратно устами св. Иоасафа Белгородского и задолго до войны 1914 года, с целью предупредить ее, и в 1915 году с целью прекратить ее.
Вспомним хотя бы теперь об этом Гласе, используем хотя бы теперь указанные Самим Богом пути ко спасению России! Бог – не идея, а Милосердный Отец Небесный, любящий Свои создания и пекущийся о них, то изливая Свои безмерные милости, то предупреждая и предостерегая от бед, то наказывая гордого человека за ослушание Его святой и всеблагой воле.
Будем иметь такую веру, и по этой вере дано будет нам увидеть нашу Родину, великую Россию, омытую и очищенную страданиями и слезами. Но будем страшиться не внять сему Гласу даже теперь, спустя 15 лет после того, как он впервые раздался.
В 1754 году святитель Иоасаф, обозревая свою епархию, прибыл в город Изюм. Встреченный духовенством в предместьи города и войдя в притвор Вознесенской церкви, святитель с изумлением остановился и начал всматриваться в большую икону Богоматери, стоявшую в углу притвора и служившую как бы перегородкой, за которой ссыпали уголь для кадила. Долго с умилением смотрел он на святую икону, потом, осенив себя крестным знамением, опустился пред нею на колени и громко произнес: "Царица Небесная, прости небрежность Твоих служителей, не ведят бо, что творят!" Затем, обратившись к сопровождавшему его благочинному, сказал: "Почему этот образ не поставлен в лучшем месте? В сем образе преизобилует особенная благодать Божия, в нем Пресвятая Владычица являет особое знамение Своего заступничества для сей веси и целой страны!"
Войдя в церковь и обратив внимание на большой киот сзади левого клироса, уставленный небольшими иконами старого иконостаса, которые было можно с удобством разместить по другим местам, святитель сказал: "Вот самое приличное место для иконы Божией Матери. Поставить ее на место этих уже обветшавших икон, чтобы она всегда стояла на этом месте". Святитель Иоасаф пробыл в городе более трех дней, и утром и вечером приходил он в Вознесенскую церковь и усердно молился пред сим образом Богоматери, тогда же поставленным на указанном святителем месте. Весть об этом событии распространилась между жителями; многие стали притекать к образу, с верою и молитвою ко Владычице мира, и по мере веры своей получали исцеление. И теперь от иконы истекают великие чудеса и знамения благодати Божьей. По установлению иконы Богоматери на месте, святитель Иоасаф рассказывал близким, что перед выездом из Белгорода он видел следующий сон. При входе в одну из осматриваемых церквей в притворе он увидел в куче сора икону Богоматери, с светлым сиянием, исходившим от нее, причем слышен был голос, говоривший: "Смотри, что сделали с Ликом Моим служители сего храма. Образ Мой назначен для страны сей источником благодати, а они повергли его в сор". Сильно смущенный этим сновидением, глубоко запечатлевшимся в его душе, святитель при обозрении церквей подробно осматривал их как снаружи, так и внутри с целью узнать, нет ли в самом деле чего подобного, что ему снилось. Посещая Вознесенскую изюмскую церковь, он был поражен внешностью ее, сходной с представлявшейся церковью во сне, а потому, увидев Свыше указанный ему образ Богоматери в притворе в таком небрежении, понял, что сон его был благодатный и относился к этой церкви и этому образу Богоматери. Это откровение Свыше, эта милость Божией Матери, избравшей св. Иоасафа Своим орудием для прославления образа, были наградой ему за попечение о святых храмах и св. иконах. Во все время своего служения святитель Христов Иоасаф строго наблюдал за благоговейным почитанием святых икон и за правильностью их изображения, о чем неоднократно писал увещания и делал распоряжения.
Вот этот именно Песчанский Образ Богоматери, являвшийся по свидетельству Самой Царицы Небесной источником благодати для всей России, и пришел на помощь нашей Родине в один из самых тяжких моментов ее жизни, в самый разгар войны 1914 года и был... отвергнут. Горделивый человек отвергнул небесную помощь, не поверил Гласу Свыше и отсюда все те бедствия, какие не замедлили обрушиться на Россию и доныне тяготеют над ней. Случилось это таким образом.
4 сентября 1915 года, в годовщину прославления св. Иоасафа, чудотворца Белгородского, в Вознесенском храме Петрограда состоялось обычное архиерейское богослужение, а вечером того же дня – общее собрание членов братства Святителя Иоасафа. Председателем братства после генерал-адъютанта адмирала Д.С. Арсеньева был избран генерал от инфантерии Л.К. Артамонов, а товарищами председателя были протоиерей Маляревский и я. Не помню, что помешало мне быть на общем собрании, которому суждено было не только оставить глубочайший след в моей жизни, но и сделаться поворотным пунктом одного из этапов этой жизни. Вечером 5 сентября явился ко мне протоиерей А.И. Маляревский и, выражая сожаление о моем отсутствии на вчерашнем торжестве, рассказал подробно обо всем, что случилось.
"Кончилась обедня, – начал о. Александр, – отслужили мы молебен с акафистом угоднику Божию и разошлись по домам, с тем чтобы собраться вечером в церковном доме на общее собрание. Генерала не было, Вас тоже; открывать собрание пришлось мне. Прочитал я отчет за истекший год, а далее должны были следовать выборы новых членов, речи и доклады, и все, что обычно полагается в этих случаях. Вышло же нечто совсем необычное... Не успел я сойти с кафедры, как заметил, что ко мне пробирается через толпу какой-то военный, бесцеремонно расталкивающий публику и держа в высоко поднятой руке какую-то бумагу... Он очень нервничал и, вплотную подойдя ко мне, спросил меня:
– Вы председатель братства Святителя Иоасафа?
– Нет, – ответил я, – я товарищ председателя!
– Кто же председатель, кто сегодня председательствует? – нетерпеливо и крайне взволнованно спрашивал меня военный.
– Председательствую я, – ответил я.
– В таком случае разрешите мне сделать доклад братству, – сказал военный. Я пробовал отклонить это намерение, ибо имя этого военного не значилось в числе докладчиков, я видел его в первый раз, доклада его не читал, а его внешность, возбужденное состояние духа не располагали меня к доверию, и я опасался каких-либо неожиданностей...
Однако военный, видя мое замешательство, мягко успокоил меня, заявив:
– Доклад мой важности чрезвычайной, и малейшее промедление будет грозить небывалыми потрясениями для всей России...
Он выговорил эти слова так уверенно, с таким убеждением и настойчивостью, что, застигнутый врасплох, я только и мог сказать в ответ:
– Читайте!
– Я до сих пор не могу очнуться от впечатления, рожденного его докладом, – говорил протоиерей А. Маляревский.
– Кто же этот военный, о чем он говорил? – спросил я.
Это полковник О., отставной военный доктор на фронте. Я отметил наиболее существенные места доклада и могу воспроизвести их почти стенографически. Вот что сказал полковник.
"Милостивые государи, я не буду заранее радоваться, ибо не знаю, кого вижу в вашем лице... Но то что вы составляете братство имени величайшего угодника Божия Иоасафа, дает мне надежду возбудить в вас веру в мои слова. До сих пор меня только гнали и преследовали столько же злые, сколько и темные люди; уволили со службы, заперли в доме умалишенных, откуда я только недавно выпущен, и все только потому, что я имел дерзновение исповедывать свою веру в Бога и Его святителя Иоасафа... Верить же – значит делать и других звать на дело. Я и зову, и умоляю... Не удивляйтесь тому, что услышите, не обвините заранее в гордости или "прелести". Дух Божий дышит, идеже хощет, и не нужно быть праведником, чтобы снискать милость Божию. Там, где скрывают эту милость, там больше гордости, чем там, где громко славословят Бога. В положении военного, и притом доктора, принято ни во что не верить. Я это знаю и мне трудно вызвать доверие к себе, и если бы вопрос касался только меня одного, то я бы и не делал этих попыток, ибо не все ли равно мне, за кого меня считают другие люди... Но вопрос идет о всей России и, может быть, даже о судьбе всего мира, и я не могу молчать как по этой причине, так и потому, что получил от угодника Иоасафа прямое повеление объявить людям волю Бога. Разве я могу поэтому останавливаться перед препятствиями, разве меня может запугать перспектива быть снова схваченным и посаженным в сумасшедший дом, разве есть что-либо, что удержало бы самого великого грешника от выполнения воли Божией, если он знает, что действительно Бог открыл ему Свою волю?
Вот и я прошу вас, обсудите мой доклад, рассмотрите его со всех сторон, а потом и решайте, точно ли мне было откровение Свыше или только померещилось мне; в здравом ли уме я излагаю свой доклад или точно я душевно больной человек и делюсь с вами своими галлюцинациями?
Года за два до войны, следовательно в 1912 году, явился мне в сновидении святитель Иоасаф и, взяв меня за руку, вывел на высокую гору, откуда нашему взору открывалась вся Россия, залитая кровью.
Я содрогнулся от ужаса... Не было ни одного города, ни одного села, ни одного клочка земли, не покрытого кровью... Я слышал отдаленные вопли и стоны людей, зловещий гул орудий и свист летающих пуль, зигзагами пересекавших воздух; я видел, как переполненные кровью реки выходили из берегов и грозными потоками заливали землю...
Картина была так ужасна, что я бросился к ногам святителя, чтобы молить Его о пощаде. Но от трепетания сердечного я только судорожно хватался за одежды святителя и, смотря на угодника глазами полными ужаса, не мог выговорить ни одного слова.
Между тем святитель стоял неподвижно и точно всматривался в кровавые дали, а затем изрек мне:
– Покайтесь... Этого еще нет, но скоро будет.
После этого дивный облик святителя, лучезарный и светлый, стал медленно удаляться от меня и растворился в синеватой дымке горизонта.
Я проснулся. Сон был до того грознен, а голос святителя так явственно звучал, точно наяву, что я везде, где только мог, кричал о грядущей беде, но меня никто не слушал. Наоборот, чем громче я кричал о моем сне, тем громче надо мной смеялись, тем откровеннее называли меня сумасшедшим. Но вот подошел июль 1914 года...
Война была объявлена... Такого ожесточения, какое наблюдалось с обеих сторон, еще не видела история. Кровь лилась потоками, заливая все большие пространства... И в этот грозный час, может быть, только я один понимал весь ужас происходящего и то, почему все это происходит и должно было произойти. Грозные слова святителя скоро будет исполнились буквально и обличали неверовавших. И, однако, все по-прежнему были слепы и глухи. В штабе разговаривали о политике, обсуждали военные планы, размеряли, вычисляли, соображали, точно и в самом деле война и способы ее ликвидации зависели от людей, а не от Бога. Слепые люди, темные люди! Знали ли они, что эти десятки тысяч загубленных молодых жизней, это море пролитой крови и слез, приносились в жертву их гордости и неверию, что никогда не поздно раскаяться, что чудо Божие никогда не опаздывает, что спасение возможно в самый момент гибели, что разбойник на кресте был взят в рай за минуту до своей смерти, что нужно только покаяться, как сказал св. Иоасаф?! А ожесточение с обеих сторон становилось все больше: сметались с нашего кровавого пути села и деревни, цветущие нивы, горели леса, разрушались города, не щадились святыни... Я содрогался от ужаса при встрече с таким невозмутимым равнодушием; я видел, как притуплялось чувство страха перед смертью, но и одновременно с этим чувство жалости к жертве; как люди превращались в диких зверей, жаждущих только крови... Я трепетал при встрече с таким дерзновенным неверием и попранием заповедей Божиих, и мне хотелось крикнуть обеим враждующим сторонам: "Довольно, очнитесь, вы христиане, не истребляйте друг друга в угоду ненавистникам и врагам христианства; опомнитесь, творите волю Божию, начните жить по правде, возложите на Бога упование ваше: Господь силен и без вашей помощи, без войны помирить вас".
И в изнеможении я опускался на колени, звал на помощь святителя Иоасафа и горячо ему молился.
Залпы орудий сотрясали землю; в воздухе рвались шрапнели; трещали пулеметы; огромные, никогда не виденные мною молнии разрезали небосклон и оглушительные раскаты грома чередовались с ужасным гулом падающих снарядов... Казалось, даже язычники должны были проникнуться страхом при виде такой картины гнева Божиего и осознать бессилие немощного человека. Но гордость ослепляла очи. Чем больше было неудач, тем большими становились ожесточение и упорство с обеих сторон. Создался невообразимый ад. Как ни храбрился жалкий человек, но все дрожали и трепетали от страха. Дрожала земля, на которой мы стояли, дрожал воздух, которым мы дышали, дрожали животные, беспомощно оглядываясь по сторонам, трепетали бедные птицы, растерянно кружившие над своими гнездами, охраняя птенцов своих. Зачем это нужно, – думал я, – зачем зазнавшийся человек так дерзко попирает законы Бога, зачем он так слеп, что не видит своих злодеяний, не вразумляется примерами прошлого?! И история жизни всего человечества, от сотворения мира и до наших дней, точно живая стояла передо мной и укоряла меня...
Законы Бога вечны, и нет той силы, которая бы могла изменить их; и все бедствия людей, начиная от всемирного потопа и кончая Мессиной, Сан-Франциско и нынешней войной, рождены одной причиной и имеют одну природу – упорное противление законам Бога. Когда же одумается, опомнится гордый человек, когда, осознав свой грех, смирится и перестанет испытывать долготерпение Божие?! И в страхе за грядущее, в сознании страшной виновности пред Богом, у самого преддверия справедливой кары Божией я дерзнул возопить к Спасителю: "Ради Матери Твоей, ради Церкви Православной, ради Святых Твоих, в земле Русской почивающих, ради Царя-Страдальца, ради невинных младенцев, не познавших греха, умилосердись Господи, пожалей и спаси Россию и помилуй нас". Близок Господь к призывающим Его!
Я стоял на коленях с закрытыми глазами и слезы текли по щекам, и я не смел поднять глаз к иконе Спасителя. Я ждал... Я знал, что Господь видит мою веру и мои страдания, и что Бог есть Любовь, и что эта Любовь не может не откликнуться на мою скорбь.
И вера моя меня не посрамила.
Я чувствовал, что в мою комнату вошел кто-то, и она озарилась светом, и этот свет проник в мою душу... Вместо прежнего страха, вместо той тяжести душевной, какая доводит неверующих до самоубийства, когда кажется, что отрезаны все пути к выходу из положения, я почувствовал внезапно такое умиление, такое небесное состояние духа, такую радость и уверенное спокойствие, что безбоязненно открыл свои глаза, хотя и знал, что в комнату вошел некто, озаривший ее своим сиянием. Предо мной стоял святитель Иоасаф.
Лик его был скорбен.
– Поздно, – сказал святитель, – теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословила меня на иночество моя мать и который ныне пребывает над моей ракой в Белгороде, также и Песчанский образ Божией Матери, что в селе Песках подле г. Изюма, обретенный мною в бытность мою епископом Белгородским, нужно немедленно доставить на фронт, и пока они там будут находиться, до тех пор милость Господня не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по линиям фронта и покрыть его Своим омофором от нападений вражеских... В иконах сих источник благодати, и тогда смилуется Господь по молитвам Матери Своей!
Сказав это, святитель стал невидимым, а я очнулся. Это второе видение угодника Божиего было еще явственнее первого, и я не знаю, было ли оно наяву или во сне. Я с удвоенной настойчивостью принялся выполнять это прямое повеление Божие, но в результате меня уволили со службы и заперли в сумасшедший дом. Я бросался то к дворцовому коменданту, то к А.А. Вырубовой, то к митрополитам и архиереям, где мог искал приближенных Царя, но меня отовсюду гнали и ни до кого не допускали... Меня или вовсе не слушали, или, слушая, делали вид, что мне верят, тогда как на самом деле мне никто не верил, и все одинаково считали меня душевно больным.
Наконец, только сегодня я узнал, что в Петербурге есть братство Святителя Иоасафа. Я забыл все перенесенные страдания, все передуманное и пережитое и, измученный и истерзанный, бросился к вам. Неужели же и вы, составляющие братство угодника Божиего, прогоните меня, неужели даже вы не поверите мне и, подобно многим другим, признаете психически больным?!
Помните, что прошел уже целый год со времени вторичного явления святителя Иоасафа, что я уже год скитаюсь по разным местам, толкаюсь к разным людям, дабы исполнить повеление святителя, и все напрасно. А война все больше разгорается, и не видно конца; ожесточение все увеличивается, а злоба с обеих сторон растет...
Или и вы, может быть, думаете, что победа зависит от количества штыков и снарядов?! Нет, судьбы мира и человека в руках Божиих, и будет так, как повелит Господь, а не так, как захочется людям. Спешите же исполнить повеление святителя Иоасафа, пока еще есть время его исполнить. Тот, кто дал такое повеление, тот поможет и выполнить его. Снаряжайте немедленно депутацию к Государю; добейтесь того, чтобы святые иконы Матери Божией были доставлены на фронт; и тогда вы отвратите гнев Божий на Россию и остановите кровопролитнейшую из войн, какие видел мир. Не подвигов и жертв требует от вас Господь, а дарует Свою милость России... Идите навстречу зову Господню, а иначе мне страшно даже выговорить, иначе погибнет Россия и погибните вы сами за гордость и неверие ваши"...
Не буду описывать подробностей, связанных с принятием Песчанского образа Божией Матери в Ставке, куда он промыслительно прибыл 4 октября 1915 года, накануне Тезоименитства Наследника Цесаревича, ибо все эти подробности описаны мною на страницах первого тома моих "Воспоминаний" (гл. 1-15), скажу лишь кратко, что повеление святителя Иоасафа без ведома Государя Императора не было исполнено, и протянутая России Небесная Рука помощи была отвергнута недостойными царскими слугами.
И как ясно, что все обрушившиеся на Россию беды явились следствием того ослушания воли Божией, так ясно и то, что Господь простит этот грех лишь после того, как повеление св. Иоасафа будет выполнено.
Так думают те, кто на протяжении 8 лет своей беженской жизни безуспешно разыскивали Песчанский Образ Богоматери по всей Европе и не находили его, так думают и те, кто верил Афонским старцам, связывавшим спасение России с обретением этого Образа – "источника благодати для всей России" и твердившим, что момент обретения этого чудодейственного Образа явится первым реальным моментом на пути к спасению России.
И этот момент наступил: Афонские старцы вымолили у Бога милость, и сей Образ Песчанский дивными путями Промысла Божиего явился к одному из них и последним препровожден в Европу именно к тем людям, коим предуказано идти впереди Священной Рати и чьи святые имена, доныне сокрытые, будут из поколения в поколение славиться благодарным потомством.
Первый шаг к спасению России сделан Самим Богом, даровавшим Зарубежной Руси Песчанский Образ Матери Божией, второй шаг должен быть сделан каждым, кто в Бога верует.
Для сего нужно:
1. Учредить повсеместно комитеты для сбора пожертвований на отпечатание снимков и изготовление икон с чудодейственного обретенного Песчанского Образа в количестве достаточном для того, чтобы каждый русский смог бы за минимальную плату приобрести икону и молиться пред ней.
2. В соответствии с разосланными епархиальной властью циркулярами совершить повсеместно коленопреклоненные молебные пения Песчанскому Образу Богоматери и тем выполнить повеление св. Иоасафа, остающееся и поныне невыполненным.
3. Вырученные от продажи снимков и икон суммы, за покрытием расходов по их изготовлению, направлять в качестве пожертвования Барградскому Подворью Св. Николая, Защитника и Покровителя России. Подворье в Бари, где почивает величайшая святыня русского народа – мощи Святителя Николая, не только не закончено постройкой и переобременено угрожающими ему долгами, но не имеет даже постоянного священника, вследствие чего не совершается богослужение там, где денно и нощно должна была бы возноситься молитва о спасении России. Этот грех нужно загладить.
4. Каждому верующему русскому православному христианину нужно дать обет Богу откликнуться на призыв, когда он последует, о постройке в благодарность за спасение России величественного храма во имя Матери Божией, Песчанский Образ Которой займет в России место равное Ее Казанскому Образу. Теперь же надлежит открыть прием пожертвований на сооружение в Барградском храме Св. Николая киотов для Песчанской иконы Царицы Небесной, Св. Иоасафа Белгородского и Преп. Серафима Саровского.
Вот реальные пути спасения России!
Будем не только помнить, но откликнемся хотя бы теперь на глас, прозвучавший устами святителя Иоасафа с неба: "Теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию!" Имеющие уши слышать, да слышат!
Во все концы Европы я разослал приведенную выписку из первого тома своих "Воспоминаний", умоляя издать ее отдельной брошюрой и распространить среди русского беженства, но только один о. архимандрит Ювеналий откликнулся на мой зов, исполнил мою просьбу и снабдил изданную мной брошюрку своими дополнениями, какие мы и приводим.
"Поместив выше глубоко знаменательное сообщение князя Н.Д. Жевахова, приведем здесь историческую справку о заступлении Царицы Небесной от святых чудотворных Ее икон в бедственные времена нашего многострадального отечества на протяжении многих веков его существования.
Вспоминая великие благодеяния, полученные от Матери Божией нашим отечеством, по всей справедливости Ее можно назвать "Взбранною Воеводою православной Русской Земли".
Русские православные люди в годины бедствий, и особенно когда на них нападали внешние враги, всегда прибегали с покаянием и горячей молитвой ко Господу и Царице Небесной. Отправляясь на ратное поле, они всегда брали с собой тот или иной чудотворный образ Божией Матери.
Перечислим кратко те случаи дивного заступления Богоматери чрез Ее святые иконы на протяжении многих веков в жизни русских людей. В княжение Андрея Боголюбского, в 1164 г., напали на Русь волжские болгары. Перед сражением на бранном поле горячо молился князь Андрей пред чудотворным образом Владимирской Божией Матери, и враги были разбиты наголову. Когда после битвы князь с духовенством и воинами приносили свою благодарственную молитву пред сим чудотворным образом, то от Животворящего Креста и от сей иконы воссиял необыкновенный свет, который озарил весь полк. Память о сем чуде и доселе сохраняется в празднестве первого августа, которое тогда же было установлено по желанию Андрея Боголюбского. В 1395 году в княжение Василия Дмитриевича эта же икона Владимирской Божией Матери спасла нашу родину от нашествия Тамерлана. Князь, воины и весь народ пламенно молились пред этой иконой. Тамерлан в сонном грозном видении был устрашен явлением Божией Матери, окруженной святителями и тьмами молнеобразных воинов. Грозно обратив свой взор на Тамерлана, Она повелела ему оставить пределы Русской земли, а молненосные воины устремились на Тамерлана. Устрашенный таким видением, он приказал своим войскам оставить русские пределы. Торжественно встречена икона Божией Матери с похода в г. Москве духовенством и всем народом. В благодарную память сего чудесного заступления Богоматери на месте сретения Ее иконы построен монастырь Сретенский и установлен в честь сей иконы праздник 26 августа.
В 1480 году Москва опять была спасена помощью Божией Матери от Ее чудотворной иконы Владимирской от нападения на Россию Ахмета – хана Золотой Орды, и в память этого события был установлен второй праздник в честь Владимирской иконы Богоматери – 23 июня.
Приведем еще более умилительное и весьма трогательное повествование о заступлении Царицы Небесной земли Русской от Ее иконы Владимирской. В 1521 году, в царствование Василия Ивановича, татары под предводительством Махмед-Гирея снова двинулись на Русь. Опустошая все на пути, они дошли до Москвы. Великий князь ушел из Москвы собирать войска, в столице было смятение, но молитвы не прекращались. Однажды ночью юродивый старец Василий со слезами молился у дверей Успенского собора. Вдруг он слышит во храме шум: двери собора растворяются и чудотворная икона Владимирская сходит со своего места. От иконы слышится голос: ''Выйду со Святителями из града сего" – и с сими словами вся церковь наполняется пламенем, который тут же и исчезает. В ту же самую ночь в Вознесенском монастыре одна слепая старуха монахиня, сидя в своей келлии, узрела в видении, что из Кремля направляется в Спасские ворота как бы в крестном ходу сонм Святителей и других угодников Божиих; среди них чудотворная икона Владимирская. Вот они вышли уже из ворот; навстречу им идут преподобные отцы: Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский. Припав к стопам Святителей, они вопрошают их: "Зачем они уходят из города и на кого оставляют его в такое многоскорбное время?" Святители со слезами отвечают: "Много молили мы Всемилостивого Бога и Пречистую Богородицу об избавлении от сей великой скорби, но Бог повелел нам выйти из города и вынести с собой сей чудотворный образ Пречистой Его Матери, потому что люди забыли страх Божий и нерадят о заповедях Господних... Пусть они накажутся от сего варварского народа и через покаяние обратятся к Богу". Тогда преподобные стали умолять Святителей, чтобы они своим ходатайством умилостивили правосудие Божие, и тут же вместе с ними стали петь молебен, произнесли молитву Богоматери, и, осенив крестообразно город, все вошли обратно в Кремль с чудотворной иконой. (В память сего дивного видения старицы-инокини и заступления Богоматери – чрез Спасские ворота положено входить в Кремль с открытой головой.) И действительно: молитвами Матери Божией Москва опять была спасена. Летописцы говорят, что татары хотели сжечь посады московские, но увидели вокруг города бесчисленное множество войска Русского и сказали о том хану. Тот не поверил и послал посмотреть. Ему подтвердили сказанное. Он в третий раз послал удостовериться, тогда посланный прибежал, в ужасе взывая: "О! Царь! Что ты медлишь? Из Москвы выступает на нас войско без числа; побежим скорее!" И татары бежали. В благодарное воспоминание этого чуда установлен третий праздник иконы Владимирской – 21 мая. Перед сей иконой при избрании Святителей клали запечатанные царской печатью жребии, которые после молебна тут же вынимались митрополитом и распечатывались Царем, при чем объявлялось имя избранного. Пред той же иконой после молебного пения был по жребию избран на Патриарший Престол Всероссийский Патриарх Тихон, недавно в Бозе почивший. Здесь же, перед Владимирским образом Божией Матери, становились древние Цари при своем помазании на царство...
Все эти перечисленные чудесные заступления Царицы Небесной от чудотворной иконы Владимирской далеко еще не исчерпывают всех милостей Ее в России. Есть и еще довольно много событий в нашей отечественной истории, свидетельствующих о чудесной помощи Богоматери русским в их борьбе с врагами и от многих других Ее чудотворных икон. Так, например, в царствование Феодора Иоанновича заступлением Божией Матери чрез чудотворный образ Ее, именуемый "Донская", Русская земля была спасена от нападения шведов и крымских татар. В память сей небесной помощи Владычицы совершается праздник 19 августа и установлен крестный ход в Донской монастырь.
Кто из русских православных людей не знает дивную помощь и заступление Богоматери, явленные нашему отечеству и чрез другие чудотворные иконы Ее, как-то: Казанская, Смоленская, Знамения и многих других.
Не лишнее вспомнить и более давние времена, как например, дивное заступление и Покров Божией Матери, оказанные Царь-Граду в царствование Греческого Императора Льва Мудрого во Влахернском храме от Ее чудотворной иконы. При нападении сарацин на греческую столицу во время всенощного бдения Матерь Божия явилась на воздухе св. Андрею, Христа ради юродивому, молящеюся среди Ангелов и осеняющую Своим Покровом. Когда разнеслась весть об этом чудном явлении, то греки воодушевились и скоро прогнали врагов из предела своего отечества. В память этого события и установлен праздник "Покров Пресвятой Богородицы" – первого октября, принятый и торжественно совершаемый в нашей Русской Церкви.
Вспоминая все эти дивные заступления Божией Матери в годины бедствий народных, действительно нужно обратить нам глубокое внимание на изложенное выше сообщение кн. Н.Жевахова о "Свыше указанном пути ко спасению России", где так трогательно описано повеление св. Иоасафа, Белгородского чудотворца. И надо сознаться и покаяться, что в последнее время, как в Японскую, так и в великую войну с Германией, эти святые заветы благочестивых наших предков были отвергнуты – и в результате на наших глазах ужасная гибель нашей родины...
Архимандрит Ювеналий.
27 мая 1926 г."
Увы, отклика не последовало, повеление св. Иоасафа и до сих пор не исполнено, огромное большинство русских беженцев даже не слышало о Песчанском Образе Матери Божией и, может быть, даже до сих пор не знает, в чем причина его унижения и где искать спасения...
КНЯЗЬ НИКОЛАЙ ДАВИДОВИЧ ЖЕВАХОВ (краткий биографический очерк)
Перед современным русским читателем встает вопрос: что за личность князь Н.Д. Жевахов, что им создано и где издано?
Историческое время неустойчиво в мнениях и оценках, слишком бурлив наш век, чтобы составлять окончательные характеристики. И все же попробуем немного рассказать об этом замечательном духовном писателе.
Князь Николай Давидович Жевахов известен в православной среде, главным образом, как составитель замечательных жизнеописаний святителя Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского. Собранные Жеваховым материалы были выпущены в трех томах в Киеве в 1907-1909 годах, послужив основанием для канонизации этого великого подвижника; причислен к лику святых 4 декабря 1911 года. Нетленные мощи угодника Божия Иоасафа прославлены чудесным образом вновь в 1991 году. Кстати, Николай Давидович был отдаленным потомком рода Горленко, являлся дальним родственником святителя, чья патриотическая деятельность на благо Российской Державы выделяла его на фоне церковных смут первой половины XVIII века. Имея родословные связи с украинскими гетманами предшествующих времен, святитель Иоасаф всеми усилиями поддерживал Императорскую корону, заповедуя Малороссии свободно развиваться и благоденствовать под Русским скипетром. И на этих путях единение двух народов-братьев счастливо держалось, снискав у потомков чувства признательности и благодарности.
Фамилия Горленко владела поместьями в Черниговской губернии, в частности, в Прилуках, в тихом, благопристойном монастырском городке. Было имение и в сельце Линовица, принадлежало Жеваховым вплоть до революционных переворотов 1917 года. К моменту переезда сюда Сергея Нилуса в апреле того же года в сельце этом сохранялся барский особняк и флигель в глубине парка, где на втором этаже и поселился знаменитый издатель "Сионских протоколов", впрочем, ныне куда более известный читающей России как высокого склада духовный писатель и церковный публицист.
В Линовицу Сергей Александрович приехал по настоянию Владимира Давидовича Жевахова (1874-1938), родного брата автора этих "Воспоминаний". В пору Февральской катастрофы Нилус с женой находился в городе Валдае, где они прожили до того без малого пять лет, наслаждались молитвенным покоем вблизи Иверского монастыря. Но грянул гром, взвилась ураганом зачумленная чернь, и февральские события не оставляли надежд на жизнь. Князь Владимир Жевахов уговорил чету Нилусов покинуть Валдай, приютив Сергея Александровича и его жену Елену Александровну в Линовице, своем родовом поместье. Нилусы перебрались на Черниговщину, где еще на время оставались кое-какие законные начала, и с того момента оказываются вне опасности кровавых злодеяний большевиков. А злодеяния эти на Валдае влекли за собой все более ужасные последствия. Сразу после прихода красных банд в городе Валдае вспыхнул повальный террор, унесший жизни почетных людей – священнослужителей, купцов, владельцев мелких промышленных предприятий (крупных здесь не было), педагогов, хозяйственников. Изуверами расстрелян на глазах у его малолетних детей публицист-патриот М.О. Меньшиков. Останься в Валдае Нилус, от злодеев не уберегся бы.
Но он уже был вне опасности, под покровом Божией благодати, в сельце Линовица, где враг покуда не властвовал, пока лишь чувствовалось его дьявольское приближение. Этот период Нилуса отмечен созданием домашней церкви, завершением второй части замечательной книги "На берегу Божьей реки", проявлением здесь чудес и знамений. Одно из таких чудес – явленное по молитвам преподобного Серафима Саровского спасение настоятеля Густынского монастыря схиархимандрита Иоасафа, а вместе с ним и четы Нилусов.
Скажем вкратце и о деятельности князя Николая Давидовича Жевахова, в прошлом служившего товарищем обер-прокурора Святейшего Синода, а в советские годы безстрашно и ревностно собиравшего факты о зверствах в зачумленной большевизмом России. Свои скитания по революционным столицам и Крыму он затем живо отобразил во втором томе своих "Воспоминаний". Ныне его книги становятся настольными для каждого патриота, вставшего на путь духовного возрождения Отечества.
Князь Жевахов успел создать еще и третий том "Воспоминаний", но по недостатку средств напечатать его не удалось. Русские беженцы за границей, бедствуя и перебиваясь грошовыми заработками, не всегда могли пособить автору покрыть издательские расходы, а радикально настроенные толстосумы, присвоившие царские средства, патриотам не сочувствовали, подчиняя подкупленные издания распространителям ложных идей. Разомкнутость культур – православно-народной, укорененной в культе, и бездуховной, изымавшей из сердец Христа, которую вернее назвать антикультурой, существовала и в Зарубежье, где главенствовали все те же беды, что и в России.
В наброске к очерку о Нилусе (Новый Сад. 1936) князь Жевахов раскрывает приблизительный состав своего неопубликованного труда. Это, прежде всего, полемические главы, посвященные происхождению и оценке "Сионских протоколов", затем обширная часть с разбором закулисных инсценировок Бернского процесса, весьма показательного по составу и устремленности. Книжка о Сергее Нилусе задумывалась князем как первая часть большой книги, – единственное, что было опубликовано. Возможно, очерк вошел бы в третий том "Воспоминаний".
Николай Давидович долгие годы жил в Италии в городе Бари, где он заведывал Церковно-археологическим кабинетом Святителя Николая Мир-Ликийских Чудотворца. Естественно, живя вдали от Родины, он был в отрыве от событий, совершавшихся там. Не мог знать многого и о жизни Сергея Нилуса в Совдепии, о его мытарствах и мучениях. А те скудные сведения, что получал из вторых рук, нуждались в уточнениях. Зато эпизоды личных встреч с этим великим духовным писателем и другими лицами изображены прекрасно, и мысли, которые овладевали автором очерка, представляют исключительный интерес. Эти мысли помогут современным людям по-новому оценить прошедшее и более проницательно осознать происходящее теперь. Проще сказать, такая книжица не затеряется в безликом море литературы.
Но вернемся к "Протоколам". Почему русские люди не только не довели их до сведения мировой общественности, но и сами вовремя не сумели в них разобраться? Князь Жевахов, хорошо знавший мирской и духовный уклад русской жизни, на это отвечает так:
"Появление "Протоколов" на русском книжном рынке явилось событием чрезвычайным, однако ни правительство, ни широкая публика не сумели оценить его.
Книга успеха не имела и той цели, какую преследовал благородный С.А. Нилус, желая "предупредить правительство о надвигающейся опасности и открыть глаза широкой публике на истинные причины нараставшего в России революционного движения", – не достигла, встретив пренебрежение, равнодушие и непонимание не только со стороны правительства, но и в кругах общественных и даже церковных. Строго говоря, отрицательное отношение к книге части церковных кругов предопределило отношение к ней и со стороны всех прочих. И только еврейская печать, или, точнее, вся русская печать, руководимая евреями, хорошо поняла значение книги и старательно замалчивала ее, из опасения, что она обратит на себя внимание и раскроет карты евреев. Обращаю на этот факт особое внимание для того, чтобы вновь опровергнуть клевету евреев, утверждающих, будто "Протоколы" были изданы русским правительством с целью устройства и оправдания погромов. Если бы это было так, то, наверное, правительство сумело бы и распространить "Протоколы" среди населения в количестве достаточном для ознакомления русского человека с задачами еврейства, его планами и программами...
Однако действительность свидетельствовала об обратном. Русские люди отнеслись к "Протоколам" с полным безучастием и даже не поняли их. Книга вызвала недоумение и недоверие, и отталкивала избытком откровений, казавшихся фантастическими. И нигде вековая работа евреев по засорению христианских мозгов не сказалась так ярко, как именно на отношении к "Сионским протоколам", о которых стали говорить лишь после гибели России, после победы евреев, когда русский человек на собственном примере убедился в их достоверности".
О причинах гибели России сам Николай Давидович впоследствии написал весьма убедительную статью. В 1928 году, проживая все на том же подворье Святителя Николая Мир-Ликийских Чудотворца в итальянском городе Бари, где он когда-то строил православный храм на средства Императорского Палестинского общества, князь Жевахов высказал мысли, не утратившие своей значимости и поныне. Он сказал, что Россия погибла из-за вялости государственного аппарата и чиновничества, безпрестанно нарушавших присягу Государю, что аппарат должен быть безпощадным к беззаконникам, не перекладывая своих функций на Монарха. Богопомазанный Государь по своей сути Удерживающий, удерживает свой народ от повреждения. Он – милующий, его милость и любовь простираются на всех, а правопорядок блюдет карающая десница закона, чьи установления проводят в жизнь государственники и приставленные к делу чиновники.
Князь Жевахов, сам юрист, и ему ли не знать было, как важно не попустительствовать кромешникам вершить их злодеяния. А они вершили, можно сказать, безпрепятственно, что только могли. Открыто разжигали ненависть к Церкви и самодержавным устоям, с подачи жидо-масонских центров нагнетали истерию террора, развращали и дурачили толпу и неустойчивую часть интеллигенции. Уже будучи товарищем обер-прокурора Св. Синода, Жевахов много ездил по России, и везде печальные картины нравов были сходны: неверие и человекобесие насаждались чужеродами злонамеренно. Для этого они почти целиком завладели печатью, судами, педагогикой.
Проживая с 1920 года заграницей, Николай Давидович Жевахов в весьма сжатые сроки пишет свои замечательные "Воспоминания". В них дается широкая панорама русской жизни накануне Мировой войны и в пору русского погрома – революции. Оба первых тома уже были готовы к выпуску в свет в 1923 году. И первый том тогда же и вышел в Мюнхене, а второй удалось издать лишь через пять лет в сербском городе Новый Сад, причем тиражом всего 400 экземпляров. Непонимание Православной монархии, бытовавшее в России, перенеслось и в круги русского рассеяния. Жевахов убедительно вскрывает истоки такого рода непонимания. С первых же страниц второго тома он принимается за главное: "Революция, – пишет князь, – всегда была заданием определенной группы людей, выполнявшей директивы центра, программа деятельности которого непосредственно вытекала из Талмуда".
Николай Давидович даже считал, что чаяния жидовства отражают и книги Ветхого Завета, кроме, пожалуй, книг Иова и пророка Даниила. Остальные книги будто бы испорчены иудеями в угоду своим целям. Такая точка зрения Жевахова, конечно же, неприемлема для нас. Как небезспорны его суждения и по поводу Патриаршества в России. Автор "Воспоминаний" утверждает, что созыв Поместного Собора в 1917 году противоречил канону: нельзя выбирать Патриарха без Православного Царя, Государь и Патриарх неразрывны, они в одном лике отображают земной образ Спасителя. Был Жевахов и против представителей из мирян на Соборе.
Как несгибаемый синодал, князь Жевахов усиленно отстаивал Обер-прокуратуру, считая, что это духовное ведомство многое сделало для укрепления роли Церкви в русском обществе. Другое дело, нужны были реформы. Вместе с Обер-прокурором Св. Синода Николаем Павловичем Раевым князь Жевахов накануне революции разрабатывал такие реформы. Они заключались "в децентрализации церковного аппарата, в разграничении церковной и государственной сферы управления, в сближении архипастыря с паствой, в создании условий, имевших обезпечить архипастырю возможность выполнять его непосредственные задачи, что в совокупности возродило бы и оживило церковную жизнь на местах".
Надо сказать, что Н.П. Раев был личностью незаурядной. Благочестивый, образованный, любящий Престол и Отечество, он был назначен в Св. Синод по настоянию Императрицы Александры Феодоровны. Раевы давно известны при Дворе: отец Николая Павловича – первенствующий член Святейшего Синода, митрополит Петербургский и Ладожский Палладий (Павел Иванович Раев, 1827-1898) был духовником Августейшей Семьи; оставил по себе добрую память. Обер-прокурор Св. Синода Н.П. Раев вместе с князем Жеваховым стремился оживить приходскую жизнь, наполнить ее христианским деланием. К сожалению, эта деятельность быстро прервалась. Масону Керенскому нужны были не государственники, а шуты, и в обер-прокуроре Львове он нашел себе такого шута, который не только заменил весь Синод, но и сместил со столичных кафедр двух самых духоносных владык – Питирима и Макария. Россию прибрали к рукам преступники.
Скудны сведения о жизни Н.Д. Жевахова за рубежом. Известно только, что этот пламенный монархист зорко следил за всеми событиями, имевшими быть в его Отечестве. Незадолго до кончины князь посетил Закарпатье, еще не занятое большевиками.
Умер Николай Давидович в 1938 году, оставив после себя замечательные книги, им написанные за три десятилетия. В том же году скончался на Соловках его брат, Владимир Давидович, во иночестве Иоасаф, митрополит Могилевский, и тоже духовный писатель. Вспомним их в молитвах своих, православный читатель!
Спаси Господи.
Александр СТРИЖЕВ
1993 г.
БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ Н.Д. ЖЕВАХОВА
1. Назначение школы. СПб. 1906.
2. Чудное действие Божия Промысла. Киев. 1908.
3. Святитель Иоасаф Горленко, Епископ Белгородский и Обоянский (1705-1754). Материалы для биографии, собранные и изданные князем Н.Д. Жеваховым. Киев. Типография Киево-Печерской Успенской Лавры. 1907-1909.
Том I. Предки Святителя Иоасафа. Святитель Иоасаф и его сочинения. Жизнь и деятельность Святителя Иоасафа.
Том II. Чудеса Святителя Иоасафа. Предания о Святителе Иоасафе.
Том III. Дополнения к предыдущим томам.
4. Николай Николаевич Неплюев. Биографический очерк. СПб. 1909.
5. Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. Жизнь и деятельность. СПб. 1909. Второе издание. 1913.
6. Акты и документы лубенского Мгарского Преображенского монастыря. Историческое исследование. Киев. 1910.
7. Строители духа жизни в области живописи и архитектуры И.Ижакевич и А.Щусев. СПб. 1910.
8. Речи. М. 1910.
9. Житие Святителя Иоасафа, чудотворца Белгородского. СПб. 1910.
10. Верующая интеллигенция о толковании Евангелия. СПб. 1911.
11. Бари. Путевые заметки. СПб. 1911.
12. На родине Преподобного Сергия Радонежского. М. 1912.
13. Пробуждение Святой Руси. СПб. 1914.
14. Чудеса Святителя Иоасафа. СПб. 1916.
15. Воспоминания товарища Обер-прокурора Святейшего Синода. Том I. Мюнхен. 1923.
Том II. Новый Сад. 1928.
Главы 26-39 II-го тома переизданы:
Еврейский террор в России. Крещение русского народа в огне и слезах. Из воспоминаний товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н.Д. Жевахова. Б.м.и г.
Воспоминания. М. 1992.
"Сергиев Посад. Православно-патриотический вестник". 1992. № 10.
16. Еврейский вопрос. Нью-Йорк. 1926.
17. Памяти графа А.Череп-Спиридовича. Нью-Йорк. 1926.
18. Изабелл-Флоренс Хапхуд. Нью-Йорк. 1926.
19. Светлой памяти шталмейстера Высочайшего Двора Ф.В. Винберга. Париж. 1928.
20. Житие Святителя Иосафа, чудотворца Белгородского. Новый Сад. 1929.
21. Причины гибели России. Новый Сад. 1929.
22. Правда о Распутине (на итальянском языке). Бари. 1930.
23. Раб Божий Николай Николаевич Иваненко. Новый Сад. 1934.
24. Светлой памяти князя А.А. Ширинского-Шихматова. Новый Сад. 1934.
25. Корни русской революции. Кишинев. 1934.
26. Сергей Александрович Нилус. Краткий очерк жизни и деятельности. Новый Сад. 1936.
27. Il retroscena dei "Protocolli di Sion". La vita e le opere del loro editore, Sergio Nilus e del loro autore Ascer Chinsberg. Roma. 1939.
Библиографию составил Александр СТРИЖЕВ
Примечания
1
Зарублен большевиками в 1918 году.
(обратно)2
(обратно)3
Означенное письмо вошло в книгу А. Царинного "Украинское движение" (главы XXI и XXII).
(обратно)4
Епископ Макарий Владикавказский впоследствии "объявил себя коммунистом, завел гарем, стал кутить и безобразничать открыто и цинично" (Новое Время, 8 сент. 1924 г., № 710). См. гл. 41 "Гонения на Церковь".
(обратно)5
Здесь психологические обоснования абсолютизма власти.
(обратно)6
В 1-м Послании Иоанна Богослова поясняется: "Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца" (3, 15).
(обратно)7
Приводим текст этого приказа, как он напечатан "Изв. Московск. Сов. раб. деп." от 4 марта 1917 г.:
"Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов предложил военному штабу издать следующий приказ по войскам: 1) во всех ротах, полках, батальонах, эскадронах, отдельных службах и разного рода военных управлениях немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов; 2) выбрать в Совет рабочих депутатов по одному представителю от роты или соответствующей ей по величине части; 3) во всех своих политических выступлениях воинские части подчиняются совету раб. и солд. депутатов и своим комитетам. Приказы военных комиссаров Государственной Думы следует исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета раб. и солд. депутатов; 4) всякого рода оружие, как-то, винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и проч. должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованию; 5) в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общественной, гражданской и частной жизни ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане: в частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется; равным образом отменяется титулование офицеров высокопревосходительствами и благородиями и заменяется обращением: г. генерал и т.д.; 6) грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, в частности – обращение к ним на "ты", воспрещается. О каждом нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов". Приказ заканчивается так: "настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.
(обратно)8
Автор этой статьи в конце 1921 года покинул Советскую Россию, где он с самого начала большевической революции занимал руководящее место в качестве врача в Красной армии. По принуждению большевиков автор участвовал во многих большевических военных походах и неоднократно был свидетелем массовых расстрелов и пыток.
(обратно)9
Курсив наш. Там не было ни мрака, ни самодурства, а сознательное осуществление тех же вековых еврейских целей, только более замаскированных и не столь цинично обнаженных, как в России в период революции 1917 г., длящейся и доныне. – Н.Ж.
(обратно)10
Курсив наш. Здесь ответ на вопрос Европы, почему Россия не сбрасывает с себя ига большевичества.
(обратно)11
В действительности 170 миллионов и даже по большевическим сведениям свыше 140 миллионов.
(обратно)12
Образование митрополичьих округов, поместные соборы без участия мирян два раза в год, в сроки, указанные Книгой Правил, и всероссийские соборы митрополитов. Синод, как Собор иерархов, обер-прокуратура, как министерство по делам Православной Церкви, ведающее ее государственные функции. – Н.Ж.
(обратно)13
В "Илиаде" Гомера уже говорится, что души павших под Троей ахайцев идут в Аид (Ад), а тела поедаются собаками и расклевываются птицами.
(обратно)14
Предместье г. Киева
(обратно)15
Маммона – богатство, имущество, вообще всякий земной корыстный интерес, который всецело поглощает внимание человека, захватывает его душу и отвлекает его от богомыслия.
(обратно)16
Здесь и ниже курсив наш. Н.Ж.
(обратно)17
В 1-м послании Иоанна Богослова поясняется: "Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца" (3, 15).
(обратно)18
Обзор этой статьи – польского публициста Антония Холоневского, напечатанная в газете "Rzecz Pospolita" (№ 159, от 13 июня с.г.), – о жидовском государстве – помещен у нас в главе 49-й, стр. 403-407. – Н. Ж.
(обратно)

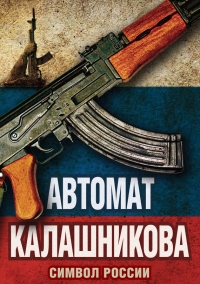








Комментарии к книге «Воспоминания. Том 2. Март 1917 – Январь 1920», Николай Давидович Жевахов
Всего 0 комментариев