Мария Андреевна Бекетова Александр Блок и его мать
Вступительная заметка
Портрет отца поэта, Александра Львовича Блока, снят в 1878 году в Варшаве, когда он жил там один в разлуке с невестой. Портрет снят в очень благоприятную минуту, но, во-первых, Александр Львович был тогда красивее, а во-вторых, портрет не передает того мрачного демонизма, который был свойствен Ал. Львовичу и так метко очерчен в автобиографическом очерке его сына словами: "В этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как и во всем душевном и физическом облике его". На этом портрете лицо задумчивое, пожалуй, несколько грустное, но никак уж не страшное. В тот год Ал. Львовичу было 26 лет. Интересно сравнить это лицо с лицом его сына в 27 лет (почти тот же возраст) на портрете, снятом в фотографии Здобнова, в блузе с белым воротником. Не буду навязывать своих взглядов. Думаю, что в общем они сойдутся со впечатлением всякого, кто взглянет на оба портрета без предвзятых мыслей.
В пору снятия описанного портрета Ал. Львович, наверно, очень тосковал по невесте. Между прочим, он безумно ее ревновал, зная, что в ректорском доме {В доме моего отца.} каждую субботу собирается целая толпа молодежи, многие из которой близко знакомы; он боялся, что она не удержится от кокетства и вообще будет слишком веселиться, проводя время с молодыми людьми, которые легко поддавались ее обаянию. В то время сестра моя Ася была действительно очень кокетлива и обаятельна. Кокетство ее было совершенно невинного свойства, но случалось, что, даже помимо ее желания и вполне бессознательно, она внушала очень глубокие чувства. Это-то все, очевидно, и мучило ее жениха. Но, как все ревнивцы, он не понимал того, что кокетство его невесты не более как невинная забава и что она по натуре своей совершенно неспособна изменить, раз она связала судьбу свою с кем-нибудь серьезно.
Под влиянием ревности он написал невесте в очень резкой форме, чтобы она не смела присутствовать на субботних сборищах. Удивительно, что сестра, обычно довольно-таки своевольная в отношениях со старшими в семье, на этот раз послушалась жениха беспрекословно и в ближайший субботний прием заперлась у себя в комнате и не выходила весь вечер, так что все думали, что она заболела. Что и говорить, Ал. Львовичу было о чем призадуматься: то тот, то другой из завсегдатаев дома Бекетовых {Мать Ал. Блока – урожденная Бекетова.} нет-нет, да и посвятит стихи Александре Андреевне; правда, оба молодых человека приходились сродни поэтам – один был Батюшков, другой Майков [1] и даже ухаживали они за другими моими сестрами, но все же писали стихи и невесте Ал. Львовича. Студенты, идущие на трудный экзамен, почему-то просили благословить их именно Александру Андреевну, а не кого-либо из ее трех сестер. А там ходит огорченный и мрачный – отвергнутый жених, бывший товарищ по гимназии Ал. Львовича, за которого Ася одно время совсем было собралась выйти замуж, да спохватилась и, поняв, что она его не любит, написала ему отказ на листочках, вырванных из учебной тетрадки. И, пожалуй, еще того больше огорчен и расстроен другой поклонник, который был очень вхож к нам в дом, когда Ал. Львович еще не бывал у Бекетовых. Этот неловкий поклонник усердно дарил Асе шоколад и нещадно дразнил ее, так что она только сердилась и ничего не подозревала об его чувствах.
И вот не успел он оглянуться, как у него из-под носу взял ее Ал. Львович.
Все те, о ком я сейчас пишу, уже давно покойники, и сама она, бывшая в те дни грациозной, очаровательной девушкой, теперь успокоилась в могиле после долгих, тяжких страданий. Не знаю, насколько портрет ее, снятый невестой в 1878 году (18-ти лет), передает ее тогдашнее обаяние. Он слабее оригинала. Грация позы, женственность и миловидность, кажется, переданы, но остальное не вышло. Да ведь и нельзя передать на фотографии нежность и блеск цветов, прелесть улыбки и движений, а ведь красота сестры была именно в этом. Такие лица, как у нее, плохо выходят на фотографии. На портрете 78-го года она одета в легкое шерстяное платье кофейного цвета. В 18 лет была она еще далеко не созревшая женщина, а девушка-ребенок, которому слишком рано выпал на долю брак с таким интересным, трудным, сложным и неудержимо жестоким человеком, каким был Александр Львович Блок.
Александр Блок
ГЛАВА I Раннее детство Ал. Блока
Передо мной портрет матери поэта с маленьким Сашей на руках. Ему было в то время 2 1/2 года, ей около 23-х. Этот кабинетный портрет был снят в фотографии Болингера на Б. Морской в апреле 1883 года. На Саше сшитое матерью синее с зеленым шерстяное платьице. В пору снятия портрета он ходил дома в длинных белых передниках с проймами для рукавов и застежкой сзади. Саша был в то время очень здоровенький, большой и тяжелый ребенок, так что матери трудно было удержать его на руках. На портрете у него какое-то угрюмое выражение; можно подумать, что он был неповоротливый и невеселый ребенок, и миловидность его пропадает. На самом деле он был тогда очень живой, шаловливый мальчик. Удивительная нежность его цветов и кожи, веселые светлые глазки и милая болтовня делали его очень привлекательным. Говор у Саши был очень мягкий и нежный, в нем совершенно отсутствовали те неприятные ш и ж, которые часто свойственны маленьким детям и придают такую грубость их говору.
Жил Саша в то время в верхнем этаже ректорского дома. Детская его помещалась в той самой комнате, выходившей окнами на университетский двор (в части дома, более отдаленной от улицы), где он родился {Ректорский дом теперь совершенно перестроен внутри, в нем помещаются аудитории и канцелярии.}. Здесь он спал и кушал, но играл далеко не всегда. Пока няня убирала его комнату, он проводил время то у прабабушки А. Н. Карелиной {Наша бабушка по матери, которая жила у нас в первые годы Сашиной жизни и присутствовала при его рождении.}, комната которой была за стеной его детской, то у тети Кати, нашей старшей сестры, которая особенно его любила. Тетя Катя поздно вставала, и потому, когда Саша был еще на руках, его приносили к ней в постель, где она долго с ним нянчилась и всячески его забавляла. Когда Саша научился ходить, обычай будить тетю Катю и играть с ней по утрам остался в силе. Помню, что, сидя у нее на коленях, он очень любил рассматривать картинки, изображавшие хорошеньких девочек, нарисованных на золотом фоне. Это были не то эльфы, не то цветы. У каждой был на голове какой-нибудь цветок, и он же украшал ее короткое платьице и жезл, который она держала в руках. Эти милые картинки Саша рассматривал без конца и называл их почему-то "булиля". Около полудня часто отправлялся Саша в бабушкину спальню, выходившую окнами на Неву. Здесь он совсем еще маленьким прыгал на столе и на кресле и, стоя на подоконнике, поддерживаемый кем-нибудь из домашних, дожидался, когда ударит пушка. А весной смотрел на Неву, следя за яликами, барками и пароходами. Войдешь, бывало, в эту комнату в солнечный день и увидишь яркую полосу синей Невы, сверкающую из-под белой маркизы, а на окне – веселый, розовый мальчик и при нем кто-нибудь из взрослых. Все жители ректорского дома принимали Сашу с распростертыми объятиями. В дедушкином кабинете, тоже выходившем окнами на Неву, он подолгу сидел на ковре и рассматривал картинки в больших томах Бюффона и Брэма.
Много бегал Саша по комнатам обширного ректорского дома, особенно наверху, в длинной, светлой зале и не раз опускался и поднимался по теплой внутренней лестнице, устланной ковром, которая соединяла два этажа. Вставал он рано, как все дети, и успевал утром и погулять, и поиграть. В хорошую погоду он гулял, еще среди дня, после 2-х часов. Его водили чаще всего по солнечной Университетской набережной, а весной и осенью в университетский ботанический сад, о существовании которого не имеют понятия многие жители Петербурга {Университетский ботанический сад устроен моим отцом в конце шестидесятых годов на большом участке, который удалось ему отвоевать для университета от плаца Павловского училища. Сад окружен с 3-х сторон каменной стеной. Пройти в него можно с университетского двора, из дальнего его конца, примыкающего к бирже. Он разделен на две равные части. Посередине построен трехэтажный ботанический дом с аудиториями для студентов, кабинетами профессоров и квартирой садовника. К нему примыкает оранжерея. В левой части сада был разбит настоящий сад с разнообразными деревьями, дорожками, прудом и горкой, тут же были и прекрасные цветники. В другой части сада было ныне запущенное учебное поле, состоявшее из многочисленных квадратов, засаженных растениями всевозможных пород, по которым учились студенты. Отец мой состоял директором сада, причем не получал за это никакого жалованья, но в виде некоторой компенсации пользовался растениями из оранжерей и цветами из сада.}. Когда родился Саша, сад был еще в хорошем виде и целы были те великолепные осокори Петровских времен, которые погибли при постройке химического дворца.
Забавы Саши были разнообразны. В возрасте около года он любил играть двумя большими серебряными ложками. Помню какой-то зимний вечер, когда его невозможно было уложить спать. Он сидел на руках у няни Сони {Няня Соня была любимая Сашина няня, которая ходила за ним до семи лет с перерывом в 1 1/2 года.} перед большим столом с оживленным видом и превесело забавлялся своими ложками, как будто и не нужно было ложиться спать.
Позднее ему надарили резиновых игрушек. У него была резиновая корова, коза, паяц и мальчик. Коза с дырочкой на животе при нажиме издавала пищащий звук. Раз как-то Саша придумал следующую игру: он взобрался на диван, где лежала коза, сел на нее и, когда послышался писк, объявил нараспев: "Коза огольцена!" И проделал эту штуку много раз кряду. Тогда же были в ходу деревянные чурочки, мячик и деревянная посудка. Очень любил он животных. Так и вижу, как он идет по комнате в розовом батистовом платьице, которое к нему особенно шло, и бережно несет в переднике двух котят, с которыми долго потом забавлялся.
Уже в те ранние годы Саша был большой забавник и выдумщик, но и капризник, так что сладить с ним было трудно. Так иногда во время прогулки он внезапно садился на тротуар и долго не соглашался идти дальше. Такой случай был на Университетской набережной. Мимо проходил старый академик Брандт, который остановился и, приняв расходившегося Сашу за девочку, сказал наставительным тоном на ломаном русском языке: "Ай, ай, ай, какая нехорошая барышня! Разве так можно?" [2].
Да, Саша был далеко не "пай-мальчик". Порывы веселости, смеха, причуд сменялись у него капризами и вспышками гнева. Но все же он чаще был весел и мил, чем сердит и не в духе. Веселая, молодая и умная мать, не менее веселая и очень занятная бабушка да и другие члены семьи умели быстро развлечь его, и он опять становился мил, приветлив и весел. Особенно с матерью: он ласкал ее, целовал ей руки, называл с нежностью "ма-ма-мамиселька". Он вообще любил придумывать какие-то особые уменьшительные для любимых людей и вещей. Свой маленький столик, на котором он расставлял игрушки, он называл "стол-столисецка".
В раннем детстве, так лет до трех, все звали Сашу Бибой. Это название, конечно, придумала его мать. По общему приговору родных и друзей Биба был очаровательное дитя. Ольга Михайловна Соловьева, наша двоюродная сестра, художница, увидав его в первый раз, сказала, что он "для картины", а наша близкая знакомая Анна Николаевна Энгельгардт (известная переводчица, жена Ал. Ник. Энгельгардта) восклицала при виде маленького Саши: "Маркиз в пудрамантеле!" [3]. Бибу обожали и баловали на все лады. Любил его и старый швейцар ректорского дома Карасев, радостно встречавший его, когда он шел гулять или возвращался с прогулки, – розовый, оживленный и очень голодный. Аппетит у Бибы был прекрасный, его не нужно было уговаривать кушать котлетки, пить молоко и т. д.
Из друзей и знакомых, посещавших нас в то время, особенно много занимались с Сашей моя гимназическая подруга Ольга Алексеевна Желябужская, в замужестве Мазурова, и студент Конрад Викторович Недзвецкий, который женился впоследствии на племяннице моего отца [4]. С его-то детьми Саша и играл гимназистом, как упомянуто в моей биографии. Остается сказать еще несколько слов о пребывании Саши в Шахматове в первые годы его детства. Там его радостям и забавам не было конца. Одним из главных источников этих радостей, кроме гулянья, цветов, грибов, деревенской еды, земляники и пр., были животные, в особенности собаки. Об его пристрастии к животным – всем без различия – я напишу особую заметку, пока же ограничусь этим кратким указанием.
В Шахматове Саша жил до трех лет в особом флигеле {Это был тот самый флигель, где впоследствии Саша поселился с молодой женой.}, где у него была кроватка с высокими решетками и тюлевым пологом от комаров. Он спал в одной комнате с матерью, рядом помещалась няня. В том же флигеле жила в отдельной комнате и прабабушка его А. Н. Карелина. Сидя на высоком стульчике перед некрашеным столом, в длинной салфетке, завязанной сзади, Саша пил молоко и кушал, что ему полагалось, пока его не начали водить в большой дом, где он стал кушать со всеми вместе. Это, кажется, произошло, когда ему было года три. Кушал он аккуратно и не особенно шалил за едой, но больших трудов стоило уложить его спать даже летом. Помню, как мы с сестрой в душный летний вечер сидим во флигеле и прислушиваемся к тому, как няня Авдотья в соседней комнате никак не может его укачать. Это была довольно полная и рослая женщина, которая выбивалась из сил, то напевая ему песни, то бормоча какой-то вздор про собаку Орелку и Забияку, прибирая все, что приходило ей в голову. Вот, кажется, Саша затих, сейчас можно будет положить его в кроватку и няня пойдет пить чай и болтать на кухню. Не тут-то было: внезапно раздается из другой комнаты: "муу, муу". Это значит, что Саша и не думает спать. Несколько раз повторяется та же история, пока наконец он не заснет по-настоящему. Тогда измученная няня, крадучись, боясь, как бы опять не проснулся ребенок, проберется в спальню и осторожно положит его в кроватку, а мама задернет полог с голубым бантом, и мы с ней, отпустив няню, будем смирно сидеть, чуть перешептываясь, пока она не вернется.
Саша долго еще колобродил по ночам. Когда он настолько подрос, что не нужно было его укачивать, он все-таки спал неспокойно. В одном из писем ко мне того времени мать пишет, что Биба "по ночам вертится, встает на корточки вниз головой и выдумывает вздор". Все это не мешало ему, однако, отлично высыпаться и быть очень здоровым и сильным ребенком. Но с раннего детства проявлял он нервность, которая выражалась в том, что он с трудом засыпал, легко возбуждался, вдруг делался раздражителен и капризен. Болезненных признаков пока не обнаруживалось. Нервность эта была очень понятна, так как Саша родился при тяжелых условиях и родители его, особенно мать, были очень нервные люди.
При всем своем здоровье Саша был что называется трудный ребенок. Возни с ним было ужасно много. Но все труды и хлопоты матери, няни и семьи сторицей вознаграждались той радостью, которую он доставлял окружающим: маленький Биба забавлял и смешил нас своими словечками и выдумками и восхищал умилительной детской прелестью.
Второй портрет Саши снят за границей в Триесте, когда ему было почти 4 года. Саша одет все еще девочкой. На нем белая матросская блуза из легкой материи с юбочкой в виде широкой оборки в складках. Все отделано красным кумачом с белыми тесемочками. Платье было куплено в Петербурге тетей Катей в изящном магазине детских вещей Мерсио. Этот фасон был принят на некоторое время, как переходная ступень к полному костюму мальчика. В то время, т. е. после 3 лет, уже никто не принимал Сашу за девочку, тем более, что и манеры, и игры его сразу изобличали мальчика. Но нежность цветов и говора осталась прежняя. За период в l 1/2 года, протекший между двумя портретами, Саша заметно изменился во всех отношениях: он стал еще живее, подвижнее, голос его окреп, игры стали разнообразнее, мужественнее.
Когда Саше было около трех лет, мы переехали из ректорского дома на частную квартиру на Пантелеймоновской, близко от церкви. Она была в четвертом этаже, светлая и симпатичная, но оказалась сырой, и потому мы жили на ней всего одну зиму. У Саши с матерью была небольшая комната, тут же спала и новая няня. Тесноту этого помещения скрашивала большая зала, где Саша бегал, разумеется, сколько угодно. Очень близко был Летний сад, куда Сашу часто водили гулять.
Няня попалась в тот год очень неудачная. Это была еще бодрая, сухонькая старушка, с большими претензиями и огромной долей пошлости, которую, очевидно, тогда уже чувствовал маленький Саша. Она вечно рассказывала про какого-то генерала Голощапова, который дарил ей пирожные, неизменно в один и тот же час говорила: "А вот и пономарь зазвонил", и донимала Сашу стишками вроде следующих:
Здравствуй, миленький портной.
Взял ли ножницы с собой?
Сшей ты мне жилетку
И кармашки по бокам,
Чтобы было куда класть мне орешки.
Саша не выносил ни стишков ее, ни разговоров. Ничего интересного для него и в его духе она рассказать не могла, а впоследствии оказалось, что она была пьяница и водила Сашу в гости к какому-то городовому, что мы узнали только после ее ухода, так как Саша, даже в раннем детстве, никогда на прислугу не жаловался. Разумеется, недостаток ума и талантов няни с лихвою возмещался всеми членами нашей семьи, начиная с Сашиной матери и кончая бабушкой. Еще летом в Шахматове мать сочинила для Саши сказочку про девочку Пеструшку, которая ему очень нравилась. Часто просил он мать рассказать ему "пли Плистлюску", как он тогда выражался (он долго еще картавил), а бабушка выдумала присказку про Глупишку в форме следующего диалога:
"Глупишка, Глупишка, где ты был?
Куда ходил в такую пору?"
Глупишка (басом, по-дурацки):
"На малиновую гору".
"А что ты там делал?"
"Грибы собирал".
"Да, ведь там темно",
"Ни-ча-во".
Саша готов был без конца слушать про Глупишку и как только бабушка умолкала, со страстью требовал: "Баба, истё!"
Весной старой няне отказали и взяли опять временно уходившую няню Соню, с которой поехали сначала в Шахматово, а потом за границу – в Триест и Флоренцию. Няня Соня была единственная из нянь, которую Саша любил, другие не сумели его привязать. Она была не особенно ласковая, не отличалась ни большой живостью, ни изобретательностью, но, во-первых, хорошо действовала Саше на нервы своим тихим и ровным характером, а во-вторых – никогда не мешала ему, ничем его не раздражала и с большим тактом схватывала дух его игр. Кроме того, она толково читала вслух и у нее были известные литературные наклонности, что очень пригодилось, когда Саше было года 4. Он очень к ней привязался, называл ее "няня Сонься" и с нежностью говорил: "Нянечка, у тебя носик, как апельсинчик". Няня была рябая, а нос довольно большой. А когда хотел узнать, который час, говорил ей, намекая на ее крайнюю близорукость: "Нянечка, понюхай часы".
В лето перед отъездом за границу Саша много играл в лошадки. Он скакал на палочке, взнуздывая ее и изображая непокорного коня, а также привязывал длинные красные вожжи к разным вещам и ехал куда-то на тройке, погоняя лошадей кучерскими словечками и возгласами. Это сделалось надолго его любимой игрой. Во весь длинный путь от Москвы до Триеста он запрягал своими вожжами наши дорожные мешки и покрикивал басом:
– "Но, но, забыла-а! Боишься-а!" – Всю дорогу он был весел, хорошо спал и кушал. Путешествия всякого рода уже с детства его развлекали и всегда ему нравились. В этом отношении он был не в мать. Она, напротив, в вагоне всегда страдала от тошноты, почти не могла ни есть, ни спать и вообще прескверно себя чувствовала. Зато дедушка Бекетов чрезвычайно любил путешествовать.
В Триесте мы прожили осень и зиму. В хорошую погоду Саша гулял большую часть дня. Рано утром он часто ходил с бабушкой на базар, где она покупала кое-какие припасы. Наша еда была очень несложная и простая, так как денег у нас было в обрез. Но купанье стоило гроши, а это было очень важно. Купанье в море пошло наиболее впрок именно Саше, а езда в открытой конке на пляж была для него источником больших радостей. Он скоро свел дружбу с кондуктором и, сидя в конце конки, близко от кучера, громко восклицал при остановках: "Ferma!" (Стой). Это было одно из немногих итальянских слов, которые он знал в то время. В дурную погоду, когда дул несносный сирокко, он сидел дома и играл с няней Соней. Тут главным образом фигурировали чурочки, которые изображали между прочим кондуктора и его маму, приходивших друг к другу в гости. Няня Соня вела длинные диалоги между обоими действующими лицами и иногда путала, кто кого изображает, так как чурочки были совершенно одинаковые. За это ей доставалось от Саши. Он сердито махал ручкой и восклицал с расстроенным видом: "Ах, ты! Этакая! Ведь это же кондуктор, а ты говоришь – кондукторова мама". Няня Соня кротко извинялась и быстро исправляла свою ошибку. Играли и в конку, причем няня Соня изображала пассажиров, а Саша кондуктора и контролера. Новых игрушек в Триесте не покупали, но зато во Флоренции был куплен пушистый белый заяц с морковкой во рту. С ним Саша не расставался и долго еще играл им в России. Перед отъездом из Флоренции он немного беспокоился, что кондуктор отнимет у него в вагоне зайца, и потому говорил нам: "Я скажу, что questo e mio bambino" (что это мой ребенок). Во Флоренции Саша гулял еще больше, чем в Триесте, благодаря отсутствию ветров и наступившей вскоре весенней погоде. Задняя, солнечная сторона нашего дома выходила в сад, но по нашим русским понятиям он был слишком утилитарен и скучен. Там росли только фруктовые деревья шпалерами. Ни простору, ни тени, ни лужаек не было. Саша мало проводил там времени. Ему нравился только бассейн с золотыми рыбками. Они с няней Соней много ходили по улицам или отправлялись в прекрасный сад Боболи, где были длинные тенистые аллеи и зеленые заросли с бассейнами и мраморными статуями.
Во Флоренции мать сшила Саше первый костюм с панталончиками из летней синей материи. С этих пор его одевали уже настоящим мальчиком. Тогда же купили ему соломенную шляпу с синей лентой и широкими полями, из-под которых виднелись его золотые, уже заметно вьющиеся волосики. Южане восхищались видом этого нежного северного мальчика, принимали его по большей части за англичанина. Во Флоренции у нас была прекрасно обставленная квартира, отличный стол и хорошая кухарка. Жизнь была гораздо интереснее и разнообразнее, чем в Триесте, но для Саши это было неважно. Ему одинаково хорошо было и в Триесте, и во Флоренции. Он здоровел и развивался, но вся поездка прошла для него, как сон, не оставив никаких следов в его воображении.
В начале мая мы, уже сильно соскучившись по России, уехали из Флоренции прямо в Шахматово. Можно себе представить, как ждали Сашу те, кто оставался в России…
Когда мы вернулись, для Саши и его матери было приготовлено новое помещение. Флигель понадобился для сестры Софьи Андреевны, у которой перед нашим отъездом родился первый ребенок. Саша с матерью поселились в большой комнате с итальянским окном, выходившим в сад, которую только что отстроили на месте старой кухни, примыкавшей к дому, а кухню перенесли на двор в расстоянии нескольких шагов от дома. Рядом со спальней Саши и его матери была небольшая комнатка няни Сони. Она занимала часть сеней, соединявших большой дом с пристройкой. В новой комнате стояла все та же детская кроватка, из которой Саша еще не вырос. Здесь помещалось больше вещей, чем в тесных комнатках флигеля. В углу, например, стоял старинного фасона угольный диван, крытый красным ситцем, который мы с сестрами еще с детства прозвали пиявкой – надо признаться, не очень метко. В Шахматове зажили, по обыкновению, очень хорошо. Маленький Фероль, сын тети Софы {Тетя Софа – наша сестра Софья Андреевна.}, которому было около года, пока еще мало занимал Сашу. Лето прошло незаметно. В Петербург приехали прямо на новую квартиру, приготовленную и устроенную заранее тетей Катей, на которой лежали все хозяйственные заботы. На этот раз поселились на Ивановской, близ Загородного просп. Здесь у Саши с матерью была громадная комната, да и вся квартира была просторная, особенно зала, уставленная по всей стене, выходившей на улицу, красивыми группами тропических растений, доставшихся нам из университетской оранжереи. Несмотря на большое количество мягкой мебели и концертный рояль, в зале оставалось еще много свободного места так, что у Саши было обширное поле для беганья. В эту зиму и был с него снят портрет в кружевном воротнике и в костюме из зеленого бархата с атласной вставкой. Этот красивый наряд надевали на Сашу, разумеется, только в торжественных случаях, обычно же он ходил в синих матросских костюмчиках с короткими панталонами, в длинных темных чулках и черных туфлях с завязками. Так он одет на другом портрете, снятом с него в тот же сезон во весь рост (фотография Вестли). В то время его шелковистые тонкие волосы стали темнее, он был очень строен и его крепкие ножки не знали устали. Ходить и бегать он мог без конца. Прав был дедушка, который говорил ему, если он жаловался на усталость: "А ты побегай". Усталость могла быть только нервная, если ему приходилось скучать или стесняться.
В эти годы Саша был очень шумлив и стремителен. Его голос громко раздавался по комнатам, всякому занятию он предавался с самозабвением. Всю эту зиму он проиграл в конку. Саша был до того поглощен этой забавой, что когда переставал играть, т. е. звонить и двигаться, он почти все время водил пальчиком по всем линиям, которые попадались ему на столах, на книгах, на рисунках скатерти и т. д. Раз он дошел до того, что, взобравшись на колени к одному длинноносому гостю, стал водить пальцем по его носу. На Ивановской пришлось прожить всего одну зиму, квартира оказалась дедушке не по средствам. Наняли другую {На Б. Московской, против Свечного пер.}, немногим хуже прежней – тоже с большой детской, где спала и няня Соня: у нее был свой уголок за перегородкой. Именно в этой комнате была лошадь-качалка и зеленая лампадка, известные по стихам, посвященным Олениной д'Альгейм [5], и по стихотворению "Сны" из 3-го тома:
И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!
Луч лампадки, как в тумане… и т. д.
В промежутках между игрой и гуляньем няня Соня читала Саше вслух в то время, как он рисовал или что-нибудь мастерил. Об этом я скажу ниже подробно, теперь же буду продолжать об его играх. Под влиянием чтения пушкинской "Полтавы" Саша выдумал новую игру. Изображался Полтавский бой. Это была бурная, воинственная игра, для которой Саша надевал картонные золотые латы с такой же каской, подаренные ему на елку. Он вихрем носился по комнатам. Пробежав через бабушкину спальню, врывался в залу, пролетал ее с громкими воплями, махая оружием, по дороге с кем-то сражался, в кого-то стрелял, целясь, например, в сидящую за работой бабушку, причем говорил: "Сидит мертвая, да и шьет". И несся обратно тем же порядком, придумывая все новые и новые эпизоды сражения. Во время этих битв я сидела обыкновенно за роялем, играя гаммы, за что и получила название шведского музыканта. Таким образом, мы с бабушкой, не принимая никакого участия в Сашиной игре, были вовлечены в нее силою его воображения.
В этом же году, ближе к весне, Саша выдержал опасную болезнь (плеврит с эксудатом). Это время было особенно тяжело еще и потому, что Саша заболел в отсутствие матери, которая лежала в больнице, где ей делали операцию. Саша скучал по матери, а от нее приходилось скрывать его болезнь, чтобы не помешать ее выздоровлению. Перед тем, как заболеть, Саша был очень грустен и, идя прощаться к бабушке перед сном, шел, опустив головку. Когда он стал ложиться спать, няня сказала ему: "Что ты, Сашенька, такой грустный? Не надо так. Вот посмотри, Фероль {Двоюродный брат Саши.} всегда веселенький". – А он отвечал: "Да, у Фероля мама здоровая, а у меня-то больная". Тут няня Соня стала его ласкать и прекратила свои наставления.
Лечил Сашу доктор Каррик и, по обыкновению, очень успешно. Скажу несколько слов об этом милом человеке, который два раза спас Сашу от жестокой опасности. Он происходил из шотландской семьи, основавшейся в Петербурге. Учился сначала в Peterschule, а потом в Эдинбургском университете. Был очень талантливый и решительный доктор, а также большой любитель детей,- красивый, здоровый человек, огромного роста, с громовым голосом и неистощимым запасом веселья. Он с большим юмором изображал разные сцены и рассказывал анекдоты, великолепно представлял, как хлопает пробка, или делал вид, что отчаянно стукнулся лбом об дверь, подражая только движению и звуку удара, и т. д. Он очень любил Сашу и, забавляя его самыми простыми средствами, заставлял смеяться и радоваться. Саша называл его "крошка доктор" и всегда рад был его приходу. Помню, как один раз, просидев у нас час или два в дружеских разговорах, Каррик собрался уходить перед самым обедом. Саша уговаривал его остаться. "А у нас будет пудинг", – сказал он, надеясь удержать доктора. Услышав это, Каррик заревел во все горло и, утирая глаза кулаками, пошел в переднюю, что, конечно, привело Сашу в немалый восторг. Во время болезни доктор был необыкновенно внимателен и ласков с ребенком и выходил его великолепно. Мать вернулась из больницы, когда Саша еще лежал в постели и был довольно слаб, но уже поправлялся.
Теперь как раз будет кстати сказать о первом Сашином чтении, но для этого мне придется вернуться немного назад. По более точным справкам оказывается, что Саша выучился читать не в 4 года, как сказано в моей биографии, а годам к пяти. Этому научила его в первый год по возвращении из-за границы наша бабушка, А. Н. Карелина, которая жила с нами и на Ивановской. В те часы, когда Саша оставался один в ее комнате, она по секрету от его матери, с которой была в великой дружбе, стала показывать ему буквы по рассыпной азбуке. Он очень скоро одолел грамоту, и прабабушка с торжеством показала его искусство Сашиной маме. Писать же он выучился сам совершенно незаметно, писал сначала печатными буквами, а потом и писаными.
Саше было лет пять или около того, когда ему начали читать вслух. По большей части это делала няня Соня. Сам он читал тогда мало. Вначале ему нравилось больше всего смешное и забавное. Быстро выучил он наизусть "Степку Растрепку", "Говорящих животных", "Зверки в поле и птички на воле" и разные присказки, загадки и стишки из книжек так называемой Ступинской библиотеки [6]. Известная книга Буша "Макс и Мориц" не была в ходу у нас в доме. Лет в 6 появился у Саши вкус к героическому, к фантастике, а также к лирике. Ему читали много сказок – и русских, и иностранных. Больше всего ему нравился "Царь Салтан". Тогда же полюбил он "Замок Смальгольм", узнал он и "Сида" в переводе того же Жуковского. Наслушавшись этого чтения, он дал няне Соне прозвище в духе испанского романсеро: "Дон Няняо благородный по прозванию Слепая".
Саша охотно, без всякого принуждения говорил наизусть отрывки из разных забавных стихов о зверках и птичках вроде истории про дерзкого воробья со следующим четверостишием:
Он ворону пожилую
Нагло смел спросить,
Как на лапищу такую
Сапоги ей сшить.
Или декламировал целиком:
Пуделька послала мама
Крендельков купить.
Близко булочная, скоро
Можно бы сходить.
Но охотник он был страшный
По верхам зевать…
и т. д.
Кажется, у пуделька украла его крендельки другая собака. Все это было смешно не по замыслу автора, который всегда имел нравоучительные тенденции, а по комической серьезности, с которой трактовались эти сюжеты. Много удовольствия доставляли Саше и талантливые рисунки с утками и ласточками в юбках и капорах и собаками в пиджаках и цилиндрах. Одной из любимых историй были преглупые стихи о болтливом утенке, которому мать обещала повесить на нос замок, если он не перестанет болтать. Утенок оказался непослушным и разболтался с лягушонком:
Долго крик их продолжался
И далеко раздавался;
Бестолковое "вак, вак!"
И затем немедля "квак!"
Все кончается следующим нравоучительным четверостишием:
Чем же кончилось болтанье?
Посмотрите, что за вид:
Мать сдержала обещанье,
И на рту замок висит.
А внизу нарисован желтый утенок в красной шапочке с замком на клюве и крупной слезой, повисшей под глазом.
Более серьезные вещи Саша не любил говорить при всех. "Замок Смальгольм" он еще декламировал няне и маме, но лирических стихов никогда. После его болезни, стало быть, лет около шести, произошел следующий характерный случай. Как-то вечером, лежа в постели, Саша выпроводил из комнаты всех, кто там был, и мы услыхали из соседней комнаты, как он слабым голоском, еще слегка картавя, стал говорить наизусть стихи Полонского "Качка в бурю":
Гром и шум. Корабль качает,
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит.
Разумеется, он не понимал тогда очень многого в этих стихах, но что-то ему в них нравилось. Он, очевидно, чуял их лиризм, который уже тогда был ему близок.
Когда Саше минуло семь лет, мать нашла, что он уже настолько велик, что пора отпустить няню. Няня Соня поступила, по рекомендации Сашиной матери, на новое место, но приблизительно через год после того, как ушла от нас, вышла замуж, причем сестра А. Андр. была у нее на свадьбе посаженой матерью, а Саша нес образ. Няня Соня имела такое значение для маленького Саши, что я считаю нужным сказать об ней еще несколько слов. Она была настоящим другом и помощницей его матери. Более подходящей няни ему нельзя было подыскать. Происходя из очень честной и порядочной мещанской семьи, она сама отличалась безукоризненной честностью и добросовестностью. Ее наружность, не будучи красивой (ее портили рябины), не лишена была приятности и очень женственна. Она была высокого роста, очень опрятна, всегда аккуратно одета и гладко причесана так, что в общем производила благообразное впечатление. Ее кротость и ясность прекрасно действовали на Сашу. Отсутствие крикливости, грубости и болтливости очень ее украшало и было особенно кстати для такого нервнго и впечатлительного ребенка. Кроме того, она была умна и интеллигентна и всегда умела занять Сашу и говорить с ним именно так, как ему было нужно. Уйдя от него, даже и после замужества, няня Соня интересовалась всем, что его касалось. Она читала и понимала многие его стихи, гордилась им и высоко его почитала, хотя и звала по старой памяти "Сашура" с обращением на ты. Саша тоже любил ее. В детстве, еще гимназистом, он очень веселился и радовался, когда она приходила в гости, иногда с ночевкой. Они вместе сочиняли потешные стихи и много хохотали. В более зрелом возрасте Саша всегда был с ней добр и приветлив и не раз помогал ей деньгами в трудные минуты. Несколько лет тому назад она совершенно ослепла. Муж ее, с которым они очень согласно жили, умер, детей у нее не было. Сестра Ал. Андр. поместила ее в богадельню. В настоящее время она в богадельне около Смольного. Жизнь ее, разумеется, самая печальная, тем более, что ее редко навещают по дальности расстояния.
Портрет семилетнего Саши в матросском костюме, с гладко причесанными короткими волосами относится к последнему году пребывания в нашем доме няни Сони. Об этом портрете, снятом в фотографии Пазетти на Невском, я скажу только одно: он похож, но снят в неблагоприятную минуту, так как, чтобы ехать сниматься, Сашу пришлось оторвать от какой-то очень интересной игры, о чем он долго не мог забыть: оттого у него такое недовольное выражение. Он уже далеко не так красив, как на предыдущем портрете, что объясняется между прочим тем, что острижены его прекрасные кудри. Короткая стрижка к нему не шла.
С семи лет, еще при няне Соне, Саша начал увлекаться писанием. Он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом. Сохранилось несколько маленьких книжек такого рода. Есть "Мамулин альбом", помеченный рукою матери 23 декабря 1888 года (написано в 8 лет). В нем только одно четверостишие, явно навеянное и Пушкиным, и Кольцовым, и ребус, придуманный на тот же текст. На последней странице тщательно выведено: "Я очень люблю мамулю". Весь альбом, формата не больше игральной карты, написан печатными буквами. "Кошачий журнал" с кораблем на обложке и кошкой в тексте написан уже писаными буквами по двум линейкам. Здесь помещен только один рассказ "Рыцарь", неконченный. Написан он в сказочном стиле. Упомяну еще об одной книжке, составленной для матери и написанной печатными буквами. На обложке сверху надпись: "Цена 30 коп. Для моей крошечки". Ниже: "Для моей маленькой кроши". Еще ниже – корабль и оглавление. В тексте рассказик "Шалун", картина "Изгородь" и стишки "Объедала":
Жил был Маленький коток,
Съел порядочный
Пирог.
Заболел тут животок –
Встать с постели
Кот не мог [7].
К сожалению, дат нигде нет. Все эти ранние попытки писать обнаруживают только великую нежность Саши к матери, а также его пристрастие к кораблям и кошкам. Но интересно то, что Саша уже тогда любил сочинять и писал в разном роде, подражая различным образцам.
Заключая первый период Сашиной жизни, скажу еще несколько слов об его характере. Саша был вообще своеобразный ребенок. Одной из его главных особенностей, обнаружившихся уже к семи годам, была какая-то особая замкнутость. Он никогда не говорил про себя в третьем лице, как делают многие дети, вообще не любил рассказывать и разговоров не вел иначе как в играх, да и то выбирал всегда роли, не требущие многословия. Когда мать отпустила няню Соню, она наняла ему приходящую француженку, которая с ним и гуляла. Это была очень живая и милая женщина. Она расположилась к Саше и очень старалась заставить его разговаривать, но это оказалось невозможным: Саша соглашался только играть с ней, а с разговором дело не шло. Мать решила, что не стоит даром тратить деньги, и отпустила француженку.
При всей своей замкнутости маленький Саша отличался необыкновенным прямодушием: он никогда не лгал и был совершенно лишен хитрости и лукавства. Все эти качества были в нем врожденные, на него и не приходилось влиять в этом смысле. Кроме того, он был гордый ребенок. Его очень трудно было заставить просить прощения; выпрашивать что-нибудь, подольщаться, как делают многие дети, он не любил. К тем наказаниям, которым иногда подвергала его мать, он относился очень своеобразно. Когда ему было четыре года и мы жили во Флоренции, он как-то очень шалил за обедом. Мать много раз его останавливала, он все не слушался. Наконец, она сказала: "Я не дам тебе сладкого, если ты не перестанешь шалить". Тогда он совершенно спокойно встал из-за стола и сказал: "Хорошо, я пойду в сад рыбок смотреть". В саду был бассейн с золотыми рыбками, и Саша действительно отправился туда как ни в чем не бывало, не попросив прощения и не думая клянчить, чтобы ему дали сладкого блюда, которое он очень любил. Позднее, когда ему было лет пять или шесть, произошел такой случай: Саша очень рассердил свою мать какой-то шалостью или капризами. Она заперла его в нянину комнату, потому что он не хотел ни повиноваться, ни образумиться. Долго он сидел там совсем тихо: не плакал, не кричал и ничего не говорил, наконец мать и няня стали беспокоиться, не случилось ли с ним чего. Как вдруг он заговорил с ними совершенно спокойным голосом: "Что же вы меня не выпускаете? Ведь я уж все нянины платья оборвал, смотрите". Мать и няня бросились отпирать двери и увидали, что на полу валяются все нянины платья, сорванные с гвоздей. Тогда мать сказала: "Что же мне с тобой делать, Сашура? в ванную, что ли, тебя запереть?" – "А я там воду пущу", – отвечал он. Мать вывела его из няниной комнаты, и тут только он попросил прощения, причем, конечно, его обласкали. Очень трудно было справиться с его капризами, приучить его к чему-нибудь и заставить его что-нибудь делать, если он этого не хотел. Лучше всего помогала какая-нибудь выдумка или шутка. Саше было года четыре, когда мать придумала следующий фортель. Когда он начинал капризничать или упрямиться, она говорила: "Ах, это Вавилка пришел, гадкий Вавилка, который всегда капризничает и не слушается. Уходи, уходи, Вавилка, позови мне моего милого Сашеньку, который такой хороший и умный, никогда не капризничает; ну, иди же, иди, позови". И Саша с надутым, сердитым личиком уходил в другую комнату, где оставался некоторое время один, а потом говорил так, что все мы слышали: "Сяська! Иди сюда, тебя мама зовет!" – и возвращался к матери уже в другом настроении, целовал ее, переставал капризничать и весело принимался за игру. И все-таки нужно сказать, что Сашу можно было только отвлечь и, так сказать, обмануть удачной шуткой, новым впечатлением и т. д. Но изменить его наклонности, повлиять на него, воспротивиться его желанию или нежеланию было почти невозможно. Он не поддавался никакой ломке: слишком сильна была его индивидуальность, слишком глубоки его пристрастия и антипатии. Если ему что-нибудь претило, это было непреодолимо, если его к чему-нибудь влекло, это было неудержимо. Таким остался он до конца, а когда сама жизнь начала ломать его, он не выдержал этой ломки. Делать то, что ему несвойственно, было для него не только трудно или неприятно, но прямо губительно. Это свойство унаследовал он от матери. Она тоже не могла безнаказанно делать то, что ей не было свойственно.
ГЛАВА II Детские и отроческие годы
Портрет Саши в черной гимназической блузе снят с него в сезон 1891-92 года, когда ему минуло 11 лет. В гимназию он поступил в 1890 году, еще до 10 лет. По-моему, выражение лица его не соответствует одиннадцатилетнему возрасту, он кажется моложе своих лет, да так оно и было. За 4 года Саша извел, конечно, немало бумаги, сочиняя стихи и прозу, но образчиков этих писаний сохранилось немного. Привожу одно стихотворение, относящееся к этому периоду, о чем можно судить и по почерку, и по содержанию, и по правописанию. Дата не обозначена. Думаю, что оно сочинено около 9 лет, написано карандашом, частью печатными, частью писаными буквами. Сохраняю и орфографию:
Конец весны
весна! Весна! поют стрекозы,
Весна! весна, поют птенцы:
Ужь в чистом поле; там жнецы.
Кузнечики в траве стрекочат,
Как будто хочят:
Пленить лягушечек в пруду!
В свою потеху
Да несовсем-та къ спеху!…
К этим же годам (до 10 лет), несомненно, относится написанный по двум линейкам "Ежемесячный журнал "К_о_р_а_б_л_ь" в числе двух номеров. В тексте рассказы с названиями "Война", "О детях", "Ванинъ котъ" и т. д., кроме того, шарады, шутки и ребусы. Привожу один из рассказов первого номера "Корабля".
ВОЙНА
Ночь была темная и война была большая. Много ружей сабель штыковъ рапиръ сикиръ пистолетов револьверовъ и барабановъ просовывалось через тьму. На конце поля битвы стояла избушка. Старыя стены едва держались. Потолок чуть не проваливался, ржавые окна, то-есть крючки на окнах тоже едва держались. Но вдруг огромная бомба разорвала избушку.
Конец.
Другие рассказы не длиннее этого. Сашин почерк быстро менялся к лучшему сообразно годам, но развитие в смысле житейской зрелости и расширения интересов шло чрезвычайно туго. Сашины письма к дедушке из Шахматова в 9 и 10 лет и к матери в 11 1/2 необыкновенно ребячливы. Девяти лет Саша гостил летом вместе с матерью и отчимом в имении нашего дяди Алексея Никол. Бекетова в Саратовской губ. Саша писал к дедушке по одной линейке пером правильно и даже очень хорошим почерком, только без запятых. Так мог бы писать мальчик 10-11 лет, но по содержанию письма напоминают ребенка 8 и даже 7 лет. Привожу выписки: "Милый мой дидя, я очень тебя люблю мне; тутъ очень нравятся собаки они постоянно ходятъ в садъ потому что тамъ привязали другую собаку которую зовут Церберъ. Одна собака мне; здесь особенно нравится ее зовут Барбосъ. Я бы очень хотелъ уехать в Шахматово. Здесь есть очень хорошие цветы. Я научился играть въ крокетъ. Это мне очень нравится. Мне здесь очень нравится целую тебя. Твой Сашура".
Есть и продолжение в двух отрывках, где говорится о том, как они с "Булей" (кузен Недзвецкий) строили дома и как Саша заболел после купанья. На обратной стороне письма написано: "Собаку зовутъ Трезор". Вероятно, это относится к Барбосу, может быть, и к Церберу. Письмо к дедушке, написанное год спустя (в 10 лет), тоже из Шахматова, уже заметно взрослее, оно написано не так красиво, но уже без линеек. В нем говорится про двоюродных братьев тоном старшего. "Погода портится. Сегодня было холодно. Небо заволокло тучами. Феролька ходитъ нахмурившись не хочет ни во что играть, когда его спросишь что нибудь онъ махаетъ ручкой или сердится. Вчера даже случилось с ним с_л_е_д_у_ю_щ_i_е печальное происшествiе…" Тут подробно описывается ссора между братьями и случай, который кончился слезами Фероля. Писем к матери из Шахматова в возрасте 11 1/2 лет несколько. Ал. Андр. в это время ухаживала в Петербурге за больным мужем. Все Сашины письма этого времени необыкновенно нежные и ласковые. Везде говорится, что он очень соскучился по маме и по "Францике", как он называет своего отчима, но что в Шахматове ему очень весело и хорошо. Исполняя настоятельную просьбу матери, он подробно и добросовестно пишет о своем здоровье и уговаривает ее не беспокоиться (у него немного болело ухо). Привожу отрывки из одного письма: "Сегодня утромъ мне как то замечательно весело, несмотря на дурную погоду. Пожалуйста, моя капелька, не беспокойся о моемъ ухе. Ничего дурного нет и быть не можетъ. Ты послала просто ужасъ какое отчаянное письмо. Писемъ твоих у меня в кармане накопилось целых три. Особенно понравились мне точныя свединiя о Кисе. Она воображается мне такой прелестной, мягкой, пушистой. Твое второе письмо о том, что мне есть было просто пророческое: все, что тамъ написано- дают мне… Мы съ братьями делаемъ нашъ домъ… Я соскучился о III классе, о тебе, о Францике, и еще о многихъ вещахъ оставшихся въ Петербурге; в числе их о Синдетиконе и о простомъ клее. Прощай моя милая крошка, Господь с тобой.
Поцелуй Францика, я о нем ужасъ, как соскучился. Мама, дорогая, приезжай, какъ только можешь скорее. Т_в_о_й С_а_ш_у_р_а".
Описанный мною выше портрет в гимназической куртке снят во время сезона, предшествовавшего тому лету, когда Саша писал эти письма.
За эти годы Саша сблизился с двоюродными братьями Феролем и Андрюшей; летом он проводил с ними много времени, так как они жили обыкновенно в Шахматове, а зимой виделся редко, только по праздникам. Тогда же появился и сын нашей кузины Виктор Недзвецкий, так называемый "Буля", который был одних лет с Феролем, а также двоюродный брат и сестра Фероля, Коля и Ася Лозинские (дети их тетки), оба значительно моложе Саши. Сближение с этими детьми произошло, когда Саша был уже в гимназии. Его особенно любили Андрюша Кублицкий и Коля Лозинский, Коля (давно уже умерший) был мальчик восторженный и изъявительный. Дети Лозинские в то время говорили по-французски лучше, чем по-русски, и Коля в порыве восторга кричал при появлении Саши: "Alexandre trois, notre roi!" {"Александр третий, наш король!" (фр.)} Игры были чисто детские, не только потому, что Саша снисходил к маленьким, как старший, но и по его ребячливости, которая заставляла его от души увлекаться детскими интересами и забавами. В одиннадцать с половиной лет (1892 г.) он играл с братьями в поезда и бегал взапуски вокруг цветников. Игра в поезда была одно время очень в моде. На дорожках сада расставлялись какие-то шесты со значками, между которыми протягивались веревки, и мальчики мерно двигались по дорожкам, изображая сходящиеся и расходящиеся поезда, причем Саша подражал свисткам и пыхтению паровоза. Эта игра довольно-таки затрудняла прогулку по саду, но никому из взрослых и в голову не приходило помешать детям, наоборот: все сворачивали в сторону, обходя играющих. Особенно увлекался этой игрой Саша, который питал всегда большое пристрастие к локомотивам, вагонам, семафорам, словом, ко всему, что относится к железной дороге и обстановке поездов.
Несколько позже, когда Саше было уже 13-14 лет, матери стали возить детей в балет. Это дало повод для новых игр. Стали изображать балеты, причем танцы, грация и вся классическая, изящная сторона их не играла никакой роли. Особенно облюбовали почему-то балет "Синяя борода" и представляли главным образом сцену, когда сестра Анна смотрит на дорогу с башни. Надевали на себя что попало: пледы, платки, какие-то непонятные предметы, что придавало всему очень нелепый и донельзя комический характер. Такие представления устраивались несколько раз по воскресеньям и праздникам, когда у дедушки собирались все внуки, а иногда и дети Лозинские. Игра начиналась после 7 часов, когда дедушка уходил к себе отдохнуть. Помню, как в столовой одной из наших квартир на Васильевском Острове Саша, наряженный в какой-то невероятный костюм для роли сестры Анны, взгромоздился на высокий мраморный камин и проделывал пантомиму, на которую невозможно было смотреть без смеха. Вообще надо сказать, что, играя, он часто проявлял чисто клоунский юмор, а в воинственных играх брал темпераментом. Особой изобретательности он не обнаруживал и за ней не гонялся, но всех увлекал или непосредственным комизмом, или азартом так, что товарищи его или безумно хохотали, или приходили в неистовство. Сохранилось довольно много Сашиных писем к бабушке, которой он писал зимой, описывая разные случаи своей жизни, а также елки и другие развлечения, так как бабушка, вследствие мучительной, неизлечимой болезни последние десять лет своей жизни выходила на воздух только в Шахматове, в городе же всегда сидела дома. В письме от 28 декабря 1893 года (в 13 лет) описывается елка, которая была в доме Сашиной матери. После перечисления всего того, что ему подарили, с подробным описанием великолепного игрушечного револьвера, подаренного мамой, говорится между прочим: "Вчера на елке было ужасно весело. Мы все бегали, шумели, кричали и бесновались. Мы изображали разбойников, прятались за стулья, но что удивительно, так это то, что нам хватало места на все эти упражнения".
Меня же при воспоминании об этой игре и безумном азарте детей более удивляет то, что они не повалили елку. При описании подарков между прочим сообщается в том же письме: "Еще мама подарила мне две бутылки клею: (Синдетикона и Лапидусзона), а ты мне подарила страшно интересную книгу, которую я уже начал и очень тебе благодарен".
Эта книга "С севера на юг" Каразина, что касается клея, то Саша всегда чувствовал к нему большую слабость, употребляя его для различных потреб. Между прочим, одним из любимых его занятий еще в 13 лет было склеивание домов, нарисованных на больших листах картона. В письме от 24 ноября 1893 года, описывая бабушке день своего рождения (16 ноября, в 13 лет), он пишет: "Мама подарила мне 6 листов бумаги, на которых были нарисованы самые разнообразные животные и клейка "Ноева ковчега". Затем там были: сам Ной, его жена и сыновья со своими женами".
Дарили ему всегда много, причем он очень радовался подаркам и наслаждался ими вовсю. Дня своего рождения и елок он дожидался с великим интересом, но если по редкости случая чей-нибудь подарок оказывался неудачным и обманывал его ожидания, он был неутешен. При одном из таких случаев, когда ему было не меньше 10 лет, он горько плакал у себя дома, вернувшись с какой-то елки. При этом он по обыкновению не хотел сказать, в чем его горе, но долго не мог успокоиться. Отчасти это можно объяснить не только обманутыми надеждами, но и тем, что нервы его были слишком напряжены и возбуждены так, что достаточно было малейшего повода, чтобы произошла реакция. Плакал он вообще очень редко. Говоря о подарках, следует прибавить, что сам он тоже очень любил их делать.
Письма 1893 года все в одном роде: в них много нежности к матери, к отчиму и ко всему домашнему, а также к бабушке, к дедушке и ко мне. Письма пишутся часто, несмотря на уроки и на журнал "Вестник", который начал издаваться с этого года. Интересы все чисто детские и домашние, если не считать книг и "Вестника", о гимназии почти не упоминается, о товарищах ни полслова. О книгах кратко сообщается, что такая-то "страшно понравилась" или "страшно интересная". Читал он тогда романы Купера, Майн-Рида, Жюль Верна и детские книги Марка Твена – "Принц и Нищий" и др., а также журнал "Родник". В 1894 году Саша в первый раз попал в драматический театр (приходится исправлять и эту дату из моей биографии). Сохранилось письмо Саши к бабушке с описанием впечатления от первого спектакля, виденного им в Александрийском театре. Письмо от 16 января 1894 г., значит, ему уже минуло 13 лет. Вот выписки из него: "Сегодня мы были с мамой вдвоем в Александрийском театре и видели "Плоды просвещения". Это мне ужасно понравилось и я хочу очень опять попасть туда… Мы сидели в партере, в пятом ряду. Театр был до того пуст, что во всех рядах перед нами сидело человек восемь, так что мы видели все прекрасно. Я был сегодня только во второй раз в театре и нахожу, что балет "Спящая красавица" скука и гадость в сравнении с этим. Из артистов, особенно хороших не было, кроме Левкеевой [8], Далматова, Панчина и еще некоторых. Мне особенно понравился спиритический сеанс".
В 1894 году Саша начал издавать рукописный журнал "Вестник", но мысль о нем, очевидно, зародилась еще летом 1893 года, когда была составлена детская книжка "Колос", и по внешности, и по содержанию похожая на "Вестник". Этот "Сборник сочинений А. Блока и Ф. Кублицкого-Пиоттух" {Феликс Кублицкий-Пиоттух, т. е. Сашин кузен Фероль.} вышел в августе. Написан он почти целиком рукой Сашиной матери. На обратной стороне заглавной страницы следующая надпись: "Цензор, редактор и издатель А. Кублицкая-Пиоттух. Дозволено цензурой. Шахматово 1893 г." Саше было тогда около 13 лет. В книге его сказочка "Сон", его же перевод с французского неизвестного автора "Это ты!" и два лирических стихотворения. И сказочка, и французский рассказ годятся для детей лет семи. То и другое написано и выбрано очевидно сознательно, с целью приспособиться к детскому возрасту, что и удалось Саше. В сказке непослушная девочка, которую насилу уложили спать, мечтает в постели: "Ах, если бы я могла делать, что хочу!". Во сне она попадает в царство эльфов, "в прекрасный сад, где на деревьях висели конфеты и пели райские птички". Она играла с эльфами, но вечером соскучилась по маме и стала кричать: "К маме я хочу скорее, где она?" И… проснулась. Солнце ярко светит в комнате, а над нею стоит мама и говорит: "Полно тебе спать, пора вставать". С тех пор девочка боялась попасть в прекрасный сад и сделалась послушной.
Перевод с французского сделан хорошо, а самый рассказ, при большой краткости, имеет свой интерес, хотя основан не на происшествии, а на психологии. Сказочка написана очевидно под влиянием французских нравоучительных, но милых вещиц из журнала "Journal pour tous" ("Журнал для всех"), который покупался для Саши, оттуда же взят и рассказ. Замечу в скобках, что присутствие в доме сестры Софьи Андр. гувернанток-француженок таки заставило Сашу говорить по-французски и читать французские книжки. Он говорил с ошибками и неизящно, но мог вполне удовлетворительно объясняться и выражать свои мысли. Но буду продолжать прерванный рассказ. Стихи, попавшие в "Колос", очевидно, написаны уже не специально для детей, а просто такие, какие нашлись тогда у Саши. Оба стихотворения коротенькие. Приведу второе, как более удачное:
ВОДОПАД
С горы низвергаясь,
Шумит водопад.
Блестящие брызги
Над пеной летят.
И с шумом каскады,
Срываясь с брегов,
Уносят громады
Столетних дубов.
Говоря о "Вестнике", я не буду перечислять и оценивать всего того, что принадлежит перу Саши, а буду указывать главным образом на характерные черты журнала.
"Вестник" издавался три года: начался он, когда Саше было 13 лет, прекратился, когда ему минуло 16. Это немалый период для такого юного возраста. Внимательное рассмотрение материала "Вестника" дает очень интересные результаты, указывая на рост развития Саши за эти три года. Тут особенно ясно обнаруживается, как медленно шло его развитие в смысле житейского опыта и зрелости и насколько быстрее развивались его литературные вкусы и способности. В 16 лет Саша остался почти таким же ребенком, как и в 13. Его интересы – кроме литературных – остались те же. Он ни над чем еще не задумывался и никакие вопросы его не смущали. Правда, в декабрьском номере первого года издания "Вестника" редактор, обращаясь к подписчикам и сотрудникам, говорит между прочим так: "Направление моего журнала совершенно определилось. Оно было в 1894 году чисто беллетристического характера, но теперь я бы очень попросил г. г. сотрудников, чтобы кто-нибудь из них помещал в мой журнал в 1895 году статьи из более или менее выдающихся случаев общественной жизни". Тем не менее журнал не изменил своего направления. За все время своего существования он отметил только два общественных явления. В первом году, в ноябре месяце, появилось "Экстренное прибавление к 1894 году журнала "Вестник" по поводу кончины Александра III". На обложке был его портрет, а в тексте приложения небольшая статейка о кончине "в бозе почившего государя императора Александра Александровича", составленная по "Новому Времени" редактором Ал. Блоком и репортером журнала Ф. Кублицким. Тут же был и высочайший манифест Николая II. В виде иллюстрированного приложения к номеру подписчики получили портреты "ныне благополучно царствующего государя императора Николая Александровича и высоконареченной невесты его, ее великогерцогского высочества принцессы Алисы Гессен-Нассаусской, во святом миропомазании Александры Федоровны", и портрет "наследника цесаревича и великого князя Георгия Александровича".
И стиль, и смысл статьи, и объявления объясняются, конечно, не столько верноподданническими чувствами редактора, сколько желанием подражать "Новому Времени". Другое общественное явление, обратившее на себя внимание редактора "Вестника", было юбилей деда Андр. Никол. Бекетова по случаю его семидесятилетия. Это уже просто дело семейное. В тексте и на отдельном листе помещены были печатные заметки из "Нового Времени" и "Петербургской газеты" и "Портрет профессора А. Н. Бекетова". В этом же номере, в отделе "Новости", помещена краткая заметка о том, что по случаю коронации в гимназиях не будет экзаменов и ученики переводятся в следующий класс по удовлетворительным отметкам. Вот и все "общественные вопросы", затронутые "Вестником". Характерно и то, что сотрудники не отозвались на призыв редактора помещать статьи о более или менее выдающихся случаях общественной жизни. Главными сотрудниками "Вестника" состояли бабушка и мать Саши. Обе они были лишены так называемой "общественной жилки", но отличались сильной склонностью к литературе. Дедушке было, конечно, не до сотрудничества в "Вестнике", а кроме того он относился к внуку как к ребенку и никогда не затрагивал с ним никаких серьезных тем – ни общественных, ни житейских. Сам он со страстью относился к общественным вопросам, читал газеты, интересовался и внутренней, и иностранной политикой. Саша в те годы совсем не читал газет, он изучал только объявления – с юмористической точки зрения, что и заметно по "Вестнику". Объявления начали появляться со второго года его издания, причем Саша все больше и больше ими увлекался. Объявления "Вестника" имеют по большей части или рекламный, или обиходный характер. Больше всего появлялось реклам об надоевшем в то время "Геркулесе" и – о собаках. Саша изощрялся в придумывании разнообразнейших реклам в форме советов, диалогов, восклицаний и даже рисунков. Некоторые из его реклам очень остроумны и всегда придуманы в духе требуемого жанра. Попадались и такие объявления: "Ключ от портфеля господина заведующего беллетристическим отделом упал в Балтийское море. Кто найдет, тот получит приличное вознаграждение. Искать следует в порте города Гапсаля". Или в таком роде: "Молодая особа, свободно говорящая на лягушечьем диалекте, ищет места недалеко от своей квартиры. Адрес: Грязные пруды (недалеко от с. Шахматова, Московск. губ., Клинского уезда)". Было и такое объявление: "Кто не желает сморкаться в дырявые платки, пусть… купит… новые…" Что касается собачьих объявлений, то в этом случае Саша выказал большую изобретательность и не меньшую ребячливость. Наиболее показательны в этом отношении объявления об его любимице рыжей сеттерихе Дианке, с которой он снят на нескольких фотографиях. В июльском номере 1895 года появилось на обложке объявление: "Чудо из чудес – луна на земле в образе рыжей собаки. Адрес: Н‹иколаевская› ж‹елезная› д‹орога›. Подсолнечная, с. Шахматово".
В сентябрьском номере того же года на обложке красовалось следующее сообщение: "По новым исследованиям, луна… имела… десять… спутников! Впоследствии осталось только три из них. Из последнего можно заключить, что: 1) или луна имеет очень малое притяжение (?), 2) или другие более сильные планеты оттянули спутников луны к себе (?) Предоставлю читателям решение этого вопроса. Известный астроном-любитель А. Блок".
И, наконец, в сентябрьском номере "Вестника" 1896 года (редактору почти 16 лет) на обложке помещено объявление жирным шрифтом с украшениями, среди бесчисленных восклицательных знаков: "Диана ощенилась 18 августа".
Многочисленных объявлений о других собаках я не стану уже здесь приводить. Думаю, что приведенные выше в достаточной мере характеризуют тогдашний облик редактора "Вестника". Остальные объявления менее характерны, отдел загадок, ребусов, шарад и обиходной рецептуры не представляет особого интереса, а потому я перейду к оценке литературного развития Саши, насколько можно судить о нем по "Вестнику". Замечу, во-первых, что проза, в особенности самого реального содержания, удавалась Саше хуже стихов. Он делал заметные успехи в прозаических переводах. Вначале и выбор вещей, и форма их указывают на незрелость вкуса и неопытность переводчика. Большинство переводных вещей неплохо, но все, переведенные в 14 и даже в 15 лет, подходят к возрасту не выше 12 и даже 10 лет. Такова драма в 2-х действиях с прологом "Король пингвинов", появившаяся в первый год издания "Вестника", а также другие многочисленные рассказы, сказки и пр. Все это годится для детей или младшего, или среднего возраста. Самые переводы по мере опытности автора становятся все смелее, свободнее и правильнее. В мае месяце 1895 года появляется в числе переводов первая серьезная и литературная вещь, а именно "Орфей и Эвридика" Овидия, переведенная с подлинника и для такого возраста очень недурно. В следующем номере того же года есть "Сказание о Кожемяке", переведенное со славянского. В феврале 1896 года помещен отрывок из романа Бальзака "Э_ж_е_н_и_ _Г_р_а_н_д_э", "Смерть скупца". В июле 1896 года появились стихи В. Гюго "Бабушка". Перевод правильный, вполне удовлетворительный. В последнем номере "Вестника" (январь 1897 г.) помещен Сашин перевод первой песни "Энеиды" (с подлинника), с заголовком "из Марона" и эпиграфом из Пушкина "Люблю с моим Мароном…" [9] и т. д. Перевод сделан значительно лучше "Орфея и Эвридики". Привожу для сравнения отрывки из обоих переводов.
Из "ОРФЕЯ и ЭВРИДИКИ"
…Уходит
Бог Гименей через эфир необъятный; певец Родопейский
Тщетно зовет его; правда, пришел он, но ни пожеланий
Он не принес, ни лица выраженье веселого, ни предсказанья
Вечного счастья; и факел, который держал он, ужасный
Дым испускал и не мог от движения вспыхивать даже.
ИЗ "ЭНЕИДЫ"
Древнюю силу троянцев пою, воспеваю героя:
Долго скитался Эней по глубоким волнам океана,
Мучимый голодом, брошен на берег пустынного моря,
Берег Лавиния, славного града Италии древней…
Перехожу от переводов к оригинальным сочинениям Саши. Сначала о прозе. Его роман "По Америке или в погоне за чудовищем", помещенный в 1894 году "Вестника", есть неуклюжее подражение Жюлю Верну с примесью Майн-Рида. Никакого романа нет, нагромождение ужасов, событий и смертей вперемешку с плохими описаниями тропической природы – таково содержание романа; форма тоже очень слаба. Помещенный в 1895 году уголовный рассказ "Месть за месть" написан уже значительно лучше: умереннее и естественнее, но все-таки явно указывает на то, как несвойствен автору этот жанр, целиком заимствованный из книг. Помещенный в январском приложении 1894 года отрывок "Из летних воспоминаний" гораздо выше. Это объясняется тем, что он написан по личным впечатлениям и лишен всякого содержания, кроме лирического. Привожу отрывки: "Вечер. Темнеет. Мы только что пообедали. Жаркий июльский день. Стол, стоящий на балконе, еще покрыт скатертью. Широкая, развесистая липа тихо шумит, покачиваясь от легкого ветерка. Все выходят на дорогу. Вот первая звездочка мелькнула на небе. Все тихо, тихо…"
Дальше идет описание местности, которое я опускаю, переходя к следующему отрывку. "Все предвещает грозу. И вот начинаешь прислушиваться: слышен крик ястреба, стук телеги на большой дороге. Станция за пятнадцать верст: слышен стук паровоза…"
Затем следует описание грозы и возвращения домой и переход к другому настроению: "Прошло два года. Зима. Вьюга на улице. Ветер воет… И воспоминается тот вечер, и тянет снова в деревню… Скоро ли теплое, благодатное лето, с треском кузнечиков на жнитве, с полным ликом луны, смотрящим из-за березы в саду, с душистыми липами… А на улице снег падает хлопьями, летает и кружится в вихре…"
В этом отрывке не все одинаково удачно. Хуже всего описание грозы, которое я выпустила. Конец довольно банальный. Но простота, краткость и некоторые чёрточки в описаниях уже приближают его к литературе.
Очень мила Сашина сказочка "Летом", помещенная в январском приложении 1895 года. В ней много собственной выдумки, написана она совсем просто, и приключения жуков, составляющие ее содержание, и до сих пор могут быть интересны детям младшего и даже среднего возраста. По форме, да и по замыслу эта вещь значительно выше приведенного мною отрывка, сочиненного годом раньше. Это уже настоящая детская сказка, написанная с большим знанием природы и не без юмора. Чтобы покончить с Сашиной прозой, упомяну о двух его статьях, появившихся в 1896 году: "О начале русской письменности" (март) и "Рецензия выставки картин императорской Академии Художеств" (апрель). Первая статья написана очень популярно, толково и коротко. Отзывы о картинах указывают на несомненный интерес к живописи. Суждения в общем верны, но не оригинальны, однако по ним уже видно, что художественное развитие Саши было в 16 лет значительно выше уровня среднего зрителя более зрелого возраста.
Перехожу к стихам. В 1894 году появилось 5 стихотворений Саши. Они двоякого рода. Два из них: "Боевое судно" (сентябрь) и "Судьба" (декабрь) эпические с героическим оттенком. Этот жанр совсем не удался Саше. Стихи вышли непрочувствованные, неуклюжие и совсем не самостоятельные. "Судьба" написана трудным размером "Замка Смальгольм", который местами не выдержан. Влияние "Замка Смальгольм" заметно на многих оборотах и образах стихотворения. Все это было бы не беда, если бы самый замысел баллады был интересней задуман. Но это не вышло. Саша взял слишком трудную тему, для которой у него не хватило ни зрелости, ни фантазии. Привожу несколько характерных и более удачных выдержек:
На вершине скалы показался огонь,
Разгораясь сильней и сильней,
Из огня выступал огнедышащий конь
И на нем – рыцарь "Мрачных теней".
Он тяжелой десницей о шею коня
Оперся и в раздумье сидел,
Из железа его дорогая броня,
И на землю он мрачно глядел.
…
И загробным он голосом мне говорит:
"Встань, проснись, подымись и пойдем,
Я – С_у_д_ь_б_а, от меня никуда не уйдешь,
Всех убью я железным копьем".
Рыцарь "Мрачных теней" являлся три ночи, неузнанный. На четвертую ночь он привел свою дочь Смерть "в белом всю и с косой на плечах" и открыл свою тайну.
"Ты не слышал меня, ты не понял меня,
Вот пришла и четвертая ночь,
И тогда оседлал я другого коня
И привез я к тебе свою дочь".,.;
И приблизилась С_м_е_р_т_ь, и по мне, по всему,
Пробежала холодная дрожь,
И последнее слово сказал я ему:
"От С_у_д_ь_б_ы никуда не уйдешь!"
"Боевое судно" (август) проще по замыслу, но картина бури и гибели боевого крейсера тоже не удалась Саше. Привожу выдержки:
Несется он, рулю покорный,
Клубится пена вслед за ним,
И океан шумливый, бурный,
Не скоро может сладить с ним.
Описание бури начинается следующей неудачной строфой:
Трещат брамстеньги, мачты клонит,
Вокруг кичится океан,
В снастях безумно ветер стонет,
Густым становится туман.
…
Волна пришла, залиты люки,
Вода в каюту с шумом льет.
О, сколько горя, слез и муки
Волна безумная несет.
Боевое судно гибнет, стихи заключаются следующими строками:
Бушует ветр в скалах пустынных.
Несется чайка над водой,
И океан шумливый, бурный,
Слился в протяжный тяжкий вой.
Все эти картины надуманы и написаны не с натуры, потому, вероятно, и форма стихов так плоха. Лирические стихи вообще лучше эпических. Почти все они антологического характера. В некоторых уже чувствуется лиризм и передано известное настроение. Первое стихотворение "Весна" (февраль 1894 г.) еще довольно неуклюже, но в нем есть совсем простые, искренние строки, чего вовсе нет в эпических стихах, приведенных выше. Вот начало этого стихотворения:
Весною, раннею порою,
Когда блестит в траве роса,
И белоснежной пеленою
Задернуты бывают небеса,
Когда жужжит в траве назойливая муха,
И эхо песни птичек отдает,
И из травы показывает ухо
Слепой работник – старый крот,
Все полно жизни, свежей влагой веет
От листьев и травы, закапанных росой,
И, распускаясь, зеленеют
Леса, и пчелок вьется рой…
и т. д.
Помещенное в сентябрьском номере стихотворение "Серебристыми крылами" уже напечатано в моей биографии. Форма его значительно лучше предыдущего, оно даже музыкально, но лиризма в нем еще нет. Стихотворение "Вечер", помещенное в одном из приложений 1894 г. (автору 14 лет), по форме подходит к предыдущему, во всяком случае не ниже его, а по настроению выше. Привожу его целиком.
ВЕЧЕР
Ночь идет. Заходит солнце,
Не блестит лесной ручей,
А в лесу на ветке дуба
Песню грянул соловей.
Лес уснул, кругом прохлада,
Звонче пенье соловья.
Встань под зелень старой ели
И послушай шум ручья
И прислушайся, как звонко
Он по камешкам бежит,
За волной волна вдогонку
Шаловливо как спешит.
Но зима заменит лето,
Все погибнет подо льдом,
И не даст тебе ответа
Соловей в лесу глухом.
Привожу целиком и последнее из помещенных в этом году стихотворений – "Осенний вечер". В нем есть совсем хорошие строки, и размер рисует настроение, но конец слабее начала. Вот оно:
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Цветы полевые завяли,
Не слышно жужжанья стрекоз,
И желтые листья устлали
Подножье столетних берез.
Звезда за звездою катится
И тонет в лазури она,
Роса на траве серебрится,
В прозрачном тумане луна.
И звон колокольный далеко
Несется, гудит за рекой,
И темное небо глубоко,
И месяц стоит золотой.
Лирических стихов Саши в "Вестнике" больше не появлялось. В 1895 году есть два эпических стихотворения, оба очень слабы. В феврале помещен "Лесной гигант".
Качая темною главой,
Лесной гигант стоял,
Своей пахучею смолой
Он землю орошал.
…
На нем годов уж виден след,
И просит смерти он.
И внял господь на небесах
Мольбам высокой ели,
И пал гигант, сраженный в прах,
На моховой постели…
и т. д.
Помещенный в январском приложении "Водопад" совершеннее по форме, но лишен искренности и не прочувствован. По мысли автора, "Водопад"
Подточил утесов своды
И в стремленьи их унес.
Но, как будто мстя за брата,
Весь утес свалился вниз
И чернеющей громадой
Над пучиною повис.
И пучина вод смирилась,
Водопад замедлил бег,
Там, где лишь волна катилась,
Уж проходит человек.
…
И по руслу водопада,
Где ужасный шум умолк,
Меж уступами громады
Лишь струится ручеек.
Тут и Пушкин, и Лермонтов, но Блока пока вовсе нет, а все вместе слабо. Все последующие стихи Саши, помещенные в "Вестнике", носят юмористический характер. Этот жанр ему и тогда удавался. Приведу два стихотворения. Первое было помещено в октябре 1895 года.
* * *
Горько рыдает поэт,
Сидя над лирой своею разбитой,
Лирой, венками когда-то увитой,
Всеми покинутый, всеми забытый.
Муза ушла от него,
Стих его рифмою дышит пустою,
Счастливо время поэта былое,
Страшно грядущее все роковое…
Время поэта прошло.
Плачет он горько над лирой разбитой,
Лирой, когда-то венками увитой,
Всеми покинутый, всеми забытый…
(Декадентские стихи).
А. Блок.
Эти стихи носят явный след влияния классической формы. В июньском номере 1896 года появились стихи, посвященные Диане (собаке), с особым посвящением в старинном стиле. Привожу целиком эти стихи, как лучший образчик Сашиной юмористики того времени.
* * *
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДИАНЕ
Полон гнева и клубники
Я стоял меж гряд зеленых,
Меж цветами повилики,
Близ дорожки запыленной.
Розы пышные алели,
Аромат распространяли,
И пастушьей песни трели
То гремели, то смолкали.
Но ни к пастырю в долине
Я не мог свой слух склонить,
Ни к раскидистой рябине
Взор умильный обратить.
Сильным гневом распаленный,
Наконец я так устал,
Что с улыбкою надменной
На кровать свою упал!
И подобно черной туче
Грозной молнией дышал,
Но, смиряя гнев свой жгучий,
Я до вечера проспал.
…
Я проснулся: все клубника
Багровела меж листов,
И белела повилика,
Обвиваясь вкруг цветов.
И тотчас же грустью нежной
Переполнилась душа:
Ах! Зачем мой гнев безбрежный?
Как природа хороша!…
А. Блок.
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДИАНЕ
Сии стихи, мой друг бесценный,
К тебе из-под пера текут,
И я рукою дерзновенной
Вручаю Диане драгоценной
Бесхитростный, но честный труд.
А. Блок.
В виде пояснения к этим стихам сообщаю, что пейзаж его и вся обстановка взяты с натуры. "Пышные розы" действительно алели на кустах, видневшихся из окна тогдашней Сашиной комнаты. Из этого низкого окна Саша выпрыгивал прямо в сад и отправлялся влево, где за кустами роз шла солнечная лужайка, засаженная грядами клубники, которую с каким-то особым искусством умела выводить бабушка. Тут же была и повилика, и "запыленная дорожка", которая выводила в другую часть сада. А внизу лужайки, против Сашиного окна росла "развесистая рябина". Да и "трели пастушьей песни", т. е. рожка, ежедневно раздавались с дальних лугов из-за ручья, протекавшего в долине и под горой.
Последний номер "Вестника" вышел в январе 1897 года. Он издан роскошно, формат в полтора раза больше обыкновенного; почерк, которым написан он, великолепен. Графологам было бы интересно сравнить его с почерком первых годов издания "Вестника". Картины в тексте (снимки с греческой скульптуры) особенно тщательно выбраны. Номер интересно составлен. Кроме Сашиного перевода из "Энеиды", в нем помещен отрывок из сочинения Серг. Мих. Соловьева {Племянник философа и сын Мих. Серг. Соловьева, женатого на нашей двоюродной сестре.} "Месть", всего несколько строк, но не без эффекта (автору было в то время 12 лет), и три очень толковых рецензии Фероля Кублицкого о популярных книгах Н. Дементьевой. В конце номера приложен лист карикатурных рисунков пером работы издателя, очень талантливых и интересных еще тем, что в них есть несомненное предчувствие "Двенадцати". Сбоку скромная надпись "Северная зима в очень плохих эскизах". Тут и ветер, и воющий пес, и городовой. Но все это была лебединая песня "Вестника". Несмотря на благодарность редактора сотрудникам и подписчикам в ответ на помещенный в этом же номере адрес, поднесенный ему по случаю слухов о прекращении "Вестника", и на объявление об условиях подписки на следующий год, журнал перестал издаваться по очень простой причине: возня с рукописями, переписыванием, картинами и пр. надоела редактору. Ему приелась игра в журнал. В 16 лет у него явились новые интересы: театр, товарищи, наступила пора возмужалости и романтических грез, предшествовавшая встрече с К. М. С. {См. мою биографию и цикл стихов "Через двенадцать лет".} и первому роману.
В бумагах покойной сестры Александры Андреевны нашла я еще одно стихотворение Саши, относящееся к вышеупомянутому периоду. Написано оно летом 1896 года в 15 1/2 лет и почему-то не вошло в "Вестник", а между тем настолько хорошо, что я приведу его целиком.
ВОСПОМИНАНИЕ
о первых днях Шахматовской весны 1896 года.
Первые числа июня.
* * *
Июньский день угас. Поднялся ветер шумный;
Листы дрожащие он рвал и разносил;
И сердце наполнял тревогою безумной,
А радость тихую из сердца уносил.
И в этом ветре слышались мне звуки,
Как будто где-то колокольчик пел;
Унылый звон его напоминал разлуку,
Сквозь воздух резкий сумрачно летел.
И голос ветра был такой печальный,
Так дико он летал над рощей молодой!
Казалось, стон его был песнею прощальной
Природы сумрачной с желанною весной!
Природа вся, казалось, побледнела,
Поблекли всё весенние цвета;
И смерть незримая в том месте тяготела,
Где некогда блистала красота…
А. Блок.
Писем, соответствующих периоду существования "Вестника", сохранилось не много. Одно из них уже приводилось мною (о первом посещении Александрийского театра). В письме от 2 сентября 1894 года (почти в 14 лет) Саша описывает бабушке день своих именин (30 августа): "… Мне было страшно весело. У нас обедал Евгений Осипович {Романовский, друг Бекетовского дома.}, дядя Адась {Муж сестры Соф. Андр.} и тетя Липа" {Моя подруга по гимназии.}. Все люди по меньшей мере зрелого возраста. Подробно описаны многочисленные подарки, принесенные и присланные родными и друзьями. Последняя страница посвящена двум домашним собакам, о которых обстоятельно и любовно рассказано. Письмо к бабушке в Шахматове от 2 сентября 1895 года (около 15 лет) чуть-чуть повзрослее. Привожу выдержки:
"…Я уже порядочно соскучился о тебе. В Петербурге время тянется очень долго: Шахматовский месяц соответствует здешним двум неделям! Тем не менее тут вовсе не скучно: в гимназии довольно весело и у меня много интересных занятий – выпиливание, езда в город, а главное переплетанье книг. 30 августа мама мне подарила настоящие переплетные инструменты…" и т. д.
Полстраницы посвящено очередной домашней собаке. В заключение вопросы: "Как поживают Мальчик (лошадь), Диана и Орелка (собаки), а также колодезь?"
Летом 1896 года (в 15 1/2 лет) Саша ездил на Нижегородскую выставку вместе с Феролем и его родителями. Привожу выписки из письма его к матери из Нижнего от 8 июля 1896 г.
"…Я не ожидал от выставки и от самого Нижнего такой цивилизации. В Москве сравнительно с ними такая пыль, грязь и духота, что ужас! Волга удивительно красива. Вообще невозможно описать всех моих впечатлений. Лучше я расскажу их после!"
Затем подробно и толково описано, как ехали по железной дороге от Москвы до Нижнего.
"Вчера весь день были на очень интересной выставке"… и т. д.
Что-то не помню, чтобы Саша много рассказывал о своих впечатлениях, вернувшись с выставки. Во-первых, ему было не до разговоров, в Шахматове было слишком много интересных занятий, а во-вторых, он не умел еще обобщать факты и разбираться в своих впечатлениях и даже не отдавал себе отчета в том, что, собственно, поразило его на выставке. Жил он тогда бессознательно, "как во сне", – говорил он сам про себя уже в зрелые годы. Он и не подозревал ничего о мире, о том как живут вообще люди, а наша семья была очень исключительная. В Бекетовском доме, именно в доме моих родителей, всегда было как-то весело, интересно и своеобразно, жили, совсем не соображаясь с тем, что скажут, многое делалось, что называется, "не по-людски", но зато какое отсутствие обывательщины, рутины, буржуазности. Неудивительно, что мальчик с такой богатой натурой, как Саша, вполне удовлетворялся атмосферой нашей семьи. Зимой он не терял с ней связи, да и мать его была ярким воплощением этой самой атмосферы. А летом, в Шахматове, жизнь среди природы в той же милой среде создавала для Саши один сплошной праздник. Когда он приезжал в Шахматово с матерью уже гимназистом, значит, довольно поздно, в июне или в конце мая, он чуть не кубарем выкатывался из экипажа, стрелой пробегал через переднюю и столовую на балкон и мчался дальше – в сад, к пруду, чтобы скорее осмотреть любимые места и насытиться первой радостью созерцания и чувства простора и воли, которое охватывает всякого в благодатной глуши русской деревни. Как он радовался тогда всякой мелочи, как наслаждался всем обиходом, всей обстановкой Шахматовского житья, с какой любовью устраивал свою крошечную комнату {Гимназистом Саша перешел в бывшую нянину комнату, рядом с комнатой матери, где он жил до тех пор.}, расставляя свои несложные вещи, садовые инструменты и пр.
Портрет его с Дианкой, в гимназической блузе, снятый в 14 лет, живо напоминает эти светлые дни его жизни. Он здесь не в красе, стоя против солнца, сощурил глаза и сделал гримасу, но свободная поза и вся обстановка этого снимка дают полное понятие об его тогдашнем настроении. Фотографию снял мой покойный двоюродный брат Влад. Никол. Бекетов. На этом снимке Саша стоит на лужайке за флигелем. День, очевидно, жаркий, что видно по Сашиной парусиновой блузе и по высунутому языку Дианки.
Группа, снятая на ступеньках Шахматовского балкона тоже кузеном Бекетовым, относится к тому же лету 1894 года, как и снимок Саши с Дианкой у ржаного поля. Рядом с Сашей – дедушка, между ним и Сашей – сестра Александра Андр. Старик, стоящий сзади, наш дядя Н. Н. Бекетов; на кресле, в капоте, опираясь на палку с корзинкой, сидит бабушка, а за ней стою я. То, что Саша весь в летнем, а бабушка даже не надела на голову кружевной косынки, которую обычно носила, показывает, что время исключительно жаркое. Нельзя сказать, чтобы группа вышла удачно. У всех без различия очень некрасивые и более или менее старообразные лица, но снимок отчетливый и все вместе дает понятие о Шахматовском доме и о Саше в его отроческие годы.
Летом 1894 года, когда снималась описанная мною группа, Сашиных двоюродных братьев не было в Шахматове, они уезжали с матерью в Гапсаль, но и без них Саше было весело и интересно. Судя по записям в его записной книжке, видно, что гулял он обыкновенно с дедушкой, так как мы с сестрой были очень заняты переводами, а в доме гостила очень милая, но довольно тяжелая на подъем гостья, моя подруга по гимназии, Олимпиада Ник. Галанина, так называемая "тетя Липа", о которой скажу потом более подробно. Занятия Сашины были разнообразны. Во время дальних прогулок с дедушкой они искали новые виды растений – есть целая страница, заполненная латинскими названиями цветов с краткими пояснениями. Среди лета дедушка сделал Саше змея, разрисовав акварелью лист писчей бумаги. Они вместе его клеили и ладили, а потом пускали с большой лужайки за Шахматовским садом. Подробно описаны все перипетии первого полета и то, как змей несколько раз обрывал нитку и улетал в лес, а также другие полеты, – удачные и неудачные. В это же лето Саша увлекался ловлей жуков и накалыванием их на булавки. Читал он в то лето какой-то роман Купера и "Приключения Финна" Марка Твэна. Одним из самых интересных занятий было пусканье по пруду игрушечной лодочки. Подробно описано пускание лодки 19 июня, причем употреблены настоящие морские термины и все время говорится как об настоящей, а не игрушечной лодке: "Марсы надулись, получился сильный крен, лодка показала киль"… и т. д. В числе серьезных занятий – работа в саду. Саша косил, рубил топором ветки, окапывал новые цветники с розами. Кроме того, он ездил с дедушкой за 12 верст в большое торговое село Рогачево: "Там очень весело. Мы купили пряников и орехов. Возвращаясь из Рогачева, мы с дидей нашли цветы, не встречающиеся в Шахматове и его окрестностях". Еще запись: "Я поеду на Тихвинскую ярмарку в Глухово {Село за семь верст от Шахматова.} в тарантасике на Графчике {Лошадь.} и буду сам править". Вернувшись с этой интересной прогулки, он еще катал в тарантасе меня и тетю Липу. Время от времени попадаются краткие записи: "Мама переводила стихи, тетя Маня с бабушкой тоже" или: "Бабушка вчера отправляла рукописи, мама кончила перевод" и т. д. Все мы работали тогда в журнале "Вестник Иностранной Литературы". В этой же книжке тщательно записаны буриме [10], которые сочиняли мы в часы досуга и в дурную погоду. Эта игра была у нас в ходу с детства. Тут же шуточные стихи, сочиненные "мамой" на происшествие, случившееся весной:
Дождь идет. Извощик пьяный
Спит, на козлах прикорнув,-
Жак, денщик отменно рьяный,
Прокричал, рукой махнув:
"Эй, извощик!"…
и т. д.
Есть записи юмористических стихотворений, появившихся потом в "Вестнике". Привожу одно из них:
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
О, радость! Не миф ты.
И грезы встают:
По улицам "Свифты"
Повсюду снуют.
Восторгом объятый,
И бравый на вид,
Спортсмен бородатый
Ногами стучит.
И носится дико
Он в полную рысь.
Прохожий, сверни-ка!
Не то – берегись…
Сменилась забота
На счастья часы,
Лишь воют с чего-то
Столичные псы.
Кудрявый Сатирик.
Все эти записи относятся к весне и лету 1894 года (13 1/2 л.). Саша был тогда в большой дружбе с вышеупомянутой тетей Липой, девушкой лет 30, очень моложавой на вид. Знакомство это началось гораздо раньше, еще при няне Соне. Тетя Липа была городская учительница и жила далеко не роскошно, но отличалась бесконечно легким и веселым характером. У нее была юмористическая жилка, которая проявлялась на каждом шагу. Рассказывала ли она что-нибудь или делала какое-нибудь замечание, – все выходило у нее как-то комично, не только по смыслу, но и по тону и мимике. Детей она смешила неудержимо, и это выходило у нее невольно, само собой. Саша очень ценил ее общество. Бывало, сидим мы вместе за чаем в Гренадерских казармах {В доме матери Саши.}; тетя Липа усядется рядом с Сашей и под шумок говорит ему что-то смешное, а он то и дело обращается к матери и сообщает: "Мама, а мама, а что тетя Липа говорит…". Та даже удивится иногда: "Да что же я такого сказала?" А Саша-то веселится. Вообще в ней было что-то праздничное и вместе уютное. Она была близка у нас в доме и одно время часто гостила в Шахматове. Об ней мне придется говорить и в дальнейшем, а пока я буду продолжать свой рассказ.
Записи книжки 1894 года отражают все Сашины интересы того времени. В ней есть подробное описание одного дня (25 мая), который он провел особенно весело. Утром Саша успешно выдержал последний экзамен (латинский) и перешел в V класс, весь остальной день он провел с двоюродными братьями Феролем и Андрюшей, а вечером с ними же был в Зоологическом саду. И звери, и представление на открытой сцене, и другие подробности записаны с величайшей точностью, но без всякой литературной окраски, так сказать, фотографически. Интересно отметить, что среди отрывков дневника, правил французской грамматики, латинских и греческих фраз и пр. вдруг попадаются слова итальянской песенки: "Vieni, la barca e pronta!" {"Приходи, лодка готова!" (ит.).} и два цыганских романса: "Ночи безумные" и "Я вновь пред тобою". Не помню, в чьем исполнении он все это слышал, но вкус к такого рода пению, очевидно, рано у него проявился.
ГЛАВА III Конец отрочества и ранняя юность
В зиму, предшествовавшую лету 1894 года, на котором я так долго останавливалась, Саша в первый раз видел игру драматических артистов. Увлечение сценой пошло очень быстро. В течение зимы он видел еще несколько пьес, а летом 1895 г. устроен был в Шахматове первый спектакль с постановкой "Спора греческих философов об изящном" (Козьма Прутков). Лет около 15, в пору первых романтических грез, обнаружилось у Саши пристрастие к Шекспиру, тогда началось чтение монологов из "Гамлета" и "Отелло".
Весной 1897 года наступил важный момент в Сашиной жизни: поездка в Наугейм, встреча с К. М. С. {Смотри мою биографию, стр. 48.} и первое увлечение. Саша сопровождал больную мать и меня в Наугейм только для удовольствия. Ему было тогда 16 1/2 лет. Дорогой он очень интересовался поездами и видами из окна. Наугейм ему чрезвычайно понравился, он пришел в веселое настроение и потешал нас своими словечками и шаловливыми выходками. Помню один из первых вечеров, когда мы сидели на террасе какого-то большого отеля. Мэтр д'отель торжественно разрезал и подал нам очень старую и жесткую курицу. Когда мы начали ее есть, Саша сказал: "Das ist die alteste Petuchens Gemahlin", {"Это старшая супруга петуха" (нем.).} а потом значительным тоном добавил: "Nicht alles was altes ist gut". {"Не все, что старо, то хорошо" (нем.)}
Сашины выдумки и дурачества сильно скрашивали нашу довольно-таки скучную курортную жизнь. В Наугейме было много людей с больными ногами и неправильной походкой. Идя втроем на ванны или на музыку, мы часто встречали одного и того же видного господина с больной ногой. Пропустив его вперед и идя непосредственно вслед за ним, Саша в точности перенимал всю его повадку: несколько сгорбленную спину, манеру класть руку за спину и походку с откидыванием правой ноги. Это было так смешно, что мы с сестрой помирали со смеху. Но вся эта безмятежность исчезла с тех пор, как явилась "она". Тут начались капризы, мрачность, словом, все атрибуты влюбленности, тем более, что Сашина мать была еще слишком молода и неопытна, чтобы отнестись к его роману с мудрым спокойствием, и ее тревога действовала на Сашу. Капризы и мрачность его проявлялись, конечно, по-детски. Помню, как он пришел с вокзала, проводив свою красавицу. В руках у него была роза, подаренная на прощанье. Он с расстроенным и даже несколько театральным видом упал в кресло, загрустил и закрыл глаза рукой. Мы с матерью бросились его развлекать и довольно скоро достигли цели. В Россию мы возвратились превесело, не подозревая о той беде, которая стряслась в наше отсутствие, так как дедушкину болезнь от нас скрыли. В Шахматове ждала нас печальная картина: вместо веселого, бодрого дедушки, неутомимо сопровождавшего внуков во всех их походах, мы увидали беспомощного и жалкого старика в больничной обстановке. Самое трудное время уже миновало. Когда мы приехали, дедушка чувствовал себя несколько лучше, и уход за ним был налажен. Болезнь деда не нарушала однако жизни внуков. Они по-прежнему веселились, и никто их не останавливал. Просили только не шуметь, если дедушка спал по соседству. Он, разумеется, рано ложился спать, вечерний чай происходил уже без него. Помню один вечер, когда пили чай за запертой дверью через комнату от его спальни. На мальчиков нашел особенно шаловливый стих именно потому, что нужно было соблюдать тишину. Беззвучно хохоча, они проделывали тысячу глупостей вроде обливания друг друга из лейки, стаскивания сапога под столом и т. д. По временам кто-нибудь из них выскакивал в окно и потом лез обратно. Словом, шалостям не было конца. И все эти ребячества уживались у Саши с романтическим настроением и переживаниями первой любви. Вскоре после нашего возвращения из Наугейма сестра Соф. Андр. уехала вместе с сыновьями за границу. Мы остались одни. После отъезда братьев Саша впал в романтическое настроение. Он зачитывался "Ромео и Джульеттой" и стал изучать монологи Ромео. Особенно часто декламировал он монолог последнего акта в склепе: "О, недра смерти…" Желание играть охватило его с необычайной силой. Ему было решительно все равно, перед кем декламировать, лишь бы было хоть подобие публики. Сохранилась следующая широковещательная афиша, написанная Сашиной рукой в конце лета:
"СЕГОДНЯ 8 АВГУСТА 1897 ГОДА
АРТИСТОМ ЧАСТНОГО ШАХМАТОВСКОГО ТЕАТРА БУДЕТ
ПРОИЗНЕСЕН МОНОЛОГ
РОМЕО НАД МОГИЛОЙ ДЖУЛЬЕТТЫ.
(НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЕ).
Сцена изображает часть кладбища в парке, предназначенного для семейства Капулетти. Гробов не видно, и они предполагаются со стеклянными крышками, кроме гроба Джульетты, который открыт. На заднем плане ограда кладбища. Сумерки".
В то время дедушку возили в кресле, он едва лепетал и совершенно впал в детство, но, обожая Сашу, интересовался всем, что его касалось. Поэтому он присутствовал при чтении монолога вместе со своим служителем. Больной дедушка со слугой, Сашина мать и я – вот и все зрители. Монолог читался в саду, без костюма, никакой декорации не было. Зрители разместились в аллее. Саша встал на бугор над впадиной луга и, приняв отчаянную позу, выразительно и красиво прочел монолог. Много раз говорил он его потом уже без всякой афиши.
Приехав в Петербург в августе, Саша написал матери, остававшейся еще некоторое время в Шахматове, обстоятельное письмо с описанием своих гимназических занятий. Письмо от 20 августа 1897 года. Саше было около 17 лет. Начинается с описания неинтересных домашних дел и подробного описания уроков в гимназии. Потом идет более интересная часть:
"…Сегодня на французском языке кричали: Vive la France! Vive Felix Faure! {Да здравствует Франция! Да здравствует Феликс Фор! [11] (фр.)} Француз был доволен и благодарил. Он знает, где Наугейм, чего я не ожидал от него; он дурак вообще. На гимнастике нам сказали, что мы основа гимназии, на что мы отвечали мяуканьем (по обыкновению!). Космографии учитель новый, зовут его "Сиамец", говорят, он свинья… это покажет будущее!… Грек и латинист по-прежнему благоволят ко мне. Кучеров притащил из Финляндии огромный финский нож и подарил его мне. Галкину он подарил такой же. Он очень удобен для роли Ромео (т. е. не Галкин, а нож). Мы было сидели в старом классе, но нас переводят в помещение восьмого. Там мы в своей компании, а именно: направо Кучеров, затем по сторонам Галкин, Лейкин, Фосс, Гун и др. Класс огромный (для восьмого) – 34 человека! Выпуск будет особенно большой… Сегодня я ехал в конке и видел артиста и артистку. Они ехали на Финляндский вокзал и рассуждали о том, как трудна такая-то партия, и о других интересных вещах… Гимназия надоела страшно, особенно с тех пор, как я начал понимать, что она ни к чему не ведет… Ты просила меня писать про настроение: оно было все время хорошее, но теперь скверное, отчасти от погоды, а также от других причин. Гимназия совсем не вяжется с моими мыслями, манерами и чувствами. Впрочем, что ж? Я наблюдаю там типы купцов, хлыщей, забулдыг и пр. А таких типов много, я думаю, больше и разнообразнее, чем в каком-нибудь другом месте (в другой гимназии)…"
Приведу еще одну интересную запись, касающуюся описываемого мною периода Сашиной жизни. Это так называемые "Признания", т. е. анкетный лист с вопросами, ответы на которые написаны Сашиной рукой еще летом 1897 г. Сбоку пометка "Наугейм, 21 июня (3 июля) 1897 г." После печатной надписи "Признания" идут вопросы и ответы:
ПРИЗНАНИЯ
Главная черта моего характера – Нерешительность.
Качество, какое я предпочитаю в мужчине – Ум.
Качество, какое я предпочитаю в женщине – Красота.
Мое любимое качество – Ум и хитрость.
Мой главный недостаток – Слабость характера.
Мое любимое занятие – Театр.
Мой идеал счастья – Непостоянство.
Что было бы для меня величайшим несчастьем – Однообразие во всем.
Чем я хотел бы быть – Артистом импер. театров.
Место, где я хотел бы жить – Шахматово.
Мой любимый цвет – Красный.
Мой любимый цветок – Роза.
Мое любимое животное – Собака и лошадь.
Моя любимая птица – Орел, аист, воробей.
Мои любимые писатели прозаики – иностранные – (прочерк)
Мои любимые писатели прозаики – русские – Гоголь, Пушкин.
Мои любимые поэты – иностранные – Шекспир.
Мои любимые поэты – русские – Пушкин, Гоголь, Жуковский.
Мои любимые художники – иностранные – (прочерк)
Мои любимые художники – русские – Шишкин, Волков, Бакалович [12]
Мои любимые композиторы – иностранные – (прочерк)
Мои любимые композиторы – русские – (прочерк)
Мои любимые герои в художественных произведениях – Гамлет, Петроний, Тарас Бульба.
Мои любимые героини в художественных произведениях – Наташа Ростова.
Мои любимые герои в действительной жизни – Иоанн IV, Нерон, Александр II, Петр I.
Мои любимые героини в действительной жизни - Екатерина Великая.
Мои любимые пища и питье – Мороженое и пиво.
Мои любимые имена – Александр, Константин и Татьяна.
Что я больше всего ненавижу – Цинизм.
Какие характеры в истории я всего более презираю – Малюта Скуратов, Людовик XVI.
Каким военным подвигом я всего более восхищаюсь – Леонида и 300 спартанцев.
Какую реформу я всего более ценю – Отмена телесных наказаний.
Каким природным свойством я желал бы обладать – Силой воли.
Каким образом я желал бы умереть - На сцене от разрыва сердца.
Теперешнее состояние моего духа – Хорошее и почти спокойное.
Ошибки, к которым я отношусь наиболее снисходительно – Те, которые человек совершает необдуманно.
Мой девиз – Пусть чернь слепая суетится,
Не нам бессильной подражать… [13]
и т. д.
А. Блок.
На следующем зимнем сезоне, а именно 4 декабря 1897 года, был устроен в доме сестры Соф. Андр. спектакль, на котором разыгрывалась французская пьеса Лябиша "La grammaire" ("Грамматика") и "Спор греческих философов об изящном" {Из Козьмы Пруткова.}. В первой пьесе Саша играл роль тупоумного и одураченного президента академии, которому подсовывают черепки битой посуды, принимаемые им за обломки подлинных римских ваз, а роль буржуа, добивающегося места депутата, которому мешает плохое правописание, играл Фероль. В пьесе участвовал еще троюродный Сашин брат Недзвецкий, игравший лакея, и его сестра Оля, игравшая дочь будущего депутата. Роль ее жениха исполнял правовед младших классов Пелехин, а лицо без речей, садовника, играл Сашин кузен Андрюша. Для этого спектакля устроены были подмостки и занавес, пьесу обставили очень внимательно. Режиссером была сестра Александра Андр., бутафорскую часть взяла на себя милая гувернантка Фероля и Андрюши, мадемуазель Marie Kuhn. Пьеса, полная комических положений, имела успех. Восьмилетняя Олечка Недзвецкая, изображавшая взрослую барышню, конечно, не могла еще играть, но роль свою знала. Все остальные участники были вполне удовлетворительны, местами даже комичны. Саша, которому недавно исполнилось 17 лет, оказался старше всех остальных артистов. Он был очень представителен в своих сединах с бакенбардами, причем сильно напоминал своего деда Льва Ал. Блока. Играл толково, хорошо держался на сцене и с должным пафосом произнес свою дурацкую речь над мнимым обломком лакриматории (вазы, в которую роняли слезы римляне).
Публика много смеялась во время этого комического момента, но наибольший успех выпал, кажется, на долю Фероля, который был необычайно смешон, когда появился с кочном капусты и большой свеклой в руках, сохраняя при маленьком росте и искусственно утолщенном брюшке чрезвычайно солидный и важный вид. Вся его роль была комична, так что публике было над чем посмеяться. Философы тоже понравились. Эта сцена была очень красиво поставлена. На жертвенниках курились какие-то благовония, вероятно, одеколон, а пол был усыпан бумажными розами, сделанными руками мадемуазель Marie. Спектакль был повторен у Недзвецких в том же сезоне.
Саша был тогда уже в VIII классе. Весной 1898 года он кончил курс гимназии, после чего снялся в той самой фотографии Мрозовской на Невском, где выставлены были прекрасные портреты Далматова в роли короля Лира. Саша был большой поклонник этого артиста, так что ему было особенно приятно сниматься именно у Мрозовской. Портрет его вышел, однако, не очень удачно, он довольно плохо отделан. Саша был тогда в периоде любовных мечтаний и некоторого франтовства. В белые ночи гулял он по Невскому и по островам вместе с двумя товарищами, Гуном и Фоссом. На этом портрете, пожалуй, никто бы ему не дал 177г лет. Он скорее похож на шестнадцатилетнего мальчика, что и было на самом деле. Саша был моложав до последних лет своей жизни, когда стало расшатываться его крепкое здоровье. Больше мне нечего сказать об этом портрете.
Прибавлю несколько слов относительно выбора того, что декламировал Саша в те годы. Из "Гамлета" он выбирал чаще всего монолог "Быть или не быть", из "Отелло" только рассказ перед сенатом. Несмотря на большое пристрастие к "Макбету", он никогда не брался за эту роль, и вообще в его репертуаре были только лирические или философские темы, героических, вообще действенных моментов он не брал.
Во время сезона 1897-98 года Саша продолжал изучать роль Ромео. Он задумал поставить в Шахматове сцену перед балконом и в ближайшее лето с жаром принялся осуществлять эту трудную затею. Несоответствие нашей обстановки его не смущало. Главное затруднение было в том, что некому было играть Джульетту, так как ни молодых барышень, ни дам в нашем обиходе решительно не было. Кончилось тем, что роль эту пришлось поручить все той же тете Липе, которая и на этот раз оказалась в Шахматове. Ни наружность ее, ни голос, ни манеры не соответствовали роли. В молодости она с успехом играла в любительских спектаклях роли комических старух в бытовых пьесах. Стихов она произносить не умела, но Саша мирился со всем, лишь бы было к кому обращаться и получать реплики. Начались приготовления. Саша давно уже знал свою роль, но тетя Липа, конечно, не знала, и мне пришлось учить ее хотя бы толково и с должными ударениями произносить стихи. Тон ее был безнадежно бытовой и реальный, но уж тут я была бессильна. Костюм для Джульетты мы соорудили очень сносный: что-то светлое с жемчужными бусами на открытой шее и в белокурых волосах. Но все это было неважно, так как спектакль должен был происходить вечером в саду и при лунном, к тому же неполном освещении.
Ромео был озабочен главным образом собственным костюмом и балконом Джульетты. Для последнего он остроумно использовал столбы от бывшей гимнастики, приделав к одному из них подобие вышки с приставной лестницей сзади. Представление происходило на той же лужайке, где разыгрывали когда-то сцену из Козьмы Пруткова. Костюм Ромео с быстротой и веселой готовностью сшила изобретательная бабушка. Она сделала подобие жюстокора {Некто вроде куртки, обтягивающей торс} с короткими панталонами из летней гимназической блузы и брюк, разукрасила все голубым коленкором и пришила к сильно открытому вороту белый кружевной воротник. Длинные белые чулки и черные туфли с голубыми бантами дополняли наряд. Но лучше всего был голубой берет с ястребиным пером, найденным бабушкой на лужайке за садом, которое она пришпилила круглой брошкой из стекол с радужной окраской. В этом костюме Саша был, кажется, еще лучше, чем в печальном наряде Гамлета, который он давно уже смастерил себе при помощи матери для чтения монологов; за этот год он еще похорошел, а голубой цвет чрезвычайно шел к его прекрасному, молодому лицу.
В назначенный день все было готово к спектаклю. Вечер выдался теплый. Ромео и Джульетта были одеты и загримированы. Оставалось только начать представление, но это долго не удавалось по той причине, что луна упорно скрывалась за тучами и не хотела освещать сцену. Давно уже принесли и поставили на дорожке стулья для дам. Время было довольно позднее, но дедушка ни за что не хотел ложиться спать и все спрашивал, когда начнется спектакль. Все мы с досадой и надеждой следили за луной. Наконец она вышла из-за туч. Тогда Джульетта водворилась на балконе и приняла мечтательную позу. Зрители были позваны, и началось представление. Ромео стремительно и нежно произносил свои речи. Он был очень поэтичен и весь предался романтике Шекспирова действа, не обращая никакого внимания на обывательский тон Джульетты. Все шло своим чередом, как вдруг произошло нечто ужасное: на дорожке, ведущей к лужайке, где стоял Ромео, показалась неуклюжая фигура огромного мохнатого пса Арапки, проскользнувшего в сад со двора через неосторожно открытую калитку. По обыкновению высунув язык и тяжело дыша в своей дремучей шкуре, он невинно помахивал хвостом и медленно шел прямо к Саше, рассчитывая на самый благосклонный прием. Это вторжение совершенно расстроило спектакль. Настроение было нарушено: мы с сестрой с трудом удерживались от смеха, а бедный Ромео был оскорблен в своих лучших чувствах. Он, конечно, прервал диалог и с расстроенным и сердитым лицом принялся гнать Арапку. Разумеется, пес убежал и калитку тщательно заперли, но все уже было испорчено. Саша пришел в ужасное настроение, он наотрез отказался играть и больше уже не возобновлял своей попытки.
В это же лето 1898 года (в 17 1/2 лет) произошло возобновление знакомства с будущей женой поэта Любовью Дмитриевной Менделеевой, а затем начались репетиции спектаклей в имении Менделеевых Боблове. Весь этот эпизод настолько подробно описан в моей биографии, что прибавлять уже нечего. Снимки в различных ролях, приложенные к моему очерку, сделаны в Боблове в 1898-1899 годах. Само собою понятно, что три из них изображают Сашу в роли Гамлета (королева – племянница Дм. Ив. Менделеева Серафима Дмитриевна Менделеева). На четвертом снимке Саша в роли Скупого рыцаря, которого он играл уже в 1899 г.
В книге г-жи Рыбниковой, изданной в Москве под названием "Блок – Гамлет" [14], неправильно сообщено, что Саша познакомился с Менделеевыми в это лето: он бывал в Боблове и раньше уже несколько раз. Бархатная куртка, упоминаемая в книге г-жи Рыбниковой, тоже миф. Саша был тогда в пиджаке и одевался вообще просто и без всяких претензий. Что касается разговоров Саши с Анной Ивановной Менделеевой, о которых сообщается в той же книге, то они касались, конечно, уже не его стихов, так как в то время она об них даже не знала. Он показывал свои первые стихи только матери, мне, да иногда бабушке, когда же они стали известны семье Менделеевых, все, кроме будущей жены поэта, отнеслись к ним весьма отрицательно, она же узнала их только в 1901 году, когда они с Сашей впервые получили возможность видаться наедине. В том же 1901 году, когда Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы г-жи Читау, Саша тоже посещал их некоторое время, но, охладев к сцене, скоро оставил это занятие. Несколько уроков г-жи Читау и краткий курс декламации, пройденный в последнем классе гимназии под руководством учителя Глазунова, – вот и вся подготовка Алекс. Александровича к сценическому и декламационному искусству. Выработанная им манера читать стихи была плодом самостоятельного творчества и его личного темперамента.
Во время своего пребывания в одном из петербургских драматических кружков Саша исполнял только небольшие роли стариков. Самая значительная из них была роль дурака и рамолика в одной переводной французской пьесе, которую играл на Михайловской сцене известный в то время артист Andrieu [15]. Саша не пожалел своего лица и совершенно исказил его безобразным, но талантливым гримом. Роль свою он провел хорошо. Развихленная походка, неверные движения, глупый вид и какой-то беспомощно-наивный тон – все было удачно задумано и проведено. Никому и в голову не приходило, что играет красивый двадцатилетний мальчик. Когда он сыграл свою роль, смыл грим и переоделся в студенческий сюртук, он вышел в залу. Сияя молодостью и красотой, стоял он, разрумяненный после спектакля. Мы с матерью подошли к нему. Забавно было слушать, что говорили о нем в толпе. Какой-то господин, не подозревая, кто стоит рядом, отозвался об игре его так: "Это опытный актер, подражает Andrieu". После этого спектакля Саша и вышел из кружка и вообще оставил мысль о сцене. Это увлечение отошло на второй план. Личная жизнь, сопровождаемая острыми переживаниями романического и мистического характера, овладела всем его существом, а переживания эти выявлялись в приливах творчества, сила которых поражает своей напряженностью. То была пора цветения его лирики и расцвета его красоты. Приведу один характерный анекдот, случившийся на каком-то родственном собрании. В числе гостей был один из друзей Бекетовского дома, который давно не видал Сашу. Он сидел рядом с Алекс. Андр. Саша пришел один из последних. Когда он вошел в комнату в студенческом сюртуке своей красивой, мужественной походкой, гость был поражен его видом. "Это ваш сын?" – спросил он Алекс. Андр. Получив утвердительный ответ, он обратился к Саше: "Сколько вам лет!" – "Двадцать",- ответил Саша. Тогда тот воскликнул в порыве искреннего чувства: "Несчастные петербургские женщины!" – Саша был в то время действительно очень хорош. Красота его черт в соединении с матовым цветом лица, блистающего свежестью, еще более оттенялась пышными золотыми кудрями. Светлые глаза, уже подернутые мечтательной грустью, по временам сияли чисто детским весельем. Держался он очень прямо и был несколько неподвижен, особенно в обществе старших. На многих портретах он кажется брюнетом, на самом же деле он был настоящий блондин с очень белой кожей и зеленоватыми глазами. Его брови и длинные ресницы были того же цвета, как волосы, которые с годами значительно потемнели и приняли пепельный оттенок. Прибавлю, что облик его был исполнен врожденного изящества и благородства и вполне соответствовал его духовному содержанию и характеру.
ГЛАВА IV Юношеские и зрелые годы.
Последнее семилетие жизни поэта
Мои воспоминания, касающиеся второй половины жизни поэта, уже не могут быть так подробны и обстоятельны, как те, которые относятся к поре ее до 20 лет. Почти все, что сохранилось у меня в памяти и о чем можно говорить теперь, уже сказано в моей биографии. Поэтому я буду лишь кратко намечать главные этапы жизни Ал. Ал., оживляя их некоторыми новыми сведениями и эпизодами.
Юношеские годы, начавшиеся с того знаменательного лета, когда Ал. Ал. и Любовь Дмитриевна встретились уже не детьми и оба сразу почувствовали важность этой встречи, полны для поэта великого значения; особенно важным и решительным считал он 1901 год. Поэтический дневник его жизни, который начался с 1898 года, еще долго будет служить предметом догадок и комментарий, так как не пришло еще время расшифровать те иероглифы, ключ к которым находится в руках вдовы поэта, тем более, что сам он никогда не объяснял своих стихов. Фактически эти юношеские годы сводятся к следующим событиям: осенью 1898 года (около 18 лет) Ал. Ал. поступил в университет на юридический факультет, где прошел два курса. Осенью 1901 года он перешел на филологический факультет. У меня сохранилось одно веселое письмо, написанное Сашей во время его последних юридических экзаменов. Это короткая записка, где он сообщает мне два нужных мне адреса. Привожу дословно ее конец.
"…На следующей странице приведено стихотворение Ал. Блока с эпиграфом из Симеона Полоцкого.
Твой доброжелатель.
26 апреля 1901 года.
Плевелы от пшеницы жезл твердо отбивает,
Розга буйство из сердец детских изгоняет… [16]
Права русского исторью
Уподоблю я громам,
Что мешают мне на взморье
Уходить по вечерам.
Впереди ж (душа раскисла!)
Ждет меня еще гроза:
Статистические числа,
Злые Кауфмана * глаза.
Мая до двадцать второго
Не "исхичу я из тьмы"
Имя третьекурсового
Почитателя Козьмы [17]."
{* Кауфман – профессор статистики [18]}
Упоминание о взморье в этом стихотворении характерно для Ал. Ал. Он признавал, живя в Петербурге, только дальние прогулки по окраинам или за город. Хождение на взморье было одним из любимых его развлечений.
В том же 1901 году впервые познакомился со стихами Ал. Ал. Андрей Белый. О впечатлении, произведенном ими на Бориса Николаевича, говорится в письме нашей кузины Ольги Мих. Соловьевой к матери Ал. Ал., которая посылала ей Сашины стихи. Вот что пишет она 3 сентября 1901 года: "Милая Аля, мне хотелось поскорее сообщить тебе одну приятную вещь: Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно описуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева (Андрей Белый [19]), мнением которого мы все очень дорожим и которого я считаю самым понимающим из всех, кого мы знаем. Боря показал стихи своему другу Петровскому, очень странному мистическому молодому человеку, которого мы не знаем, и на Петровского впечатление было такое же. Что говорил по поводу стихов Боря – лучше не передавать, потому что звучит слишком преувеличенно, но мне это приятно и тебе, я думаю, будет тоже. Я еще более, чем прежде, советую Саше непременно послать стихи в "Мир Искусства" или Брюсову… [20]. Боря сейчас же написал, по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею {Ее сын Сергей Михайлович.}. – Вот они.
Пусть на рассвете туманно,
Знаю – желанное близко!
Видишь, как тает нежданно
Образ вдали василиска!
Пусть все тревожно и странно!…
Пусть на рассвете туманно,
Знаю – желанное близко!…
Нежен восток побледневший,
Знаешь ли – ночь на исходе?
Слышишь ли вздох о свободе,
Вздох ветерка улетевший, –
Весть о грядущем восходе?…
Спит кипарис онемевший,
Знаешь ли, ночь на исходе?
Белые к сердцу цветы я
Вновь прижимаю невольно…
Эти мечты золотые,
Эти улыбки святые
В сердце вонзаются больно,
Белые к сердцу цветы я
Вновь прижимаю невольно" [21].
Это письмо Ольги Мих. Соловьевой получено было Ал. Андреевной на станции в день ее отъезда из Шахматова в Петербург вместе с сыном в сентябре 1901 года. Саша был тогда несколько грустно настроен. Мать его послала Ольге Мих. довольно много его стихов и долго не получала ответа. Он боялся, что стихи его не понравились. И вдруг получились такие приятные, важные вести. Нечего и говорить, что Саша и мать его очень обрадовались и ободрились. В вагоне Саше не пришлось сидеть в одном отделении с матерью. Через час после отхода поезда он, проходя мимо ее открытого купе, сунул ей в руки бумажку с только что написанными стихами и скрылся. Стихи эти, сильно измененные, были напечатаны в 1920 году в сборнике "За гранью прошлых дней". Привожу их в первоначальном виде.
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Мчит меня мертвая сила,
Мчит по стальному пути,
Серое небо уныло,
Грустное слышу "прости".
Но и в разлуке когда-то,
Помню, звучала мечта…
Вон огневого заката
Яркая гаснет черта.
Нет безнадежного горя.
Сердце под гнетом труда,
А в бесконечном просторе
И синева, и звезда.
6 сентября.
Между Клином и Тверью.
Весной 1902 года Ал. Ал. подарил матери в день ее рождения "Три разговора" Владимира Соловьева, написав на обратной стороне заглавного листа следующее стихотворение:
Успокоительны и чудны,
И странной тайной повиты
Для нашей жизни многотрудной
Его великие мечты.
Туманы призрачные сладки –
В них отражен великий свет,
И все суровые загадки
Находят дерзостный ответ.
В одном луче, туман разбившем,
В одной надежде золотой,
В горячем сердце – победившем
И хлад и сумрак гробовой.
6 марта 1902 г.
Петербург.
Лето 1904 г. прошло весело, в той беззаботной молодой атмосфере какого-то сияющего цветения, которая так прекрасно отражена в воспоминаниях А. Белого.
Вернулись Блоки в Петербург несколько раньше нас с сестрой. Ал. Ал. приходилось ходить в Университет, Люб. Дм. – на Бестужевские курсы. Обоим предстояли экзамены. Я приехала в Петербург в половине сентября, чтобы устраивать свою новую квартиру, нанятую по соседству от сестры. Тут произошел некий милый и веселый эпизод, описанный в одном из моих старых писем к сестре и живо напоминающий тогдашние нравы и настроение Саши. Блоки пришли ко мне утром очень веселые и оживленные и, пробыв минут десять в моей неустроенной и пыльной квартире, ушли обратно, ожидая меня к обеду. Я пришла к ним часов в пять с разной вкусной деревенской снедью, причем меня встретили двумя новостями. Оказалось, что экзамен отложен до декабря, а Саша получил через издательство "Гриф" письмо от немецкого поэта Гюнтера, который пришел в восторг от "Прекрасной дамы" и просил позволения переводить стихи Блока. Саша был страшно польщен Гюнтеровскими комплиментами и в то время, как я писала письмо его матери, смешил меня разными шалостями: он принимал горделивые позы, отставляя руку и закидывая голову назад, городил разную чепуху, разговаривал все время по-немецки, что доставалось ему далеко не легко, говорил, что он "Beruhmter Herr Blok" (знаменитый господин Блок), и с уморительной буквальностью переводил собственные стихи на немецкий язык. В довершение всего он захотел сделать приписку в моем письме к матери непременно на немецком языке. Привожу целиком это послание:
"Meine teuerste Mutterchen, ich bin schon notwendig und sehr beruhmt in allen Buchhandlungen der Haupt und Provinzial-Stadten des gebildeten und ungebildeten Welt. Mein grosser Portrait ist in alle Bahnhofe Deutschlands, Frankreichs, Mexiko, Danemark, Polen, Spanien (und Portugalien), Italien, Serbien (und andere slavische Lande) ausgestellt. Er kostet nur funfzig Pfennig und jeden Tag kauft man ihn ein Tausend acht Hundert siebenundzwanzig Leute mit andere Bildungen meines Freundes Wolfgang und meines Lehrers Friedrich (v. Schiller) u.s.w. Henrik Ibsen aus Norwegien und Leon Tolstoi aus "Jasnaja Poljana" haben mir sein Gruss und Kuss geschickt. Aber ich werde nicht dich vergessen ungeachtet Meine Berunmtigheit. Dein liebste Sohn Alexander. Meine Frau kusst dich".
(Моя дражайшая маменька, я уже необходим и очень знаменит во всех книжных магазинах главных и провинциальных городов образованного и необразованного мира. Мой большой портрет выставлен на всех вокзалах Германии, Франции, Мексики, Дании, Польши, Испании (и Португалии), Италии, Сербии (и других славянских земель). Он стоит только пятьдесят пфеннигов и его покупает каждый день тысяча восемьсот двадцать семь человек вместе с другими изображениями моего друга Вольфганга и моего учителя Фридриха (фон Шиллера) и т. д. Генрих Ибсен из Норвегии и Лев Толстой из "Ясной Поляны" прислали мне свой привет и поцелуй. Но я не забуду тебя, несмотря на мою знаменитость. Твой любимый сын Александр. Моя жена тебя целует.)
Нет возможности передать Сашины потешные и милые интонации и жесты при чтении вслух этого письма. Эти детские шалости проделывались только в самом интимном кругу. Кто не видал их, тот не знает, сколько непосредственного и светлого было в Александре Блоке. Об этой шаловливой веселости ничего не знает, например, А. Белый, их близость была в другой, чисто отвлеченной, сфере. Лучше же всех, кроме близких родных и жены, знают об этом Александр Васильевич Гиппиус и Евг. Павлович Иванов, оба близкие Сашины друзья. В пору вышеприведенного письма поэту было около 24 лет, но долго еще он сохранял такое же отношение к своим стихам и к своей славе.
Лето 1905 года ознаменовалось размолвкой с Соловьевым и Белым. Читатели могут прочесть в "Эпопее" [22] объяснение эпизода с Серг. Мих. и яркое изображение атмосферы недомолвок и враждебности, создавшейся в Шахматове летом 1905 года. Из последующих признаний А. Белого видно, как много личного, исходящего из призраков, созданных ложным самолюбием, было в последующем отношении его и Серг. Мих. к Блоку. Сам Ал. Ал. был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям "непереносным, обидным, намеренно унижающим" (выражения А. Белого), и был совершенно не подготовлен к тому в высшей степени неприятному письму, которое получил от Бор. Никол, в октябрьские дни 1906 года. А. Белый писал в следующем тоне: "Что ты делаешь? готовишь избирательные списки? говоришь речи?…В то время, как мы с Сережей обливаемся кровью от страданий, ты кейфуешь за чашкой чаю…" [23]и т. д. Само собой разумеется, что эта "риторика печали" {Слова Гамлета Лаэрту на могиле Офелии.} и упреки Ал. Ал-чу, который воспринимал тогдашние события общественной жизни очень ярко и глубоко, – рассердили и раздосадовали и Ал. Андр-ну, и Люб. Дм-вну. Один Ал. Ал. беззлобно огорчился и написал А. Белому смиренное письмо с недоуменными вопросами [24]. Авторитет А. Белого был сильно поколеблен, вскоре произошел и разрыв дипломатических сношений: Люб. Дм. властно потребовала, чтобы А. Белый отказался от некоторых слов, написанных в письме к ее мужу, и заявила, чтобы он помнил, "что она всегда с Сашей" [25]. Он резко порвал переписку с ней, не признав себя неправым по отношению к Ал. Ал-чу. Довольно скоро, однако, Борис Никол, опомнился и написал Ал. Ал,, покаянное письмо [26] а Люб. Дм-не прислал подаренные ею ему когда-то белые лилии, повитые черным крепом, которые она безжалостно сожгла в печке. Таков был тон тогдашних отношений А. Белого с Блоками. После этого письма на А. Белого перестали сердиться. В начале декабря он приехал в Петербург, и произошло полное примирение даже без объяснений. Между прочим выяснилось при разговоре с ним в доме Ал. Андр., что он относится к Серг. Мих. Соловьеву с исключительным пристрастием. Он прямо-таки заявил, что в "Москве нет людей кроме Сережи".
Портрет Ал. Ал. в черной шерстяной блузе с белым отложным воротником снят в 1907 году в фотографии Здобнова на Невском. Это тот самый портрет, который продавался в фотографии, а несколько позднее попал на открытки. Он очень похож, единственный его недостаток заключается в том, что на нем Ал. Ал. кажется брюнетом, между тем как он был определенный блондин. В пору снятия портрета ему было 27 лет. К тому же времени относится и портрет в зимнем пальто и в бобровой шапке, снятый в какой-то моментальной фотографии тоже очень недурно.
В 1908 году Ал. Ал. часто видался с Сологубом, Чулковым и Сюннербергом [27]. Время проводили очень весело. Группа четырех писателей, сидящих за столом, увековечивает эти приятельские беседы ‹…›
Группа, снятая в Шахматове за столом под липами во время чаепития среди дня, относится к лету 1909 года. Это было последнее лето, которое проводила с нами сестра Софья Андр. с сыновьями, весной следующего года они переселились во вновь купленное имение Сафоново, за 20 верст от Шахматова. В момент снятия группы вся наша семья, кроме мужей моих сестер, была в сборе. Стоящий за спиной Ал. Ал-ча молодой человек – брат Люб. Дм. Иван Дмитриевич Менделеев, приехавший в гости из Боблова. Он и снимал группу и, установив аппарат, встал в последнюю минуту в неподвижную позу, чтобы довершить группу, поручив защелкнуть камеру-обскуру кому-то другому. Впереди всех, на углу стола, сидит Ал. Ал. в русской рубашке из ярко-красного сатина. У него несколько утомленный вид и слегка прилипшие ко лбу волосы, вероятно, он в момент приезда гостя занимался какой-нибудь тяжелой работой: или копал землю, или чистил лес. Против Ал. Ал., повернувшись в профиль, сижу я, дальше за мной Люб. Дм. в широком летнем капоте из белой с черным материи, она носила тогда полутраур по отце, умершем года 1 1/2 тому назад. На хозяйском месте в конце стола сидит сестра Софья Андреевна. По другую сторону от самовара – сестра Ал. Андр., рядом с ней старший сын Софьи Андр. Фероль, а за ним его брат Андрюша. Их корректные городские костюмы составляют полный контраст со свободной одеждой Ал. Ал. и подчеркивают то коренное различие в манере жить, которое отражалось и на их мировоззрении. Как большинство любительских фотографий, группа не очень хорошо передает лица отдельных участников, все кажутся старше своих лет от резкостей теней, но зато позы очень естественны и вся группировка напоминает скорее картину, чем фотографию. Портрет в зимнем пальто и котиковой шапке снят в 1911 году, когда Ал. Ал. деятельно писал свою поэму "Возмездие".
Лето 1913 года мы с Ал. Андр. проводили в Шахматове вдвоем. Блоки были на Бискайском побережье. Вернувшись из этой поездки, Саша захотел побывать в Шахматове. Он поехал туда сначала один, потом присоединилась к нам и Люб. Дм. Саша провел в Шахматове месяц. При всей своей любви к Шахматову он начал скучать в деревне, так как мы жили очень уединенно, а у него образовалась привычка к общению с людьми и к разнообразным впечатлениям. Желая развлечь его, я прибегла к невинному средству, которое вполне удалось. Саша очень любил в то время каламбуры и всякие шутки такого рода. Я воспользовалась своей склонностью к этому жанру и начала загадывать шарады, что очень ему понравилось. Саша веселился при этом, как настоящий ребенок. Все лицо его дрожало от смеха, глаза сияли, и он требовал бесконечных повторений той же забавы. Когда мы собирались к утреннему чаю, он уже смотрел на меня выжидательно и заранее улыбался, так как шарады бывали по большей части шуточные. Поощряемая успехом своей идеи, я придумала особый вид шарад в рассказах. Заключался он в том, чтобы загадывать такие слова, слоги которых имели между собою связь, вроде слова д_о_с_а_д_а, причем нужно было придумать соответствующий рассказ, в который входили бы эти слова. Или же бралось для шарады многосложное слово, и нужно было тоже вклеить все слоги в рассказ. Первая моя проба такого рода была шарада ш_п_а_р_г_а_л_к_а, которую я придумала во время утреннего одевания. Я пришла, посмеиваясь, и Саша был страшно заинтригован моим загадочным видом. За утренним чаем я рассказала длинную историю о гимназисте, который готовился к латинскому экзамену в имении родителей и заснул на диване в столовой после бессонной ночи. Брат его, рассеянный сельский хозяин, пришел пить чай, стуча сапогами, и домашние замахали на него руками, произнеся _м_о_е_ _п_е_р_в_о_е_ (Ш), затем он видел _м_о_е_ _в_т_о_р_о_е, так как в комнате стоял кипящий самовар (пар), и, взглянув в окно, увидал в окно _м_о_е_ _т_р_е_т_ь_е_ (галка) и т. д. Эта шарада имела блестящий успех, за ней последовали другие в таком же роде, и все они чрезвычайно забавляли и занимали Сашу. Кончилось тем, что он вдохновился моим примером и начал сам сочинять шарады в рассказе, над которыми мы хохотали до упаду. Смысл их был по большей части натянутый, загадывая их, Саша уже заранее начинал смеяться, причем облекал свои рассказы в какую-то своеобразно неуклюжую и донельзя комичную форму. Увлекался он этим занятием чрезвычайно и придумывал свои шарады буквально с утра до вечера. Некоторые из них я помню, хотя, к сожалению, не дословно, так что стиль пропадает.
Шарада I
Один молодой человек, у которого была мукомольная мельница в Архангельской губернии, писал своим родителям, жившим на юге России, что дела его очень плохи и пришлось остановить мельницу, потому что ни зги не видно. Обстоятельства ли переменились, погода ли изменилась {Курсив обозначает дословную фразу Ал. Ал.}, но только дело пошло на лад, о чем сын известил родителей телеграммой, в которой было два слова: мое первое и второе. Целое же оказалось такого рода, что старики страшно обиделись и даже прокляли сына.
Никто из нас не угадал шарады, и при общем хохоте мы узнали, что в телеграмме стояли слова: мелюзга.
Шарада II
Увидев дробь, вынутую из раны одного инженера, нечаянно поранившего себе на охоте руку, его кухарка чухонка сказала: "Это…" и прибавила мое первое и второе.
Значение целого объяснено было очень туманно. Все мы терялись в догадках и наконец узнали, что кухарка сказала фразу: "Это ис парина" (испарина).
Шарада III
Однажды летом двое приятелей, известные художники, отправились в длинное странствие, причем между ними был уговор, что во время ночлегов оба поочередно должны были стлать постели. Один из них добросовестно исполнял уговор, другой же, более ленивый, всякий раз, как товарищ напоминал ему об его обязанности двумя словами, моим первым и вторым, притворялся, что он не понимает их смысла и, намекая на целое, говорил о каких-то птичках: "Да, слышу".
Кажется, я угадала эту шараду, она означала: "Коро стели" (коростели).
Шарада IV
Но венцом Сашиных шарад была та, которую он сочинял и рассказывал целый день. Конец ее пришелся, кажется, даже на следующее утро. К величайшему сожалению, я помню только ее содержание и некоторые подробности. Это было повествование в форме романа тридцатых годов, где фигурировал отец, мать – Фанаберия Ивановна и дочь Зинаида. Дело происходило в провинциальном городе. Зинаида была красивая, но бедная девушка, и мать усердно подыскивала ей жениха.
В числе ухаживателей Зинаиды был старый сластолюбец учитель Единицын, а впоследствии корнет Шпоркин, охарактеризованный следующей фразой: "Из всех офицеров Н-ского полка выделялся ловкостью манер и стройностью стана корнет Шпоркин". Зинаиду вывозили в собрание, где она была замечена. Зинаида была и впрямь недурна. Фанаберия Ивановна, как женщина сметливая, заметила произведенное ею впечатление. В дом были приглашены молодые люди и стали устраиваться вечера, перед началом коих Фанаберия Ивановна сделала дочери наставление, внушив, как она должна вести себя с молодыми людьми. Каждый из них должен был сделаться целым шарады, в которую должно было входить первое и второе. Вечера оказались настолько удачны, что даже возбудили зависть местной львицы. Зинаида в точности исполнила приказание матери. Когда явился корнет Шпоркин, она приняла его так, что он сделался целым шарады. Фанаберия Ивановна стала следить за дочерью. Через некоторое время небрежное обращение Шпоркина с Зинаидой и полнеющий стан ее навели Фанаберию Ивановну на ужасную мысль, она призвала к себе дочь и сказала ей наедине: "Несчастная, что ты с собой сделала?" - "Маменька, я не выходила из вашей воли",- отвечала Зинаида. Слишком ли развитое чувство дочерней покорности, буквально ли понятое приказание матери были причиной несчастья, но тут произошло роковое недоразумение.
Слово, загаданное в шараде, оказалось: завсегда тай (завсегдатай).
Уже после того, как мы об этом узнали, Саша придумал к рассказу конец: Зинаида скрылась из родного города и оказалась в Петербурге, продолжая вести порочный образ жизни. За ней последовал старый сластолюбец Единицын. Едва ли не она послужила прототипом для известного стихотворения Некрасова "Убогая и нарядная".
Осенью 1913 года произошла знаменательная встреча Ал. Ал. с певицей Люб. Ал. Андреевой-Дельмас.
Портрет Ал. Ал-ча в фетровой шляпе и в осеннем пальто снят в моментальной фотографии осенью 1913 г. еще до знакомства с Люб. Александр., но уже после встречи с нею. Он очень хорош.
Фотография в военной форме снята с Ал. Ал. в 1917 году в Зимнем Дворце, где происходили заседания Чрезвычайной Следственной Комиссии. Форму эту носил он со времени пребывания на Пинских болотах. Фотография не отличается отчетливостью, но все же дает понятие о Блоке того времени.
Воспоминанием лета 1919 года могут служить отчасти три фотографические снимка, сделанные издателем Ал. Ал-ича Алянским ("Алконост") на балконе квартиры на Пряжке. Снимки хорошие и отчетливые. На первом представлен поэт с женой, на втором он один, а на третьем он с матерью.
Здесь я нарушу хронологический порядок, которого все время придерживалась, и прибавлю обещанную заметку об отношении Ал. Ал. к животным. В детстве он обожал кошек и собак, как многие дети, но тогда уже вкладывал в свое отношение к ним какую-то особую нежность и интерес: он с ними разговаривал, входил в их положение, проводил с ними много времени, всячески их развлекая и ублажая. В Шахматове держали обыкновенно двух или трех дворовых псов, с которыми Саша водил постоянную дружбу. Бывало, заглянешь утром в надворное окно и, если Саши нет в комнате, непременно увидишь его у крыльца на корточках, а около него реют три мохнатых хвоста и с особой настойчивостью сует ему лапу его любимец, огромный черно-желтый Арапка.
Собаки, разумеется, обожали Сашу. Однажды летом, после смерти моих родителей, когда Саша был уже жедат, в Шахматове оказались две таксы. Одну из них привезла из Петербурга Сашина мать, другую я. Первая такса, Краб, была толста и добродушна, мой Пик был худой, с безумными страстями и мрачным характером. Он перенес тяжелое испытание, потеряв любимого хозяина – это была дедушкина собака. Обе таксы не отходили от Саши. Молодые Блоки жили в отдельном флигеле с садиком, отделенным от двора забором и калиткой. Саша вставал довольно поздно. Нужно было видеть, с каким отчаянно грустным видом лежали обе таксы по утрам на дорожке около флигеля. Они дожидались, когда взойдет их солнце. Когда же Саша появлялся в низком окне и подавал голос, собаки бросались с радостным визгом и прыгали на подоконник или прямо в руки своего божества. Саша брал их во флигель и вместе с ними приходил в большой дом пить чай.
При жизни моих родителей в доме было довольно-таки беспорядочно и грязновато, но после их смерти, особенно с той поры, когда старый дом был блистательно отремонтирован заново, Сашина мать завела везде невероятную чистоту и порядок. Прежде бывало не только комнатные, но и дворовые собаки входили в дом, а комнатным позволялось валяться на всей мебели. Теперь же дворовых псов совсем не пускали в дом, а таксам строго воспрещалось скакать на мягкую мебель. Но так было только в начале лета. Понемногу эти строгие правила нарушались Сашей. Таксы как бы нечаянно оказывались то на кресле, то на диване. Мать слабо боролась, но потом, разумеется, уступала, и к осени, как раз в самое грязное время года, дело кончалось тем, что ничто уже не возбранялось этим счастливицам. В гостиной, угловой солнечной комнате, выходившей окнами в сад, занимал одну стену огромный четырехугольный диван с двумя валиками. Помню один осенний вечер, когда Саша, разлегшись на этом диване во весь свой рост, в русской красной рубашке и в высоких сапогах, пригласил такс прыгнуть на диван, что они с восторгом исполнили. Затем обе были разложены по бокам его так, что головы их приходились у него под мышками, и так в блаженном покое пребывали до самого чая. Он нежно разговаривал с ними, и никто из присутствующих и не думал противиться этому баловню и чародею, так как смотреть на его забавы с собаками и слушать его разговоры с ними было сущее наслаждение.
Бывали еще и такие случаи: дверь со двора в столовую отворялась и оттуда выходил улыбающийся Саша, а за ним несмело и конфузливо выступал сын уже покойного Арапки, Бучка, очень похожий на него, но немного поменьше ростом. Он и сам понимал, что ему, столь грязному и вонючему цепному псу, не место в чистых господских комнатах, но Саша ласково приглашал его за собой, говоря: "Ну, иди, иди сюда, комнатная собачка!" Повертевшись по комнате, Бучка сам уходил обратно и уже на крыльце получал от Саши лакомое угощение в виде хлеба с маслом или сдобных лепешек.
В то время мой Пик (угрюмая такса) уже был покойник. Он погиб от болезни сердца в Шахматове и трогательно пришел умирать в гостиную, где издох на глазах всей семьи, причем в предсмертных муках до последнего мгновения не спускал глаз с сидевшего на полу Саши. Этого верного пса с почетом похоронили мои племянники в саду на лужайке, под старой плакучей березой. Его положили в ящик и осыпали цветами. Саша сам вырыл ему могилу, засыпал ее землей и сверху положил большой и очень тяжелый камень.
К кошкам Саша с годами охладел. Его отталкивало их коварство. Он ценил в зверях простодушие и непосредственность. Но к собакам он сохранил исключительную симпатию на всю жизнь, вообще же любил положительно всех животных, кроме кошек. Он доходил до того, что прикармливал мышей, которых в Шахматове всегда было великое множество. Жена Саши Люб. Дм. относилась к животным совершенно так же, как он, что подтверждает следующий случай, связанный с литературой.
В заголовке известного стихотворения "Старушка и чертенята" ("Нечаянная радость") поставлено: "Григорию Е.". Разумеется, никто из читателей не подозревает, что Григорий Е. был не кто иной, как еж, которого принесли в Шахматово крестьянские дети и продали Саше и жене его за какой-то пустяк. Еж был немедленно назван Григорием и некоторое время с любовью воспитывался во флигеле, где жили Блоки. Немного погодя Григория отпустили на волю, после чего на ржаном поле поблизости от флигеля Блоков очутился молодой ежик, который попался на глаза Сашиной матери и вел себя, как ручной. Похоже было, что это вернулся Григорий. Блоки так и решили. Они опять водворили его во флигель и стали ухаживать за ним еще больше. Но дело кончилось тем, что Люб. Дм. нашла, что Григорию будет скучно в Шахматове, потому что там нет ежей, и сама отвезла его в имение своих родителей Боблово, где всегда водилось много ежей. Там он был выпущен и оставлен.
Не меньше собак Саша любил лошадей. Он рано выучился ездить верхом, красиво сидел на лошади и ловко и смело ездил. При всей своей любви к лошадям он умел их заставлять себя слушаться. Тот белый конь, который упоминается в его лирических стихах и в поэме "Возмездие", был высокая, статная лошадь с несомненными признаками заводской крови; его звали "Мальчик". Саша уезжал верхом иногда на целые дни и в этих поездках исколесил все окрестности Шахматова на далекое пространство. Во время скучной жизни на Пинских болотах его лучшим удовольствием было по целым часам ездить верхом, совершая длинные одинокие прогулки. У него была прекрасная, но далеко не смирная лошадь, которую он особенно любил именно за ее способность злиться.
Конечно, он прекрасно знал всех зверей Зоологического сада. Цирковые слоны, тюлени и бегемоты из "Аквариума" тоже были его любимцами. Он рассказывал о них с большой симпатией и очень талантливо их представлял. Любил он и червей, и лягушек. В Шахматове был такой случай. В одно жаркое лето развелось очень много червей, которых не выносила Сашина мать. Однажды утром, когда мы пили чай под липами, на скамейке оказались две толстейшие гусеницы: одна ярко-розовая, другая зеленая. Сашина мать, содрогаясь от отвращения, просила Сашу убрать их. "Какие отвратительные!" – говорила она, отворачиваясь от гусениц. Саша взял их в руки и отнес как можно дальше, но сначала заметил примирительным и сочувственным тоном: "А они думают, что они очень красивые".
К птицам Саша был вообще равнодушнее, больше всего любил журавлей. Но зато кур он прямо-таки ненавидел за буржуазный характер и движения и жестоко гонял их из цветников, пуская им вслед иногда даже камни.
В заключение привожу выписки из письма матери Александра Александровича, которая сообщала мне о выступлении сына в Москве в 1920 году.
19 мая 1920 г. "…Сегодня Душенька (так звала она часто Сашу) вернулся из Москвы. Я чувствую себя счастливой матерью. Он пробыл в Москве 11 дней, читал на трех вечерах. Энтузиазм повальный. В конце концов на площади около здания Политехникума [28], где происходили вечера, сделали ему овацию. Стол, перед которым он читал, был всякий раз покрыт цветами: ландышами, сиренью. Тут же в зале ему посылали записки и стихи, посвященные ему. И все это вовсе не одни барышни – были и мужчины, которые со слезами жали ему руки. Здание Политехникума, т. е. зал этот, считается лучшим по акустике. Потому и был выбран. Жил Деточка все время у Надежды Александровны Коган. Кормили его прекрасно, он даже поправился на вид. Ездил он вдвоем с Алянским, который буквально всю несносную часть хлопот принял на себя, и проехал в отдельном купе международного поезда туда и обратно.
Был он и у Станиславского, который все тот же и твердо надеется поставить "Розу и крест" осенью, хотя половина труппы на Кавказе… Душенька вернулся в мягком настроении. Поражает меня больше всего своей скромностью, тем, как рассказывает о своих успехах…"
На этом кончаются мои "воспоминания и заметки", касающиеся жизни поэта. Некоторые стороны его души и характера еще не затронуты мною, но так как я считаю долгом передать все то, что хранит о нем моя старая память, я не прощаюсь с читателями и надеюсь, что мне удастся сообщить им и остальное из того, чем могу поделиться я с теми, кому дорога память Блока.
МАТЬ Александра БЛОКА
Примечание
Печатается по единственному изданию книги (Л.-М., 1925). Первая часть книги представляет собой развернутый комментарий к фотографиям Блока и его окружения, помещенным в книге; вторая является самостоятельной биографией А. А. Кублицкой-Пиоттух.
Очерк первый ВЛИЯНИЕ МАТЕРИ НА СЫНА
25 февраля 1923 года скончалась мать Александра Блока, по второму мужу Кублицкая-Пиоттух. В этой книге, написанной уже после ее смерти, будет уместно сказать несколько слов о значении матери в жизни поэта и влиянии ее на его творчество. По натуре своей она была прежде всего мать, ее отношение к обоим мужьям, за которых она выходила по склонности, было гораздо холоднее. Сын был ее исключительной, самой глубокой и сильной привязанностью. На нем сосредоточилась вся ее нежность, а с годами любовь эта все углублялась. Этому способствовала, во-первых, врожденная склонность сестры моей к материнству, она еще девочкой мечтала о детях, а во-вторых, исключительное положение, в которое она попала, когда ей пришлось поневоле расстаться с мужем, оберегая сына от проявлений его жестокого характера. В 20 лет, в ту самую пору, когда властно проявляются страсти женщины, при очень горячем темпераменте – она осталась одна с ребенком без мужа. А муж, молодой, привлекательный и страстно влюбленный – всеми силами противился ее решению, искал встреч с ней и умолял ее вернуться к нему. Много слез стоили ей эти сцены с Александром Львовичем, но то, что она устояла перед этим искушением и не ушла к мужу, показывает, насколько сын был ей дороже его. И вот на глазах ее растет этот сын, наполняя гордостью и радостью ее материнское сердце. Из прелестного, своеобразного ребенка превращается он в очаровательного юношу-поэта, и вся жизнь его проходит под знаком поэзии. Мать находила в сыне все то, чего не хватало ей в окружающей жизни. Так понятно, что чувство ее к нему все росло и крепло. Что же дала она ему сама, кроме этой любви, которая заставила его написать уже в зрелом возрасте (ему было тогда почти 30 лет) те строчки в "Возмездии", которые мать его хранила, как драгоценнейшее сокровище, на дне шкатулки, украшающей ее письменный стол? Вот эти строки, написанные рукой сына на особом листе бумаги:
Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой и тоскою…
…
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушенным садом,
И небо – книгу между книг,
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненный,
И этот незабвенный миг
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь,
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир прекрасен, как всегда…
Кроме своей великой любви, Александра Андреевна вложила в сына черты своей натуры. Мать и сын были во многом сходны. Повышенная впечатлительность, нежность, страстность, крайняя нервность, склонность к мистицизму и к философскому углублению жизненных явлений,- все это черты, присущие им обоим. К общим чертам матери и сына прибавлю щедрость, искренность, склонность к беспощадному анализу и исканию правды и, наконец, ту детскую веселость, которую Александр Александрович проявлял иногда даже в последний год своей жизни, а мать его утратила годам к 35-ти, когда начались первые приступы ее сердечной болезни. В детстве и юности она была самым веселым и жизнерадостным созданием, какое только можно себе представить, но и ей свойственны были те капризы и неровности характера, которые проявились потом у сына. После рождения Саши, когда она отдохнула в родной семье от тяжелых впечатлений разлуки с мужем и зажила эта рана, – хотя и болезненная, но не очень глубокая, – она опять расцвела и из той печальной и робкой женщины, которой стала она за два года жизни с мужем, опять превратилась в веселое и жизнерадостное существо, напоминавшее скорее молодую девушку, чем женщину и мать, испытавшую столько горя. Когда вышла замуж наша вторая сестра Софья Андреевна и явились на свет ее двое детей, будущие товарищи Сашиных игр, она была их любимицей и, сама нежно любя их, умела их забавлять, как никто. Вообще ее живость и остроумие оживляли всякое общество. Саша был не так экспансивен, как мать. В этом была между ними существенная разница. У нее была непреодолимая потребность высказываться, он же таил свои мысли и чувства в себе или же изливал их в стихах.
Связь между ними была очень сильна. Доказательством этому служат те груды писем к матери, которые доставляют мне столь драгоценный материал. Эту связь поддерживала и общность натур, и близость матери к сыну. До 9 лет он жил всегда в одной комнате с нею. Важно было и то, что Саша рос без отца. Наша семья помогала его матери в заботах о нем, но воспитывала она его сама, как хотела. Я уже говорила, что воспитывать Сашу было очень трудно. Сестра моя делала, что могла. Педагогические приемы были ей чужды. К самим педагогам относилась она очень скептически, считая их в большинстве случаев педантами и тупицами. Она говорила не раз, что воспитывает человека только известная атмосфера, а не дисциплинарные приемы и нравоучения. Когда Саша был еще мальчиком, она подпала под влияние сестры Софьи Андреевны, женщины очень цельной, с твердым характером и принципами и самыми определенными взглядами на жизнь. В это время Александра Андреевна старалась воспитывать Сашу, влияя на его характер и поведение обычными приемами, но чем дальше, тем больше убеждалась в том, что к Саше эти приемы неприменимы. Сделать из него благонравного мальчика было невозможно. Он был хороший мальчик, даже очень хороший, но уж никак не благонравный. Он никогда не обижал младших братьев даже в пустяках, не затевал никаких злостных шалостей, не лгал, не наушничал, никогда не был груб, но капризы, непослушание, безудержность были ему очень свойственны.
Кое-каких результатов усилия матери все же достигли. В физическом отношении она воспитывала Сашу очень тщательно, пользуясь советами доктора Каррика и той книгой, которую он рекомендовал как лучшее руководство для молодых матерей при воспитании ребенка {Английская книга Комба, переведенная на русский язык [29].}. В отношении режима, гигиены или лечения, когда оно было нужно, она добилась от Саши до известного возраста полного повиновения. Требованиям такого рода он подчинялся беспрекословно. И в результате из него вышел очень здоровый и сильный юноша. Что же касается его нервности, то с этим бороться было гораздо труднее. К тому же сама Александра Андреевна была далеко не уравновешенная и выдержкой не отличалась. Ее нельзя было назвать бесхарактерной или слабой, во многих случаях она проявляла большую твердость, например, в перенесении физических страданий. Она всегда казалась здоровее, чем была: держалась очень прямо, даже в старости не ложилась отдыхать среди дня, очень многое делала через силу, не жалея себя, и т. д. Но характер ее был неровен. Раздражительность и частые перемены настроения были для нее обычны. Впрочем, с сыном ее раздражительность проявлялась только в пору его детства. Чем дальше, тем сдержаннее и терпеливее становилась она в своих отношениях с ним. Близость сына с матерью продолжалась и после второго ее брака. Выходя замуж за Фр. Феликс, Александра Андреевна думала найти в нем помощника, который заменил бы Саше отца, но этого не случилось. Фр. Феликс, был вообще равнодушен к детям, Саша же был не в его духе, кроме того он ревновал к нему мать. Словом, он не был привязан к мальчику и относился к нему, если не прямо враждебно, то по меньшей мере равнодушно. Его взгляды на воспитание были совершенно противоположны тем, которые Александра Андреевна вынесла из своей семьи. Он советовал ей держать сына построже, тяготился его обществом и при первой попытке Саши расположиться со своими игрушками и занятиями в гостиной отослал его в его комнату, чем жестоко обидел Александру Андреевну, привыкшую к совсем другому отношению.
Саша, избалованный неограниченной свободой в доме Бекетовых, был несколько озадачен, присмирел и стал держаться в своем углу. Я не думаю, впрочем, чтобы он страдал от этого. Ему бывало жутко только по вечерам, когда мать и отчим куда-нибудь уходили и он оставался один. У него бывали безотчетные страхи, которым часто бывают подвержены нервные дети, но и тут мать поручала его денщикам, большинство которых любили Сашу и отличались добродушием. Иногда приходила еще няня Соня, которая оставалась и ночевать. Вообще Саша не терпел никаких серьезных обид от отчима, доказательством этому служит то, что сам он очень любил его, называл Франциком и, как видно из приведенных мною детских писем, способен был о нем даже соскучиться. При всем различии их натур у них оказалось нечто общее: любовь к Сашиной матери и пристрастие к животным. Фр. Феликс, тоже обожал своих домашних собак и кошек, а к жене был привязан исключительно. Она была ему дороже всего на свете – кроме службы, к которой он относился с необычайной ревностью и интересом.
Итак, Саша рос без отца и на девятом году своей жизни попал в чуждую и несимпатичную среду. В детстве он сознавал это смутно, только ежился и робел в обществе офицеров, не обращавших на него никакого внимания, но в юности он начал сильно чувствовать рознь между военщиной и тем, что он видел в доме Бекетовых. Александра Андреевна должна была поневоле применяться к этой новой среде, чуждость которой почувствовала сразу и очень болезненно. Она сделала визиты всем полковым дамам, устраивала завтраки с закуской и водкой для товарищей мужа, завязала кое-какие знакомства в полку с наиболее подходящими семьями и т. д. В эту среду, где царили всяческая пошлость, кутежи, карты, сальные разговоры и разврат,- перенесла она все благородные традиции своего дома. Муж ее был одним из самых нравственных и порядочных офицеров в полку, но таких было очень немного, а Фр. Феликс. далеко не всегда выбирал своих друзей из их числа. Трудно и чуждо было жене его в этой атмосфере. Она как могла чаще видалась с родной семьей, лето в Шахматове было праздничным временем как для нее, так и для Саши. Кроме этих радостей и театра, который посещался по возможности часто, у нее была литература.
В нашей семье, где давала тон Сашина бабушка, литературность была, так сказать, в крови. Ею пропитана была вся атмосфера бекетовского дома. Это проявлялось не только в занятиях литературным трудом, но и в повседневной жизни, в частых цитатах стихов и прозы, в манере выражаться и в интересе к новым книгам. Это "новое" было, однако, только до известной степени. Уже Достоевский был не по вкусу нашим родителям, а из поэтов мать наша остановилась на Полонском и Фете. Сестра Александра Андреевна частенько воевала дома из-за излишнего пристрастия к Тургеневу, непонимания Флобера и т. д.
Как видно, литературность перешла к Саше еще от бабушки, но мать его поддержала семейную традицию и относилась к литературе не только с живейшим интересом, но и с благоговением. Смотреть на литературу, да и вообще на искусство, как на развлечение, она считала кощунственным и говорила, что лучше совсем ничего не читать, чем читать для забавы, не перенеся в жизнь своих впечатлений от книги. Это отношение к литературе имело несомненно воспитательное значение.
Чтением Саши тоже руководила мать. Все его детские книжки, сказки, стихи Жуковского и Полонского, конечно, были выбраны ею. Переехав в Гренадерский полк, она много читала, но исключительно беллетристику, критику и стихи. Странно, что при всей живости своего характера она не любила сенсационных и бульварных романов, находя их скучными. Но этого вкуса своего она не навязывала сыну, не мешая ему забавляться хотя бы Майн-Ридом, а впоследствии Конан-Дойлем. Поэтов, особенно русских, Александра Андреевна знала очень хорошо, перечитывала по многу раз и проникалась их духом, невольно заучивая наизусть многие отдельные стихотворения; между прочим, она говорила, что хорошие стихотворения запоминаются, а плохие не остаются в памяти.
Из русских классиков она особенно любила Льва Толстого и Достоевского, а затем Гоголя. Пушкина предпочитала Лермонтову, но больше всего любила Тютчева, Фета и Полонского, увлекалась и Аполл. Григорьевым. Из иностранной литературы она больше всего любила Шекспира и Гетева "Фауста", а затем Флобера, Бальзака и Золя. Из поэтов ей одно время был особенно близок Бодлер. Ибсен тоже долгие годы был властителем ее дум. Все свои вкусы мать старалась привить и Саше, но без назойливости. Не внедрением той или другой книги влияла она на него, а скорее общим направлением или, вернее, окраской своих литературных взглядов. Она привила сыну чистоту вкуса, воспитанного на классических образцах, тяготение к высокому и к подлинному лиризму. С уверенностью можно сказать только одно: мать открыла ему глаза на Тютчева, Аполл. Григорьева и Флобера. В частностях вкусы их далеко не всегда сходились. Александра Андреевна была равнодушна к Вячесл. Иванову, которого высоко ценил Александр Александрович, и совсем не признавала Бальмонта, к которому сын ее одно время относился даже восторженно. Зато увлечение Брюсовым она вполне разделяла, не говоря уже об Андрее Белом, к творчеству которого она относилась совершенно так же, как сын. Когда вкусы и взгляды ее окончательно сложились, она говорила обыкновенно, что книга хороша, если она "зовет"; книг, написанных только ради интересной фабулы или изящества формы, Александра Андреевна не признавала. Ей нужна была или идея, главным образом, религиозная, но отнюдь не в церковном смысле, или, как в лирических стихах, "поющие слова" и говорящие о неведомом звуке. В Толстом она ценила высшую человечность и говорила, что он гигантскими чертами изображал материнство, детство и т. д. с большой буквы.
Что касается настроений Александра Александровича в его собственной лирике, то тут мать влияла на него совершенно невольно. Смены светлых и мрачных настроений вообще были ей свойственны. Она не могла побороть приливов той безысходной тоски, которые находили на нее все чаще с усилением ее нервной и сердечной болезни. И, конечно, это отражалось на сыне помимо ее воли. И он, как она, не был уравновешенным человеком. Безмятежность не была ему свойственна, всяческий бунт, искание новых путей, бурные порывы – вот то, что взял он от матери, да отчасти и от отца. И неужели было бы лучше, если бы она передала ему только ясность, спокойствие и тишину? Тогда бы Блок не был Блоком, и его поэзия потеряла бы тот острый характер, ту трагическую ноту, которая звучит в ней с такой настойчивостью. Оба они – мать и сын – влияли друг на друга, и общность настроений сближала их души. Отношение к природе было у них не совсем сходное, она доставляла им обоим живейшие радости, но только сын, как поэт-мистик, находил в ней те знаки, по которым ворожил, гадал и ждал новых событий.
Временем наибольшей близости между сыном и матерью была та пора, когда он начал писать первые серьезные стихи (после 17 лет). Общение с сыном-поэтом было для нее источником великих радостей. И интересно, и весело было им вместе. Саша интересовался ее переводами, особенно стихотворными, они сочиняли вдвоем шуточные стихи, которые нашла я в его письме к бабушке от 11 апреля 1898 г. Александра Андреевна переводила тогда бодлеровского "Альбатроса". Это и послужило поводом для приводимого ниже стихотворения.
"ИЗ БОДЛЕРА"
Посмотри на альбатроса,
Закуривши папиросу,
Как он реет над волной…
Повернись к нему спиной,
Чтоб от дыму папиросы
Не чихали альбатросы,
Вон вдали идут матросы,
Неопрятны и курносы…
и т. д.
Стихотворение это сочинялось за каким-то завтраком в отсутствие Фр. Феликс. При нем такие забавы были бы немыслимы, так как разговоры о службе, фронтовом ученье и товарищах не вязались с литературой. Трудно было Александре Андреевне лавировать между противоположными интересами сына и мужа. Оба обращались к ней со своим, и ей приходилось вращаться единовременно в двух разных атмосферах. Эта жизнь на два фронта, как выражалась Александра Андреевна, была очень тяжела; чем дальше, тем труднее становилось ей согласовать свое существование с направлением мужа и сына. Душа ее рвалась к интересам сына. Она была его первым цензором еще в эпоху издания "Вестника". Он доверял ее вкусу, а мать поощряла его к писанию и делала ему дельные замечания, на которые он всегда обращал внимание. Она сразу почуяла в нем поэта и была настолько близка к новым веяниям в литературе, что могла понимать его стихи, как очень немногие. Если бы не ее поощрение и живой интерес к его творчеству, он был бы очень одинок, так как в то время его поэзия казалась большинству очень странной и непонятной. Его обвиняли, как водится, и в ломанье, и в желании быть во что бы то ни стало оригинальным и т. д. А он никогда не был самоуверен. Как же важно было для него поощрение матери, мнением которой он дорожил, относясь к ней с уважением и доверием! Она же стала показывать его стихи таким ценителям, как семья М. С. Соловьева (брата философа), а через них узнали эти стихи московские мистики с Андреем Белым во главе, и таким образом она была косвенной причиной всех его дальнейших успехов. Впоследствии сын советовался с матерью и при составлении своих сборников. Иногда ей удавалось уговорить его не поддаваться минутному настроению и не выбрасывать те или другие ценные стихи или сохранить какие-нибудь особенно любимые ею строфы, которые он собирался выкинуть или изменить; в других случаях она же браковала его стихи, находя их слабыми или указывая на недостатки отдельных строк и выражений.
Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни было громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддержала его, когда он задумал перейти на филологический факультет, и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне. Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Люб. Дм. совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного характера. После смерти Александра Александровича они стали ближе. Для тоскующей матери было великой отрадой говорить с невесткой о сыне, тем более, что Любовь Дмитриевна имела свойство успокаивать ее нервную тревогу немногими словами, взглядом или улыбкой.
Александра Андреевна пережила сына на полтора года. Жизнь ее после этой потери была так мучительна, что только высоко понятое чувство долга перед памятью сына и покорность высшей воле удержали ее от самоубийства. До начала мая 1922 года сестра моя жила еще сносно, так как она могла работать: она целые дни переписывала своим изящным почерком рукописи сына, предназначенные для печатания в полном собрании его сочинений, а также переписала и проредактировала первую половину моей биографии. Но именно эта усиленная работа и частые хождения на кладбище, иногда пешком (с Пряжки на Смоленское) подорвали ее силы. 6-го мая у нее сделался легкий удар, после которого она стала заметно слабеть. Речь, которую она потеряла в первые дни после удара, не вполне к ней вернулась. Она говорила, но с большим напряжением воли, а главное не могла работать и гораздо реже бывала на кладбище, так что жизнь ее стала еще тяжелее. 22-го февраля у нее сделалась закупорка околосердечной вены, а 25-го февраля исполнилось ее горячее желание: она ушла из жизни туда же, куда ушел и безмерно любимый сын ее, ее "ребенок", как она часто его называла. Тот, кто видел близко ее страдания, как я, порадуется ее смерти и скажет: "слава богу, она успокоилась". Эта мысль успокаивает и меня, давая мне нужные силы для моей трудной работы. Не знаю, удалось ли мне, как хотелось, показать хотя бы отчасти, какое значение имела мать в жизни Блока. Она была крупный и своеобразный человек и всегда оставалась сама собою, смело высказываясь даже в тех случаях, когда рисковала навлечь на себя неудовольствие сына, к мнению которого относилась с болезненной чувствительностью. Ее любовь к сыну, близость с ним, понимание его поэзии и оригинальный ум заставляли всех его друзей искать сближения с нею. Некоторые ее особенно любили, другие относились к ней только с интересом и уважением. Об этом свидетельствуют письма к ней Андрея Белого, Городецкого, А. В. Гиппиуса, Евг. Павл. Иванова и многих других и та память, которую хранят о ней все ее старые и новые друзья. Она оставила после себя заметный след. Ведь только у такой матери, как она, мог явиться такой сын, как Александр Блок.
В следующем очерке я постараюсь нарисовать ее облик во всей его полноте, а не только в зависимости от ее отношения к сыну.
ГЛАВА I Детство, юность и первый брак
В детстве Александра Андреевна была очень нервная, истеричная девочка, капризная и непокорная. Нередко находили на нее припадки беспричинной злобы, которые быстро проходили, сменяясь такой милой, горячей ласковостью, такой шаловливой, заразительной веселостью, что все забывали неприятные проявления ее характера. Она была резва, откровенна, в высшей степени непосредственна. Во всем складе ее, даже физическом, было что-то бурное и буйное. Ее детские ыболезни всегда проявлялись резко: сильным жаром, бредом, беспамятством, острыми болями. Ни у кого из ее сестер не было такой сильной скарлатины и кори, как у нее. Последствием скарлатины, по приговору докторов, и явился тот порок сердца, которым она начала страдать лет с шестнадцати.
Из всех нас четырех она была самая обаятельная, хотя в детстве была некрасива. Даже строгая начальница частной гимназии, в которой мы с ней прошли пять классов (считая приготовительный), и ее помощница, большая педантка, – прощали сестре моей Асе все ее шалости и никогда к ней не придирались, несмотря на то, что ей случалось до того расшалиться, что с ней не было никакого сладу. Один раз она вздумала в классе во время урока снять ботинки и поставить их на стол. И это ей было прощено, несмотря на то, что других учениц нещадно донимали выговорами и попреками за малейшие отступления от строгих правил гимназии. Старая няня, жившая у нас в доме на покое после смерти нашей маленькой сестры, которая долго болела и рано умерла, больше всех любила Асю. Никто из нас не помогал ей так много в заботах о маленькой нашей сестренке, никто не ласкал ее с такой нежностью и не дарил ей апельсинов, забежав во время субботнего сборища в ее комнату, где няня сидела с вечным чулком, бутылками нюхательного табаку и неугасимой лампадкой у образа. Старая няня звала ее "буй-перебуй" и умела унимать шутками ее неукротимые порывы.
В гимназию Ася поступила около девяти лет. Усердием к наукам не отличалась. Это происходило не от лени, потому что она вообще не была ленива, а от отсутствия любознательности и отвращения к педагогической рутине. Она училась хорошо тому, что ей было интересно, т. е. русской словесности и французскому языку в последних классах, когда приходилось учить и декламировать в классе стихи Виктора Гюго или Шенье, которые она очень любила. Из математики она любила только геометрию, которой и училась всегда хорошо. Ни географией, ни историей не интересовалась, почему и училась посредственно обоим этим предметам. Она быстро научилась правильному правописанию, хорошо писала русские сочинения, на полях которых педант учитель делал характерные пометки. Ася написала как-то, что у льва серьезное, величавое лицо, на это ей было замечено, что у льва не лицо, а морда и, кажется, даже был сбавлен балл, вместо 12 поставлено 11. В общем, Ася все-таки училась удовлетворительно, благодаря общему развитию и домашнему чтению. Но гимназический курс не оставил на ней никаких следов, именно благодаря полному отсутствию интереса к большинству предметов. Вследствие этого она поражала иногда недостатком самых элементарных сведений, например, по истории. Она не прочла за всю свою жизнь ни одной исторической книги, пробовала, но безнадежно скучала и ничего не могла запомнить. То же повторилось и относительно путешествий, не говоря уже об естественных науках.
Но к литературе ее влекло с раннего детства. Из детских книг мы с ней обе, как и Саша, воспитались сначала на "Степке-Растрепке", "Говорящих животных" и т. п., потом на сказках. Между прочим, мы очень любили забытые сказки Ахшарумова ("Ветрова хозяюшка", "Дуня" и т. д. [30]) В журналах "Детское чтение" и "Журнал для детей" читали по преимуществу повести из рыцарской жизни. Любили также нехитрые рассказы с описанием домашних занятий девочек. Жуковский был нашим первым любимцем в детские годы. Мы тогда уже знали и любили "Близость весны", "Три путника" и т. д. Когда Асе было лет 13-14, мы страстно увлекались Иоанной д'Арк в переводе Жуковского. Мы перечитывали ее по несколько раз и, помнится, Ася даже ходила читать ее в кухню прислуге. В юности Ася очень любила Вальтер-Скотта, особенно "Айвенго" и "Квентин Дорварда", а также романы Диккенса и "Последний из могикан" Купера. Лет в 15, должно быть, позволено было ей, да и мне в 13, читать Тургенева. Тогда мы были еще настолько глупы, что увлекались главным образом рассказом "Три встречи". В ранней юности Ася еще любила Тургенева, но когда прочла "Войну и мир", почувствовала влечение к Толстому и охладела к Тургеневу.
При всей живости и открытости Асиного характера у нее было мало подруг. В частной гимназии, где она пробыла до 15 лет, у нее была только одна близкая подруга, Маня Трубникова. Они вместе держались во время большой перемены, обожали одну и ту же хорошенькую учительницу английского языка мисс Смит, влюбились в одного и того же учителя истории, мечтая встретить которого бегали по коридору, ведущему в учительскую комнату, что заставляло добродушную классную даму фрейлен Гернет патетически восклицать: "Assia und Mannia immer laufen in den Korridor!" (Ася и Маня вечно бегают по коридору). Мы были знакомы домами с этой подругой и очень часто видались, но, несмотря на это, настоящей близости и любви между Асей и Маней не было. Они занимались только пустяками, но истинно заветного своего Ася ей не открывала, а заветное у нее было: и религия, и литература уже серьезно ее тогда занимали, не говоря уже о каких-то особых прозрениях духа, выражавшихся иногда очень странными явлениями. Такое прозрение было у нее в 14 лет, когда она увидала на Неве плывшего по течению утопленника и была потрясена каким-то мистическим ужасом перед трагизмом жизни и неотвратимостью рока. Случай этот уже описан в моей первой книге. Нечто подобное, но в более слабой степени испытала она, когда увидала партию мужиков-ледоколов, только что вытащенных из проруби, которых вели по университетскому коридору в трактир на Биржевой площади, причем они кашляли кровью и закапали весь коридор. Все мы видели этого утопленника и мужиков, но одна только Ася восприняла это столь трагически.
Перейдя вместе со мной в казенную (Василеостровскую) гимназию, Ася водилась со многими девочками, с двумя из них была знакома домами. Чаще других видалась с красавицей Маней Философовой, дочерью известной деятельницы по женскому образованию Анны Павловны Философовой, выведенной в "Возмездии" под именем Ольги Вревской [31]. С этой Маней отношения были еще дальше, чем с первой. Дружбы не вышло. Кстати замечу, что все подруги сестры Ал. Андр. за редкими исключениями были Марии, начиная с меня и кончая особенно близкой ей Map. Павл. Ивановой, сестрой Сашиного друга Евгения Павловича. Этому обстоятельству сестра придавала большое значение. Но дружба с Марией Павловной возникла уже в зрелом возрасте. До тех же пор у сестры Аси был только один великий друг, это я. Только со мной она была вполне откровенна, как в молодые годы, так и до конца своей жизни.
Наши отношения с Асей были совершенно особые. В детстве мы с ней беспрестанно ссорились, но не могли жить друг без друга. Старшие сестры тоже составляли неразрывную пару, но между ними не было такой близости, как между нами с Асей. Трудно передать, до какой степени нам было весело вместе. В детстве мы, конечно, играли в куклы. Кроме этого у нас очень рано припала охота изображать театр, т. е. разыгрывать импровизированные сцены своего сочинения – очень глупые. Кроме того, мы вместе сочиняли повести, романы, сказки и т. д. Некоторые образчики этих произведений долго сохранялись в моих бумагах. Все они донельзя наивны, отзывают романтизмом и не самостоятельны. Когда Асе было лет 14, а мне 12, мы любили писать стихи на одну тему, причем арбитром была наша старшая сестра Катя {Будущая писательница, оставившая после себя томик оригинальных стихов и рассказов.}, которую мы считали очень компетентной. Между прочим, мы страстно любили театр, удовольствие, о котором мечтали по целым годам, иногда тщетно, так как старших сестер частенько возили во французский театр, а на нас уже не хватало денег, но пришла пора, когда и на нашей улице выдался праздник. Об этом я скажу ниже. Самое любимое наше время было все-таки лето. Нас неизменно возили тогда в деревню: то к бабушке Карелиной в Трубицыно, то в какое-нибудь другое именье, где нанимали дом. Одним из лучших воспоминаний нашего детства было лето, проведенное на даче в Шувалове, у самого парка. Мне было тогда около 9 лет, Асе около 2. Мы обе уже учились в гимназии и привезли с собой на лето наши гимнастические костюмы (мужские), в которых по целым дням бегали вдвоем по окрестностям, скакали на палочке и т. д. Мы уходили иногда с раннего утра, но приходили вовремя к завтраку и к обеду, причем веселились и наслаждались бесконечно. Парк, который мы исходили вдоль и поперек, мы назвали "Наше место прелестей". Помню неописуемый наш восторг, когда мы нашли на какой-то высокой горе, кажется, носившей название "Парнас", большой куст совершенно спелой и очень крупной малины. Собрать всю эту малину и принести ее с торжеством "мамочке" мы сочли своим священным долгом. Все лужки около церкви имели свое название, сообразно сортам березовиков, которые мы там находили. Собирание грибов, цветов и земляники было для нас источником живейших радостей. Сестры наши никогда не умели так радоваться, как мы. Это умел впоследствии Саша Блок, с будущей матерью которого мы в то время принимались иногда благодарить бога, говоря друг другу: "до чего мы счастливые!". Читали мы обыкновенно тоже вместе, а в то лето сочиняли какой-то дурацкий роман с прекрасным синеглазым охотником (неоконченный), для чего ходили рано утром к развалинам Шуваловского дворца, которые казались нам таинственными и достойными нашего поэтического занятия. Мы и писали, положив тетрадку на какой-то плоский камень или каменную плиту среди самых развалин.
В это лето родилась наша сестра Лиля, которая умерла через 2 1/2 года от воспаления легких. Эту девочку все особенно любили и оплакивали, и отец наш хотел когда-нибудь особенно развлечь и повеселить всю семью. Как раз в это время он получил небольшое наследство от какого-то саратовского дядюшки и часть его употребил на летнюю поездку в Швейцарию всем семейством. Мы поселились около Люцерна, где и прожили до того времени, когда отцу надо было возвращаться к своим занятиям в Университет, а нам в гимназию. Тринадцатилетняя Ася была тогда еще некрасивая и совсем не сложившаяся девочка, пока еще не кокетка и совершенный ребенок, но уже сильно интересовалась молодыми людьми и беспрестанно влюблялась. Живя в большом пансионе Victoria, из окон которого открывался великолепный вид на Фирвальдштетское озеро и окрестные горы, мы с ней большую часть времени проводили, как всегда, вместе. Гуляли или одни, или с отцом. Старшие сестры держались отдельно, а мать наша вообще не любила ходить и больше сидела дома. Ася, как водится, влюбилась в какого-то длинноногого белокурого англичанина, который жил одно время в нашем пансионе. Тогдашние увлечения ее выражались вполне платонически, главным образом, в разговорах со мной. Она не делала ни малейших попыток завязать сношения со своим предметом и даже никогда не попадалась ему на глаза. Страдать тоже не страдала, так больше – мечтала и только. Очень увлекались мы с ней тогда швейцарскими легендами о Винкельриде и Вильгельме Телле, тем более, что отец устроил с нами длинную прогулку, частью на пароходе, частью пешком к Теллевской капелле на озере и в деревню Altdorf на родину В. Телля, где стоит на площади его незатейливый памятник с арбалетом в руках. Отец наш много раз поднимался на гору Пилат, удивительный профиль которой в виде гигантской мужской головы сурового типа был виден из окон нашего пансиона. Со свойственной ему неутомимостью отец делал эту прогулку иногда в течение одного дня, не останавливаясь ночевать в горной гостинице, и всегда приносил в своей зеленой ботанической жестянке прекрасные альпийские цветы, из которых нам с Асей особенно нравились необычайно крупные, ярко-синие незабудки. Мы с Асей ходили по великолепным буковым лесам, по полям и дорогам, а также не раз бывали в самом Люцерне, который очень любили. Нам было и весело, и интересно, и все же, помнится, в русской деревне бывало вольнее и лучше. Как раз следующей весной отец купил Шахматово, где мы и стали проводить каждое лето.
Припоминая эту заграничную поездку, скажу, что мы с Асей не завели никаких особых друзей, что объясняется главным образом тем, что мы плохо говорили по-французски и совсем не говорили по-немецки. Но зато у нас с ней было одно общее увлечение. Мы обожали приехавшую на короткое время в наш пансион красивую и чрезвычайно обаятельную польскую актрису Елену Моджеевскую, которая жила как раз рядом с нашими комнатами, так что слышно было, как она декламирует у себя на балконе сцену из "Ромео и Джульетты". С ней был и муж ее, очень изящный и красивый граф Хлоповский, но мы на него не обращали никакого внимания, а с очаровательной актрисы не сводили глаз за табльд'отом, считали себя счастливыми, когда встречали ее в саду или в коридоре и т. д. До сих пор помню какое-то ее платье, особенно нас восхищавшее: оно было шелковое, цвета морской воды, отделано белыми кружевами и черными бархатными бантами и чрезвычайно шло к пепельным волосам и изящному лицу Моджеевской. Мать наша рассказала актрисе о наших чувствах. Она очень мило с нами заговорила, причем я не смела к ней подойти, а сестра Ася бросилась ее целовать.
В следующую зиму мы с Асей испытали новые восторги: почти каждую пятницу нашу семью приглашали в пустую ложу II-го яруса в итальянскую оперу, которая была тогда в Большом театре, безбожно сломанном и исковерканном по приказанию царя Александра III для постройки новой консерватории. Театр был еще больше Мариинского и отличался великолепной акустикой, навеки утраченной при перестройке. Ложа принадлежала другу нашего отца, ботанику Михаилу Степановичу Воронину, очень богатому человеку, дети которого еще не доросли тогда до оперы. Каждую пятницу мы с трепетом ждали, пришлют или не пришлют нам приглашение в ложу с благообразным воронинским лакеем Дмитрием. Придя из гимназии, мы с Асей первым делом осведомлялись, есть ли ложа, и если нам говорили "да", не было пределов нашему ликованию. Старшие сестры радовались не меньше нас. Все мы были воспитаны на культе итальянской музыки и презрения к русской опере вообще и в то время разделяли вполне вкусы наших родителей. Припомню, что то была пора, когда Патти являлась во всем блеске своего солнечного таланта, Мазини при нас дебютировал, Котоньи [32] тоже, не считая других прекрасных певцов и певиц, которых немало пришлось нам послушать.
Мы с Асей, наскоро приготовив уроки и кое-как пообедав, в лихорадочном волнении ждали вечера, одевались в лучшее, что у нас было, не из кокетства, а ради декорума. Жили мы тогда на казенной квартире в Университете, в третьем этаже, окнами на Университетскую линию и сад. Вход был со двора, в дальнем конце Университетской галереи. Ездили обыкновенно с матерью, страстной меломанкой, отец редко бывал в театре. Всякий раз брали четырехместную карету, и мы отправлялись, горя нетерпением и восторгом. Старшие сестры, уже взрослые барышни (одной было 16, другой 18 лет), интересовались не только оперой, хотя и сильно ею увлекались, но мы с Асей – пока еще подростки (ей было около 14 лет) – не думали ни о чем, кроме сцены, музыки и т. д., т. е. всего того, что касалось спектакля. Опера производила на нас упоительное впечатление. Романтические сюжеты, живописные костюмы, самая музыка пение артистов – все сливалось в одну прекрасную сказку, совершенно уносившую нас от действительной жизни. Когда мы возвращались домой в карете, все четыре сестры были в завороженно-меланхолическом настроении и до того переполнены впечатлениями, что всю дорогу молчали в каком-то оцепенении, удивляя свою мать, которая осыпала нас вопросами и получала скупые, односложные ответы, произносимые нехотя и сквозь зубы. Так было и с экспансивной Асей, которой тоже не хотелось расплескивать того драгоценного сосуда лирической романтики, который наполнял ее душу. Конечно, с этой зимы пошли увлечения тенорами и баритонами, которые опять-таки выражались только в мечтаниях и в покупке портретов своих предметов. По части увлечений все шло своим чередом: в галерею Асиных предметов вошли в свое время и юнкера, и учителя (гимназистов не было в нашем обиходе). Но пока это все было совершенно впустую.
В то время только еще намечался ее характер, но насколько я припоминаю теперь – все основные черты ее натуры уже ясно обозначались в эту раннюю пору. Привязанности Аси отличались нежностью и горячностью, мне она давала множество ласкательных имен, которые принимались семьей и менялись чуть ли не каждый год сообразно ее фантазии, родителей жестоко ревновала к старшей сестре, которую заметно предпочитали остальным дочерям. Грациозная шаловливость, капризно переменчивый нрав, бесконечная живость, чувствительность мимозы и детская веселость – таковы были свойства тогдашней Аси. Но в плохие минуты на нее нападала истерическая раздражительность: она злилась, как хищный зверек, и разражалась потоком обидных, отрывистых слов. Но эти бури быстро сменялись ясным и ласковым настроением. Страсти в ней еще спали, но она была очень пылка и тогда уже бунтовала против рутины и рвалась к каким-то новым путям. Ее пристрастия и антипатии доходили до крайности, она отстаивала свои мнения с беззаветной горячностью, зуб за зуб спорила с родителями и с сестрой Катей о том, что казалось ей неверным и фальшивым. Чрезвычайно силен был в ней дух противоречия. Ходячие мнения или навязываемые вкусы вызывали в ней неизменный протест. Так возникла в ней преувеличенная антипатия к Тургеневу, которого родители наши превозносили до небес, предпочитая его Толстому и Достоевскому. По той же причине возненавидела она французов, которых обожал наш отец, воспитанный француженкой и впитавший с юности идеи французской революции и республиканские идеалы.
После 15 лет Ася начала хорошеть, и не успели мы оглянуться, как она из быстроглазой, угловатой худышки превратилась в грациозную, стройную девушку с гибкой талией и миловидным личиком, поражавшим свежей белизной и нежным румянцем. Внимание мужчин скоро открыло Асе тайну ее прелести. Сознание своей привлекательности наполняло ее упоительной радостью. Проказам ее не было конца, она смешила сестер до колик и выдумывала тысячу глупостей. Ее настроение того времени живо напоминает стихотворение Полонского "Подросла". Оно до того подходило к ее тогдашним переживаниям, что в зрелом возрасте трогало ее до слез, напоминая ей золотые дни ее беззаботной юности. Привожу несколько строф из этого стихотворения, чтобы напомнить его читателям:
Моя мать от нужды и печали
Вся изныла, тая
Свое горе, а я
Подросла и, не знаю, мила ли
Мне семья…
…
И в прохладный поток я бросаюсь
И ныряю и рву
Водяную траву,
И пугливо в тростник забиваюсь
И – ау!…
На шестнадцатом году у Аси явились первые поклонники. Один из них бывал на наших маленьких субботах еще в профессорской квартире отца, но Александр Львович Блок еще не был тогда знаком с нашей семьей. Знакомство это состоялось год спустя, а встретил Александр Львович Асю в доме инспектора студентов Озерецкого, на танцевальном вечере. Он влюбился в нее тогда же, она нашла его интересным и только. Если не ошибаюсь, она была занята в то время знаменитым Капулем [33], изящный профиль, стройная фигура и прическа которого производили на нее неотразимое впечатление. Это было главное из ее оперных увлечений. Помню, как на другое утро после одной из пятниц, когда мы слушали "Лючию" [34], причем Капуль пел Равенсвуда, Ася сидела у камина в гостиной и горько плакала, – вы думаете о том, что "он" ее не любит и знакомство с ним ей недоступно? Нет, она плакала о том, что "он умер за нее" (за Лючию), и этих сладостных слез хватило ей до самого ухода в гимназию.
Бедную девочку жестоко дразнили тогда Капулем, но всего больше ее уязвила шутка одного из наших любимцев, милейшего Ивана Михайловича Прянишникова (брата художника-передвижника). Он знал нас с Асей с детства, называл просто по именам и очень любил всю семью. Ася тоже его очень любила, так как он был необыкновенно веселый, остроумный и милый человек, но она возненавидела его по крайней мере дня на три, когда он рассказал ей однажды небрежным тоном: "Знаете, Асенька, иду это я нынче по Невскому, вдруг вижу идет Капуль и несет в бумажке какие-то рыбки: не то корюшки, не то селедки". Конечно, он все это сочинил для смеха; но вряд ли он подозревал, как больно уязвил он поэтическое чувство Аси. Не знаю даже, будет ли понятна нынешним читателям вся соль этого анекдота. К 16-ти годам Ася сделалась большой кокеткой и не упускала случая попробовать свои чары почти на всех молодых людях, посещавших наш дом. Случалось ей заходить и в чужие владения, т. е. кокетничать с кем-нибудь из молодых людей, по праву считавшихся монополией других барышень. В таких случаях Иван Михайлович Прянишников, который сам ни за кем не ухаживал, проходя мимо Аси, грозил ей пальцем и говорил: "Асенька! чужих сливок не лизать!" И даже отводил ее от опасного места ловким маневром, чему она не противилась, так как забавлялась просто так, "чтобы не испортить руку", как говорят французы. Одновременно с проснувшейся женственностью обнаружилась в Асе пламенная религиозность. Она часто ходила в университетскую церковь, горячо молилась, особенно ревностно постилась на страстной неделе и т. д. Все это больше развивалось под влиянием старой няни, которая была очень богомольна и хорошо знала церковные обычаи. С ней мы обыкновенно ходили в церковь и говели. Родители наши не были религиозны и ходили в церковь только изредка для порядка. Вера Асина была вполне наивная, но даже и тогда, насколько я помню, Христос казался ей суровым и чуждым. Она больше любила Иоанна Крестителя и апостола Петра.
Когда Асе исполнилось 16 лет, отец наш был выбран ректором университета, и мы переехали в ректорский дом, стоявший на набережной Невы рядом с воротами, ведущими на университетский двор. В те времена этот дом целиком отдавался в распоряжение ректора. Переехав туда, семья наша с удобством разместилась на новой просторной квартире. Весело зажили мы в этом доме. С первой же осени начались еженедельные субботние вечера, на которых собиралось большое общество, преобладала молодежь, т. е. студенты и наши подруги, бывали и профессора и кое-кто из знакомых дам. На субботах наших царила полная непринужденность при самой строгой корректности нравов. Студенты приглашались с известным выбором и ручались за порядочность товарищей. Если кто-нибудь из молодых людей, посещавших ректорский дом, позволял себе какую-нибудь непочтительность или излишнюю развязность, товарищи немедленно его удаляли, так как отца моего не только очень любили, но и уважали. Часть студентов держалась больше с ректором, ведя в его кабинете бесконечные споры о политике, об общественных и философских вопросах, другая часть – после общего чаепития под председательством нашей веселой, остроумной и приветливой матери – отправлялись наверх к барышням. Там играли на фортепьяно, пели, танцевали, играли в мнения и ухаживали. Было превесело. Все, кто когда-либо бывал на этих субботах, вспоминали о них потом с удовольствием. В первую же зиму устроен был домашний спектакль, в котором мы с Асей не участвовали, но очень веселились на репетициях и на самом спектакле.
Вскоре у Аси явился жених, некий естественник 3-го курса, добрый и честный малый, ничем не выдававшийся среди остальных. Сначала он был застенчив до свирепости, но мать наша быстро его приручила, так что он сделался одним из завсегдатаев, стал ухаживать за Асей и сделал ей предложение. Не разобравшись в своих чувствах, она приняла его предложение. Но, как я уже упоминала выше, скоро опомнилась и взяла свое слово назад, очень огорчив этим отставленного жениха. Асе было тогда еще не до брака, и на серьезное чувство она вообще не была в то время способна. Ей нравилась любовная игра, самолюбию ее льстили ее победы, но если бы она была предоставлена самой себе, вряд ли бы она так рано вышла замуж. Здесь кстати будет заметить, что роман Ал. Львовича Блока с Асей происходил совсем не так, как изображен он в "Возмездии", и вообще многое в этой поэме есть только блестящая стилизация характеров или же прямой вымысел творческой фантазии автора. Это замечание нужно отнести, главным образом, к обликам отца и матери поэта. На самом деле, вот как было дело: Ал. Львович познакомился с нами в год нашего переезда в ректорский дом. Он стал усиленно ухаживать за Асей, что очень ей нравилось, тем более, что Ал. Львович был не только красив и интересен, но его чувство к Асе отличалось и страстностью, и проникновением в ее сущность. Он ценил в ней и обаятельную наружность, и глубокую женственность, и оригинальный ум, далеко не всеми тогда оцененный. Многие находили, что она глупее сестер, а гимназические учителя – и совсем не из глупых – считали ее пустой девушкой, занятой только бантиками. Нечего и говорить, что и то, и другое было совершенно неверно. Ал. Львович разговаривал с Асей, выбирая подчас даже слишком трудные по тогдашнему развитию ее темы, очень восхищался ее пением (у нее был небольшой, но звонкий и верный голос). Он приносил ей романсы, которые она пела под его аккомпанемент. Банальных комплиментов она от него, разумеется, не слыхала, он говорил с ней, например, так: "Я смотрел на вас вчера в окно университетского коридора и видел, как вы сидели за вашей прялкой". Ася сидела с шитьем у окна в комнате нижнего этажа, выходившей на университ. двор так, что из второго этажа, откуда смотрел на нее Ал. Львович, было особенно хорошо ее видно. Это косвенное сравнение с Гретхен [35] ей тогда очень понравилось, вообще же Ал. Львович был для нее в то время еще слишком серьезен и сложен. Ей бывало с ним иногда даже скучно. Ее бесконечно пленяла только его музыка, так как играл он с редким талантом и очарованием, вкладывая в игру свою какой-то стихийный демонизм.
В конце зимы Ал. Львович сделал Асе предложение, но она ему отказала, после чего он даже перестал бывать у нас в доме. Ася не каялась в своем поступке, но мать наша, совершенно покоренная оригинальным обликом и необычайной музыкальностью Ал. Льв., не могла утешиться после ее отказа и стала говорить Асе, что она оттолкнула необыкновенного человека, с которым могла бы быть счастлива, как ни с кем. Ася начала задумываться, вспоминать прошлое и подпала под влияние матери. Тут, как нарочно, Ал. Льв. напомнил о себе, прислав Асе очень милый и лестный подарок в день ее рождения 6 марта 1877 года. Это была тетрадь с романсами Глинки и Даргомыжского в голубом переплете. Романсов было 17 по числу лет Аси, так как это был год ее семнадцатилетия. Кажется, приложена была и записка. Этот подарок, разумеется, произвел впечатление, Ася начинала думать, что поступила опрометчиво. Следующей зимой Ал. Льв. неожиданно явился к нам в дом. Он пришел по делу к отцу как к ректору. Ему нужны были какие-то справки и подписи на деловых бумагах. Узнав, что у нас Ал. Льв., Ася подстерегла его внизу на лестнице, очень благосклонно встретила и повела наверх. Все это очень его удивило. Между ними произошло объяснение, результатом которого было вторичное предложение Ал. Льв., на этот раз принятое Асей, а потом и родителями. После этого Ал. Льв., уже в качестве жениха, ежедневно бывал в доме Бекетовых и гостил летом в Шахматове, а следующей осенью уехал в Варшаву, где получил кафедру приват-доцента государственного права. За время его жениховства Ася успела привязаться к Ал. Льв. Его демонское очарование овладело ее нежной душой, ястребиные крылья (вспомните "Возмездие") распростерлись над своей жертвой. Асе уже приходилось страдать от проявлений деспотизма и других тяжелых черт своего будущего мужа, но она уже подпала под его власть, полюбила его и предалась своей судьбе. Свадьба ее была торжественно отпразднована 7 января 1879 года. Венчание происходило в университетской церкви. Ни на одной из последующих свадеб в нашем доме не было такого множества гостей, такого количества орденских звезд с лентами и нарядных дам. Сейчас же после свадьбы молодые уехали в Варшаву. Асе было тогда 18 лет, а приблизительно через два года, т. е. осенью 1880 года, Ал. Льв. приехал в Петербург в сопровождении жены для защиты своей магистерской диссертации. Молодые Блоки поселились на нашей квартире. Ася поразила нас всех той страшной переменой, которая произошла в ней за эти годы. Вместо веселой, беззаботной хохотушки с цветущим личиком, мы увидели худую и бледную женщину, с тихим, потухшим взглядом, запуганную и серьезную, в плохо сшитом черном платье, которое придавало ей еще более жалкий вид. Мы были тем более поражены, что Ася в письмах не обмолвилась не единой жалобой на мужа.
Теперь, когда Ал. Андр. уже нет на свете и все близкие родственники Ал. Льв. тоже умерли, я позволю себе сказать, что Ал. Льв., во-первых, держал жену впроголодь, так как был очень скуп, во-вторых, совсем не заботился об ее здоровье и, в-третьих, – бил ее. Не стану описывать подробностей этих тяжелых сцен. Скажу только, что никаких серьезных поводов к неудовольствию Ал. Андр. не подавала. Она вела себя так, что муж перестал ее ревновать, была с ним ласкова и очень заботилась о хозяйстве. Но муж желал перевоспитать жену по-своему, и ей доставалось за всякое несогласие в мнениях, за недостаточное понимание музыки Шумана, за плохо переписанную страницу его диссертации и т. д. В минуты гнева Ал. Льв. был до того страшен, что у жены его буквально волосы на голове шевелились. Их прислуга полька, очевидно, боясь ответственности, уходила из дому, как только Ал. Львович начинал возвышать голос. Ася слышала, как щелкал ключ двери, запираемой снаружи, и затем оставалась одна с мужем, а жили они в захолустном квартале на окраине города, так что если бы она вздумала кричать, это вряд ли к чему-либо повело бы. Не буду, однако, преувеличивать: Ал. Льв. только пугал, унижал и мучил жену, он не наносил ей увечий и не покушался на ее жизнь. Но довольно и этого…
Вскоре после приезда молодых Блоков в Петербург мы узнали об обращении Ал. Льв. с Асей. Это обстоятельство и было причиной того, что уступая просьбам семьи, главным образом отца и сестры Софьи Андреевны, Ал. Андр. решила расстаться с мужем, оберегая от его жестокости не столько себя, сколько сына.
Впервые раскрывая тяжелую тайну причины разрыва сестры моей с первым мужем, считаю долгом сказать, что, несмотря на всю свою жестокость, Ал. Льв. так искренно и горячо любил ее, так понимал лучшие стороны ее натуры, что жизнь ее с мужем имела и светлые стороны. От нее я знаю, что в хорошие минуты он нежно ласкал ее, и они проводили много прекрасных часов за чтением и разговорами о прочитанном. Они перечитали вместе Достоевского, Льва Толстого, Успенского, Флобера, Гетева "Фауста", Шекспира, Шиллера и т. д. Ал. Андр. поразительно развилась за эти годы, вкусы ее стали серьезнее, глубже, для нее раскрылось многое, о чем она прежде не подозревала, и, таким образом, Ал. Льв. способствовал ее пониманию литературы вообще и поэзии в частности. Эти трудные годы дали сильный толчок ее духовному росту и подготовили ее к будущему для духовного общения с сыном. Письма Ал. Льв. к жене, писанные вскоре после разрыва, к сожалению, погибли при пожаре Шахматовского дома. В них любовь Ал. Льв. выражается с великой силой и глубиной. Он каялся в своих ошибках, называл ее мадонной и мученицей, но надо все-таки понимать, что и вторая его жена, женщина далеко не избалованная жизнью и с самыми твёрдыми правилами, тоже ушла от него после четырех лет брака, ушла обманом, увезя с собой трехлетнюю девочку. Очевидно, Ал. Льв. был непригоден к семейной жизни по какой-то атавистической, ненормальной жестокости, вероятно, унаследованной им от предков со стороны его матери, урожденной Черкасовой. Не могу заподозрить в столь грубых проявлениях некультурности немецкое семейство выходцев из Германии Блоков, давших России ряд докторов и чиновников. Думаю, что корень зла кроется в недрах крепостной России, откуда Ал. Льв. воспринял черты жестокости и самобытности. Замечу кстати, что Ал. Льв. весь состоял из противоречий. Так, например, чисто плюшкинская скупость уживалась в нем с отсутствием расчетливости: ведь он женился оба раза на бесприданницах. Кроме того, он не жалел денег на хорошие места в концерт Рубинштейна или в театр, который они с женой довольно часто посещали в Варшаве, где была тогда прекрасная труппа, игравшая пьесы классического репертуара.
ГЛАВА II Второй брак. Томление духа и искание новых путей.
Итак, Ася вернулась в отчий дом. Здоровье ее мало-помалу восстановилось, хотя никогда не было особенно крепким. Восемь лет провела она соломенной вдовой. То было время ее второй молодости: семья окружила ее и Сашу такой нежностью и заботой, что смех и веселость понемногу к ней возвратились. Наша с ней дружба еще окрепла после разлуки. Сестра осыпала меня ласками, и мы с ней жили, что называется, душа в душу.
Семья наша оставалась в ректорском доме до половины 1883 г., когда отцу пришлось выйти из ректоров по особому случаю, о котором будет рассказано ниже. Здесь же кстати будет сказать, как сестра Ал. Андр. относилась к общественным вопросам. В молодости она, так же, как сын ее, политикой и общественностью не интересовалась, газет не читала и никаких убеждений в кавычках не имела. Живя около такого отца, как наш, и постоянно вращаясь в кругу профессоров и студентов, она любила университет, как родную среду, к студентам же питала нечто вроде сестринских чувств, а в те времена (в 80-х годах прошлого столетия) это было уже признаком либерализма, так как университет считался рассадником крамолы. Помню следующий характерный эпизод.
В последний год своего ректорства (вероятно в 1883 г.) отец наш, который непрестанно ратовал с полицейскими властями, заявил градоначальнику, что он может ручаться за спокойствие студентов только в том случае, если в университет не будет введена полиция, и лишь при этом условии соглашался занимать ректорский пост. Градоначальник дал требуемое обещание, что несколько успокоило отца. Дело в том, что ему было достоверно известно, что ежегодные студенческие беспорядки в декабре месяце провоцировались полицией ради получения наград за искоренение крамолы. Он надеялся повлиять на молодежь в том смысле, чтобы ради сохранения университета и его либеральных традиций воздержаться от всяких демонстраций и сходок. Он и прежде проводил целые часы, до хрипоты увещевая студентов. Ему много раз давали слово вести себя скромно и выдержать характер, но какой-нибудь пустячный повод опять приводил в азарт пылкие головы вожаков сходок, и обещание нарушалось. Так было и в этот раз.
Начались волнения, сходки и кончилось тем, что градоначальник не сдержал своего слова. В один прекрасный день мы с сестрой Ал. Андр. увидали в окно, как черные толпы городовых подобно саранче наводнили университетский двор. Со стесненным сердцем смотрели мы на это зрелище. Сестра плакала, обе мы чувствовали глубокую обиду за любимый университет, который казался нам оскверненным, и чуяли опасность, грозившую его питомцам. И действительно, студенты были арестованы, переписаны и многие исключены, после чего отец наш подал в отставку и вышел из ректоров.
Последние годы отцовского ректорства прошли в семье очень оживленно. Отпраздновали две свадьбы: сестры Софьи Андреевны и молоденькой племянницы отца, которая жила у нас по зимам после смерти матери. Перед самой помолвкой кузины состоялся домашний спектакль, в котором участвовали на этот раз и мы с Ал. Андр. Присутствие ее и маленького Саши много способствовало общему оживлению. Сестра много занималась ребенком: играла с ним, сама мыла его в ванне и умывала и одевала по утрам, смотрела за тем, как он кушает, шила ему белье и т. д. Но все это делалось легко и весело, без озабоченности и педантизма. По-прежнему раздавался ее веселый смех, сыпались шутки и остроты. Она казалась гораздо моложе своих лет. Фигура ее отличалась чисто девической стройностью, глаза сияли, веселая улыбка то и дело оживляла ее миловидное личико. В то время было в ней много детского. Жизнь ей опять улыбалась, и она не задумывалась над будущим. В эти счастливые годы опять явились у ней поклонники, хотя ухаживали за ней меньше прежнего, так как мужчин пугало ее положение соломенной вдовы с ребенком и без приданого. Когда Саше было около 2-х лет, за сестрой сильно ухаживал один молодой человек, который умолял ее развестись и выйти за него замуж, уверяя, что будет очень любить и Сашу. Но даже и этот аргумент не подействовал. Ал. Андр. совсем не любила этого доброго, но пошловатого малого. Сама она увлекалась не один раз, оставшись без мужа, но только одно ее увлечение было серьезно и заставило ее сильно страдать. Ей было тогда года 24. Она полюбила женатого человека из артистического мира, чрезвычайно талантливого и привлекательного, но совершенно неспособного ее понять. Он довольно сильно за ней ухаживал, но сестра отлично понимала, что никакой любви тут не было. Она совсем разболелась от огорчения. В это-то время отец и вздумал отправить нас с ней и Сашей за границу в сопровождении бабушки и няни Сони. Эта продолжительная поездка развлекла Ал. Андр. Она вернулась уже излеченная от своего бурного, но неглубокого увлечения. Тут явился на сцену Фр. Фел. Кублицкий, человек не изъявительный и довольно робкий, который долго вздыхал по ней, молча, не решаясь заговорить о своих чувствах. Будучи в задорном настроении, Ал. Андреевна кокетничала с ним, не придавая этому никакого значения, и мало-помалу сама увлеклась им. Я должна сказать, что на Ал. Андреевну чрезвычайно действовала бутафория военных людей, особенно гвардейцев. Это свойство сестры и горячий ее темперамент, конечно, и были причиной ее увлечения Фр. Фел., так как в нем не было ничего такого, что действует на воображение: ни красоты, ни удали, ни военного шика, ни сильного темперамента. Это был скромный труженик буржуазного склада, всецело преданный служебному долгу, человек серьезный и далеко не глупый, с верным сердцем, способным на глубокие привязанности, но совершенно лишенный воображения и поэзии. Такому человеку подошла бы добрая, простая жена, хорошая хозяйка непритязательных вкусов, а не такая одухотворенная и сложная женщина с эстетическими наклонностями и порываниями ввысь, какою была сестра моя Ал. Андреевна. Но она была настолько влюблена в своего поклонника, что закрывала глаза на его отрицательные стороны и видела только хорошее. Правда, что под влиянием любви Фр. Фел. очень оживился и его красивые черные глаза приобрели более интересное выражение. К тому же он был из числа тех немногих, которые не побоялись предложить ей руку. А ей казалось, что если она выйдет за любящего и солидного человека, то это положит конец той жажде жизни и тем бурным, легкомысленным порывам, к которым она была очень склонна в то время. Несмотря на привязанность к Францу Феликс, ей нравилось легкое ухаживание, цыганские романсы и ресторанная обстановка. Она считала, что надо остепениться, войти в колею и дать Саше отца. Нашлись близкие люди, которые серьезно отговаривали ее от этого шага и ставили ей на вид, что Фр. Фел. ей совершенно не пара, но были и другие влияния, которые пересилили голоса благоразумия, и, несмотря на то, что было время, когда Ал. Андр. сильно колебалась в своем решении, – роман этот кончился браком. Очень скоро сестра моя поняла, что она сделала большую ошибку, что муж ее, которого она продолжала любить, не даст ей того, чего она от него ожидала, что они во многом друг другу чужды, так как все его главные интересы вращаются в кругу службы, полковой жизни и мелочей домашнего обихода. При всей своей любви к жене, к которой он питал исключительную и нежную привязанность, Фр. Фел. не удовлетворял ее. Вдобавок он оказался очень плохого здоровья. Несмотря на все заботы Ал. Андр., он вечно прихварывал, а по характеру своему не мог служить ей настоящей опорой. Но самое главное было все-таки то, что с первого дня своей новой жизни Ал. Андр. поняла, что ее дорогой мальчик не нужен ее мужу, что он не занимает в его жизни никакого места и ему неинтересен.
Надо признаться, что только при том редком незнании людей и жизни, которым отличалась наша семья, можно было не предвидеть, что именно таково будет отношение Фр. Фел. к Саше. Во время своего ухаживания и жениховства он ни разу не поиграл с ним, не попробовал заговорить с ним, не поинтересовался его играми и занятиями. И никто не обратил на это внимания и не задумался над этим фактом. Поистине в этом нужно было винить нас самих, а не самого Фр. Фел., так как он никогда не притворялся и о своих чувствах к Саше не говорил. Помню, как отец наш, особенно желавший этого брака, сказал Ал. Андр., очень скоро после ее замужества: "Ну, Франц не отец, это уж видно". Слова эти разбередили ту рану, которая была в сердце его дочери. Она жестоко скорбела об отношении мужа к Саше и склонна была видеть враждебность там, где было только одно равнодушие или просто нежелание поступиться своим покоем ради ребенка. Саша мешал ему, раздражал его, но это было не из дурного чувства.
Я думаю, что если бы Фр. Фел. полюбил Сашу, заинтересовался им и входил бы во все мелочи его обихода, даже не касаясь его умственной жизни, все было бы по-другому. Ал. Андр. помирилась бы со всеми недостатками его характера и пробелами его образования и развития, тем более, что в нем были качества, редкие для военного человека: ни малейшего фанфаронства, никакого презрения к "штрюкам" (он даже никогда не произносил этого слова), великое уважение к науке, к которой у него были, между прочим, серьезные склонности, уважение к литературе, в которой он был совершенный профан. Он прекрасно относился к нашей семье, отличался необыкновенной простотой, отсутствием ложного стыда и излишнего самолюбия, и бывал очень мил в интимном кругу, когда чувствовал вокруг себя благожелательную атмосферу. Прибавлю к этому, что он был далеко не заурядный офицер – честный и очень знающий, к обязанностям своим он относился с редкой добросовестностью, все, что касается службы, устава, военных сведений, изучал досконально, к солдатам относился прекрасно: чрезвычайно заботливо и серьезно; правда, он был не прочь от зуботычин, но таковы уж были традиции тогдашней военной среды, а впрочем от этой привычки быстро отучила его жена, которая вообще имела на него хорошее влияние. Солдаты его любили и уважали, и вообще он был человек, вполне достойный уважения, хотя и неинтересный. Повторяю, что сестра моя простила бы ему и отсутствие поэзии и литературности, и все остальное – если бы он полюбил Сашу. Но этого-то и не было…
Ал. Андреевна принадлежала к числу тех людей, которые относятся к себе строго и склонны не оправдывать, а обвинять себя. В данном случае она осудила себя бесповоротно и считала, что, вступив в этот брак, не только лишила сына того, что давала ему наша семья, но еще и заставила его страдать от отношения к нему отчима и от той среды, в которую попал он по ее милости. Эта мысль преследовала сестру, все глубже растравляя ее рану. Все, что она видела в полку, за немногими исключениями, казалось ей безобразным. Она полюбила только романтическую сторону военных традиций, к которым с полным равнодушием относились офицеры, восторженно приветствовала рыцарские обычаи, уцелевшие от старины, умилялась до слез почестям, воздаваемым полковому знамени, и, конечно, с гордостью и любовью смотрела, как муж ее едет на статном коне во главе своего батальона, отправляясь на военную прогулку или в лагерь. Фр. Феликс, хорошо ездил верхом и очень непринужденно держался на лошади, так что жена его, смотря на него из окна, чувствовала себя почти, как шатлэна [36], провожающая своего рыцаря. Но при всей влюбленности в мужа-офицера она не могла полюбить того, что ее окружало в полку. После исключительной атмосферы нашей семьи, пропитанной духовными интересами и идеализмом, ее охватила людская пошлость во всей ее беззастенчивой откровенности, причем она видела, что муж ее, который сам был значительно выше большинства своих товарищей и уж отнюдь не пошляк, нисколько не страдает от той грязи и низкопробности, которая его окружает, и чувствует себя в полку, как рыба в воде. Ее литературные интересы были ему чужды. Ей не к кому было обратиться со своими духовными запросами, не с кем посоветоваться относительно сына. Под влиянием всех этих открытий и разочарований Ал. Андреевна стала сильно задумываться, и мало-помалу в ней произошел перелом, изменивший весь ее духовный и нравственный облик.
Те, кто знал ее до 30 лет, считали ее легкомысленной женщиной, ищущей развлечений, с узкими, семейно-женскими интересами, не способной ни на глубокое чувство, ни на серьезную мысль. Суждения такого рода были, конечно, поверхностны и близоруки, но все же надо сказать, что до некоторой степени поведение ее, темы разговоров и круг интересов того времени давали повод для таких заключений. Легкомыслие в ней действительно было, с мужчинами она держала себя очень кокетливо, серьезными темами не интересовалась. Началось с того, что, выйдя замуж за Фр. Фел., Ал. Андр. действительно остепенилась. В 28 лет она была еще очень привлекательна и моложава, но после замужества совершенно оставила кокетство и держала себя так, что в полку, где разврат и всяческие измены были в большом ходу, никому и в голову не приходило отнестись к ней неуважительно или начать за ней ухаживать. О ней даже не сплетничали. Для этого ей не нужно было и стараться. Во-первых, она любила мужа, а во-вторых, была из тех женщин, которые органически неспособны изменить или обмануть. Впрочем, эта особенность не так для нее характерна: часто бывают женщины, которые ведут себя до брака довольно легкомысленно, а после замужества делаются добродетельными женами. Не эту перемену имела я в виду, говоря о том переломе, который совершился в Ал. Андр. после второго брака. Изменился весь строй ее. Она стала вообще несравненно серьезнее, глубже, и духовные интересы приобрели первенствующее значение в ее жизни. Прежде всего это отразилось на ее настроении. Ее беспечная веселость и беззаботность исчезли, она разочаровалась в людях, стала безнадежно смотреть на жизнь и впала в уныние. В 31 год, когда Саше было 11 лет, написала она стихотворение, которое ярко рисует ее тогдашнее состояние. Стихи эти, как и все, что писала Ал. Андр. во вторую половину своей жизни, были известны до сих пор только мне. Форма их, конечно, слаба, но вложенное в них чувство выражено с такой силой и простотой, что они заслуживают внимания читателей, а потому я привожу их здесь целиком.
О господи, приди на помощь
Душе страдающей моей!
Ни грез, ни цели, ни мечтанья,
Все понято, постыло все,
Мне в жизни нет очарованья,
Уж я взяла от жизни все.
Все счастье было в обольщеньи,
Обман и грезы юных лет,
Теперь, в тоске и в исступленьи,
Я поняла, что жизни нет.
Но есть на свете цветик милый,
Мое дитя, мой голубок, –
Мой дух мятежный и унылый
С тобой одним не одинок.
И вот, при мысли, что настанет
И для него тот мрачный день,
Когда он верить перестанет,
И тяжкой ненависти тень
На душу ляжет молодую
И осенит ее, родную…
Вот эта мысль меня томит,
Меня гнетет, мой ум мутит,
И сердце так она терзает,
Что скоро от напора дум
Совсем померкнет бедный ум
И сердце, истекая кровью,
Все изойдет своей любовью.
14 декабря 1892 года
Как раз в описываемую мною пору Ал. Андр. начала увлекаться Бодлером, в поэзии которого находила отголоски своих тогдашних настроений: стремление к неведомому и нездешнему, мрачный пессимизм и отрицание жизни. Бодлер был тогда ее любимым писателем. Она так сроднилась с его поэзией, что усвоила его манеру и ритм и написала стихи, которые начинаются со строчки, взятой из середины его стихотворения "Moesta et errabunda" {Грустные и неприкаянные [мысли] (лат.).} из "Цветов зла". Эту строчку выбрала она и эпиграфом к своим стихам, которые я привожу и для характеристики ее тогдашнего настроения, и как образчик подражания духу и ритму поэта без заимствования содержания и эпитетов. Вот эти стихи:
ПАМЯТИ БОДЛЕРА
Comme tu est loin, paradis parfume.
Ch. Baudelaire.
Как ты далек, благоуханный рай,
Где все лазурь, блаженство, упованье,
Где вечный блеск, и вечное сиянье,
Как ты далек благоуханный рай…
Прозрачный дух лучами напоен,
И нет конца, и нет ему предела,
Там, высоко, без формы и без тела
Прозрачный дух лучами напоен,
Тебе молюсь, святыня красоты,
Любви нездешней тайное виденье,
К тебе восторг, и слезы, и стремленье…
Тебе молюсь, святыня красоты.
Но в серой мгле тоскующей души
Твой луч блестит, как отблеск отраженья,
В бессильной мгле тоскующей души.
Манит, влечет и будит исступленье.
О, где ты, где, благоуханный рай?
Моей души коснись своим дыханьем,
Окрестный мрак развей своим блистаньем,
О, где ты, где, благоуханный рай?!…
21 февраля 1896 г.
Прием повторения первой строчки каждой строфы в конце ее Ал. Андр. заимствовала из вдохновившего ее стихотворения Бодлера. Она сохранила и ритм его, насколько это возможно при различии метров и всей конструкции русского и французского языков.
Интересно, что свое пристрастие к Бодлеру Ал. Андр. сумела передать даже отцу, который отличался вообще ясным миросозерцанием и не был склонен к пессимизму. Он зачитывался бодлеровскими стихотворениями в прозе, такими вещами, как "Химеры" и "Облака". Это объясняется тем, что после смерти исключительно любимой им старшей дочери он особенно сблизился с Ал. Андреевной, и она имела на него большое влияние.
Не следует думать, однако, что угнетенное состояние Ал. Андр. имело характер апатии или отражалось на образе ее жизни. Она оставалась все той же деятельной, умелой и оживленной хозяйкой, любила свой дом, радушно принимала гостей и т. д. Она утратила свою беззаботность и беспечность, но не потеряла способности смеяться, шутить и радоваться тому, что ценила она в жизни, не исключая и мелочей своего домашнего обихода. Покупки, устройство новых квартир, прогулки с мужем, – все это продолжало ее занимать. По наружному виду ее, по манере держать себя никто бы не подумал, что делается в глубине ее души, и какие мучительные думы охватывают ее в минуты уединения. Об этом лучше всего знала, конечно, я, но иногда настроение сестры прорывалось вспышками озлобления и приступами мрачной тоски.
В 1896 году, которым помечено приведенное мною стихотворение, мрачное настроение сестры приняло угрожающие размеры, являя все признаки нервного расстройства. У Ал. Андр. стали делаться припадки эпилептического характера, которые сопровождались предварительным периодом прозрения, начинались с краткого беспамятства и кончались мучительным состоянием безысходной тоски и близкого к безумию чувства оторванности от остального мира. Вечная тревога, меланхолия, доходящая до мании самоубийства, и склонность к трагическому восприятию всех явлений жизни – вот картина ее тогдашнего состояния. Сильные боли в области сердца и тяжелые припадки заставили сестру обратиться к доктору. У нее нашли явно обозначенный и сильно развившийся порок сердца (недоразвитие обоих сердечных клапанов) и предписали лечение углекислыми ваннами в курорте Наугейм. Ванны очень помогли Ал. Андр., тем более, что она была тогда еще достаточно молода, чтобы воспринимать лечение. Ей было 36 лет. Деятельность сердца урегулировалась, до некоторой степени успокоились и нервы.
Касаясь нашего пребывания в Наугейме в 1897 году, я уже упоминала, что сестра очень беспокоилась по поводу Сашиного романа. Тревога эта была, конечно, напрасна и вызвана в значительной мере ее болезненной способностью принимать все трагически. Впрочем, Ал. Андр. была вообще склонна беспокоиться за сына. Она часто преувеличивала его болезни, вечно боялась, что он простудится по дороге в гимназию и обратно и т. д. Эти преувеличенные страхи за свое детище унаследовала она от нашего отца, который доходил в этом отношении до последней крайности, причем никогда не страдал нервным расстройством, а просто давал волю своим непосредственным и очень горячим чувствам. Ал. Андр. при всей своей нервности старалась все-таки сдерживаться в этом отношении, но все же, что называется, дрожала над сыном, особенно в детстве. Доказательством ее мнительности относительно его здоровья может служить следующий анекдотический случай: когда Саше было лет 20, она уговорила его обратиться к специалисту по сердечным болезням доктору Кернигу. Осмотрев Сашу, доктор сказал матери: "Грешно лечить этого молодого человека".
События, последовавшие за нашим возвращением из Наугейма, не способствовали успокоению Ал. Андреевны. В это лето отца нашего разбил паралич. До конца своей жизни он остался без ног и без языка и впал в детство. Еще весной он был полон сил, занимался наукой, читал лекции, всем интересовался, а в начале лета был постоянным спутником внуков во всех их прогулках. Отныне его поддержка и бодрящее с ним общение были потеряны. Нам приходилось переносить лишь причуды трудного больного, требующего постоянного внимания и забот. В 1900 г. уехала в Сибирь сестра Софья Андр. вместе с мужем и обоими сыновьями, товарищами Сашиных игр и любимцами Ал. Андр. Расставанье с ними было для нее большим горем. Она заливалась слезами в последний день их пребывания в Шахматове перед отъездом в Сибирь. Несмотря на то, что в год их отъезда Саше было уже почти 20 лет, а им 17 и 15, он еще охотно проводил с ними время, предаваясь самым невинным и веселым мальчишеским дурачествам. Без них исчез элемент этого здорового веселья. Теперь вполне ясное и жизнерадостное настроение исходило только от бабушки, так как запас ее жизненных сил был неиссякаем: они били ключом почти до последних дней ее жизни. Все эти испытания еще более расшатали нервы Ал. Андр. В пору возмужалости сына и расцвета его поэтического дара мать испытала живейшие радости, но не стала уравновешенней. Особенно тяжело доставались ей темные зимние месяцы. Хуже всего чувствовала она себя в ноябре и так же, как сын ее, очень рано начинала ощущать приближение весны, которая всегда ее ободряла. Это было ее любимое время года. Особенно радовалась она весенним цветам и в Шахматове, во время цветения яблонь, приходила в восторженное состояние, которое тоже носило подчас характер не совсем нормальной приподнятости.
Этот этап ее жизни был отмечен по преимуществу мистическим, религиозным характером. Усиленный интерес к религии, одно время почти заглохший, проявился теперь в новой форме. Ее не удовлетворяло обычное отношение к религии, она искала нового направления и новых путей. Ее внимание было обращено исключительно на духовную сторону. Не уклоняясь от христианства, она воспринимала его только как религию духа. Нравственная проповедь Христа перестала ее занимать. Она принимала только общий закон любви, понимая его не как закон милосердия и сострадания, а как стремление передать другой душе любовь к богу. "Жизнь должна быть религиозна, – говорила она, – и все должно исходить от религии, самое искусство должно быть религиозно". При этом она имела в виду, конечно, не религиозные темы и сюжеты, а теургичность искусства, отношение к нему как священнодействию. Все более и более влекло ее к мистике, к тайне. Она везде искала тайных причин и мистических влияний, чем дальше, тем больше верила она в мир нереальный, все меньше придавая значения фактам, и не раз говорила, что мир нереальный гораздо достовернее реального, что только он и действителен, только он и важен. Все эти мысли и чувства привели ее к философии, интерес к которой вырос в ней с большой быстротой. Замечательно то, что сестра никогда не занималась философией, не знала ни философских терминов, ни теорий, но интуитивным путем понимала очень много приходя самостоятельно к своеобразным и смелым выводам. Ум ее принимал все более и более отвлеченный характер. Ее занимали общие темы, людей воспринимала она как явления, стремясь к обобщениям, к выводам философского характера, при этом она пребывала или в угнетенно-мрачном или в приподнятом настроении, легко впадая в раздражительность при всяком противоречии. В моменты подъема у нее являлись счастливые мысли и красноречие, которыми она обезоруживала не очень находчивых и смелых противников. Многие пасовали перед ее оригинальной аргументацией и страстными выпадами.
В эту критическую и интересную пору своей жизни у Ал. Андр. явилась склонность к прозелитизму. Она старалась привить свои идеи всякому, кто соглашался ее слушать, выбирая подчас людей, весь склад которых был диаметрально противоположен ее собственному, и делала это со страстью, упорно добиваясь своей цели. В своих проповеднических попытках она бывала часто резка, беспощадна, властно врывалась в душу своего собеседника, опрокидывала все условные перегородки и произносила беспощадные приговоры и суждения в форме, не допускающей никаких возражений. Одних она отталкивала и оскорбляла своей деспотической нетерпимостью и беспощадностью, других увлекала и восхищала своей искренностью, горячностью и блеском талантливых обобщений и парадоксов. Иные, ошеломленные с первого раза, все-таки подпадали под ее обаяние и приходили к ней снова, желая приобщиться к той напряженной, грозовой атмосфере, насыщенной электричеством, которую она создавала вокруг себя. У нее были в то время страстные поклонницы, молодые девушки и женщины, которые смотрели на нее с обожанием и не могли наслушаться ее разговоров, но, с другой стороны, она возбуждала недоумение, холодную насмешку и осуждение. Так бывало, например, на каких-нибудь родственных сборищах, где она врывалась в банальную полусветскую болтовню со своими филиппиками и проповедями, прицепившись к какому-нибудь общепринятому мнению, заимствованному из "Нового Времени". Кругом нее пожимали плечами, хозяйка старалась переменить разговор или смягчить производимое ею впечатление, какая-нибудь трезвенная и уравновешенная родственница говорила ей в удобную минуту: "Ну, что, всех разудивила?", принимая ее страстные речи за оригинальничанье. Бывали случаи, когда она сама начинала просить прощенья у какой-нибудь доброжелательной гостьи, на которую слишком уже налетала. Ее искреннее раскаяние всегда обезоруживало, большинство прощало ей ее резкости, тем более, что ее нападения никогда не носили личного характера и всегда касались общих и отвлеченных тем. Говорила она о религии, об искусстве вообще, и в частности о новой литературе, к которой так враждебно относилась тогда широкая публика, обвиняла в равнодушии, в презрительном отношении к русскому искусству, которое даже не пыталась узнать, судя о нем исключительно по газетам. В свое время распиналась она за так называемых декадентов, начиная с Мережковского и З. Гиппиус и кончая Андреем Белым и Брюсовым, а позднее и Блоком. Московский Художественный театр, травимый "Новым Временем", выставки "Мира Искусства", особенно Врубеля – все это находило в ней страстную и вдохновенную защитницу. Понятно, что весь этот бунт нелегко доставался Ал. Андреевне. Она чувствовала себя глубоко одинокой, силы ее исчерпывались, и душа опустошалась после описанных мною боевых споров.
Отношение Ал. Андреевны к людям во вторую половину ее жизни сделалось резко отрицательным. Она говорила, что человек еще на такой низкой степени развития, что пройдут нескончаемые века, прежде чем он сделается действительно человеком, а пока еще преобладают в нем дурные инстинкты. Она доходила до того, что говорила мне: "Это случайность, что человек занял первенствующее место в природе". И все это не мешало ей, во-первых, интересоваться людьми, во-вторых, искать их общества. Она говорила так: "Я не люблю людей, но жить без них не могу. Вот и пойми меня". Насколько я понимаю, она не столько не любила людей, сколько ненавидела их темные и пошлые стороны, относясь к ним с болезненной брезгливостью и нетерпением. Впрочем, она легко прощала пороки и крупные недостатки, но не выносила пошлости, самодовольства, сытости и лганья. Презрение к людям вообще не мешало Ал. Андр. хорошо относиться к отдельным лицам. У нее были друзья, которых она очень любила, вообще же даже по отношению к людям, далеко ее не удовлетворявшим, она выказывала много участия, помогая деньгами, советами, деятельно хлопотала о получении места, оказывала свое содействие в разных трудных случаях жизни, словом, охотно оказывала услуги. Ее отношение к людям можно определить так: она была к ним строга, но не равнодушна. При таком отношении ей очень по душе пришелся Ницше, из которого она знала только "Так говорит Заратустра". Ее собственные мысли о том, что сострадание не нужно, что слово "жалость" и "жалкий" надо оставить, вполне сходились с его идеями.
Само собой разумеется, что Ал. Андр. ревностно посещала религиозно-философские собрания, с надеждой и верой слушая дебаты Мережковского и других неохристиан с представителями официальной церкви. Всем сердцем чувствовала она, что современная жизнь требует коренного обновления и, полагая, что это обновление должно быть религиозным, искала новых путей в религии. Она ловила все новые течения, жадно прислушивалась к словам всех людей с оригинальным направлением идей и проповедническим складом, которые встречались на ее пути. Наибольшее значение для нее в этом смысле имел Андрей Белый. На нее производила впечатление самая музыка его мистицизма, его глубоко художественный склад, бестелесность его потусторонних устремлений и какая-то нечеловеческая одухотворенность его облика. Его "Симфонии", стихи и статьи были ей бесконечно близки. Конечно, далеко не все, что он говорил, было ей понятно. В юношеские годы Андрей Белый загромождал свою речь специальными терминами и ссылками на философов, и при всей своей ранней осведомленности он еще не настолько овладел тогда философией, чтобы уметь вполне ясно и выпукло излагать свои мысли. При всей их гениальной талантливости в его речах было тогда немало излишнего балласта, затруднявшего их понимание, особенно для непосвященных. Но многое из того, что он говорил, Ал. Андр. схватывала на лету интуицией и слагала в сердце своем. Таково было ее отношение к идеям Андрея Белого в пору их первого знакомства.
Был еще один человек, идеи которого увлекали Ал. Андр., хотя его влияние было далеко не так сильно, как влияние А. Белого. Это был упомянутый в моей биографии композитор и мыслитель С. В. Панченко, человек уже зрелого возраста, который познакомился с семьей Ал. Андр., когда Саше было лет 20 или немногим больше. Так же, как мистики конца 19-го и начала 20-го века, он чувствовал наступление новой эры и близких переворотов. Его идеи о будущем человечества, о "новом царстве", были гораздо конкретнее и выражались в виде законченных формулировок. "В моем царстве все будет позволено, в моем царстве не будет семьи", – говорил он. То, из чего он исходил, было чуждо Ал. Андр., но некоторые частности его учения она принимала. Он считал, что христианство отжило свой век, почитая Христа как одного из величайших учителей жизни, он отрицал его божественность в христианском смысле, но обожествлял в нем человека. Бога он признавал только как животворящее начало, отрицая религиозный культ и молитву. Все это, разумеется, было чуждо Ал. Андр., но его идеи о вреде семейного начала, о свободе путей и т. д. ей были близки. Одна из его излюбленных формул: "Не живите семьями", – была тогда очень в ходу в нашем обиходе. К женщинам он относился беспощадно, считая их органическими врагами своих детей. Отцов он тоже не хвалил, но матерям доставалось особенно сильно. И в этом Ал. Андр. видела много правды, хотя в конце концов его отношение стало ее оскорблять. Идеи его в общем не казались ей новыми и не удовлетворяли ее по существу, так что, несмотря на весь ум и своеобразность этого бескорыстного искателя новых путей, мало-помалу произошло охлаждение и расхождение. Во многих пунктах Ал. Андр., да и все мы расходились с Панченко, одним из главных было его отрицательное отношение к России. Но было время, когда Панченко имел несомненное влияние на Ал. Андр. и на Сашу. Во всяком случае, с ним считались и к мнениям его прислушивались. Очень закупало всех его отношение к Саше, которого он нежно любил, восхищаясь и наружностью его, и детской чистотой, и умом, и талантом, хотя жестоко критиковал форму его стихов, – в значительной мере из педагогии, чтобы не захваливать "дету". "Детами" называл он юношей, между которыми было у него много друзей. Раза два встречался он у Ал. Андр. с А. Белым, и сразу оба они друг друга, что называется, невзлюбили. Разумеется, А. Белый был глубоко чужд Панченко, но одной из главных причин неприязни к нему была попросту ревность, так как с появлением Бор. Ник., тогда еще столь юного, взоры главных действующих лиц обратились к нему, и звезда Панченко понемногу померкла. Надо сказать правду, что Панченко бывал часто неприятен, резок, не уважителен к чужим мнениям, но все же это был крупный и широкий человек, и потому жаль, что он не сумел удержать своего места около Ал. Блока и его матери. Я уделила ему так много места потому, что он почти неизвестен, а упоминание о нем в "Эпопее" А. Белого страдает односторонностью [37].
Но перейду теперь к другим учителям жизни Ал. Андр. Мережковский был для нее одно время большим авторитетом, но после 1905 года, когда он вдался в политику и в общественность, она к нему охладела, находя, что он пошел не по своей дороге, а в деле общественности выказал полное непонимание и трусливую робость тепличного человека. Оценка, сделанная ему в "Эпопее" А. Белым [38], вполне отвечает мнению, составленному о нем Ал. Андр. В свое время она зачитывалась и трилогией, и "Вечными спутниками", и "Толстым и Достоевским", и другими его книгами, но понемногу ей стало приедаться его жонглирование словами и вечные антитезы, так остроумно высмеянные Евреиновым в "Кривом Зеркале" {"Кавказ и Меркурий", "Малинин и Буренин" и, наконец, "Вихри встаньте", из которых путем перестановки слогов выходит "антихрист" [39].}. К Розанову Ал. Андр. относилась с большим интересом и симпатией. Признавая его недостатки, она считала его гениальным, и многое в нем ей было особенно близко. Между прочим, она очень ценила "Опавшие листья", а в том заседании рел.-фил. общества, когда Мережковский после дела Бейлиса поднял кампанию против Розанова и исключил его из общества [40], Ал. Андр. глубоко возмущалась таким вторжением политики в сферу религии и философии и, хотя не могла сочувствовать двусмысленному поведению Розанова, писавшего в двух газетах диаметрально противоположное под разными именами [41], демонстративно подошла к Розанову, с которым не была знакома, и подала ему руку в знак сочувствия, сказав ему несколько объяснительных слов. Кстати, замечу, что то письмо в редакцию журнала "Новый путь", которое не появилось в печати и было подписано "Алчущая и жаждущая", принадлежит Ал. Андр. {См. "Ранний Блок" Перцова [42].}
Да, она была поистине "алчущая и жаждущая правды" и, как все таковые, беспрестанно терялась в сомнениях и колебалась, ища точки опоры. Сколько раз после какого-нибудь разговора, в котором она, казалось бы, с ярым убеждением высказывала какое-нибудь мнение, она говорила мне: "Я ничего не знаю, я ни в чем не уверена". Так было и в религии. Если я задавала ей какой-нибудь прямой вопрос, напр., верит ли она в воскресение Христа, она отвечала: "не знаю, иногда верю, иногда нет". Но в бога и в победу света над тьмой она верила неизменно. И несмотря на все это, как справедливо заметил А. Белый в своей "Эпопее", – "за скепсисом у Ал. Андр. огромная вера, надежда на "Главное". Говоря о боге, Ал. Андр. высказывала и такой взгляд: "Кто верит в бога, тот верит и в черта". О вмешательстве бесов в нашу жизнь она говорила с полной уверенностью, видя его на каждому шагу, и свои дурные порывы, мысли и поступки приписывала их влиянию. И это не в переносном, а в самом конкретном смысле: "Я великая грешница, – говорила она, – я хорошо знаю черта". Но путь греха считала она столь же нужным, как путь страданий, думая, что, только изведав глубину падения, можно прийти к просветлению и к правде. Тревожный дух, не удовлетворяющийся настоящим и общепринятым, способность ненавидеть, или, вернее, негодовать, – она предпочитала спокойствию и терпимости, принимая то и другое за признак равнодушия и пассивное отношение к жизни, за безразличие, которое мирится с неправдой.
Но вообще жизнь, такую, как она теперь есть на земле, не полюбила Ал. Андр. во вторую половину своего земного пути и много и часто думала о смерти. Три раза покушалась она на свою жизнь, но по разным причинам это ей не удавалось. Эти попытки покончить с собой, конечно, указывали на ее ненормальность, так как трудно представить, чтобы душевно здоровая мать не пожелала жить, имея такого сына, какой был у Ал. Андр, любя его так, как она его любила, и зная, что и он ее любит. Но в том-то и дело, что ей казалось порой (конечно, только казалось), что он уже не любит ее, что она ему не нужна и он от нее отошел.
ГЛАВА III Революционный дух. Ревель [43].
Первая санатория. Тяжелые дни.
Среди всех описанных мною изменений в настроении и чувствах Ал. Андр., подошел 1905 г., который имел в ее жизни очень большое значение и довершил начавшийся в ней перелом. Традиции отцовского ректорства не пропали бесследно. Несмотря на то, что университет был сильно испорчен новым уставом, Ал. Андр. всегда предпочитала его специальным и в особенности привилегированным заведениям: к последним она по традициям нашего дома относилась с недоверием и антипатией. Но, выйдя замуж за Фр. Феликс, сестра не стала ни либеральнее, ни осведомленнее в политике. Выписывала она "Новое Время", причем читала только фельетоны да отчеты о пьесах и книгах. Тут узнала она, между прочим, и Розанова. Под влиянием мужа Ал. Андр. сделалась одно время настоящей монархисткой. Она благодушно относилась к Александру III и даже приняла его смерть и похороны за большое событие, Николая II прямо-таки полюбила, как любили его все военные, в особенности гвардейцы. Только в годину студенческих волнений, в начале 90-х годов, особенно после знаменитой истории с избиением студентов на Казанской площади, в ней проснулись чувства дочери либерального ректора. Этот момент она пережила остро и горячо, негодуя вместе со всеми сколько-нибудь сознательными элементами Петербурга.
Когда наступила японская война, Ал. Андр. стала пристальнее читать газеты – и не из личных чувств, так как Фр. Феликс, как и большинство гвардейцев, в этой войне не участвовал. Ее сильно волновали наши неудачи, падение Порт-Артура, Цусима, но она еще безусловно верила "Новому Времени" и до последней минуты думала, что мы победим. Но уже в зиму 1904 г. она почуяла какие-то новые веяния и стала глухо волноваться так же, как Саша. Этому много способствовало то, что они жили в фабричном районе. Почти рядом с казармами была тюлевая фабрика, а за рекой напротив – заводы Нобеля и Лесснера. После 9-го января Ал. Андр. резко переменила свое отношение к царю и к старому режиму. Все это она сразу возненавидела. В утро 9-го января она ходила со мной по улицам, сама видела безоружных и торжественно настроенных рабочих, а потом услышала трескотню пулеметов и ружейные залпы и прежде многих узнала о подробностях расстрела рабочих. Великая нежность к обманутым и пострадавшим рабочим, ярая вражда к военщине и полиции – все это с силой вспыхнуло в ее жарком сердце. Ей было очень тяжело, что муж ее должен стоять во главе одного из постов, охраняющих переход через Неву, что ему предстоит, быть может, расстреливать рабочих. К счастью, последнего не случилось. Фр. Феликс, не пришлось даже арестовывать, сколько я помню. Сам он был против кровавых расправ, но к рабочим все-таки относился как все военные, т. е. презрительно и недоверчиво. На революционный пыл, загоревшийся в душах его жены и пасынка, смотрел он как на безумие, и в кругу семьи и близких знакомых был очень резок и даже груб, когда дело касалось политики. Этим и объясняется тот вызывающий тон по отношению к отчиму, который заметил А. Белый у Саши после 9-го января. Я говорю, разумеется, об описании этих дней в "Эпопее" [44]. Для Фр. Феликс. А. Белый был совершенно чужим человеком, при котором он стеснялся выражать свои чувства и мнения. При всем своем миролюбии и отсутствии боевого задора Фр. Феликс, нежно любил военную среду, товарищей, полк, царский режим и т. д., вполне закрывая глаза на недостатки всего перечисленного мною. Понятно, что, будучи правоверным военным, он стоял на стороне царя, его слуг и войска и испытывал враждебные чувства к революционно настроенной оппозиции, а в особенности к студентам, которых в широких кругах буржуазии считали отверженцами и бунтарями. Семейный мир был в то время нарушен. Саша, вообще любивший своего отчима с детства, теперь настроен был против него враждебно, Ал. Андр. тоже, а сам Фр. Феликсович платил им той же монетой.
И все-таки под влиянием жены он иногда колебался и очень страдал от необходимости исполнять свои полицейские обязанности, ходить на дежурство во главе отряда с предписанием применять вооруженную силу в случае сопротивления и т. д. Незадолго до 17-го октября, когда ходили самые тревожные слухи и ждали вооруженного восстания, он то сердился и раздражался по всякому ничтожному поводу, то впадал в уныние. Жена умоляла его выйти в отставку, но он не решился на это. Ведь колебания его не имели серьезной подкладки, он был только против кровавой расправы, да и то больше по миролюбию и слабонервности, а не по убеждению. Его пугала также возможность потерять любовь жены, если бы ему пришлось стать участником насилий и притеснений, но то, что он защищал, было ему близко и дорого.
Тем временем произошла размолвка Ал. Андр. с Серг. Мих. Соловьевым, послужившая поводом к ссоре с А. Белым. Немного погодя состоялось письменное примирение, но неприятное письмо Бор. Ник. к Саше, о котором я упоминала в первой части этой книги, оттолкнуло Ал. Андреевну. Однако после примирения его с Блоками она вернула ему свое расположение.
В конце концов отношение сестры моей к А. Белому осталось почти неизменным. Во время более серьезных конфликтов с ним Ал. Алекс-ича она была, конечно, на стороне сына, но так же, как и он, продолжала ценить его как писателя и мыслителя. Как человека, она во многом его не одобряла, но все же у нее было к нему очень теплое чувство, что и проявилось во время ее последних свиданий с ним.
Что касается политических событий 1905-1906 года, то все они были приняты Ал. Андр. с горячим сочувствием к революционерам. И 17-го октября, и последние забастовки – все ее радовало и восхищало. Открытие Государственной Думы в 1906 г. тоже было встречено радостно. Все первые газетные известия, описание открытия и отчеты первых заседаний они с Сашей читали, бледнея от умиления, но с Фр. Феликс, происходили по этому поводу жестокие споры. В дальнейшем отношение Ал. Андр. к Гос. Думе, совершенно сходное с отношением Ал. Ал-ича, стало охладевать. Деловая сторона заседаний ее не интересовала, она следила только за оппозиционным элементом, ища в нем революционное начало, стала выписывать "Речь", возненавидела "Новое Время" и вначале до некоторой степени увлеклась кадетами, но в конечном итоге кадеты были ей несимпатичны. Она признавала их только в боевые минуты, но их западничество и умеренная идеология были ей чужды. По натуре своей она была анархистка и признавала только крайности. В конце концов она невзлюбила Милюкова и предпочитала ему неистового Пуришкевича [45], который казался ей искреннее и горячее. Кадетское джентльменство ее не пленяло, и она кончила тем, что "кадет" и "кадетство" сделались в ее устах чем-то вроде бранного или, во всяком случае, очень нелестного слова. Под именем "кадетства" подразумевала она позитивизм, антирелигиозное начало, устарелый либерализм, половинчатость и все недостатки интеллигентов. Западничество, свойственное кадетам, вообще ей было несимпатично. К России относилась она приблизительно так же, как ее сын. Она любила Россию органически, так сказать, нутром. Ей была бесконечно мила русская природа, русский склад души, русская литература. При всей любви к иностранным писателям она все-таки считала, что самая богатая и значительная литература все-таки русская. Она говорила, что русские писатели, конечно, не так культурны, как иностранные, что у них гораздо меньше искусства, но они всегда пророки и проповедники и всегда революционны. Желая выказать свою антипатию к Тургеневу или Бальмонту, она говорила: "Это не русский писатель, это не русский поэт". И в то же время, не задумываясь, говорила, что Флобер тем и хорош, что он не похож на француза, а Шекспир не англичанин, потому что принадлежат всему миру.
Русскую поэзию считала она поэзией "par excellence" {По преимуществу (фр.).}, русской музыкой тоже чрезвычайно гордилась, но при всем этом у нее не было того шовинистического или государственного патриотизма, который желает военной славы и мощи отечества ‹…› С бесконечным умилением повторяла она тютчевские стихи:
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя… [46]
и другие:
Умом России не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Александру Андреевну эта вера в Россию никогда не покидала, несмотря на то, что она подчас очень сердилась на русскую некультурность, неряшливость и т. д. Недаром А. Белый посвятил ей в 1920 году свои стихи "Россия".
Кипи, роковая стихия!
В волнах громового огня!
Россия, Россия, Россия, –
Безумствуй, сжигая меня!…
и т. д [47]
Однако, при всем своем пристрастии к России, Ал. Андр. не была слепа к нашим недостаткам и умела ценить прекрасное и в чужом. Осенью 1907 г. она уехала Ревель вместе с мужем, который получил назначение командира одного из стоящих там армейских полков. Расставание с сыном Ал. Андр. перенесла трудно, но твердо решив, что будет помогать мужу делать карьеру. Но это оказалось ей не по силам. Во-первых, все, что было в Ревеле русского, ей не нравилось. Она нашла, что армейские офицеры лучше гвардейских, потому что проще их, без претензий и не так самоуверенны, но полковое общество ее совсем не удовлетворило. Она старалась сближаться с полковыми дамами, кое с кем даже сошлась, но сильно мешало ее положение командирши. Ее боялись и чуждались тем более, что ее интересы были слишком серьезны для большинства дам да и мужчин. Ее считали синим чулком и революционеркой, были даже доносы. Губернатор боялся подать ей руку, думая, что она бросит в него бомбу, жандармские адъютанты на вечерах занимались провокацией, задавая ей трудные вопросы. Одно время ближайший начальник ее мужа, генерал Пыхачев, потребовал ее немедленного удаления из Ревеля. Дело это замяли благодаря связям Фр. Феликс, в Петербурге, и следующий начальник, вскоре сменивший Пыхачева, выказал даже особую благосклонность к Ал. Андр., так как оказался не в пример предыдущему человеком умным, культурным и не трусом. Жаль, однако, что Ал. Андр. осталась в Ревеле. Житье ее там, продолжавшееся три с половиной года, не принесло ей ничего хорошего.
Всякий раз, когда я к ней приезжала, у меня оставалось самое грустное впечатление от моего посещения. Помню ее бесконечно печальное лицо и наши поездки в санях через город по берегу моря. И эти поездки, и наши с ней разговоры – все проникнуто было щемящей, безысходной тоской. Когда она сама приезжала в Петербург, ей было не легче. Она чувствовала себя выбитой из колеи, без почвы под ногами. Радовалась только во время переезда к сыну, а при нем эта радость быстро потухала. Ей казалось, что здесь она не у места, а там у нее нет своего дома. Единственной отрадой ее, кроме частых писем сына и редких его посещений, были впечатления от живописной ревельской старины и моря. Она охотно ходила по городу и каталась на паре прекрасных лошадей, составлявших собственность полкового командира, восхищалась видом ревельских улиц, старинными соборами и башнями ‹…› Но жилось ей еще гораздо труднее, чем в Петербурге. Во-первых, она безумно тосковала по сыну, во-вторых, все, что ее окружало, было ей глубоко чуждо, а кроме того, ее невыносимо тяготило представительство и светские обязанности полковой командирши. Надо было устраивать журфиксы для полковых дам, принимать начальство мужа, в том числе жандармов и полицейских, к которым она привыкла относиться с презрением, а главное, дать несколько вечеров офицерам каждого из батальонов полка. Для многих женщин все это было бы только приятным развлечением, а в худшем случае утомительным долгом. Ал. Андреевна никогда не страдала застенчивостью, была обаятельная, живая и радушная хозяйка, но здесь она совершенно терялась, а главное, так страдала от одной мысли о предстоящем приеме, что доходила до последней крайности нервного расстройства. Один раз я попала в Ревель как раз накануне одного из ее батальонных вечеров. Я приехала рано утром, когда она была еще в постели и меня не ждала. Войдя к ней в спальню, я была поражена ее видом: совершенно перевернутое лицо со следами бессонной ночи, какое-то странное выражение глаз и необычный беспорядок в прическе – все показывало, что она близка к безумию. В тот же день она просила меня уехать до этого вечера, говоря, что ей при мне будет еще труднее, и я сократила свое посещение. Всю эту зиму она была в ужасном состоянии. Муж совершенно не понимал ее положения и по целым дням оставлял ее одну.
На третий год ее пребывания в Ревеле Ал. Андреевне сделалось очень плохо. Опять участились ее припадки, состояние духа было в высшей степени удрученное. Сидя одна, когда мужа не было дома, она ничего не могла делать и предавалась самым тяжелым и безнадежным мыслям, которые, как змеи, высасывали ее кровь. Когда Фр. Феликс, возвращался домой обедать из полковой канцелярии часов в 7-8 вечера, он находил жену неподвижно сидящею с каменным и странным лицом и спрашивал ее: "Что с тобой? Ты бледна как смерть". Она на это молчала. Что же могла она сказать ему, и чем бы он мог ей помочь? Он и не подозревал того, какому испытанию подвергает ее нервы, устраивая и обсуждая все эти приемы, ужины и т. д. Наконец состояние сестры приняло явно ненормальный характер. Позвали психиатра, который констатировал нервную болезнь с психическим уклоном. После долгих колебаний решили поместить Ал. Андреевну в санаторию доктора Соловьева около Москвы в Сокольниках. Фр. Феликс, отвез ее туда в марте 1910 г., а вернулась она оттуда в Шахматове через четыре месяца, в начале июля. Последнее время в санатории Ал. Андр. чувствовала себя значительно лучше. Она не чуждалась людского общества, приобрела друзей и как будто успокоилась. Но все это оказалось очень поверхностно и непрочно. С первого же часа ее пребывания в Шахматове стало ясно для меня и для Саши, что болезнь ее не побеждена. Люб. Дм. этого не понимала, и это было одной из причин тяжелых отношений, возникших между ней и свекровью.
Весной этого года Ал. Ал., получивший перед тем наследство от недавно скончавшегося отца, задумал ремонтировать шахматовский дом. Он приехал для этого в Шахматово с женой в апреле и торопился окончить ремонт к возвращению матери из санатории. Он положил на это дело не только большие деньги, но и много труда, изобретательности и энергии. Ремонт был сделан основательно и очень удачно. Старый дом преобразился и похорошел, не утратив своего стиля. Все было обновлено, разукрашено, а кое-что и преобразовано, так как над боковой пристройкой, где поселилась Люб. Дм., был возведен целый этаж, в котором помещалась новая Сашина комната. Все эти новости приятно поражали всякого, кто входил в дом, зная, каким он был до перестройки. Не было человека, который бы не одобрил Сашину работу и новые выдумки. Мать же, для которой он особенно старался, приняла все это болезненно, с тем особым чувством, которое свойственно всем психически больным, когда им приходится менять место и привыкать к новым впечатлениям. Сначала она ничего не воспринимала и только мучительно ежилась, как от струй холодного сквозного ветра. Только значительно позже, когда она привыкла к новой обстановке, она оценила всю прелесть обновленного дома. А тут еще оказались новые люди, новые порядки: целая артель маляров, кончавших наружную окраску, дома, новый управляющий с семьей, нанятый Сашей и Любой, новые затеи в сельском хозяйстве, задуманные Любовью Дм., Ал. Андреевна совершенно растерялась. Все это принимала она трагически, с некоторой опаской и недоверием. Люб. Дм., взявшая на себя хозяйство, была совершенно неопытна, Ал. Андр., конечно, могла бы дать ей не один хороший совет, но взгляды их на ведение этого дела были диаметрально противоположны, так что взаимное обсуждение хозяйственных вопросов и мнения, высказываемые Ал. Андреевной, порождали только одни недоразумения и неудовольствия. Все это портило отношения, и лето вышло очень тяжелое.
Вернувшись в Ревель, Ал. Андр. почувствовала себя лучше, что объясняется тем, что она жила эту зиму на положении больной, уже без всяких приемов и визитов. Но тут подоспело новое испытание. Фр. Феликс, получил бригаду в Полтаве. Предстояло или расстаться с ним и жить в Петербурге одной, или уехать от сына в такую даль. Но тут судьба сжалилась над сестрой моей. В конце лета пришло от Фр. Феликс, из Полтавы радостное известие, что его переводят в Петербург. Мы с сестрой жили в это время вдвоем в Шахматове, так как сестра Софья Андреевна с семьей еще прошлой весной переселилась в свое новое имение за 20 верст от Шахматова, а Блоки были за границей. Перед отъездом в Бретань Саша приезжал в Шахматове и провел с нами около месяца, но после его отъезда, когда мы остались одни, стало совсем тоскливо. Частые припадки, крайне тревожное и раздраженное состояние духа, болезненная впечатлительность и мучительная брезгливость, доходившая до маньячества, – таковы были проявления ее нервной болезни, вообще трудно поддающейся описанию. По ее собственным словам, да и по моим наблюдениям, в ней жило как бы два существа: одно углублялось в высокие вопросы, стремилось разрешить загадки жизни, заглянуть в будущее человечества и найти высшую правду, другое было занято житейскими мелочами. Почти единственным занятием Ал. Андр. в Шахматове было самое тщательное наблюдение за чистотой дома и двора. Малейшая соринка приводила ее в отчаяние и буквально лишала аппетита. Вкус к чтению она потеряла. Только изредка удавалось мне подыскать в нашей библиотеке такую книгу, которую она соглашалась прочесть. Все казалось ей или слишком знакомым, или скучным, а если нравилось, производило слишком сильное, болезненное впечатление.
Невеселы были и наши прогулки. Далеко ходить мы не могли, так как шахматовские окрестности очень холмисты, и потому частые подъемы утомляют сердце. Если мы отваживались пойти подальше, у сестры сейчас же возобновлялись припадки, после которых состояние ее духа делалось еще мучительнее. Мы ходили или по саду, или совсем близко от дома. Разговоры вертелись около одних и тех же тем, причем я приводила сестру в отчаяние своим спокойным отношением к жизни и неприемлемыми для нее точками зрения. Я во многом с ней расходилась по самому свойству своей натуры, а она никак не могла передать мне свое мировоззрение, что ее до крайности раздражало. Ей казалось, что между нами образовалась непроходимая пропасть, что у нас нет больше ничего общего, но, конечно, она ошибалась: несмотря на многие разногласия, мы во многом были и сходны, и близки, а в самом главном, т. е. в отношении к Саше, были всегда заодно. Кроме того, ни с кем не могла она высказаться с такой полнотой, как со мной, а это ей было необходимо.
В то лето мы жили вполне уединенно. Изредка приезжала сестра Софья Андреевна с сыновьями, иногда с мужем, но тут всегда возникали тяжелые споры, и после их посещений сестра только отчаянно уставала и еще хуже расстраивалась. Единственной нашей отрадой и развлечением была почта. Мы и газеты читали, сестра даже ими интересовалась, но главное – то были, разумеется, Сашины письма – частые, по большей части длинные и всегда интересные, даже и безотносительно к чувствам матери. Мы перечитывали их по многу раз, радовались его удовольствиям, восхищались его описаниями и т. д. Известие о переводе Фр. Фел. в Петербург подействовало на сестру, как живительный бальзам, а в конце лета у нас побывал еще Саша, ободренный морскими купаньями и новыми впечатлениями, обрадованный и успокоенный тем, что мать и отчим переезжают в Петербург.
ГЛАВА IV Возвращение в Петербург. Война.
Революция. Говорящие письма
Осенью 1911 года Ал. Андр. с мужем переехали в Петербург и поселились на Офицерской, 40, против Литовского замка. Ал. Ал. жил в это время на Петербургской стороне, но это не мешало ему часто видаться с матерью. Отношения с Люб. Дмитр. стали лучше. Пост бригадного командира не требовал никакого представительства. Фр. Фел. часто уезжал в Лугу, где ему поручено было строить новые бараки для артиллерийских казарм на полигоне. Ал. Андр. жила своей жизнью, была в постоянном общении с сыном, завела несколько новых, очень приятных знакомств, и все это вместе благотворно подействовало на ее нервы. В эту зиму она очень сошлась с Поликсеной Серг. Соловьевой, сестрой философа. Они видались каждую неделю на ее средах, где собирались с трех часов сотрудники издаваемого ею вместе с Н. И. Манассеиной детского журнала "Тропинка" и кое-кто из друзей и знакомых. Квартира была скромная, угощение тоже. Пили чай с вареньем и пряниками и проводили время в самой непринужденной беседе. Обаятельность хозяйки, ее открытый характер, детская веселость и живой ум сообщали этим сборищам оттенок милой интимности, простоты и самого приятного оживления. Большинство посетителей "Тропинки" были дамы, но ничего специфически "дамского" не было в атмосфере этих веселых и милых сборищ. Разговоры были женские, а не дамские: ни сплетен, ни пересудов, ни пошлости, ни мелочных и личных счетов тут не было. Говорили о литературе, о политике, о событиях дня, об искусстве, и все выходило интересно и симпатично. Ал. Андр. очень любила бывать в "Тропинке". Она положительно там отдыхала. Это было лучшее из ее развлечений, потому что театр и музыка или утомляли ее силой впечатлений, или не удовлетворяли, так как с годами она делалась все более требовательна и исключительна. С Пол. Серг. у Ал. Андр. было много общего, так что они понимали друг друга с полуслова. Из посетительниц "Тропинки" она наиболее сблизилась с Ольгой Дм. Форш, дружески сошлась также с Map. Льв. Толмачевой и Евг. Егор. Соловьевой [48], однофамилицей Пол. Серг., женщиной, принадлежащей к педагогическому миру, но причастной к литературе.
Ревельские впечатления и происходившие там расстрелы революционеров и латышей, участвовавших в аграрных беспорядках, еще более укрепили Александру Андреевну в ее революционных наклонностях. Она ждала и жаждала революции так же, как сын ее, пророческие слова которого раздавались еще за 10 лет до переворота. Тем временем Фр. Фел. старался делать карьеру, но принялся за это совсем не так, как это делается настоящими карьеристами: он работал как вол, что, как известно, есть последнее средство для того, чтобы выдвинуться по службе. Правда, полк его оказался лучшим по стрельбе, но его товарищи, командиры других ревельских полков, которые работали куда меньше его, завоевали себе более видное положение. Фр. Фел. не умел быть веселым и оживленным хозяином, с подчиненными был довольно придирчив и мелочен, с начальством ненаходчив. Жизнь в Ревеле не способствовала сближению Александры Андреевны с мужем. Рознь между ними еще усилилась. Когда Фр. Фел. пришлось идти на войну, Александра Андреевна не горевала и была даже спокойна: она знала, что высокий пост мужа избавляет его от опасностей, надеялась, что на войне он выдвинется и удовлетворит свое служебное честолюбие, а кроме того, была уверена, как и все, что война скоро кончится. Она оказалась отчасти права. Муж ее благополучно проделал всю кампанию, ни разу не был ранен или серьезно болен, но далее поста дивизионного командира не пошел. У него не было никаких боевых качеств: он не умел импонировать солдатам и увлекать их своим примером, не отличался ни молодечеством, ни энергией, но долг свой исполнял с редкой добросовестностью. Фр. Фел. несколько раз приезжал в отпуск повидаться с женой. Она ждала его всегда с большим волнением и встречала очень радостно, но скоро убеждалась в том, что, живя на фронте, он еще более отдалился от ее интересов и точек зрения, и ее радостное настроение быстро падало.
За годы войны здоровье Александры Андреевны значительно ухудшилось. Самую войну приняла она без опасений, с верой в наш успех и все молилась о благополучном ее исходе, надеясь, что бог нам поможет. Вначале она почувствовала ярую вражду к немцам, возненавидела императора Вильгельма и не могла без отвращения слышать немецкую речь, но потом этот взрыв шовинизма совершенно упал, она отмахивалась от газетных ламентаций по поводу немецких зверств, считала, что французы и англичане нисколько не лучше немцев и мы только отдуваемся за них своими боками, но ужасалась нашими военными порядками или, лучше сказать, беспорядками. Политические события ее сильно волновали. Еще до войны ее тревожила загадочная и страшная фигура Распутина. Она жадно прислушивалась ко всему, что о нем говорили, и считала его главным виновником всех наших бед. Все время находилась она в возбужденном состоянии, незадолго до убийства Распутина она, разговаривая с каким-то извозчиком, рассказывала ему про Распутина и говорила, что необходимо его убить, когда же это случилось, она пришла в неописуемое волнение. Первое известие об этом она получила по телефону от М. Л. Толмачевой и придала этой смерти столь важное значение, что глубоко возмутилась, когда одна из ее приятельниц, которой она сообщила об этом по телефону, стала говорить с ней тут же о каких-то архижитейских делах: "Да ты понимаешь ли, кого убили?" – говорила она.
Но не одни общественные дела волновали и расстраивали Александру Андреевну. Напомню, что в 1916 году был призван А. Ал., а в конце июля он зачислился табельщиком в одну из дружин Земгора и уехал на Пинские болота. Мать боялась и климата Пинских болот, относительно которого ее кто-то жестоко напугал, и близости фронта, а главное, Сашиной склонности играть с опасностью и идти ей навстречу. Это были уже не преувеличенные, а очень серьезные страхи, основанные на фактах. Александра Андреевна имела полное основание вечно бояться за сына с тех пор, как он стал взрослым человеком. Несмотря на очень подробные и довольно частые письма сына, мать продолжала беспокоиться, и нервная болезнь ее все разрасталась. Зимой стало еще труднее. Несмотря на то, что сестра жила одна в своей большой и почти пустой квартире, нам немыслимо было жить вместе. Ее раздражение против меня приняло угрожающие размеры. Я ходила к ней часто, потому что она сама этого требовала, но во время моих посещений она относилась ко мне или с тупым равнодушием, или со злобой. Такое отношение психических больных к близким людям, как известно, часто встречается. А между тем единственным близким человеком для Александры Андреевны в Петербурге была именно я. Сестра Софья Андреевна жила в деревне безвыездно, Люб. Дм. играла в провинциальной труппе. В конце декабря я обратилась к доктору-психиатру и, переговорив с ним предварительно на его квартире, пригласила его к сестре. Он посоветовал поместить ее в санаторию. По моей просьбе сестра Софья Андреевна заняла для нее комнату в санатории около ст. Крюково, Николаевской ж. др. Фр. Фел. взял кратковременный отпуск с фронта и, приехав в Петербург, свез жену в Крюково. Она уехала в конце декабря 1916 года, вернулась в Шахматово в мае 1917 года.
Революция застала Александру Андреевну в санатории. Известие о перевороте произвело на нее сильное впечатление. Все приняла она радостно, умиленно, с какой-то благоговейной верой, как благую весть. Жадно читала газеты, переживала все очень ярко. В санатории ей стало значительно лучше. Нервы ее успокоились. Дома все ей особенно нравилось, со мной она была ласкова и тиха, но через неделю ее настроение стало уже портиться, и, хотя не дошло до тех крайностей, какие были зимой, у нее опять наступила полоса раздражения, тревоги и преувеличенного беспокойства за Сашу и за мужа. Спасала нас опять-таки почта. Мы очень внимательно читали газеты, переживая период увлечения Керенским, столь обычный тогда среди русской интеллигенции.
Мы вернулись в Петербург 20 августа. Прожив у сестры два дня, я переехала в комнату, которую наняли для меня Блоки на одной площадке с ними, так как не имела возможности держать свою квартиру, а жить с сестрой нам было опасно: видеться часто мы продолжали, но поселяться на одной квартире не находили возможным.
Между тем революция шла вперед. Большевистский переворот сестра приняла сначала с недоверием и опаской, но мало-помалу увлекалась личностью Ленина и уверовала в его гений и бескорыстие. Прекращению войны тоже радовалась. Никаких восторгов по поводу ожидаемого Учредительного Собрания не выражала, и срыв его казался ей даже желательным. Так же, как сын ее, она приветствовала слово "товарищ", произнося его с уважением, а иногда и с умилением. Никаких разочарований и жалких слов по поводу хулиганства, безбожия и вообще несостоятельности русского народа я от нее не слыхала; продолжая верить в него до конца, не жаловалась она и на трудности нового режима: храбро переносила голодовку, очереди, много работала, одно время жила без прислуги, сама готовила, ходила на рынок и пр. Все это было ей очень и очень трудно, но она находила, что это в порядке вещей и такова логика событий, и потому не роптала. Переносила она все это не то чтобы весело, но твердо и с полным достоинством.
Тем временем вернулся с фронта Фр. Фел. Он принял падение старого режима и революцию спокойно, без потрясений и продолжал служить до последней возможности. Служба в двух учреждениях, довольно беспокойная, с дальними разъездами, расстроила его слабое здоровье, которое пошатнулось в последний период войны. Жилось вообще нелегко. Пришлось переехать на более скромную квартиру и сильно сжаться. При помощи пайка, получаемого Фр. Фел. на службе, Александре Андреевне удавалось давать ему усиленное питание, самой же ей случалось и голодать, так как сын не имел возможности оказывать ей существенную помощь и должен был поддерживать еще и меня. Квартира, в которой поселились Кублицкие после войны, была в том же доме, где жили Блоки. Ее и нашел для них Саша. Эта близость к сыну была, конечно, особенно приятна матери, но и Фр. Фел. ничего не имел против. Его отношение к Саше после его женитьбы стало гораздо лучше, если не считать острого периода взаимной вражды во время 1905 и 1906 гг. К Люб. Дм. Фр. Феликсович всегда относился очень хорошо, так же, как и она к нему. Скончался он в январе 1920 года. После его смерти Блоки переселились в квартиру Александры Андреевны.
Заключаю эту главу выдержками из нескольких писем Александры Андреевны ко мне, в которых отражаются ее взгляды, причем не буду придерживаться хронологического порядка.
В письме от 22 июля 1920 года она говорит:
"…Про А. Белого: да, Россия без него. Его присутствие в России важнее всех его слов, которые, как они ни хороши, а все слова, и кроме экстаза ничего не порождают. Самая же его личность, душа, дух – развивают атмосферу святой тревоги…"
3 февраля 1921 года: "…Была я на повторении Пушкинского торжества. Происходило это на Бассейной, в Доме Литераторов. За Сашей прислали лошадь, санки, и он взял меня с собой туда и назад. Но впечатление у меня осталось тяжелое. Торжества не вышло. Сашина речь хороша. И недурная – Ходасевича. Но Эйхенбаум наплел вздора и, по-моему, развенчал Пушкина. Уж одно то, что речь свою он заключил тем, что Пушкин был склонен к пародии – "Барышня-крестьянка" – пародия на "Ромео и Джульетту", "Граф Нулин" – на легкий жанр. Я очень злилась…
Закрытое первое заседание (по словам Саши) было торжественнее. И Сашина речь там имела огромный успех. Здесь же публика ужасная, и густая атмосфера кадетства. Знаешь, для меня это оказывается самое тоскливое, самое мучительное явление – кадетство. Всякая атмосфера для меня легче. Этот паралич, это отсутствие религиозных восприятий – убийственно по существу. Я томлюсь, бьюсь, как рыба без воды" [49].
18 мая 1920 года: "…вчера я была на лекции А. Белого. Ветхий и Новый Завет. Излагает Штейнеровское, вопит, стучит евангелием по столу. В общем хаос, но для меня дорого, близко, понятно. Публика паршивая, интеллигенция сплошь. Поэтому недоброжелательная… Ни уха, ни рыла, не понимает, придирается к мелочам, возражают не по существу. Боря совершенно исхудавший и бледный, лысый, с горящими сапфирно-синими глазами, – хриплый, начал с того, что "долой логику, доказательства…"
В этом же письме она пишет так: "…Теплоты я органически не выношу – мне нужна высокая температура во всех случаях жизни… Да, хотела тебе сказать: на старости лет, перед смертью я поняла: я не люблю культуры. Это объясняет тысячу вещей. Я органически влекусь к цивилизованному обиходу и по-настоящему плохо чувствую себя от отсутствия цивилизованности, но культуры не люблю. Она мне часто претит. Искусства не люблю, ни в чем не ценю его. И это все глубоко в моей скифской натуре. А природу все страстнее люблю! Боже, как я ее люблю! Постоять бы среди цветущего луга, среди шумящего леса, среди деревенского сада…"
Отрывок о культуре требует пояснения. Нужно понимать его условно. Александра Андреевна не любила искусства для искусства и в книге, особенно прозаической, непременно требовала содержания и идеи. Если книга была просто хорошо написана, но лишена содержания, хотя бы лирического, она ее не ценила и способна была предпочесть ей плохо написанную, корявую по форме книгу, если она содержательна и идейна. В стихах же требовала прежде всего музыки в не совсем обычном смысле этого слова и лиризма, уносящего за пределы сказуемого и осязаемого, но к форме стихов она была довольно-таки строга.
ГЛАВА V Литературные работы Александры Андреевны.
Ее мнения и взгляды. Особенности характера
Перейду к литературным работам Александры Андреевны. В молодости она писала немало стихов, которые безжалостно уничтожала, не придавая им никакого значения. Между прочим, написала она поэму "Казнь Св. Панкратия", которая была помещена в Сашином журнале "Вестник". Сюжет заимствован из известного романа Евг. Тур, называвшегося, кажется, "Катакомбы". Это роман из жизни первых христиан. Александра Андреевна в свое время очень им увлекалась и взяла оттуда эпизод казни св. Панкратия, растерзанного в цирке пантерой. Из больших вещей написала она еще поэму "Ананджара", сюжет заимствован из сказки Вагнера "Макс и Волчок" [50]. Остальные стихи мелкие и лирические. Все это действительно слабо и не отличается ни оригинальностью формы, ни глубиной. Мне запомнилось (к несчастью, не целиком) одно из ранних ее стихотворений. Приведу тот отрывок, который помню.
Отчего ты бледна, моя радость,
В светлых глазках потух огонек,
Разметались блестящие кудри,
И не слышен мне твой голосок?
Чуть звонок, ты бросаешь на двери
Беспокойный, взволнованный взор
И лишь только тогда улыбнешься,
Как услышишь бряцание шпор.
и т. д.
В бумагах сестры сохранилось всего семь стихотворений более позднего периода ее жизни. Два из них написаны в Варшаве, когда ей было 20 лет. Одно из них носит название "На романс А. Рубинштейна". Романс, конечно, без слов, фортепианный, тот самый, на который так бестактно подобраны кем-то Пушкинские слова "Мой голос для тебя и ласковый, и томный". Стихи сестры пытаются передать настроение музыки. Приведу отрывки:
Широкий небосклон, луною озаренный,
Смотрю я на тебя, и дух спокоен мой,
Синеет далеко простор твой осребренный,
Влечет меня к себе, могучий и немой.
Заснула мысль моя, спокойно грудь вздыхает,
За блеском звезд твоих следят мои глаза.
Нет скорби. Тихо все, как будто замирает,
И тихо катится отрадная слеза…
Потом настроение меняется:
Блистают волны туч,
Диск ясный закрывая,
Исчез прекрасный луч,
Тяжелая, седая
Надвинулась гряда
Холодных облаков.
О, где ты тихий свет
Беззлобных грез и снов?
Новый переход:
Но прочь!… Колышатся холодные туманы,
Уже блестит меж них луч месяца златой,
И вот, скользя толпой по небу-океану,
Они мою тоску уносят за собой.
и т. д.
Стихи кончаются повторением первых четырех строк. Через три года написано было в Триесте стихотворение, тоже попавшее впоследствии в "Вестник". Оно называется "На чужой стороне". В нем уже больше настроения, и оно гораздо прочувствованнее.
Синее море, туманная даль,
Темные горы на небе глубоком,
Ширь и простор, необъятные оком,
В сердце смущенном и мрак, и печаль.
…
Тайна ли эта смущает меня,
Или простор этот дивно-широкий,
Или то близость пучины глубокой,
Или прощание ясного дня?
Нет, к тем туманным большим кораблям
Взор мой печальный, тоскуя, стремится,
Там ему что-то знакомое мнится,
Плачет душа по родным берегам.
Там, где сгущается мягкая мгла,
Вижу в тумане родимые волны,
Очи слезами горячими полны.
Где ты, родная отчизна моя?
Два стихотворения, написанные в более зрелую пору, уже приведены мною выше. Последние стихи сестры были сочинены в феврале 1919 г. Она послала мне их в Лугу, куда я переселилась на несколько лет ради поправки своего расстроенного здоровья и успокоения нервов. Сестра писала мне так: "Ничего хорошего тебе написать не могу, а вместо того вот тебе мое стихотворение, написанное на днях. Была светлая минутка: уж очень хорошо было на небе. Но в душе скоро стемнело, как и на небе. Вот тебе мое стихотворение для домашнего употребления. Уж, разумеется, не настоящее".
Привожу стихи целиком.
Заалела небес бирюза,
Загорелся алмаз Венеры.
Слезы счастья слепят глаза,
И душа исполнилась веры…
На молитву встать и глядеть,
Как раскинулись божьи дива,
И любить, и прощать, и петь,
И не вынесть любви прилива.
В этот час умереть, уйти,
Оторваться от бренности хилой,
Над тобой взлететь, взойти,
Несравненный ребенок милый –
Бестелесным тебя осенить,
Да пребудет благословенный,
Да сподобится все свершить
Твой высокий дух нетленный.
23 февраля 1919 года.
Я только недавно узнала, что в феврале или марте 1921 г. во время моего пребывания в Луге Ал. Андр. написала еще одно стихотворение. Оно было в ее дневнике, который она сожгла после смерти Ал. Ал., а черновик стихотворения передала после одного разговора Е. Ф. Книпович, у которой он и хранится. Стихи написаны тогда, когда мать была еще далека от мысли, что ей придется пережить сына. Вот они:
Я хочу умереть весной,
Когда земля оттает,
И могилу вырыть легко,
И солнце уже припекает.
На кустах – первые листы,
Откосы едва зеленеют,
Еще робко чириканье птиц,
Но небо – голубеет.
Воздух ласков. На кладбище мир.
Мой ангел будет растроган.
А горьких слез не хочу.
Пусть будет тихо взволнован
На могиле весенней моей,
Пусть вспомнит нежно
И поверит, что мама с ним
И любит теперь безмятежно.
Раз только в жизни, вскоре после своего первого замужества, написала сестра небольшой рассказ, который пыталась даже напечатать. Он был очень слаб, и впоследствии она его уничтожила. Первое, что она напечатала, были детские стихи, помещенные в журналах "Семейные вечера" и "Игрушечка". Они были довольно слабы, но вполне понятны для детей и, во всяком случае, лучше большинства тех водянистых виршей, которые попадают в детские журналы под именем детских стихов. Но работать по-настоящему, т. е. переводить прозу и стихи по заказу и печатать то и другое начала она уже после второго брака. Она много печатала в журнале "Вестник Иностранной Литературы". Переводила с французского. Ее прозаические переводы по большей части хороши, они литературны и передают дух подлинника, хотя местами в них встречаются шероховатости. Вот список ее прозаических переводов: Б_а_л_ь_з_а_к – "Кузина Бетти", "Шуаны", "Феррагюс, вождь пожирателей", "Золотоглазая девушка" и "Роман в пустыне"; З_о_л_я – "Дамское счастье"; Д_о_д_е – "Джек" и "Письма с мельницы" (особенно хорошо переведено последнее); М_о_п_а_с_с_а_н – "Под солнцем" (путевые заметки) и несколько мелких рассказов; М_а_р_с_е_л_ь_ _П_р_е_в_о – "Заветный сад". Впоследствии она перевела и напечатала отдельно пьесу Д_о_д_е – "Арлезианку" (журнал театрального Отдела "Репертуар"), сказку Г_ю_г_о "Легенда о прекрасном Пекопене и о прекрасной Больдур" ("Алконост"). Ею же переведена под редакцией сына вся переписка Флобера, 3 тома, из которых издан только один 1-й. Последняя из ее работ – роман Р_о_н_и "Красный вал" (La vague rouge) – напечатана только отчасти, а сказка Э_р_к_м_а_н_а-Ш_а_т_р_и_а_н_а "Лесной домик" совсем не напечатана.
Стихотворные ее переводы все вошли в "Вестник Иностранной Литературы". То были стихи французских поэтов – Бодлера, Верлена, Сюлли-Прюдома, Франсуа Коппе, Альфреда Мюссе и В. Гюго. Ею же переведено несколько стихотворений Мопассана. Всего более 30 стихотворений. Некоторые переводы очень хороши. Бодлер переведен лучше большинства попадавшихся мне до сих пор переводов. Привожу несколько наиболее удачных стихов:
ВЕЧЕРНЯЯ ГАРМОНИЯ
Из Бодлера
Уходит летний день. На молодых стеблях
Раскрытые цветы курятся, как кадила,
В вечерней тишине смычок поет уныло,
Порхает томный вальс на реющих крылах.
* * *
Раскрытые цветы курятся, как кадила;
Как сердце скорбное, струна дрожит в слезах,
Порхает томный вальс на реющих крылах.
Печаль и красота свод неба осенила.
* * *
Как сердце скорбное, струна дрожит в слезах,
То сердце нежное ночная мгла смутила,
Печаль и красота свод неба осенила,
Сгустился блеск зари в кровавых облаках.
* * *
То сердце нежное ночная мгла смутила, –
Прошедшее блестит в растаявших лучах,
Сгустился блеск зари в кровавых облаках;
Мысль о тебе во мне мерцает, как светило.
ИЗ СТИХОТВОРЕНИИ Ф. КОППЕ
…Печальная краса моих воспоминаний,
Источник горьких мук, блаженства и страданий!
В балладу томную тебя переложу
И отрока-пажа в стихах изображу:
У ног давно больной и бледной королевы,
В подушках голубых, на вышитых гербах,
Вздыхая, он поет и, с лютнею в руках,
С нее не сводит глаз, твердя любви напевы.
Она же, бледная, под бледной кисеей,
Прекрасное чело порой приподымает
И лихорадочной, горячею рукой
С кудрями отрока рассеянно играет.
И тихо гаснет он под бременем любви,
И посмотрев в окно, за стекла запертые,
На долы, на леса, на тучки золотые,
На паруса, на птиц в лазоревой дали,
На волю, на простор, на горизонт широкий,
Он мыслит: – Счастлив я в тюрьме моей высокой,
Свободу и цветы, и вешний аромат
Отдам за душный мрак печального покоя…
И дорого ему томленье роковое;
Но тяжкой завистью глаза его горят,
Когда от грез своих оторвана страданьем,
На локоть опершись, с настойчивым вниманьем
Глядит она, вперив усталый, долгий взор,
Как дремлет пес борзой, улегшись на ковер.
ИЗ СТИХОТВОРЕНИИ ВЕРЛЕНА
Я не знаю зачем
Дух смятенный мой,
Как безумный, кружит над волной морской.
Все, что в сердце моем,
Беспокойным крылом
В волны кроет любовь. О, зачем, зачем?
Чайкой задумчивой мерно качается,
Катится мысль моя вслед за волной.
Ветры ее увлекают с собой,
Вместе с приливом косит, надвигается,
Чайкой задумчивой мерно качается.
Упоенная солнцем
И волей своей
Понеслась в необъятный простор лучей,
И дыханье весны
На румянце волны
Колыхает, качает ее полусны.
Крик ее грустный тоскливо разносится.
Кормчий в тревоге застыл над рулем,
Ветру отдавшись, она переносится,
В волны нырнет, и с помятым крылом,
С криком печали взвиваясь, уносится.
Я не знаю зачем
Дух смятенный мой,
Как безумный, кружит над волной морской,
Все, что в сердце моем,
Беспокойным крылом
В волны кроет любовь. О, зачем, зачем?
Кроме всего перечисленного, Ал. Андреевна написала популярную биографию Ломоносова, напечатанную в книге "Герои Труда", изданной Карбасниковым. Книга эта, в которой помещены также биографии трех английских механиков, написанные моей матерью, и две биографии, написанные мною (Христофор Колумб и Авраам Линкольн), почти никому не известна. Биография сестры написана очень литературно и довольно живо. Вот, кажется, все литературное наследство, оставшееся после нее. Ал. Ал. поручал ей резюме некоторых своих работ в Чрезвычайной Комиссии. Она же редактировала перевод А. А. Веселовского "Тристан и Изольда" (изд. "Всемирн. Литер."). Ал. Ал. всегда находил, что мать его работает и добросовестно, и талантливо. Между прочим, он очень ценил ее отзывы о разных литературных произведениях. Иногда он поручал ей писать рецензии на пьесы, которых ему приходилось рассматривать целые груды. Одно время она писала рецензии на детские книги дошкольного возраста, которые вновь пересматривались Обществом содействия дошкольному воспитанию детей. Ее приговоры всегда были очень суровы, точки зрения – чисто литературные, без всякой приспособляемости к педагогии. Поэтому ее рецензии пришлись не по вкусу педагогам, которые руководствуются почти исключительно педагогическими требованиями, совсем упуская литературную сторону. Вот образчик рецензий Ал. Андр., единственный из уцелевших ее работ этого рода. Не знаю, для чего понадобилась эта рецензия, но интересно то, что на ней есть пометка, сделанная рукой Ал. Ал-ича. Рецензия написана на сборник стихов поэтессы Моравской, одно время (незадолго до войны) прошумевшей в Петербурге [51]. Главные темы сборника касаются стремления на юг, тут и мысли о Крыме, и хождение на вокзал и т. д. Вот рецензия.
"По-моему, это не поэзия. Но тут есть своеобразное. Очень искренно выказан кусок себялюбивой мелкой души. Может быть, Брюсов и А. Белый думают, что стремление на юг, в котором состоит почти все содержание – это тоска трех сестер и вообще по Земле Обетованной. Они ошибаются. Это просто желание попасть в теплые страны, в Крым, на солнышко. Если бы было иначе, в стихах бы чувствовалась весна, чего абсолютно нет. Да и вообще ни весны, ни осени, ни зимы, никакого лиризма. Я очень добросовестно прочла всю тетрадь. Это только у женщин такая способность писать необычайно легкие стихи без поэзии и без музыки".
Пометка Ал. Ал-ича: "7 июня 1913 года о стихах Моравской. Очень, очень верно".
Кстати об этом отзыве, скажу, что Ал. Андр. была вообще плохого мнения о женщинах. Она считала их лживыми, узкими, несамостоятельными, мелочными, не верила в их способность к творчеству, в серьезность и бескорыстие их порывов. Исключения допускала и даже много водилась с женщинами, в числе которых у нее были настоящие друзья, но вообще считала, что женщины гораздо ниже мужчин: те и честнее, и добрее, и великодушнее, не говоря уже об их творческих способностях. Женский ум Ал. Андр., однако, очень ценила и считала, что женщины никак не глупее мужчин, особенно русские. Одно, что уважала Ал. Андр. в женщинах,- это материнство, и, считая, что мужчина всегда ребенок, особенно ценила, когда женщины в любви к ним проявляли материнские чувства. Ал. Андр. не верила и в женскую ученость и презирала женщин-врачей. Так называемую женскую эмансипацию она не считала возможной, но находила нужным дать женщинам право работать и учиться, как они хотят, и возмущалась презрением к свободной любви и к незаконным детям.
Свободу она вообще полагала условием правильной жизни и самые законы считала злом, существующим только для мошенников, чем глубоко возмущала юристов. К государству она тоже относилась как к величайшему злу, не признавая его необходимости даже в наше несовершенное время. Современную культуру считала несостоятельной, находила, что она идет по ложному пути, уклоняется от природы и ведет к вырождению. Нетерпеливо ждала она конца мира, пришествия антихриста и второго пришествия Христа – или же просто гибели. Вообще же она не признавала эволюционного принципа и считала благодетельными и действенными только катастрофические, революционные перевороты. Самым большим злом считала она неподвижность и уверенность в непогрешимости данной истины и пути. Она думала, что только вечное искание и сомнение может двигать человечество по пути совершенства, но верила в возможность преображения людей в духе и говорила про наше время, что оно переходное к жизни духа и оттого так мучительно дается людям, стремящимся перейти в другую стадию.
В характере Ал. Андр. было много противоречий. Она была в одно и то же время подозрительна и доверчива, большая доля скептицизма уживалась в ней с глубокой, искренней верой, высокомерие с самоуничижением и т. д. Она была очень сложный человек. В одном из последних писем ко мне, посланных в Лугу в 1919 году, она говорит: "Ты пишешь, что я лучше, чем я о себе думаю. Меня – пять человек, а может, и больше. Я не только раздвоилась, я упятерилась. И уж, кажется, даже один за другого не отвечают, до того они разные во мне, потому и мнения обо мне нельзя иметь. Таковы результаты культуры: хаос".
То, что она говорила о себе, часто бывало очень метко. Вот отрывок из другого ее письма, написанного в 1920 г. после вечера, на котором А. Белый прочел свое стихотворение "Россия" {Начало этого стихотворения я приводила выше. Есть несколько вариантов этого начала, и даже называются стихи то "Россия", то "Родина".}.
"…Я до сих пор, четвертый день под обаянием А. Белого, его сущности. Хочется экстаза, он его дает – говорить об этом не надо… Я там на вечере попала в свою атмосферу бездействующих мечтателей, не умеющих в жизни шагу ступить… И хорошо мне там было…"
Тоскующий дух ее вечно влекся к таким мечтателям, которые, с точки зрения уравновешенных людей, не более, как безумцы. "Безумная душа поэта" [52] была ей глубоко понятна, это безумство было ей сродни, она шла даже дальше. В последние годы ее жизни, когда мы гуляли с ней в летние вечера и медленно, медленно шли по любимой дороге – сначала направо по берегу Пряжки, а потом налево через мостик по набережной Мойки, мимо больницы Николая Чудотворца – она всегда останавливалась у ворот этого здания, заходила во двор, осененный большими деревьями, и прислушивалась к диким песням сумасшедших, раздававшимся из открытых окон. Ей мнилось в них что-то родственное, свое. Она была очень близка к их странному, нереальному миру, во всяком случае, ближе, чем к миру трезвых и уравновешенных людей. Не раз в своей жизни бывала она на границе безумия и, заглянув в какую-то темную бездну, с трудом удерживалась на узком гребне между действительной и призрачной жизнью.
Она пребывала в вечном томлении духа. Но среди этих томлений возникали у нее подчас светлые мысли о будущем человечества, которые принимали вдохновенную и отчетливую форму прозрений. В такие минуты молодые друзья ее Евг. Фед. Книпович, поэтессы Шкапская и Павлович находили у нее и поддержку, и утешение. Она говорила иногда очень мудрые слова и умела дать советы, выводившие из тупика трудных положений и отношений. Многих обманывала она своей бодростью и оживлением даже в последний год своей жизни, уже после смерти сына, когда отчаяние охватывало ее все с большей и большей силой. Это происходило от молодости ее души, которая многих поражала и осталась в ней до конца. А кроме того, у нее было много нервной силы и сознание какого-то долга перед людьми, которым она считала нужным дать все, что могла. Последние полгода ее жизни это стоило ей очень больших усилий и напряжения, но она только изредка позволяла себе уклониться от разговора с кем-либо из друзей, пришедших ее проведать, и нередко бывало, что после какого-нибудь разговора, оставившего в ее собеседниках особенно хорошее впечатление, у нее делался припадок, и силы ее совершенно падали, между тем как гости ее уходили с мыслью, что она поправляется. Ее друзей, особенно молодых, поражала также ее склонность рассказывать о своих ошибках и недостатках. У нее был какой-то вечный страх, что о ней будут думать лучше, чем она того заслуживает, а кроме того, она считала, что надо научить молодых своему опыту, так как только молодые могут воспринять ее советы и указания и научиться от нее жизни. Про нее можно было сказать, что она щедра, как материально, так и духовно. Она легко и охотно раздавала свои вещи и деньги и столь же щедро делилась с людьми дарами своего духа.
ГЛАВА VI Отношение к искусству. Беспощадность и снисходительность.
Последний этап
Теперь я скажу несколько слов об отношении Ал. Андреевны к искусству. После литературы она больше всего любила музыку, особенно во вторую половину своей жизни. Любила она, с одной стороны, цыганские и русские песни и романсы Шуберта и Шумана, а с другой – оперу, особенно оркестр. И больше всего оперы Вагнера, главным образом, цикл "Кольцо Нибелунга". Сильное впечатление производил на нее Бетховен, особенно его сонаты, из которых любимая ее была "Appassionata". Симфоний Бетховена она не понимала. От оркестра требовала она большей звучности и эффектов, и потому бетховенские средства ее не удовлетворяли. Из симфонистов всего ближе ей были Чайковский и Скрябин. Ее поражала и увлекала "Поэма экстаза". Но больше всего чувствовала она 6-ю симфонию Чайковского, находя в ее безысходном отчаянии что-то родственное своей душе. Некоторые мотивы оттуда внезапно возникали в ее мозгу в особенно тяжелые минуты ее жизни. Шопен был ей антипатичен, очень немногие из его пьес ей нравились, большую часть их она находила вычурными, слащавыми и мелкосубъективными. "Все жалуется на свою судьбу, все плачется", – говорила она. Из исполнителей она особенно любила в юности несравненного Ан. Рубинштейна, из певцов – Фигнера, а позднее Ершова. Одним из последних ее впечатлений такого рода было удивительное исполнение Ершовым песни Гаэтана из "Розы и Креста" (муз. Гнесина). Это исполнение ее потрясло. Очень нравилась ей также певица Д'Орлиак, исполнявшая шербачевские романсы на слова Блока [53]. Пение Олениной-д'Альгейм производило на нее в свое время чрезвычайно сильное впечатление. Шаляпин особенно нравился ей в "Хованщине", которую она вообще любила. "Кармен" Бизе в исполнении Л. А. Дельмас этой роли было одним из событий в жизни Ал. Андреевны. Про музыку она говорила: "Музыка что-то знает, она многое объясняет, она идет еще дальше стихов".
К живописи Ал. Андр. относилась гораздо холоднее, чем к музыке. Она считала, что это искусство самое материальное, и вообще зрительные впечатления ставила ниже других. И все же она чувствовала иногда настоящую красоту и в живописи, но сама часто говорила: "Я ничего не понимаю в живописи, это искусство не для меня". Из русских художников ближе всех были ей Нестеров и Левитан, из иностранных – Леонардо да Винчи. Очень нравился ей Берн-Джонс [54]. Но вообще она предпочитала живописи скульптуру, особенно любила Венеру Милосскую, прекрасный снимок которой, привезенный из Парижа Сашей, всегда висел у нее на стене. Любила она и Микель-Анджело, особенно "Давида" и "Моисея".
В жизни интимной Ал. Андр. чрезвычайно ценила, во-первых, чистоту и порядок. Комната, где она жила, сразу поражала этими особенностями. Кроме того, она любила уютность. В ее манере обставлять свою комнату, в мелочах ее обихода было много изящного, но не художественного вкуса. Недостаток последнего она вполне в себе сознавала и особенно ценила присутствие художественного вкуса у Саши и его жены. Но она любила красивое. Неэстетичность, как внутренняя, так и внешняя, действовала на нее болезненно. Вид безобразных людей, грязных улиц, разрушенных домов и неряшливости прямо расстраивал ей нервы. Она часто не ходила гулять, боясь некрасивых впечатлений. Она очень любила Петербург и ценила его красоту, поэтому ее особенно больно поражал вид его обезображенных улиц, – не по воспоминаниям о старом режиме, нет, его она навсегда и бесповоротно осудила. Вообще мало кто принял революцию так хорошо, как она, особенно из людей ее поколения. Она считала, что революция и понятна, и поучительна, и верила, что "мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем" [55]. Верила она и в идею интернационализма.
Еще два слова о характере Ал. Андреевны, о ее противоречиях. Она была в некоторых случаях очень строга и требовательна, в других, напротив, удивительно снисходительна. К себе она была поистине беспощадна. В конце концов она пришла к тому заключению, что в жизни ее были только одни ошибки. В особенности виноватой считала она себя перед сыном. Она винила себя и в том, что рассталась с Ал. Львовичем, и что вышла замуж за Фр. Феликс., говорила, что не сумела достаточно сблизиться с Сашей в его гимназические годы, и т. д. Мои аргументы на нее не действовали. Она говорила, что я к ней пристрастна. Припоминая малейшие мелочи, в которых она когда-либо провинилась перед сыном, она кончила тем, что забыла все хорошее, что она для него сделала, и помнила только свои ошибки. Когда я напоминала ей разные счастливые случаи из его детства и юности, она отвечала: "Разве это было? Я ничего не помню". Она часто говорила: "Я наказана за свои грехи. Это все за мои грехи я страдаю". А иногда еще так: "Я великая грешница: мне никого не жаль". Она действительно разучилась жалеть и в иных случаях бывала очень сурова и даже жестока. Она не выносила жалоб и слез, особенно по поводу мелких причин, и прямо говорила иногда какой-нибудь старой приятельнице, изливавшейся в жалобах на своих домашних или на трудное свое положение: "Зачем ты мне все это говоришь? Ведь я злая, мне никого не жаль". Или же начинала жестоко отчитывать свою собеседницу, после чего сама же просила у нее прощения за резкость. Вообще она охотно и великодушно протягивала руку и делала первый шаг к примирению, даже в тех случаях, когда не считала себя виноватой, просто чтобы покончить с какой-нибудь ссорой и возобновить хорошие отношения. Обидев человека и причинив ему боль и огорчение, она быстро сознавала свою вину и умела загладить ее, как никто: или лаской, или ободряющим словом и самым неподдельным, глубоким раскаянием.
Свое превосходство над средними людьми она сама сознавала и потому не раз говорила: "Мне много дано, с меня много и спросится, а с них нельзя требовать того, что с меня, они не виноваты".
В ней было известное высокомерие, которое она тоже за собой знала, но с теми, кого она очень любила или почитала, она могла быть бесконечно смиренна. Так было в особенности с Сашей и с его женой, так как не только его, но и ее она считала человеком совершенно исключительным по крупности ума и характера, по мудрому пониманию жизни и по общей талантливости.
Очень презирала сестра бездарность, бесцветность и буржуазность. Поэтому и прощала она многие грехи и пороки за широту натуры, даровитость и самобытность. Рядом с ее комнатой, за плохо заделанной дверью, жил некий беспутный матрос, известный под именем Шурки; все, что делалось за стеной, слышно было прекрасно, а сестра отличалась еще исключительно чутким слухом. В течение трех лет она изучила жизнь своего соседа до мелочей. А жизнь эта была очень буйная и крайне предосудительная. Шурка был пьяница, спекулянт, развратник, ругатель, колотил свою сожительницу, дрался во время ночных попоек со своими гостями. Сестре случалось не спать по целым ночам, мучительно задыхаясь и ворочаясь под пьяные песни и крики, битье посуды, швырянье стульев и откалывание плясовой под мотив чьей-то залихватской гармоники. Иногда она пробовала стучать в стену, просить, чтобы были потише, но это редко помогало. Очень страдала она от всей этой бесшабашной компании, часто мечтала о том, чтобы Шурка съехал, и сердилась на него, но стоило ему, бывало, днем и не в очень пьяном виде запеть своим сильным тенором какую-нибудь любовную или революционную песню, как все ее раздражение пропадало. Она готова была по целым часам слушать это пение и говорила, что если Шурка уедет, ей будет жаль, потому что другой жилец может оказаться буржуазным, а он талантливый, широкий, удалой. Она рассказывала мне, как он, пьяный, каялся в своих грехах, вздыхал и плакал. "Нет, Шурка – недурной человек, он ребенок",- говорила она. Что и говорить, поразительно было слушать, с каким неподдельным лиризмом и глубокой нежностью пел этот вечно пьяный драчун и ругатель:
Ты услышишь протяжное пенье,
Как меня понесут хоронить,
Вспомни, вспомни, моя дорогая…
и т. д.
Откуда только брались у него эти задушевные ноты?
Последние полтора года своей жизни, уже после смерти сына, Ал. Андр. жила все в той же атмосфере милого уюта, изящества и порядка, она не опустилась, не давала себе поблажки и не поддавалась ни одолевавшей ее физической слабости, ни искушению легко и быстро покончить свою постылую и, как думала она, никому не нужную жизнь. "Кому я такая нужна? Как ты можешь меня любить?" – говорила она. Пока могла, она неутомимо работала, переписывала целые тома рукописей своего сына. Читала она мало, чаще, конечно, перечитывала стихи и прозу сына, да иногда евангелие. Молиться совсем не могла, в церковь она давно уже перестала ходить, говорила, что служба ее не трогает, и сердце ее остается в церкви пустым, но прежде дома молилась, теперь же потеряла и эту способность.
После удара стало еще труднее, работать уже было нельзя. Ее единственным развлечением, кроме редких и слишком утомительных для нее прогулок, было по целым часам смотреть в окно. Вид на Пряжку, на которой живем мы, очень красивый и оживленный, особенно летом в праздничное время: с утра уже начинает сновать целая вереница лодок, бегают дети. Смотрела сестра на закаты, на розовые зори… Ложилась спать она по большей части рано и потому почти не видела звезд. Много радости доставляли ей цветы, которые она всегда особенно любила. Ей приносили их и мы с Люб. Дм., и друзья, особенно Евг. Фед. Книпович и милый Дм. Мих. Пинес {Секретарь Вольфилы [56].}, который знал ее так недолго (около полутора лет) и успел выказать ей за это время столько деликатного внимания. Бывало, весь письменный стол ее заставлен был букетами купальниц, сирени, ландышей и др. прекрасных цветов. Сестра даже улыбалась, глядя на них, что вообще с ней не часто случалось. Друзья ее не забывали. Не могу не выразить своей особой благодарности за любовь к покойной сестре моей старым друзьям ее Евг. Павл. Иванову и сестре его Map. Павл., писавшей ей по невозможности к ней прийти такие трогательные, прекрасные письма, заставлявшие трепетать даже ее скорбное сердце, совсем отвыкшее от радостных чувств. Говорю спасибо и М. Л. Толмачевой, выказывавшей ей так много сочувствия, и всем молодым ее друзьям, особенно Евг. Фед. Книпович, у которой было с ней так много общего в понимании друг друга и Ал. Ал-ича, и Сам. Мирон. Алянскому, выказавшему ей беспримерное участие и любовь.
Под влиянием долгих скорбных дум о своей греховности, о необходимости смириться и забыть все личное, – сестра моя сильно смягчилась в последнее время, в ней появилось что-то новое, какая-то покорность и даже тихость. И лицо ее отражало эту перемену, становясь все более одухотворенным и смягченным. Все больше и больше страдала она от проявления своих болезней. Задыханье, бессонница, различные боли и другие тяжелые ощущения мучили ее непрестанно, но переносила она это все терпеливо. Всего тяжелее было для нее чувство постоянного холода. Она согревалась только у топящейся печки и вечно мучительно зябла. Со мной наедине она очень много говорила о смерти, радовалась, когда ей становилось особенно дурно, и огорчалась, когда делалось легче. Все боялась она, что переживет меня и даже Люб. Дм.: "Я еще не готова к смерти, недостойна ее", – говорила она. Но опасения ее были напрасны… В день ее смерти, на вопрос лечившей ее докторши, чего она хочет, она отвечала: "На кладбище". Немного погодя, она спросила меня: "Скоро ли я умру?" Зная, что ей осталось всего несколько часов жизни, я сказала: "Теперь уж скоро". И она заснула с видом глубокого успокоения, даже с легкой улыбкой.
В гробу она поражала всех своим прекрасным, спокойным выражением. Ее лицо побледнело, стало моложе, красивее. "Она от мук помолодела, вернув бывалую красу" [57]. Так пело у меня в душе словами ее сына. Друзья разукрасили гроб ее цветами. Люб. Дм. расположила их с присущим ей одной вкусом. Мы похоронили мать Блока по ее завету против могилы сына. Их кресты смотрят друг на друга, и по ее завещанию, найденному у нее в столе, на ее кресте обозначена фамилия не только второго, но и первого ее мужа, чтобы увековечить и после смерти ее причастность к сыну, к ее дорогому ребенку.
Заключение
В своем неполном очерке я старалась показать, что было своеобразного в душевном и духовном облике матери Блока. Знаю, что я не сказала много, что было бы можно сказать, но в душе моей толпится столько воспоминаний и мыслей, что мне пока еще трудно облечь их в стройную форму. И все же думаю я, что недаром мы были так близки с покойной и кое-что ей, именно ей, присущее мне удалось передать и объяснить всем тем, хотелось заглянуть в ее душу.
В заключение я скажу еще несколько слов, которыми попытаюсь дать более верное освещение той картины, которую я нарисовала. Боюсь, что, обнажая язвы души моей покойной сестры, я впала в односторонность и не сумела передать всего синтеза этой сложной души и ее истинной сущности. Во избежание того, что облик матери Блока во вторую половину ее жизни может показаться слишком болезненным, мрачным и темным, я должна сказать, что способность радоваться прекрасному во всех смыслах этого слова не покидала ее до конца жизни. Не только природа, вид зелени, неба, цветов и высокое в искусстве, но и всякое проявление благородства, бескорыстной любви и возвышенных стремлений в человеке – будь то частный или общий случай – было для нее источником подлинных, живых радостей. Но, помимо этого, она отличалась такой богатой жизнью духа, такой неувядаемой молодостью души, что эта старая, сломленная горем мать до последних дней своей жизни привлекала к себе молодых, которые искали у нее оживляющего влияния и выходов к свету. На них неотразимо действовала та атмосфера святой тревоги и вечного бунта, которая ее окружала. В ней всегда жил революционный дух. Она никогда не мирилась с тем, что ей претило.
Прибавлю к этому, что она была целомудренна и горда в высшем смысле этого слова. Она никогда не жаловалась на свои страдания, как душевные, так и физические. Только я одна знала, что она чувствует. Перед всеми остальными (за самыми редкими исключениями) она прятала свои муки, делая это инстинктивно, почти невольно, и всегда являлась бодрой и живой, готовой идти навстречу другой душе. Если бы она производила впечатление темное, мрачное, кто бы пошел к ней со своими заветными чувствами и мыслями? Кто бы стал искать у нее поддержки? А между тем к ней шли и уходили от нее ободренные, зараженные ее духовной силой и теми светлыми возможностями, которые она умела показать в будущем. Так было в последние годы ее жизни, а что же сказать о том времени, когда она была еще сравнительно молода? В годины самых мрачных раздумий и разочарований ей случалось предаваться самому непосредственному веселью. Особенно весела бывала она с детьми. Она оживляла их игры, смешила их, придумывала тысячу милых глупостей и делалась с ними сама как дитя, забывая все свои мрачные думы. Да и всякое общество, в которое являлась она в то время, она оживляла своим присутствием: или пробуждала веселость, или поднимала какие-нибудь вопросы, возбуждавшие споры, но всегда умела расшевелить стоячую воду и зажечь те искры, которые дремлют на дне почти всякой души. Этими словами закончу я свое заключение в надежде, что мне удалось смягчить те резкие тени, которые могли бы исказить облик матери Блока, столь близкой ему по духу и по натуре.
14 июня 1923 года
ПРИМЕЧАНИЯ
Книги М. А. Бекетовой о Блоке, ее воспоминания и дневники, бесспорно, сохранили свое значение для нашего времени. Однако за время, прошедшее со дня их написания, советским блоковедением накоплен значительный запас знаний, которые отчасти дополняют, а отчасти и исправляют некоторые мысли автора.
При подготовке настоящего издания ставилось основной целью воспроизведение текстов мемуарных работ и дневников М. А. Бекетовой с минимальными комментариями, необходимыми для более точного восприятия текстов. Цитируемые М. А. Бекетовой произведения и письма Блока были сверены с наиболее авторитетными изданиями: восьмитомным собранием сочинений, с двухтомником "Письма Александра Блока к родным"; в тех случаях, где это было возможно, – с другими научными публикациями. Все встречавшиеся довольно многочисленные разночтения исправлены без оговорок. Специальных архивных разысканий, необходимых для воссоздания канонического текста воспоминаний, не проводилось.
Купюры, сделанные в цитируемых текстах самой М. А. Бекетовой, обозначены простыми отточиями, редакционные сокращения – отточиями в угловых скобках.
Примечания к книге далеки от сугубо академического типа. Они предназначены прежде всего для того, чтобы читатель мог корректировать те или иные утверждения автора без обращения к специальным источникам, а также получать краткие сведения о лицах, упоминаемых на страницах воспоминаний и дневников, и об их взаимоотношениях с Блоком. Указываются также статьи и воспоминания, где более подробно говорится о затронутых автором проблемах. Особенно широко использованы в примечаниях справки о лицах, связанных с Блоком, составленные авторами публикации "Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях" – Ю. М. Гельпериным, В. Я. Мордерер, А. Е. Парнисом и Р. Д. Тименчиком (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 5-152), т. к. в них в сжатой форме приводятся необходимые данные о взаимоотношениях того или иного лица с Блоком.
Там, где это возможно, в одном примечании комментируется целый ряд соседствующих имен. Не даются справки о тех лицах, о которых М. А. Бекетова подробно пишет в своих книгах.
Все ссылки на собрание сочинений Блока в 8 томах (М.-Л., 1960-1963) даются в примечаниях сокращенно: римскими цифрами обозначен том, арабскими – страница. Прочие сокращения:
Библиотека - Библиотека А. А. Блока. Описание. Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина, Под ред. К. П. Лукирской. Вып. 1-3. Л., 1984-1986.
Блоковский сборник (с обозначением выпуска) – Блоковский сборник. Тарту. [Вып. I] – 1964; вып. II – 1972; вып. III -1979; вып. IV -1981; [вып. V] – 1985; вып. VI – 1985; вып. VII -1986.
Воспоминания - Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1-2. М, 1980.
ЗК – Александр Блок. Записные книжки 1901-1920. М., 1965.
ЛН- "Литературное наследство" (с указанием тома и книги).
Письма к родным - Письма Александра Блока к родным. Т. I – II. Л., 1928-1932.
[1] О Ф. Д. Батюшкове см. выше, прим. 6 к гл. 14 "Биографии". О каком именно Майкове идет речь, мы не знаем. Ниже М. А. Бекетова именует его племянником поэта, Валерианой Николаевичем. Однако так звали брата поэта А. Н. Майкова, известного критика, умершего еще в 1847 г. Ни один из известных нам Майковых под эти определения не подходит.
(обратно)[2] Здесь, очевидно, какая-то путаница, т. к. академик Федор Федорович Брандт, знаменитый зоолог, скончался еще в 1879 г., т. е. до рождения Блока.
(обратно)[3] Об Анне Николаевне Энгельгардт (урожд. Макаровой, 1836-1903) и ее муже Александре Николаевиче (1823-1893) см. подробнее ниже.
(обратно)[4] Об О. А. Мазуровой и К. В. Недзвецком см. подробнее ниже. Семья К. В. Недзвецкого поддерживала отношения с Блоком только в ранние годы его жизни.
(обратно)[5] Стихи, посвященные Олениной д'Альгейм - "Темная, бледно-зеленая…" (I, 304).
(обратно)[6] Ступинская библиотека - серия детских книг, выпускавшаяся издательством А. Д. Ступина (Москва).
(обратно)[7] Более подробно об этих журналах см.: З. Г. Минц. Рукописные журналы Блока-ребенка.- Блоковский сборник, вып. II, с. 292-308.
(обратно)[8] Елизавета Ивановна Левкеева (1851-1904) – актриса Александрийского театра.
(обратно)[9] Из стихотворения Пушкина "Городок" (1814).
(обратно)[10] Буриме - стихотворения, написанные на заранее подобранные рифмы, как правило, общие для нескольких участников конкурса. Тексты этой записной книжки опубликованы: Вл. Орлов. "Здравствуйте, Александр Блок". Л., 1984, с. 122-136.
(обратно)[11] Феликс Фор (1841-1899) был в эти годы президентом Франции. В 1897 г. приезжал в Россию.
(обратно)[12] Ефим Ефимович Волков (1844-1920) и Степан Владиславович Бакалович (1857-1919?) – малоизвестные художники.
(обратно)[13] Из стихотворения Пушкина "Добрый совет" (1817?).
(обратно)[14] М. А. Рыбникова. А. Блок – Гамлет. М., 1923. Записи о спектаклях в Боблове в этой книге сделаны со слов С. Д. и Л. Д. Менделеевых.
(обратно)[15] Шарль Андрие (1845-1910) – артист французской труппы в Петербурге с 1875 г.
(обратно)[16] Эпиграф – стихотворение-двустишие Симеона Полоцкого "Розга" из "Вертограда многоцветного".
(обратно)[17] Стихотворение ориентировано на стихи и афоризмы Козьмы Пруткова. Первая строфа использует традиционную форму его афоризмов, напр.: "Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, иногда даже надтреснутому"; последняя строфа перепевает заключительную строфу стихотворения "Честолюбие":
Для значения иного
Я восхитил бы из тьмы
Имя славное Пруткова,
Имя громкое Козьмы!
(обратно)[18] Илларион Игнатьевич Кауфман (1847-1915) – экономист и статистик.
(обратно)[19] Слова, заключенные в скобки, принадлежат М. А. Бекетовой.
(обратно)[20] О судьбе автографов Блока, посланных в издательство "Скорпион" и попавших в руки к В. Я. Брюсову, см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 176-178 и особенно в предисловии Ю. П. Благоволиной к публикации переписки Блока и Брюсова (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 479-480).
(обратно)[21] Под заглавием "Знаю" и с посвящением О. М. Соловьевой вошло в первый сборник стихов Белого "Золото в лазури" (М., 1904).
(обратно)[22] Андрей Белый. Воспоминания об А. А. Блоке.- "Эпопея", 1922, N 2, с. 252-261.
(обратно)[23] Ошибка М. А. Бекетовой или опечатка: речь идет о письме Андрея Белого, полученном Блоком 13 октября 1905 г. (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с.155-157)
(обратно)[24] Письмо от 15 октября 1905 г. (VIII, 137-141).
(обратно)[25] М. А. Бекетова, верно излагая смысл письма Л. Д. Блок к Белому от 27 октября 1905 г., в кавычках приводит слова, которых в этом письме нет (см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 231). Ср. там же письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к Белому от 9 ноября 1905 г.
(обратно)[26] Письмо от 30 октября 1905 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 160).
(обратно)[27] Константин Александрович Сюннерберг (1871-1942), чаще всего выступавший в печати под псевдонимом Конст. Эрберг, оставил воспоминания, где есть раздел о Блоке. Эти воспоминания, а также письма Блока к Эрбергу (публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова) см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 г. Л., 1979, с. 99-158.
(обратно)[28] Политехникум - здесь, конечно, имеется в виду Политехнический музей, в Большой аудитории которого проходили вечера Блока.
(обратно)[29] Э. Комб. Уход за детьми, физиологический и нравственный. Изд. 4-е. СПб., 1876.
(обратно)[30] Одна книга этих сказок сохранилась в библиотеке Блока: Н. Ахшарумов. Русские сказки с рисунками для детей. СПб., 1869 (Библиотека, вып. 1, с. 15).
(обратно)[31] Ольгой Вревской персонаж "Возмездия" именовался в первом издании поэмы ("Русская мысль", 1917, N 1). В основном тексте, печатаемом в собрании сочинений, ее зовут Анна Павловна Вревская.
(обратно)[32] Мазини Анджело (1846-1926), Котоньи Антонио (1831- 1918) – итальянские певцы.
(обратно)[33] Никакими данными об этом певце мы не располагаем.
(обратно)[34] Опера Г. Доницетти "Лючия ди Ламмермур" (1835).
(обратно)[35] См. "Фауст" Гете, ч. I, сцена "Комната Гретхен".
(обратно)[36] Шатлэна (от франц. chatelaine) – владелица замка.
(обратно)[37] См.: А. Белый. Воспоминания об А. А. Блоке.- "Эпопея", 1922, N2, с. 216-217: "Этот Панченко мне показался фальшивым; сквозь напускной легкомысленный скепсис французского остроумия он пытался пустить пыль в глаза, озадачить особенным пониманием жизни. Я только раз встретился с ним, он меня оттолкнул".
(обратно)[38] См., напр.: "Мережковский ‹…› путал всегда, он – не слышал, не слушал: физиологически впитывал атмосферу происходящего, лишь извне полируя ее схематизмом своим" (там же, с. 169). См. главу "А. А. Блок и Д. С. Мережковский" (Там же, с. 189-206).
(обратно)[39] Николай Николаевич Евреинов (1879-1953) был режиссером, и автором пьес для театра "Кривое зеркало", где работал в 1910 – 1917 гг. Антитезы типа "Христос и Антихрист", "тайновидец плоти и тайновидец духа" были характерны для творческого сознания Д. С. Мережковского. В пародии на их место подставляются названия пароходной фирмы ("Кавказ и Меркурий"), обиходное название учебника математики (Малинин и Буренин).
(обратно)[40] В 1913 г., когда во время т. н. "дела Бейлиса" В. В. Розанов выступил на стороне обвинявших Бейлиса в ритуальном детоубийстве, Мережковский добился его исключения из Религиозно-философского общества.
(обратно)[41] Одним из характерных фактов публицистической деятельности В. В. Розанова было одновременное сотрудничество его в газетах с различной политической ориентацией – от консервативных (прежде всего "Новое время") до либеральных (и даже попытка сотрудничества в первой легальной газете большевиков "Новая жизнь").
(обратно)[42] См. об этом: П. Перцов. Ранний Блок. М., 1922, с. 31-36.
(обратно)[43] Ныне Таллин
(обратно)[44] "Эпопея", 1922, N 2, с. 159-165.
(обратно)[45] Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870-1920) – черносотенец, член Государственной думы, принимал участие в убийстве Распутина.
(обратно)[46] Из стихотворения Тютчева "Эти бедные селенья…" (1855).
(обратно)[47] Стихотворение Белого более известно под заглавием "Родине" и с первой строкой: "Рыдай, буревая стихия…" (Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966, с. 381-382). М. А. Бекетова цитирует его по рукописи.
(обратно)[48] Ольга Дмитриевна Форш (1875-1961) – известная советская писательница, активно участвовавшая в деятельности Вольфилы. Блок рецензировал ее пьесу "Смерть Коперника" (VI, 325-326). См.: А. Лапутина. Свидетельство современницы.- "Радуга", 1971, N 4, с. 168-174; Р. Маркова. Блок в графике Ольги Форш.- "Лит. Россия", 1976, 24 сентября; Мария Львовна Толмачева (урожд. Погодина) – детская писательница. Сохранились 4 ее письма к Блоку (ответы утрачены). Евгения Егоровна Соловьева - автор статей о детской литературе.
(обратно)[49] Речь идет о вечере памяти Пушкина, на котором Блок читал речь "О назначении поэта", Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939) – речь "Колеблемый треножник", а литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум (1886-1959) – доклад "Проблемы поэтики Пушкина". Письмо датировано, очевидно, по старому стилю (ср. с письмом А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. П. Ивановой от 16 февраля 1921 – ЛН, т. 92, кн. 3, с. 519). Описание первого вечера см.: Свидетельство очевидца. Дневниковые записи Е. П. Казанович. Публ. А. Конечного и В. Сажина.- "Литературное обозрение", 1980, N 10, с. 108-109; Владислав Ходасевич. Некрополь. Брюссель, 1939, с. 123-126. Описание второго вечера в Доме литераторов см. в дневнике К. И. Чуковского (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 254).
(обратно)[50] Николай Петрович Вагнер (псевд. Кот Мурлыка, 1829-1907) – зоолог и детский писатель, автор книги "Сказки Кота Мурлыки".
(обратно)[51] Мария Людвиговна Моравская (1889-1947). Речь идет о рукописной книге ее стихов, которую Иванов-Разумник отправлял на просмотр некоторым литераторам, в том числе В. Я. Брюсову (его предисловие к стихам Моравской "Объективность и субъективность в поэзии" сохранилось в архиве поэта).
(обратно)[52] Пушкин. "Евгений Онегин", гл. II, строфа XX: "Ах, он любил, как в наши лета / Уже не любят; как одна / Безумная душа поэта / Еще любить осуждена…"
(обратно)[53] О романсах композитора Владимира Владимировича Щербачева (1889-1952) на стихи Блока см.: Т. Болеславская. Поэзия Блока в романсах Н. Я. Мясковского и В. В. Щербачева.- Блок и музыка. М., 1972, с. 162-176.
(обратно)[54] Эдуард Берн-Джонс (1833-1898) – английский художник-прерафаэлит.
(обратно)[55] Стихи из поэмы "Двенадцать" (III, 351).
(обратно)[56] Дмитрий Михайлович Пинес (1891-1937) был историком литературы, библиографом. Основной сферой его штудий было творчество Андрея Белого.
(обратно)[57] Слегка измененная цитата из стихотворения "Успение" (1909).
(обратно)

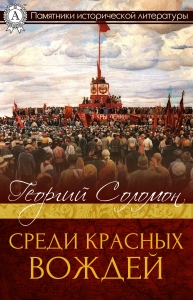
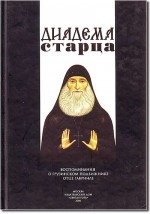
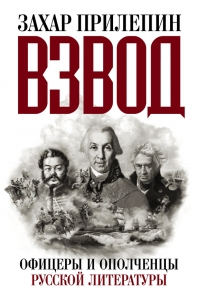


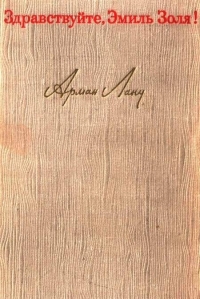
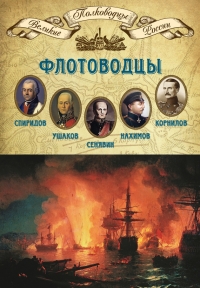

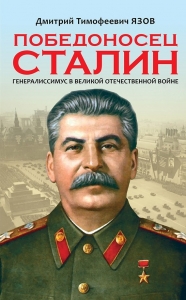
Комментарии к книге «Александр Блок и его мать», Мария Андреевна Бекетова
Всего 0 комментариев