Часть первая (1830 — 1839)
ГЛАВА I
(вступительная) Благородный пансион при Петербургском университете. — Профессора и преподаватели. — Речь на акте. — Граф Хвостов. — Письмо ко мне литератора РимскогоКорсакова. — Литературный вечер у него. — М. И. Глинка и барон Дельвиг. — Литературные шуты. — Экзамены. — Пирамида и шапочка. — Выход наш из пансиона с помощию влюбленного инженера. — Несколько заключительных слов.
Приступая к моим литературным воспоминаниям, я должен говорить и о самом себе, настолько, насколько это необходимо для связи рассказа. Я буду откровенен. Обличать самого себя труднее, чем других; но я постараюсь быть твердым и не поколеблюсь при мысли, что моя откровенность может подать повод к более или менее остроумным выходкам против меня журнальных и газетных канцеляристов. Такие выходки давно уже не производят на меня никакого впечатления. Отрешившись мало-помалу от большей части диких взглядов и предрассудков той среды, в которой я взрос и воспитался, я могу говорить о своем прошедшем, не смущаясь.
Я учился в Благородном пансионе при Петербургском университете (теперь 1-я гимназия). Перед этим я был помещен в Высшее училище (теперь 2-я гимназия), в котором я пробыл только две недели… Я умолял, чтобы меня взяли оттуда, потому что не хотел учиться вместе с детьми разночинцев и ремесленников. В двенадцать лет, несмотря на совершенное ребячество, я уже был глубоко проникнут чувством касты, сознанием своего дворянского достоинства. Мольбы мои взять меня из Высшего училища нашли не только совершенно основательными, но даже некоторые из близких мне людей рассказывали об этом своим знакомым с гордостию: "Дитя, а какие высокие чувства!" — и я выиграл этим в глазах родных и знакомых.
Меня определили в Благородный пансион. Эти благородные пансионы существовали единственно только для детей привилегированного класса, родителям которых казалось тогда обременительным и бесполезным подвергать своих избалованных и изнеженных деток излишнему труду и тяжелому университетскому курсу, наравне с какими-нибудь разночинцами и семинаристами. Курс благородных пансионов едва ли был не ниже настоящего гимназического курса, а между тем эти пансионы пользовались равными с университетами привилегиями. Некоторые профессора университета и учителя не скрывали по этому поводу своего негодования и высказывали его очень резко, особенно на экзаменах.
Они пожимали плечами, покачивали головами и справедливо замечали, что награждать университетскими привилегиями таких неучей, как мы — вопиющая несправедливость. Об этом нам особенно часто повторял учитель латинского языка, преподававший этот язык также и в Высшем училище. Он с каким-то особенным ожесточением нападал на нас.
Неблаговоспитанность его доходила до крайних пределов. Если кто-нибудь из нас не знал урока и повторял подсказываемое ему сзади товарищем, — то учитель, насупив свои густые брови, восклицал обыкновенно:
— Коли будешь слушать чужие речи, то тебе взвалят осла на плечи. — Болван!
При таких грубых выходках оскорбленные ученики поднимались со своих скамеек и в один голос говорили:
— Покорно прошу обращаться с нами вежливее. Здесь не Высшее училище. Мы дворяне.
— Ах вы, пустоголовые дворяне! — возражал учитель: — ну какой в вас толк? Да у меня в Высшем училище последний ученик, сын какого-нибудь сапожника, без одной ошибки проспрягает глагол amo, покуда я его держу на воздухе за ухо…
Профессор математики, экзаменовавший нас, обыкновенно повторял с злобою:
— Нет, никуда вы не годитесь… разве только в гусары либо в уланы.
Впрочем, некоторые профессора и учителя, самые неумолимые, строгие и грубые, оказывались не только снисходительными, даже нежными к тем из нас, которые перед экзаменом адресовались к ним с просьбою о приватных уроках. К числу таковых принадлежал и неблаговоспитанный учитель латинского языка.
Когда ученик являлся к нему перед экзаменом с просьбою о приватных уроках, учитель латинского языка обыкновенно приятно ухмылялся и говорил:
— Я предупреждаю вас, что беру за уроки дорого… 25 р. за урок. Шесть уроков для вас будет довольно. Это будет стоить вам 150 р. — и деньги покорнейше прошу вперед.
Ученик отдавал ему деньги. Учитель являлся на первый урок, объявлял ему то, что именно он спросит его на экзамене, и затем уже более не являлся на остальные пять уроков, отговариваясь неимением времени или болезнью.
К таким наставникам мы не могли питать уважения; к тому же их рутинное, пошлое, устарелое преподавание по самым жалким курсам не могло не только заохотить нас к ученью, но просто отвращало нас от этой мертвой науки — и мы принуждали себя учиться только для того, чтобы получить известный класс… Наши умственные способности нисколько не развивались; они, напротив, тупели, забитые рутиной. Бессмысленное заучиванье наизусть, слово в слово по книге, было основой учения, и потому самые тупые ученики, но одаренные хорошею памятью, всегда выходили первыми.
Пошлость, тупоумие и разные нелепые выходки наших наставников заставили нас смотреть на них как на шутов и забавляться их смешными и слабыми сторонами.
Профессор истории Т. О. Рогов, вяло преподававший историю по учебнику Кайданова — маленький, тучный человечек, страстный охотник до ватрушек, читал нам однажды об Лжедмитрии. Некоторые из учеников запаслись накануне за ужином сырниками и положили их утром разогреть в печь… Запах творога начал щекотать тонкое обоняние профессора, и он, не докончив фразы, сошел с кафедры и отправился прямо к печной заслонке, отворил ее и, запустив руку в печь, воскликнул:
— Уж тут у вас, наверно, ватрушки?
— Это, Трофим Осипович, — заметил один из учеников, — лжеватрушки, потому что это сырники.
Невинное замечание это показалось профессору оскорблением преподаваемой им науки и нарушением дисциплины. Он взглянул с любовию на сырник, положил его в печь и, обратившись к ученику, сделавшему замечание, с строгим видом произнес:
— А вот я сведу вас к инспектору за вашу неприличную и неуместную выходку! — и погрозил ученику, но потом, успокоившись, взошел на кафедру, растерев предварительно несколько плевков на полу, которых он не мог равнодушно видеть, что, конечно, заставляло учеников заплевывать весь пол перед его приходом.
Т. О. Рогов брал с нас подписку на свой курс истории. Он говорил, что этот курс у него совсем готов, стоит только приступить к печатанию, но прибавлял наивно, что он боится разбойника Полевого, для которого нет ничего священного и который, пожалуй, обругает его.
Преподаватель математики К. А. Шелейховский был еще забавнее профессора истории. Шелейховский был поэт. Рассеянный, бледный, вечно с взъерошенными волосами, он часто останавливался среди своих вычислений, бросал с негодованием мел, отходил от доски и восклицал тоненьким певучим голосом:
— Мне эта сушь надоела, господа!.. Что вам задал к переводу латинский учитель? — Дайте я вам переведу. Я ведь многие места из Саллюстия знаю наизусть…
Ученики, разумеется, с радостию исполняли его желание, и он тут же принимался переводить, забывая о своей математике.
Он не знал ни одного ученика в лицо и запомнил фамилию только одного, который ходил с костылем; но если ученик с костылем не знал урока, то на вызов учителя выходил за него другой, вооруженный костылем. Учитель никогда не замечал этой проделки.
Преподаватель прав г. Анненский, маленький, худенький господин, с черными масляными глазками и с хохолком напереди, очень смешно пришепетывавший, более всех подвергался оскорблениям воспитанников. Его никто никогда не слушал. Во время его классов разговаривали, кричали, играли под столом в орлянку и в карты, а иногда целые скамейки двигались на него, образовывали около него каре и теснили его к стене. Он сердился, плакал, выбегал из класса и второпях опускал ноги в галоши, не замечая, что они налиты квасом. Когда его перевели в Ришельевский лицей и он в последний раз явился к нам на лекцию, его прощание с нами было смешно, но вместе с тем оставило в нас тяжелое впечатление.
"Господа! — говорил он: — я просцаю вам те осколбления, котолие вы постоянно наносили мне. Ластанемся длузьями… Мозет быть, господа, кто знает?.. (и в эту минуту на глазах его показались слезы) звезда сцастия заголится для меня над Эвксинским понтом…" В этот раз над ним никто не смеялся, и когда один из воспитанников хотел при выходе его дать ему щелчок в затылок, — другие остановили его… Он крепко жал всем руки, и лицо его выражало грустное умиление от чувства признательности, что с ним в последний раз обошлись по-человечески.
Один только из всех учителей пользовался некоторою любовию и вниманием воспитанников за свой смелый и свободный образ мыслей. Это был учитель российской словесности В. И. Кречетов, издавший поэму Подолинского "Див и Пери" с кратким предисловием, в котором сказано было, что "это такой цветок в вертограде нашей словесности, мимо которого нельзя пройти не полюбовавшись". Кречетов был из семинаристов. Он имел с небольшим лет 30, был высокого роста, коренастого телосложения, с орлиным носом, с головою в форме груши, как у Людовика-Филиппа, покрытою белокурыми волосами с завитками на висках. Волосы эти начинали редеть, что, повидимому, его беспокоило, потому что он имел некоторое поползновение к светскости и щегольству, и он беспрестанно запускал свои пальцы в волосы, отряхал пальцы перед глазами, брал для чего-то выпавший волос, рассматривал его и раздирал не без некоторого ожесточения. Он имел также особую манеру сморкаться: вынимал из кармана чистый платок, встряхивал его, высмаркивался в самый кончик, завертывал его тщательно и потом оскаливал зубы и потрясал головою… Большим красноречием он не обладал, но вздувал и взмыливал свои фразы, добавляя недосказанное жестами рук и различными телодвижениями. Смелость и свободный образ мыслей его заключались в том, что он открыто и прямо называл Пушкина великим поэтом и даже приносил нам его новые стихотворения, прочитывал их и разбирал их красоты. Тогда это была действительная смелость, потому что даже имя Пушкина, как безнравственного и либерального писателя, нельзя было произносить в учебных заведениях.
Кречетов притом подсмеивался над всеми пиитиками и реториками и говорил, что он только по необходимости преподает нам все эти пошлости. Он занимал нас рассказами о своих литературных связях и, упоминая о Баратынском и Дельвиге, обыкновенно прибавлял: мой Дельвиг, мой Баратынский, или мой Евгений. Из древних писателей, знакомством которых он любил щегольнуть, Кречетов более всех восхищался Горацием и называл его также — мой Гораций.
Он любил подтрунить при случае над другими нашими преподавателями и называл их с презрительной гримасой глупыми староверами; нередко намекал нам о том, что у него в голове роятся тысячи мыслей, но что недостаток времени не дает ему возможности олицетворить эти мысли в поэтические образы. Один из всех наших учителей — он отзывался с уважением о Полевом и о его "Московском телеграфе". Кречетов обращался с нами поприятельски, не давая чувствовать силу своей учительской и начальнической власти, как другие, и обнаруживал особенное расположение к тем воспитанникам, у которых начинала проявляться страсть к русской словесности. В течение своего годового курса он почти не упоминал нам о реторике и только к концу года, перед экзаменом, давал нам небольшую тетрадку, заключавшую в себе реторику и пиитику вместе, для заучивания наизусть… На лекциях же занимался разбором наших сочинений, подтрунивал и острил над ними, декламировал нам стихи Державина, Батюшкова, Жуковского, Козлова и, втайне от начальства, Пушкина, Баратынского, Языкова и Дельвига. Он представлял нам характеристики этих поэтов, рассыпая в страшном количестве прилагательные. Он красноречиво говорил, что строй лиры Державина отличается необыкновенною возвышенностию, что Державин высоко парит, как орел, и гордо ширяет в поднебесьи (и при этом размахивал руками); что смелостию и яркостию фантазии, блеском и роскошью своих образов и картин он равняется с древними скандинавскими бардами; что Батюшков напитался классическим духом и заимствовал у классиков их пластицизм, что Жуковский и Козлов ввели нас в мир таинственный и новый и познакомили нас с романтизмом (слово «романтизм» Кречетов обыкновенно произносил в нос) и пр.
Любимыми словами Кречетова при таких характеристиках были: полнота, округлость, сочность, музыкальность, гармония, — и он беспрестанно повторял их при разборе новейших поэтов, особенно Пушкина и Языкова. Произнося слова «сочный», "округлый", он как бы подтверждал окончательно эту полноту и округлость движениями рук.
Однажды Кречетов явился к нам в класс с таинственным и торжествующим видом. Он сел на свой стул, провел рукою по волосам и, разодрав выпавший волос, обозрел всех нас значительно, потом высморкался в кончик платка и произнес:
— В последних числах сентября… — В последних числах сентября! — повторил он еще выразительнее и приостановился на минуту. — Господа! — продолжал он, — ну что, кажется, может быть обыкновеннее, пошлее, вседневнее, прозаичнее этих слов? Эти слова мы произносим ежедневно, ежеминутно, в самых ничтожных разговорах… В последних числах сентября… Какая проза! А между тем, господа, это первый стих прелестной, игривой, бойкой, ловкой, остроумной поэмы, которая вся искрится поэзией… Вы думаете, что я шучу — нисколько… Этими словами начинается новая поэма Пушкина: "Граф Нулин".
И вслед за тем Кречетов прочел нам несколько отрывков из «Нулина», все, однако, посматривая на дверь со стеклами, выходившую в коридор, в которую нередко заглядывали инспектор или его помощник.
Окончив чтение, он воскликнул:
— Начать поэму такими пустыми, прозаическими словами: в последних числах сентября — это, господа, я вам скажу, величайшая поэтическая дерзость… Только Пушкин мог решиться на это. Вот что значит гений!.. Вы, однако, господа, — прибавил Кречетов, — не рассказывайте о том, что здесь говорится и читается, вашему начальству. Сору из избы выносить не надо…
— Как можно! сохрани бог! — закричали воспитанники в один голос.
После этого понятно, почему они Кречетова любили и почему ставили его выше других преподавателей, хотя он не отличался от них ни особенными знаниями, ни особым умом, ни даже блеском слова.
На меня Кречетов обращал большое внимание, потому что я по-русски писал правильнее других и представлял сочинения, которые ему очень нравились.
С пятнадцатилетнего возраста у меня развилась страсть к чтению и литературе. Я с жадностию и приятным трепетом перечитывал все тогдашние альманахи, особенно "Северные цветы"; романы Вальтер-Скотта; главы «Онегина», выходившие отдельно, и некоторые статьи в "Московском телеграфе". У немногих из моих товарищей также начинала пробуждаться любовь к чтению, и около меня собирался небольшой кружок слушателей.
Украдкою от начальства, под видом повторения уроков, мы таким образом каждый вечер сходились в классе читать романы Вальтер-Скотта или «Телеграф». В «Телеграфе» более всего занимали нас статьи о театре г. Ушакова, в которых кстати и некстати говорилось обо всем на свете, и статьи полемические и критические самого Полевого. Чтения эти все-таки хоть сколько-нибудь способствовали к нашему развитию; но чем более мы приобретали привычку к чтению, тем сильнее чувствовали отвращение к учению, к той науке, которую преподавали нам. Я знал множество стихов наизусть, пробовал сам писать стихами и наконец начал года за полтора до выпуска издавать журнал, подражая в форме "Московскому телеграфу". В этом журнале были повести, стихи, критика, смесь, все как следует. Я показал Кречетову первый нумер этого журнала и он, пробежав его, остался очень доволен.
В пансионе начинали смотреть на меня как на будущего литератора, и воспитанники, плохо знавшие грамоту и не имевшие никакой фантазии, стали прибегать ко мне с просьбами писать для них сочинения на задаваемые им темы. Я исполнял эти просьбы очень охотно, тем более что это не составляло для меня никакого труда. Я уже начал набивать руку.
Не помню, кто-то из наших преподавателей вдруг в один прекрасный день, ко всеобщему изумлению, вздумал бог знает почему вооружиться против заучивания уроков наизусть, слово-в-слово, и потребовал, чтобы ему уроки рассказывали своими словами. Как забрела ему в голову такая фантазия — неизвестно, но это привело многих учеников, даже из первых, в величайшее беспокойство. Один из таких подошел ко мне однажды.
— У меня до тебя большая просьба, — сказал он.
— Что такое?
— Да вот** выдумал глупость, чтобы своими словами говорить уроки. Я думаю вот что… Надо только начать своими словами, а потом можно валять по книге. Он не заметит.
Только ты, пожалуйста, запиши мне, как начать своими словами — я и выучу это наизусть, а потом буду продолжать по книге. Ты у нас сочинитель, тебе это нипочем, ты сумеешь это сделать.
Воспитаннику этому уже было шестнадцать лет.
Я исполнил его желание. Он вызубрил мои слова, и потом всякий раз прибегал ко мне с тем же.
Не мешает заметить, что он кончил курс одним из первых и впоследствии, вступив на военное поприще, обратил своими талантами особенное внимание начальства и достиг видного положения.
Кречетов был еще более оценен нами, когда мы перешли в выпускной класс. В этом классе преподавал словесность известный профессор, автор "Военного красноречия" Я. В.
Толмачев. Яков Васильевич питал закоренелую ненависть ко всему живому и современному.
Он упорно остановился на Державине и даже неохотно упоминал о Батюшкове и о Жуковском. Карамзина он уважал за его историю, и то более потому, что Карамзин читал первые ее главы августейшим лицам и был признан официально историографом.
— Я, друзья мои, — говорил он нам с чувством гордости, — тридцать уже лет ничего не читаю, потому что убежден, что теперь пишут все пустяки.
Когда мы заговаривали с ним о Пушкине или декламировали его стихи, он махал рукою и перебивал, затыкая уши:
— Перестаньте! перестаньте! это все пустяки и побрякушки: ничего возвышенного, ничего нравственного… и кто вам дает читать такие книги?..
О Полевом он не мог слышать равнодушно…
— Это мерзавец! — говорил он, дрожа всем телом, — безграмотное животное, двух строк со складом и правильно не может написать… Лавочник, целовальник, а осмеливается безнаказанно оскорблять людей пожилых, чиновных и ученых!
— Как же вы знаете, что Полевой безграмотный, — возражали мы, — ведь вы сами говорите, что вы тридцать лет ничего не читали?
— Да мне попалась недавно, — отвечал он с неизъяснимым добродушием, — у кого-то из знакомых случайно книжонка, в которой была напечатана между прочим и его чепуха. Я прочел несколько строк и ужаснулся… Да что я говорю, лавочник! Всякий лавочник, друзья мои, напишет правильнее его.
Яков Васильевич задал нам однажды сочинения. Я выписал начало повести Полевого (кажется, "Сохатый") и представил ему выписку за собственное сочинение.
Яков Васильевич читал долго и внимательно, останавливался на каждом периоде и был восхищен изящностию слога, мастерством оборотов и грамматическою правильностию этого сочинения…
— Молодец, друг мой, молодец! — говорил он. — Хорошо, очень хорошо… — И он качал головою от удовольствия. — Я вам скажу, друзья мои, что такой слог сделал бы честь и опытному писателю… Не поправлял ли, впрочем, тебя кто-нибудь? — прибавил он через минуту задумчиво.
— Нет, никто, Яков Васильевич, — бойко отвечал я, — я это написал сразу-с, без всяких поправок.
— У тебя талант, друг мой, талант!
И с тех пор Толмачев относился ко мне с особенным вниманием и рекомендовал меня инспектору и помощнику инспектора.
В день публичного акта, при выпуске, я подошел к Толмачеву.
— Я виноват перед вами, Яков Васильевич, — сказал я, — я вас обманул. Я вам выдал чужое сочинение, которым вы были так восхищены, за свое… Ведь это вы так восхищались слогом Полевого. Я подал вам подстрочную выписку из Полевого. Видите ли, он, однако, не так безграмотен, как вы говорите.
Толмачев нахмурился, взглянул на меня сначала неблагосклонно, но потом улыбнулся и сказал:
— Что ты, мой друг, какой вздор говоришь!
— Спросите у моих товарищей, если не верите.
— И верить не хочу, и спрашивать не буду, — отвечал Толмачев решительно и отвернулся.
Я, впрочем, еще прежде этого имел счастие обратить на себя внимание Якова Васильевича.
Когда он вошел в первый раз к нам в класс и прочел список новых выпускных воспитанников, он остановился с видимым удовольствием на моей фамилии.
— А что, г. Панаев, — спросил он, — вы родственник тому Панаеву, который написал "Идиллии"?
Этот вопрос преследовал меня. Все начальники и учителя предлагали его мне при вступлении моем в пансион.
— Да, родственник, — отвечал я.
— И близкий?
— Племянник.
— А-а-а! — протянул Толмачев значительно. — «Идиллии» вашего дядюшки образцовые идиллии, единственные у нас в этом роде. Я хоть тридцать лет ничего не читаю, но для Панаева я сделал исключение и прочел его «Идиллии» с великим удовольствием.
Я сделался любимицей Якова Васильевича, хотя не заслужил этого ничем, кроме того, что был племянником моего дяди, не разделяя вовсе мнения достойного профессора об его идиллиях.
Для публичного акта Толмачев задал мне написать речь О значении русской словесности, что-то вроде этого. Задача эта привела меня в совершенный тупик. Я мог с успехом написать сочинение о захождении или восхождении солнца, поездку в Парголово или в Нарву, но как же рассуждать о значении словесности? Я знал несколько стихов Ломоносова и Державина, которые заставляли меня выучивать наизусть; незаметно и добровольно заучил почти всю первую главу «Онегина» и несколько стихотворений Жуковского, Батюшкова, Языкова, перечел все новейшие альманахи и критические статьи в «Телеграфе» — но этим и ограничивались все мои бессвязные знания. Что ж я напишу? Этот вопрос долго мучил меня. Наконец я принялся перечитывать «Телеграф» и написал какую-то нелепую статью, составленную из разных телеграфских критик. Я приделал к ней кое-как фразистое, нелепое заключение, но чувствовал, однако, что все это никуда не годится.
Толмачев взял мою несчастную компиляцию для просмотра домой и потом возвратил мне ее с улыбкой.
— Нет, друг мой, — сказал он, — ты напорол дичь. Уж ты не беспокойся. Я сам для тебя напишу речь такую, какую надобно.
Смысл этой речи я совершенно забыл, да, кажется, в ней и не было никакого смысла.
В заключение, как водится, было обращение к государю и изъявление чувства благоговейной признательности августейшему покровителю просвещения за попечение и заботливость об нас.
Я показал эту речь Кречетову. Он перелистовал ее и бросил с презрением.
— Избитые места, пошлость, ни одной живой, свежей, сочной мысли, ничего эдакого… эдакого…
И руки Кречетова пришли в движение для объяснения этого, но ничего не объясняли.
Он повторил еще раз эдакого, махнул рукой и прибавил:
— Э! да впрочем, чего ждать от старика, выжившего из ума?.. А можно бы написать славную речь, пропитанную свежими мыслями, обделать ее эдак изящно, как игрушечку…
Начались репетиции в публичной зале. Я читал бойко, четко, с ударениями, с возвышениями и понижениями голоса, не обнаруживая ни малейшего смущения. Инспектор, его помощник, гувернеры — все были в восторге от моего чтения, и я был совершенно счастлив. На одну из репетиций явился и попечитель К. М. Бороздин — человек очень тихий и добрый. Он также отозвался об моем чтении с большой похвалой.
— Было бы недурно, — заметил он мне, — если бы вы при заключительных словах обратились к портрету государя императора, приподняли правую руку и постарались бы прослезиться.
Я обещал — и действительно прослезился… при мысли, что внизу меня ожидает щегольской сюртук и что через десять минут я буду совершенно свободен…
Это были слезы нервического восторга; я бы заплакал в эту минуту без всяких фраз и речей. Бойкость, с которою я произнес речь, и мои заключительные слезы произвели, как видно, сильное впечатление не только на почетных посетителей, присутствовавших на акте — на неизбежного графа Хвостова и других, но даже на самого министра народного просвещения князя Ливена, и когда меня вызвали для получения из рук его аттестата на чин двенадцатого класса, он сказал мне:
— Я ожидал, что вручу вам аттестат на десятый класс. Отчего же вы не получили десятый класс?
— Я не имею, ваше сиятельство, способностей к математике и потому… — начал я, заикаясь.
— Жаль, — перебил меня министр, — что я не знал этого прежде.
Я раскланялся, взял аттестат и хотел броситься вниз переодеваться, как несколько воспитанников закричали мне:
— Панаев, тебя спрашивает граф Хвостов. Делать было нечего. Я вернулся.
Граф Хвостов, согбенный старец, в поношенном мундире с потускневшим шитьем и с анненскою порыжевшею лентою через плечо, когда я подошел к нему, обратился ко мне с следующими словами:
— Ваша речь прекрасна и вы прочли ее с ораторским искусством. Вам делает большую честь, что вы любите отечественную словесность… А Владимир Иваныч Панаев вам родственник?
— Он мой дядя.
— Похвально, — заметил Хвостов, задумчиво и как будто про себя.
"Для кого же похвально? — подумал я, улыбаясь невольно. — Для меня, что я имею такого дядю, или для моего дяди, что он имеет такого племянника?" — Владимир Иваныч — мой хороший приятель, — продолжал Хвостов: — я пришлю к нему перевод мой «Сатир» Буало для передачи вам, с моею надписью. Это дар вам от старого поэта, которому вы доставили истинное удовольствие своею речью.
Я раскланялся и убежал переодеваться. «Сатиры» были присланы Хвостовым к Панаеву на другой же день, но я забыл их взять — и они так и остались в библиотеке моего дяди.
Но я еще на минуту вернусь к последним дням моей пансионской жизни.
Кречетов поддерживал связи и знакомства почти со всеми кончившими курс в пансионе и имевшими поползновение к литературе или к каким-либо искусствам вообще. К числу таких его бывших воспитанников, сделавшихся потом его приятелями, принадлежал, между прочим, Римский-Корсаков, напечатавший в конце двадцатых годов несколько стишков и сделавшийся известным своей эпиграммой к плохому стихотворцу. Начало этой эпиграммы я не помню, но она оканчивалась так: — его стихи Как пол лощеный гладки, На мысли не споткнешься в них…
Эти два стишка произвели величайший эффект. Они поразили своим остроумием и потому, вероятно, приводились беспрестанно кстати и некстати всеми критиками тогдашнего времени.
Римский-Корсаков жил неподалеку от пансиона, на Загородном проспекте, и в это время (в 1829 г.) у него на квартире остановился больной М. И. Глинка, товарищ его по пансиону, известный тогда уже удачным переложением на музыку нескольких стихотворений Пушкина и других. Кречетов зарекомендовал меня им. Он отзывался с большою похвалою о моей страсти к литературе и о моих литературных способностях.
В один день, когда мы гуляли в саду после обеда, сторож подал мне небольшую рукопись и письмо.
Я распечатал это письмо и прочел не без удивления следующее:
"Простите, что я, не имея удовольствия лично знать вас, но много наслышавшись от В. И. Кречетова о вашей любви к литературе и о вашем таланте, — решаюсь беспокоить вас следующим вопросом: не желаете ли вы приобрести прилагаемую при сем мою небольшую поэму за 15 рублей (тогда считали на ассигнации), чем вы премного меня обяжете, выведя меня из затруднительного денежного положения, в котором я нахожусь в сию минуту. В ожидании вашего ответа, остаюсь и проч.
Ваш покорный слуга
Римский-Корсаков".
Письмо это подействовало сильно на мое самолюбие. Я пришел в восторг при мысли, что меня знают известные литераторы и адресуются ко мне с такими просьбами. Я тотчас же принялся за чтение поэмы Корсакова, которая мне очень понравилась. Если бы у меня были в эту минуту 15 рублей, я сейчас приобрел бы, разумеется, поэму и почитал бы себя счастливейшим человеком в мире, издав ее. Но кроме 15 руб., на издание ее требовалась порядочная сумма — рублей по крайней мере 100 ассигнациями, а у меня не было и гривенника. Занять было не у кого. Я сообщил о моем горе одному из моих товарищей, очень любившему меня. Товарищ обещал мне сначала занять для меня 15 рублей у своего брата, но потом объявил мне с прискорбием, что у него не хватило на это смелости. Я должен был отослать поэму автору с извинением, что при всем моем искреннем желании никак не могу исполнить его просьбы.
Римский-Корсаков, повидимому, не обиделся моим отказом, потому что через два месяца после этого он пригласил меня к себе через Кречетова на литературный вечер…
Это уже было для меня совершенным торжеством.
— Вы тут увидите всех известных литераторов, — заметил мне Кречетов, — и, между прочим, моего доброго Дельвига.
У меня сердце захлебывалось при мысли об этом вечере. Так как вечер назначен был в воскресенье на маслянице, а в 9 часов я должен был уже быть в пансионе, то Кречетов выпросил для меня дозволение явиться двумя часами позже.
Я перешагнул за порог Корсакова с благоговейным трепетом и робостию, но хозяин дома, человек высокий, тучный и апатичный, ободрил меня своею бесцеремонностию и добродушием и тотчас же познакомил с М. И. Глинкою, который обошелся со мною совершенно по-товарищески, расспрашивал меня о своих старых наставниках (он воспитывался также в благородном пансионе) и пародировал их чрезвычайно удачно. Глинка был в этот вечер жив и весел, несмотря на расстройство своего здоровья; он заливался, как колокольчик, и особенно удачно воспроизводил нашего учителя логики и письмоводителя пансионной канцелярии И. А. Колмакова, про которого С. А. Соболевский, сделавшийся известным впоследствии своими меткими эпиграммами, хотя они никогда не появлялись в печати, и дружбой с Пушкиным, написал, еще будучи в пансионе, следующее четверостишие:
Наш учитель Колмаков Умножает дураков; Он жилет свой поправляет И глазами все моргает.Глинка до такой степени воплотил в себе комическую личность Колмакова, что уже потом, лет через десять после его смерти, олицетворял старого учителя с искусством поразительным, представляя, что бы Колмаков делал и говорил при таких или других обстоятельствах, в таком или другом положении. Если бы Колмаков воскрес, он действительно в таких обстоятельствах и при таких положениях не мог бы поступать и говорить иначе.
Квартира Римского-Корсакова состояла из трех небольших комнат, обставленных коекакою мебелью. Эти комнатки мало-помалу начинали набиваться гостями и наполняться табачным дымом… Я сидел в уголке и робко взглядывал на каждого нового незнакомца, предполагая в нем непременно литератора. Из первых явился идеал Глинки, Иван Акимович Колмаков. Он обнялся и расцеловался с Глинкой.
Колмаков говорил отрывисто.
— Рад, — говорил он, обращаясь к Корсакову и Глинке, — душевно рад видеть вас…
Хорошие приятели, мудрая беседа, бутылка доброго вина — услада жизни… Ты поэт, он музыкант — suum cuique!
И при каждом слове он моргал и обдергивал свой жилет. Вместе с Колмаковым явился господин огромного роста и с мрачным, педантическим выражением лица, бывший преподаватель чего-то в пансионе, некто г. Огинский, которого я лет через пять после этого встретил на литературном вечере у графа Хвостова, где он читал свой трактат "Об огне".
Кречетова я застал уже у Корсакова. Он расхаживал как у себя дома, был в очень приятном расположении духа и заранее уже, кажется, предвкушал предстоящий ужин, потому что был большой охотник поесть, сам себя называл гастрономом и считал себя тонким знатоком вин.
Львом вечера был барон Дельвиг, нисколько, впрочем, не походивший на льва.
Дельвиг был среднего роста, имел вялые манеры, очень мягкое и симпатическое лицо и както задумчиво и вместе добродушно посматривал сквозь свои золотые очки. Он приехал позже других, и при его появлении все всполошились, начиная с хозяина дома. Один Глинка, который был короток с Дельвигом, сохранил обычное спокойствие. У меня билось сердце и я не спускал с него глаз. Мне было невыразимо лестно сидеть в одной комнате с таким знаменитым литератором и притом еще другом Пушкина…
Дельвиг уселся на диван, другие расположились почтительно около него; хозяин дома ухаживал за ним, как подчиненный за начальником. Кречетов беспрестанно заговаривал с ним, стараясь показать свою фамильярность; но Дельвиг, отвечая ему, посматривал на него с полуулыбкою, которая показывала, что он не принимает его слишком серьезно…
Когда Дельвиг и все около него уселись, я навострил уши. "Ну, — подумал я, — вот теперь-то пойдет речь о литературе". Однако ожидания мои были обмануты. Дельвиг говорил мало, о литературе ни слова; только на вопрос о «Подснежнике» сказал, что он выйдет на днях, и показал виньетку к нему, нарисованную Лангером, которая начала переходить из рук в руки. Говорил более всех Глинка, который завел Колмакова и Огинского, чтобы показать их во всем блеске. Колмаков, обдергивая свой жилет и моргая глазами, произнес вроде речи, пересыпав ее цитатами из Цицерона и Горация.
Глинка аплодировал ему, и отовсюду раздавались восклицания "bravo!" Кречетов более всех глумился над Колмаковым.
— У вас прекрасный ораторский талант, — заметил, улыбаясь, Дельвиг.
— Благодарю, барон, за похвалу, — воскликнул Колмаков, — но красноречие приобретается, а поэзия врожденный дар… Oratores fiunt, poetae nascuntur.
Колмаков имел своего рода находчивость, и когда ему кто-то из учеников проговорил однажды:
Наш учитель Колмаков Умножает дураков…— он моргнул, обдернул жилет и перебил:
— Неверно! следует сказать:
Наш учитель Колмаков Обучает дураков…Замечательно, что логика, которую преподавал нам Колмаков, начиналась следующими замечательными словами:
"Философию можно понимать как науку или как способность… Как науку…" Далее уже я не помню; но хорошо и это начало.
Весь литературный вечер прошел в том, что хозяин дома, Глинка, Дельвиг и Кречетов подстрекали Колмакова и Огинского на разные нелепые выходки и подтрунивали над ними.
Колмаков и Огинский забавляли и развлекали общество и бессознательно играли роль шутов.
Мне показалось, что и мой друг Кречетов был близок к этой роли. В то время как он острил над Колмаковым и Огинским, над ним также подтрунивали и довольно резко, что меня и огорчало и удивляло вместе; но Кречетов не замечал этого и, повидимому, был очень доволен собою и своими шуточками.
Четыре часа пролетели для меня, как одна минута… Уже в одной из комнат расстилалась салфетка на столе, слышался гром ножей, вилок и тарелок, уже раздавалось шипение из кухни и распространялся в комнатах запах кухонного чада, смешиваясь с табачным дымом. Был двенадцатый час в начале. Мне должно было отправиться в пансион, и я отправился почти со слезами на глазах.
На другой день Кречетов объявил мне, что ужин был составлен из простых, но сытных блюд и вина были очень тонкие; что Колмакова и Огинского напоили и потешились над ними вдоволь; что вообще было очень весело; что он своего Дельвига провожал потом домой и что дорогою они высказали друг другу очень много новых и дельных мыслей о литературе, но не упомянул, впрочем, каких.
Кречетов сообщил мне впоследствии, что этот литературный вечер дан был на занятые деньги, что Римский-Корсаков любит жить широко, только, к сожалению, отец его — очень богатый и скупой человек — совсем не высылает ему денег и потому он находится всегда в стесненном положении; но зато уж если к нему как-нибудь попадут деньги, он задает сейчас же угощение приятелям и истрачивает всё до копейки. "Он славный и добрый малый, с горячим сердцем", — прибавил Кречетов в заключение.
После этого литературного вечера я только и грезил, как бы поскорей окончить курс наук и сделаться литератором. Мы высчитали, сколько месяцев, дней, часов и минут остается нам пробыть в пансионе и вычеркивали каждый день…
Время тянулось мучительно. Весна, однако, приближалась… и наступила. На огороде против пансиона начинала подниматься спаржа — несомненный признак скорых экзаменов.
При мысли об них холодный пот выступал у меня на спине. Начальство было ко мне очень расположено и предполагало, что я должен выйти одним из первых, потому что первый год после вступления в пансион я учился очень прилежно, то есть отвечал уроки без запинки, слово-в-слово по учебникам; впоследствии это опротивело мне, и я перестал заниматься, но уже слыл, по преданию, прилежным и способным учеником. Я отличался также примерным благонравием, а известно, что в то время (я не знаю, как теперь) благонравие ставилось гораздо выше прилежания. Но все-таки участь моя зависела от экзамена. "Ну что, если я опозорюсь и обману ожидания родителя и начальства?" Мне хотелось выйти 10-м классом, но я сознавал невозможность этого, потому что не имел никаких способностей к так называемым положительным наукам и особенно к математике. У нас проходили дифференциалы и интегралы, а я, как Митрофанушка, не знал даже простого деления!..
Самолюбие мое очень страдало, а спаржа в огороде поднималась все выше и выше. До экзаменов оставалось не более 7 дней.
Мы начинали вставать вместе с солнцем, чтобы приготовляться. Я уже заметил, что все учение наше основывалось на одной памяти, следовательно память была нам нужнее всего, а я, к сожалению, никогда не отличался хорошею памятью; к тому же она значительно притупилась у меня от бессмысленного долбления. Лениво поднимали меня с постели мои товарищи в 4 часа утра. Я брал груду книг и тетрадей и отправлялся в класс. Солнце ярко светило. В этот год (1830) весна в Петербурге была очень ранняя и жары начались с мая месяца. В классе было душно. Я хватался то за одну, то за другую учебную тетрадь или книгу с судорожным беспокойством, а между тем дремота долила меня и пот градом катился с лица. Я до сих пор не могу без отвращения вспоминать об этом времени.
Несколько экзаменов сошло с рук довольно удачно, но еще впереди был экзамен в математике, о котором большая часть из нас помышляла с ужасом. Из 15 выпускных воспитанников только пять отличались кое-какими математическими способностями, остальные уподоблялись мне.
Преподавал у нас математику, как я сказал уже, поэт Шелейховский, а экзаминатором был профессор Д. С. Чижов, одно имя которого мы произносили с трепетом, до того он казался нам строг и неумолим. За два дня до экзамена я ходил как убитый. "Что со мною будет?" Эти роковые слова я шевелил в устах, как Каин имя Авеля в стихах профессора Шевырева.
Накануне экзамена я почувствовал себя нездоровым и помышлял было уже о больнице, но некоторые из товарищей, решившиеся всю ночь посвятить приготовлению, уговаривали меня присоединиться к ним.
— Да ведь я уж ничему не выучусь в одну ночь, — печально возразил я.
— Конечно, но все-таки лучше, мы тебе советуем.
И я последовал их бесполезному совету. Один из воспитанников повторял с мелом у доски, беспрестанно исписывал и стирал доску и очень бойко стучал мелом. Я ничего не понимал, глаза мои слипались, и я заснул…
Роковое утро наступило…
На небе не было ни облачка. Солнце светило досадно ярко, как будто для того, чтобы осветить сильнее мой позор.
Экзамен был назначен в 10 часов.
Я сидел у окна, выходившего на улицу, и каждый проезжий издали казался мне Чижовым. Сердце мое беспрестанно замирало, и я чувствовал необыкновенную слабость.
Пробило 11 часов, а Чижов не появлялся. Нас потребовали в публичную залу. Я соскочил с окна с радостным криком:
— Господа! господа! Чижова уж, верно, не будет!
Но Чижов вдруг, как будто выросший из-под пола, очутился передо мною.
У меня помутилось в глазах и я чуть не упал…
По списку я стоял шестым. В отметке против меня значилось, что я имею отличные сведения в математике.
Вызывали по два воспитанника разом: один отвечал, другой приготовлял ответ на доске.
Дошла очередь до меня. Я подошел к экзаминаторскому столу, вынул билет, развернул его и прочел громко, ничего не поняв.
Инспектор наш, человек очень добрый, даже нежный, мягким и ласковым голосом сказал мне:
— Покуда будет отвечать г. X, вы нам, душенька, и изложите на доске то, что у вас в билете.
"Да, легко сказать — изложить!", подумал я и подошел к доске, взял мел, снова развернул зачем-то билет и прочел его, хотя знал, что это совершенно бесполезно. В отчаянии я начал чертить на доске какую-то геометрическую фигуру.
Товарищи мои знаками вызвали Шелейховского и сказали ему, чтоб он помог мне.
Шелейховский подкрался к моей доске и начал подсказывать мне, робко озираясь…
— Ну, вы понимаете дальше? — шепнул он мне.
— Ничего я не понимаю и ничего не знаю, — сказал я, опуская мел.
— Как! Так вы ничего не знаете! — с ужасом громко воскликнул Шелейховский.
На это восклицание Чижов и инспектор обратились ко мне.
— Что такое? Извольте прочесть ваш билет, — сказал мне строго Чижов.
Я прочел.
— Ну-с, отвечайте.
Я изложил кое-как подсказанное мне Шелейховским, беспрестанно путаясь, и остановился…
— Что же далее? Я молчал.
Чижов предлагал мне тысячу вопросов; он мучил меня, бог знает для чего, около часа.
Я стоял безмолвно, едва удерживая слезы и печально опустив руку, в которой держал мел…
Чижов наконец оставил меня, пожал плечами и обратился с досадою к Шелейховскому.
— Каким же образом вы показали, что он имеет отличные сведения, когда он понятия ни о чем не имеет? И это выпускные воспитанники, получающие университетские права! — продолжал Чижов, придравшись к своей любимой теме и обращаясь к инспектору. — Что же я поставлю такому господину? Он, верно, прочит себя в гусары, а либо в уланы…
Инспектор был очень огорчен за меня и начал что-то вполголоса говорить Чижову, но Чижов строго и упорно качал головою.
— Мне до этого нет дела, — отвечал громко Чижов, — в моем предмете я все-таки обязан поставить ему нуль.
В отчаянии, со стыдом и со слезами на глазах и весь в мелу, вышел я из публичной залы, вошел в класс, бросился на скамейку и зарыдал.
Ко мне подошел Павлов, один из товарищей, бывший на отличном счету у начальства, которому он очень ловко подслуживался. Павлов учился на 10-й класс; папенька обещал ему подарить рысака, если он выйдет десятым классом. "Способностями бог его не наградил" и даже не дал доброго сердца. При весьма ограниченном уме и способностях он был пропитан лицемерством и лестию.
При виде моего отчаяния Павлов скорчил добродушную и вместе плачевную гримасу и произнес со вздохом:
— Мне ужасно жаль тебя, братец! Ведь с нулем тебя не выпустят из пансиона. А мне так Чижов поставил четыре, теперь уж я непременно выйду десятым классом!
С таким же утешением он не совсем удачно подошел к другому воспитаннику, с характером гораздо решительнее моего и также получившему нуль в математике.
Воспитаннику с решительным характером не понравилось участие товарища и он нанес ему очень значительную неприятность, которую тот перенес с похвальным смирением и кротостию.
Эти добродетели, в соединении с лестью и лицемерием, были, говорят, полезны для него на служебном поприще, так же как и в школе. И здесь и там он достиг того, к чему стремился: при выпуске — награжден правом на чин 10 класса и рысаком, а на службе — чином действительного статского советника и званием камергера… Теперь у него не один рысак, а целый завод орловских рысаков, лента через, плечо, золотой мундир с ключом сзади, которым он щеголяет в торжественные дни в своем губернском городе, во время отпусков, стоя на губернских выходах об руку с губернатором и предводителем дворянства. Он величественно говорит: "У нас при дворе… Мы опора трона, наши права…" и тому подобные блестящие фразы.
Обратимся, однако, к экзамену. Горесть моя начинала мало-помалу смягчаться и утихать, по мере того как мои товарищи возвращались с экзамена в таком же положении, как я, то есть: с нулями в экзаминаторском списке и с отчаянием в сердцах. Таких возвратилось уже человек до четырех. "Ну, по крайней мере не один я". Эта мысль утешила меня. После обеда, поободрившись, я отправился в публичную залу. Был уже шестой час. Оставалось человек недоэкэаменованных пять. Чижов был в самом свирепом расположении. Шесть нулей красовалось уже на листе. Поставив последний нуль при самом моем входе в залу, Чижов обратился к Шелейховскому с вопросительной иронией:
— Что же это такое, наконец?
Шелейховский схватил себя за голову, взъерошил волосы и вскрикнул каким-то отчаянным, раздирающим голосом:
— Боже мой! да чем же я виноват? Что мне с ними делать?..
Но это еще были цветочки, — ягодки впереди.
Передпоследним Чижов вызвал Татищева. Татищев был сын богатого помещика, провинциального аристократа, необыкновенно довольного собой, гордившегося тем, что у него в гербе княжеская корона, и оравшего во все горло. Он часто являлся в пансион к сыну и возбуждал своим криком и манерами общий смех… Сын очень походил на отца, кричал так же громко и хвастал перед товарищами своим богатством и своей княжеской короной.
Товарищи обращались с ним как с шутом, но, несмотря на это, любили его, потому что он был до крайности наивен и добр. Он написал однажды сочинение для Кречетова, которое начиналось так:
"Солнце склонилось к западу. Был прекрасный и тихий вечер. Филомела пела, а соловей свистал…" С этой «филомелой» потом не давали ему прохода.
Отец объявил ему, что если он получит 10-й класс, то он будет выдавать ему в год по 5000 руб. асе., если 12-й — 2500 руб., а если 14-й, то 1200 руб. Татищев учился на 5000 руб., как ему это было ни тяжело. Он зубрил с утра до ночи, мучился и все-таки отставал от других, почти ничего не делавших… Но вдруг за полгода до выпуска отец его умирает скоропостижно. Матери у него давно не было. Татищев делается полным властелином своих богатств и перестает учиться…
— Из-за чего я стану теперь себя мучить? — говорил он нам. — Сами согласитесь, теперь мне все равно, каким классом ни выйти. Я завишу сам от себя и буду издерживать, сколько хочу.
И когда учителя спрашивали его уроки, он вставал обыкновенно с своего места, корчил плачевную гримасу и произносил, всхлипывая:
— Я не мог приготовить урока, потому что я недавно лишился родителя и благодетеля.
Учителя улыбались, воспитанники фыркали, и Татищева оставляли в покое…
Итак, очередь наконец дошла до Татищева.
Все воспитанники, печальные и веселые, с нулями и с хорошими баллами, сошлись на это зрелище.
Татищев подошел к экзаминаторскому столу очень бойко, расшаркался не без грации (грации обучала его, по его словам, г-жа Калам, гувернантка, бывшая при нем) и взял билет…
— Покажите ваш билет, — сказал ему Чижов.
Татищев подал ему билет и, неизвестно для чего, с приятностию улыбнулся. Чижов прочитал его.
— Очень хорошо, — сказал он, — подойдите к доске, начертите пирамиду…
— Что прикажете? Пирамиду-с? — закричал Татищев во все горло.
— Ну да! пирамиду, — сказал Чижов, хмуря брови.
Татищев взял мел с торжественностию и начертил круглую шапочку.
— Что же это такое? — спросил Чижов: — я вам говорю начертите пирамиду.
— Вот она-с! — произнес Татищев, тыкая на шапочку указательным пальцем, который состоял у него из двух суставов вместо трех. Вообще фигура Татищева не отличалась большою стройностию, коленки у него были вогнуты, живот вперед и взгляд много утрачивал выражения от бельма, которое у него начинало образовываться на одном глазу.
— Так это по-вашему пирамида? — протянул Чижов.
— Да-с, — твердо и довольно отвечал Татищев, с недоумением, однако, и беспокойством взглянув на товарищей, которые едва удерживались от смеха.
Чижов обернулся к Шелейховскому…
— Г. Татищев! что же это? — произнес с воплем Шелейховский.
Татищев догадался, что дело плохо, и торжественное выражение лица его вдруг сменилось слезной гримасой.
Чижов сделал Татищеву еще два какие-то вопроса — один из алгебры, другой из арифметики, но Татищев отвечал на них одними слезами и, всхлипывая, сказал, что не мог заниматься, потому что лишился родителя и благодетеля.
— Ну, идите, — сказал Чижов, махнув рукою. — Товарищам вашим я поставил нули, а вам, сударь, я и пера не помочу в чернилы, чтобы поставить что-нибудь. Вы и нуля не стоите.
Татищев удалился, рыдая.
Но Татищеву все мы, получившие нули, были обязаны своим спасением. Вот как это случилось: за сестрой Татищева, имевшей значительный капитал, ухаживал в это время один инженерный офицер, большой приятель Чижова. Татищев объявил инженерному офицеру, что если Чижов поставит ему порядочный балл, то в таком случае он немедленно изъявит свое согласие на брак, а в противном случае и слышать не хочет ни о чем. Это был последний и решительный ультиматум брата невесты. Инженерный офицер сообщил свое положение Чижову; Чижов тронулся положением своего приятеля, явился в пансион, потребовал экзаминаторский лист и поставил Татищеву 2, а нам всем, вместо нулей, полтора балла.
Не влюбись так кстати для всех нас инженерный офицер в сестру Татищева, мы, кажется, не могли бы разделаться с математикой, если бы остались в пансионе и еще на несколько лет.
И вот мы окончили курс наук. В руках у нас великолепные пергаментные листы с правами на чины и с удостоверениями, что мы во всех науках имеем отличные, очень хорошие или достаточные сведения и притом отличались примерным благонравием.
Начальство пожимает с чувством наши руки и поздравляет нас, родители прижимают нас к груди в умилении, мы, разумеется, вне себя от восторга, что уже не школьники. Но ни начальству, ни родителям, ни нам не приходит в голову, для чего мы приготовлены и приготовлены ли к чему-нибудь?.. Внешняя жизнь ослепляет, соблазняет нас, и мы отдаемся ей с увлечением; мы не рассуждаем об явлениях этой жизни, потому что в нас не только не развили мыслительных способностей, но еще забили их пошлою моралью и рутиной.
Мы не приобрели никаких, даже элементарных научных сведений.
В тумане голов наших бродят бессвязно кое-какие исторические имена, названия городов и войн, какие-то годы и цифры, но не только года, столетия мешаются и перепутываются в них. Мы выходим из пансиона такими же детьми, какими вошли в него, — только детьми, потерявшими пушистость щек и уже начинающими подбривать и подстригать усы и бороду. При нашем невежестве и отсутствии умственного развития мы принимаем все на веру и безусловно и входим в избитую колею, не только не понимая возможности какойлибо другой, лучшей жизни, различной от нашей, но даже не будучи в состоянии вообразить что-нибудь лучшее. Нечего и говорить о чувстве общественном, гражданском. О пробуждении его едва ли и думало тогдашнее воспитание. Чинопочитание, покорность до того были вкоренены в нас в родительских домах и потом развиты в пансионе, что мы, вступая в свет, совершенно теряемся и робеем при появлении каждой титулованной особы и при взгляде на всякую блестящую обстановку. При этом у нас только возникает одна мысль:
"как бы поскорей добиться до всего этого?" Вот каких полезных деятелей приготовлял для отечества благородный пансион!
ГЛАВА II
Первое время после выхода из пансиона. — Мои литературные упражнения и чтение. — Классицизм и романтизм. — "Notre Dame de Paris". — Моя неудавшаяся попытка печататься. — Первый нравственный толчок, полученный мною по поводу моего рассказа о подаренной девке. — Мои знакомства. — Фантазия о военной службе и о камер-юнкерском мундире. — Определение меня на службу. — Моя отставка. — Первая моя напечатанная повесть. — Встреча с Пушкиным у Смирдина. — Несколько слов о Пушкине. — Толки о "Торквато Тассо" Кукольника и мое знакомство с его автором.
Долго после выпуска нашего из пансиона я решительно не знал, что делать с собой и куда приютить голову. Знакомых у меня почти никого не было; я шатался бесцельно по петербургским улицам, вымышляя, как бы убивать длинные зимние вечера и ничего не придумывая, потому что трудно что-нибудь придумать без денег (а денег у меня было очень мало). Я просиживал обыкновенно по нескольку часов в мелких кондитерских, на Гороховой и на Вознесенской улице, за чашкой скверного шоколада, с двумя или тремя моими товарищами и в том числе с М. А. Языковым, с которым мы дружно, не разлучаясь, шли в жизни. Но кондитерские представляли мало ресурсов к развлечению: маленькая, грязная комнатка, освещенная одной тускло горящей свечкой, слоеные пирожки на горьком масле, засаленные чубуки с перышком или с сургучом вместо янтаря — все это наводило тоску.
Интересов у нас никаких не было, разговор вертелся около вседневных предметов и скоро прекращался; мы, зевая, смотрели друг на друга, как бы спрашивая: "господи! да неужели же это жизнь, которая издали казалась нам так соблазнительной?" Останавливаясь у какогонибудь ярко освещенного дома, у подъезда которого стояли экипажи, мы с любопытством и завистию смотрели на окна, в которых мелькали силуэты веселящихся мужских и женских фигур… До нас глухо доходили звуки музыки. "Как там весело! — думали мы, — счастливцы! счастливцы!.. Вот она, эта жизнь-то, о которой мы грезили, но как же достичь ее?" И не зная, как разрешить этот вопрос, понурив головы, расходились печально по домам.
— Эх, господа! — сказал мне с Языковым однажды один из наших товарищей, пребойкий и преразбитной малый, окончивший впоследствии очень трагически свое существование, — вы дрянь, какие-то вялые, запуганные, робкие, вы не умеете жить…
Погодите, вас надо расшевелить… Я вам устрою такой вечерок, за который вы поблагодарите меня.
— Когда? где? — спрашивали мы, оживляясь.
— Завтра вечером в кондитерской на Вознесенской.
— Да уж нам наскучила эта кондитерская, — возразили мы, хмуря брови.
— Ах вы, шуты! — перебил нас товарищ, — разумеется, сидеть за чашкой шоколада и за трубкой табаку вдвоем скучно… Да что тут толковать? Собирайтесь-ка туда завтра вечером, часов в 8, - эта кондитерская вам покажется раем. Я уж приготовлю вам чудесные сюрпризы.
На другой день еще до восьми часов мы явились в кондитерскую и сидели, с каким-то трепетом ожидая нашего товарища. Он не заставил нас долго ждать, поздоровался с нами и сказал нам, улыбаясь таинственно:
— Погодите, погодите… сейчас… Потом закричал:
— Карл Иваныч! — и когда кондитер явился на этот крик, он велел принести свечей и что-то шепнул ему на ухо. Кондитер значительно кивнул ему головой и сказал:
— Я уже послал. Будут, будут!
Я взглянул на Языкова, Языков на меня. Нас начала бить дрожь от страха и ожидания.
Минут через десять взошли в комнату две девицы маленького роста, очень невзрачные и одетые не совсем чисто — что-то вроде горничных или модисток… Товарищ наш встретил их криками и объятиями, усадил на диван возле нас и велел подать им шоколаду. Девицы жеманились, мы с Языковым дрожали и не смели заговорить с ними. Товарищ наш смеялся над нами и толкнул одну из девиц на Языкова, который вскрикнул и отшатнулся от нее.
В эту минуту отворилась дверь и в дверях появился квартальный с суровым взглядом…
— Это что такое? — вскрикнул он, — дебош! Сейчас все вон отсюда!
Девицы убежали; мы бросились в испуге и стыде к нашим шинелям и вышли из кондитерской, сопровождаемые угрожающим взором квартального.
Так печально окончился вечерок, который хотел задать нам наш товарищ. Он вышел из кондитерской так же смиренно, как мы, но, отойдя несколько шагов, объявил нам, что он непременно приколотит этого мерзавца квартального.
С тех пор эти кондитерские до того огадились нам, что мы даже избегали проходить мимо них.
Праздность и пустота до болезни начали томить меня, а домашние мои говорили мне:
— Вот когда ты поотдохнешь немного, надобно будет, друг мой, подумать и о службе.
От нечего делать я начал заниматься устройством своей комнаты и убрал ее с некоторым эффектом и комфортом. Я был очень счастлив при мысли, как должна будет понравиться эта комната Языкову и Кречетову. Осветив ее однажды вечером и полюбовавшись ею при освещении, я лег на диван и начал фантазировать о том, как бы сделаться литератором. При мысли, что мое имя будет в печати под какою-нибудь повестью или под каким-нибудь стихотворением, приятная дрожь пробежала по моему телу, и я ощутил потребность сейчас же написать что-нибудь… Я призадумался, и в голове моей начали слагаться стихи "К деве" на манер Языкова, который производил на меня тогда сильное впечатление. Через час было готово стихотворение в четырех куплетах. Я продекламировал его вслух и остался очень доволен его звучностию. Мне смертельно захотелось сейчас же прочесть его Кречетову… Что скажет он? Только что я подумал об этом, как раздался звонок и Кречетов явился передо мною. Я чуть не бросился к нему на шею от радости.
Кречетов осмотрел мою комнату с большим вниманием и произнес:
— О, да вы, батюшка, устроились очень мило! с эдаким эстетическим вкусом… все эти безделушечки расположены так удачно…
Кречетов опустился на мягкое кресло и продолжал похвалы моим декораторским способностям. Я прочел ему мое стихотворение.
— Славный стих, звучный, языковский! — проговорил Кречетов, взяв из моих рук тетрадку, в которую я четко вписал это стихотворение.
Он продекламировал его сам и сказал:
— У вас, батюшка, талант!.. Да, да! Продолжайте, продолжайте…
И я в самом деле продолжал сочинять почти каждый день по стихотворению, подражая всем тогдашним знаменитым поэтам, так что вскоре тетрадка была вся исписана стихами. Несмотря, однако, на похвалы Кречетова, я и не помышлял о том, чтобы послать даже лучшее, по моему мнению, из этих стихотворений в какой-нибудь журнал. Литераторы и журналисты вообще казались мне существами высшими, недоступными, с которыми вступать в сношения было бы с моей стороны неслыханною дерзостью; те же, которые печатали свои сочинения в "Северных цветах", в "Литературной газете" и в "Московском телеграфе", представлялись мне уже почти полубогами… Я писал стихи так, от праздности, и самолюбие мое было покуда удовлетворяемо похвальными отзывами моего снисходительного наставника.
Любимым чтением моим, кроме наших журналов и альманахов, были романы Вальтер-Скотта. Я перечел все их во французских и русских переводах.
В это время в Европе была в самом разгаре война классиков с романтиками. Имена французских сподвижников романтизма — Гюго, Дюма, Барбье, Сулье, Сю, де Виньи, Бальзака — начинали приобретать у нас громкую известность. Гюго своим предисловием к «Кромвелю» нанес последний удар классицизму, как выражался Кречетов, приходивший в неистовый энтузиазм от этого предисловия и всегда носившийся с «Кромвелем». От ВальтерСкотта я перешел к французским романтикам и читал их с жадностию. Борьба классицизма с романтизмом несколько раздражила мои умственные способности, давно требовавшие какойнибудь пищи. Я не задумываясь тотчас же стал под знамена романтизма, представителями которого у нас считал Полевого, Пушкина и его школу, и торжествовал победу романтиков, имея, впрочем, очень слабое понятие о том, что за звери классики. Под словом классицизм я неопределенно разумел вообще все отжившее, старое, обветшалое, и наоборот, под словом романтизм — все живое и новое, к которому начинал чувствовать инстинктивное, непреодолимое влечение. Почему возникла эта борьба? Какой смысл заключался в этом явлении? Я не мог понимать этого. В торжестве романтизма я праздновал побиение Толмачевых, Роговых, Найденовых, Зябловских, всех наших маленьких деспотов и притеснителей, упорно державшихся за свои узкие и гнилые понятьица и за свою пошлую, рабскую мораль. Все наши учителя, за исключением Кречетова, все инспектора, все гувернеры с презрением и ожесточением отзывались о новом литературном движении и считали его глубоко безнравственным. Мы считали их классиками. Этого одного уже было довольно, чтобы мы сделались самыми отчаянными романтиками.
Литературная революция, как известно, совпала во Франции с политическою революциею… И в литературе и в политике новые идеи торжествовали; но я не имел ни малейшего понятия о значении политических движений… Июльская революция не произвела на меня ни малейшего впечатления. Я слышал мельком, что Карл X прогнан и что вместо него вошел на престол Людовик-Филипп. За что прогнан один и сделан королем другой? Это меня нисколько не интересовало. Кроме литературы, ничто не трогало меня и я не имел ни о чем понятия.
После появления "Notre Dame de Paris" я почти готов был итти на плаху за романтизм.
Я узнал о "Notre Dame de Paris" из "Московского телеграфа". Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго.
Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас же расхватаны. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению…
Я прочел "Notre Dame" почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывал такого наслаждения от чтения. Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо не выходили из моего воображения; сцену, когда Клод Фролло приводит ночью Эсмеральду к виселице и говорит: "выбирай между мною и этой виселицей" — я выучил наизусть… Я больше двух месяцев бредил этим романом и перечитывал отрывки из него Кречетову и некоторым из моих товарищей, с которыми более симпатизировал.
Успокоясь немного от волнения, я принялся переводить последние две главы "Notre Dame", перевел их с любовию, тщательно обделал слог и прочел Кречетову. Он нашел мой перевод образцовым и посоветовал послать в "Московский телеграф". Я переписал его, еще поисправил местами и послал.
Более полугода после того я с трепетом развертывал каждую вновь получаемую книжку, но — увы! — мой перевод не появлялся. Он так и сгинул в редакции «Телеграфа». Эта первая неудавшаяся попытка печататься ненадолго, впрочем, обескуражила меня.
Охота к чтению не давала еще мне совершенно погрязнуть в ничтожестве праздной и бессмысленной среды, окружавшей меня. Романы Вальтер-Скотта и Гюго пробудили во мне желание узнать средневековую историю.
Литература представлялась мне, впрочем, как-то совершенно отдельно от жизни. Она приятно щекотала и раздражала мою фантазию, мало способствуя развитию мысли. Ничто окружавшее меня еще не возбуждало во мне никакого вопроса, не наводило ни на какое раздумье или сомнение. Все предрассудки, дикие понятия и взгляды, внушенные мне с детства и развитые в пансионе, оставались во мне неприкосновенными.
Однажды ко мне зашел один из моих товарищей. В разговоре с ним я упомянул, между прочим, к чему-то, что матушка моя подарила девку одной из своих родственниц.
Товарищ мой, грубый по натуре и ничего почти не читавший, был, однако, поразвитее меня.
Он скорчил при этих словах гримасу и сказал мне:
— Как тебе не стыдно говорить об этом, и еще так хладнокровно, как будто о самой простой вещи?
— Отчего же? Что ж тут необыкновенного? Разве она не имела права подарить свою крепостную девку? — возразил я с удивлением.
— Любезный друг, я знаю, что это делают, что мужиков, лакеев, баб и девок продают и дарят, да уж об этом люди образованные вслух-то стыдятся говорить. Ведь человек не вещь, хоть он и крепостной; у него такая же душа, как у нас с тобою, и он так же, как и мы, создан по образу и подобию божию.
Эти простые слова поразили меня… Я в первый раз почувствовал дикость своих понятий — и покраснел до ушей. Долго по уходе товарища я сидел в грустном раздумьи.
"Что же это такое?" рассуждал я с самим собою. "Каким образом, в самом деле, человек может владеть человеком на правах вещи и располагать его участью по своей прихоти, по своему безумному произволу? От кого он мог получить такое жестокое, такое нелепое право?" И я удивлялся, отчего эти вопросы прежде не приходили мне в голову.
Это был первый нравственный толчок, данный моей мысли. Она пробудилась и начала несколько тревожить меня. Мне сделалось как будто совестно, что я владею крепостными людьми, и я стал обращаться с ними гораздо мягче и осторожнее. Этим очень были недовольны некоторые из близких ко мне… "Ты избалуешь всех людей в доме, друг мой, — говорили мне, — надобно, чтобы они чувствовали, что ты барин, и боялись бы тебя".
После выпуска я поддерживал отношения с теми из товарищей, с которыми более симпатизировал, и познакомился с их семействами, но самолюбие, мучившее меня, что я не имею никаких светских талантов, делало меня диким и застенчивым, особенно в дамском обществе, которого поэтому я старался избегать.
Некоторые из близких мне пламенно желали, чтобы я был военный, и непременно кавалерист, и заставили меня брать уроки в верховой езде. Эполеты, сабля и шпоры очень смущали мое воображение, но мысль, что я должен еще поступить в юнкерскую школу, засесть снова на школьную скамью и держать экзамены — охлаждала мои воинственные порывы… Я решился вступить в штатскую службу, вопреки желаниям моих близких, которые утешались мыслию, что я буду камер-юнкером. Мне самому очень хотелось надеть золотой мундир. Я даже несколько раз видел себя во сне в этом мундире и в каких-то орденах и, просыпаясь, всякий раз был огорчен, что это только сон.
Наконец я определился на службу, без жалованья, в департамент государственного казначейства, под протекцию директора этого департамента Д. М. Княжевича, который был товарищем моему отцу по Казанскому университету.
Меня заставили переписывать бумаги и сочинять какие-то отношения. Эти занятия мне ужасно не понравились. Я приезжал в департамент поздно и не высиживал до конца.
Мой начальник отделения, брат Д. М. Княжевича, Владислав Максимович, смотрел на меня неблагосклонно, — и действительно, на него и на всякого порядочного и серьезного человека я должен был производить самое неприятное впечатление!
Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались тогда в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед департаментом. Эффект, произведенный моими панталонами, был свыше моего ожидания. Когда я проходил через ряд комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили:
— Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны? — и дотрогивались до них.
А один из столоначальников — юморист — заметил:
— Да они, кажется, из той же самой материи, из которой кухарки делают себе передники.
Панталоны мои произвели такой шум и движение в департаменте, что В. М. Княжевич обернулся к моему столу, посмотрел на меня искоса и потом, проходя мимо меня, заметил мне, что я неприлично одеваюсь.
По случаю холеры, появившейся в Петербурге в 1831 году, я вовсе перестал ходить в департамент. Когда после трехмесячного отсутствия я появился на службу, В. М. Княжевич подозвал меня к себе.
— Отчего вы так долго не были в департаменте? — спросил он меня, изменяясь в лице.
— Я был нездоров, — отвечал я.
— Вы должны были об этом уведомить… и я вообще должен сказать вам, что так служить нельзя. Вы являетесь в 12 часов, когда все приходят в половине десятого…
— Да я не получаю жалованья, — перебил я.
— Это не отговорка. Если вы желаете продолжать здесь службу, то должны служить как все. В противном случае…
— Я должен оставить службу, вы хотите сказать?.. — снова перебил я. — Что ж такое, я выйду в отставку.
— Как вам угодно… Я вас не удерживаю… — сердито заметил Владислав Максимович.
Я уехал из департамента с намерением на другой же день подать в отставку, но все откладывал день за день, а между тем в департамент не показывался.
Так прошло два месяца.
В одно прекрасное утро явился ко мне департаментский курьер и объявил, что меня просит к себе директор департамента.
Д. М. Княжевич был человек очень горячий и в минуты гнева высказывался очень резко. Такое приглашение не предвещало ничего доброго, и я отправился в департамент с неприятным ощущением.
Я вошел в директорскую комнату и остановился перед директорским столом.
Дмитрий Максимович был погружен в занятия.
Через минуту он поднял голову от бумаг и оборотился ко мне.
— Я просил вас к себе, — сказал он мне, к удивлению моему, довольно мягким голосом, — чтобы переговорить с вами насчет вашей службы. Вы совсем не бываете в департаменте…
— Я хочу выйти в отставку, ваше превосходительство, — сказал я.
— Напрасно, — возразил директор, — я знаю, что вы имели объяснение с моим братом.
Брат мой человек больной и желчный. Он, может быть, сказал вам что-нибудь лишнее, а вы как молодой человек сейчас оскорбились. Забудьте это. Мне было бы очень приятно, чтобы вы продолжали службу под моим начальством. Мне дорога память вашего отца, и я хотел бы что-нибудь для вас сделать.
Я был тронут этими словами, поблагодарил его за участие, но, несмотря на то, отвечал, что уже твердо решился выйти в отставку, чувствуя совершенную неспособность к такому роду службы.
— Ну, как вам угодно, — отвечал Дмитрий Максимович, — принуждать я вас не могу.
Я в тот же день подал в отставку и более года не вступал в службу, чего и не подозревали мои близкие, всё мечтавшие о том, что я скоро получу звание камер-юнкера.
Всякое утро я уезжал из дому, как будто на службу, а между тем толкался по улицам; заходил в кондитерские и с жадностию прочитывал печатавшуюся тогда в "Сыне отечества" повесть Марлинского "Фрегат Надежда", думая: "господи, если бы написать что-нибудь в этом роде!" Пользуясь легким нездоровьем и запрещением доктора выезжать из дому, я со страхом принялся за сочинение повести. Я не имел никакого понятия о жизни, никакого взгляда на жизнь, даже внешние ее явления схватывал рассеянно, вскользь, а кое-какая способность к наблюдательности, без всякого взгляда, не могла мне служить ни к чему. Что было делать? Я после долгих усилий составил, однако, очень эффектный, по моему мнению, сюжет, разумеется в высшей степени нелепый, стараясь рабски подражать манере изложения и слогу Марлинского.
По мере писания я прочитывал ее Кречетову. Кречетов похваливал, в особенности слог, но замечал, что я касаюсь только внешней стороны при изображении лиц, мало заглядывая вглубь человеческого сердца; что моим лицам недостает психического развития, и тому подобное. При этом он прибавлял, что необходимо быть строгим к самому себе, что, написав произведение, надо положить его года ни три; через три года перечесть, исправить и положить еще на три года, потом снова перечесть и снова исправить и еще положить на год, а уже после этого, прибавив кое-какие штрихи — с богом печатать; что он сам поступает всегда по этим правилам и что у него груда весьма серьезных сочинений, которые, может быть, скоро появятся в печати.
Руководствоваться рецептом Кречетова у меня недостало терпения. Мне смертельно хотелось видеть поскорее свое произведение напечатанным, и я послал мою повесть в редакцию "Сына отечества".
Через три месяца первая половина ее появилась в печати. Я дрожащими руками взял номер журнала и в волнении, почти сквозь слезы умиления, перелистывал его. В эту минуту я был счастливейшим человеком в мире и несколько дней после этого прохаживался по улицам с особенною гордостию и торжественностию… Кречетов был также очень доволен моим дебютом и замечал, что когда он прочел мою повесть в печати, она показалась ему несравненно лучше.
Поощренный напечатанием моего произведения, я начал обдумывать другую повесть, а между тем все пописывал стишки и исписал ими три довольно толстые тетради, но не решался отослать ни одного стихотворения в печать. Несмотря на одобрения Кречетова, я чувствовал, что не имею поэтического дара, и полагал, что мое настоящее призвание — проза.
Кречетов согласился, когда я ему это заметил.
Вторая повесть моя, имевшая несколько поболее смысла и простоты, напечатана была в «Телескопе». Она понравилась некоторым литераторам, и, что странно, людям, не имевшим между собою ничего общего — Белинскому и Воейкову. Воейков воспел ей, в своих "Литературных прибавлениях к Инвалиду", такую преувеличенную похвалу (такова уже была его манера), которая более походила на иронию, и вздумал почему-то приписать эту повесть Белинскому, который в это время уже обратил на себя всеобщее внимание своими "Литературными мечтаниями" и первыми критическими статьями в "Телескопе".
После этой повести издатели журналов и альманахов обратили на меня внимание и начали обращаться ко мне с просьбами о повестях. Я уже не шутя стал считать себя литератором. Перелистывая однажды тетради с моими стихотворениями (их накопилось до шести), я выбрал из них только пять стихотворений для печати, а остальное сжег…
Но я зашел слишком далеко и должен обратиться назад.
Гораздо спустя напечатания моей первой повести, однажды часа в три я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда на Невском проспекте в бель-этаже дома лютеранской церкви. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый франтовски; другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдавшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского.
До этого я нигде никогда не встречал Пушкина. Я преодолел робость, которую ощутил при первом взгляде на этот великий литературный авторитет, подошел к прилавку, у которого он остановился, и начал внимательно и в подробности рассматривать поэта. Прежде всего меня поразили огромные ногти Пушкина, походившие более на когти. Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной и даже добродушной. Он спросил у Смирдина не помню какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник, заложив руку за жилет, отвечал громко, не смотря на Пушкина, и потом, с улыбкою обратясь к Смирдину, начал с некоторою торжественностию:
К Смирдину как ни придешь… и остановился.
Смирдин заюлил и начал ухмыляться. Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкою и покачал головой. Я думал, глядя на господина с рыжей эспаньолкой: "Счастливец! как он обращается с великим человеком. Кто бы это такой?" С этим вопросом обратился я к Смирдину, когда Пушкин вышел из лавки.
— Это-с С. А. Соболевский, — отвечал Смирдин, — прекраснейший человек и друг Александра Сергеевича-с… Он пишет на всех удивительнейшие эпиграммы в стихах-с.
После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромпта Пушкина:
К Смирдину как ни придешь, Ничего не купишь, Иль Сенковского найдешь, Иль в Булгарина наступишь.Я и не смел думать о знакомстве с Пушкиным, да и какое право имел я на знакомство с ним? Я только завидовал моему приятелю Дирину, который познакомился с ним по случаю своего отдаленного родства с Вильгельмом Кюхельбекером. Родные Дирина получали через III отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Дирин занимался тогда переводом книжки Сильвио Пеллико "Об обязанностях человека" и сообщил об этом Пушкину, который одобрил его мысль и обещал ему даже написать предисловие к его переводу.* * Перевод Дирина "Об обязанностях человека, наставление юноше", с эпиграфом "Правда бо бессмертна есть", напечатан в 1836 г. Пушкин, вместо обещанного предисловия, напечатал в 3 No своего «Современника» краткий взгляд на сочинения Сильвио Пеллико, и Дирин перепечатал этот отзыв в вступлении к своему переводу.
Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности. Пушкин действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета. Якубович гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий.
Энтузиазм Дирина к Пушкину доходил до благоговения. Когда какой-то мой перевод стихов Гюго был напечатан рядом со стихами Пушкина в "Библиотеке для чтения", Дирин, уведомляя меня об этом, писал: "Ты пойми, какая это высокая честь. Ты счастливец. Я не знаю, чего бы я ни дал, чтобы видеть имя свое, напечатанное рядом с именем Пушкина".
Через несколько лет после смерти Дирина я как-то завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. Плетневым.
— А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?
— Почему же? Ведь он был со всеми таков.
— Нет, — отвечал Плетнев, — с ним он был особенно внимателен — и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивила меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее.
" — С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит, — отвечал, улыбаясь, Пушкин.
" — С какими людьми? — спросил я с удивлением.
" — Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера… Понимаешь? Он служит в III отделении.
"Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение".
Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему уже действительное участие, что доказывает и предисловие к его переводу Сильвио Пеллико…
Я следил за литературою усердно, читал от доски до доски все журналы и все отдельно выходившие замечательные литературные произведения. При появлении "Торквато Тассо" Кукольника я пришел вместе со многими в восторг от этого произведения. "Какие колоссальные надежды должен подавать поэт, выступающий с таким произведением!" — говорили тогда в литературных кружках и в обществе.
Петербургская молодежь, занимавшаяся литературой, в высшей степени заинтересована была личностию автора «Тасса». Носились слухи, что он привез с собою множество удивительных произведений, долженствовавших сделать переворот в русской литературе.
— Хочешь ли познакомиться с Кукольником? — сказал мне однажды один из моих приятелей, Ф. Т. Фан-дер-Флит. — Завтра вечером он читает у Гижилинского свою новую драму. Приезжай ко мне. Мы поедем вместе. Я тебя познакомлю с Гижилинским, а Гижилинский познакомит нас с Кукольником. Говорят, новая драма Кукольника — чудо!
Нечего говорить, с какою радостию я принял это предложение.
Вожделенный вечер наступил.
В 7 часов мы были у Гижилинского.
Через полчаса явился поэт.
В это время еще он имел некоторое сходство с тем идеализированным портретом, который впоследствии был сделан Брюлловым. На нас произвела сильное впечатление его сухощавая и длинная фигура, его бледное и продолговатое лицо, черные задумчивые глаза и какой-то особенный тон, который казался нам пророческим. При этом Кукольник говорил попечатному на букву о, что придавало особенную вескость и торжественность его словам.
Слушателей собралось человек десять. Гижилинский всех нас представил поэту.
Кукольник каждого из нас обнял и поцеловал.
— Господа! — произнес он, — от души рад с вами сблизиться. Вы любите и чтите искусство, а искусство — моя святыня, которой я обрек себя на служение. Все любящие искусство близки мне — следовательно, хотя я вижу вас в первый раз, но уже считаю вас как бы родными и близкими себе.
Кукольник вскоре приступил к чтению "Руки всевышнего", заметив, впрочем, что он не считает эту драму лучшим своим произведением; что у него задуман целый ряд драм из жизни итальянских художников, требовавших огромной эрудиции, из которых одна — "Джулио Мости" — приведена почти совсем к окончанию, и что это его любимое, задушевное произведение.
Кукольник прочел нам свою драму мастерски, с эффектом. Слушатели были плохие судьи: им не могло притти в голову ни о том, какая мысль движет произведением, ни о том, заключает ли оно в себе хоть тень исторической правды. Мы восхищались только эффектными стихами и монологами. Этого одного довольно было, чтобы "Рука всевышнего" показалась нам замечательным произведением.
Когда Кукольник кончил, было уже около часа. После изъявления восторгов начались приготовления к ужину.
За ужином Кукольник говорил неумолкаемо, и каждое слово его казалось нам чуть не откровением. Он поразил нас своими обширными и многосторонними сведениями, что было очень немудрено при отсутствии в нас всяких сведений.
После ужина он сел на диване. На столе перед диваном поставлена была бутылка с красным вином. Мы расселись кругом поэта. Речь его становилась все вдохновеннее и возвышеннее — по крайней мере нам так казалось. По поводу кем-то изъявленного восторга о его «Тассе» Кукольник заметил, что это произведение детское, слабое сравнительно с его «Мости» и с тем рядом произведений, которые замышлены им.
— Сказать ли вам, господа, что смущает меня, — произнес Кукольник в заключение, — я с вами буду говорить прямо: меня смущает мысль, что русская публика еще не доросла до понимания серьезных произведений. Много ли в ней таких, как вы? Мне кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски.
Слова эти произвели на всех нас потрясающее впечатление. "У-у! каков!" — подумали мы, перемигнувшись друг с другом, и с некоторым страхом взглянули на Кукольника, как на существо, выходящее из ряду вон, высшее… Потом мне показалось немного подозрительным, чтобы можно было так же хорошо владеть чужими языками, как своим отечественным, но я тотчас же устыдился моего сомнения.
— Мне это больно, горько, — продолжал поэт, и на глазах его, по крайней мере так показалось нам, были слезы, — я люблю Россию горячо, но делать нечего! все-таки, я думаю, придется бросить русский язык…
Мы начали умолять поэта, чтобы он не делал этого и не лишал бы русскую литературу и наше любезное отечество славы; что он и в России найдет себе много истинных приверженцев и почитателей… Что касается до нас, мы почти дали ему клятву в верности на всю жизнь…
Кукольник долго молчал. Бутылка была опорожнена. Он прислонился к спинке дивана и закрыл глаза.
Через несколько минут он поднял веки и медленным взглядом обвел всех нас.
Этот взгляд показался мне до того многозначительным, что я вздрогнул.
— Благодарю вас, искренно и от всего сердца благодарю, — произнес Кукольник глубоко растроганным голосом, — не за себя благодарю — за искусство, великое дело которого вы так горячо принимаете к сердцу… Да, я буду писать по-русски, я должен писать по-русски, уже по одному тому, что я нахожу таких русских, как вы!..
Кукольник встал, обнял нас и сказал, что он счастлив, приобретя себе таких друзей, как мы…
— Добрый хозяин дома даст нам еще бутылку вина, — прибавил Кукольник, — и мы скрепим наш союз брудершафтом.
Мы расстались с поэтом часа в четыре утра, убежденные в его гениальности.
Я долго не мог заснуть и все думал о счастии быть другом такого поэта и говорить ему ты..
ГЛАВА III
Дальнейшее знакомство мое с Кукольником. — Его поклонники. — Первое представление "Руки всевышнего". — Триумвират Брюллова, Глинки и Кукольника. — Их дружба. — Чиновники особых поручений при авторитетах. — Середы Кукольника. — Булгарин. — Ужин у Кукольника. — М. И. Глинка. — Карикатурный альбом Степанова. — Продолжение моей службы. — Князь Ширинский-Шихматов. — Бал у него. — Умирающий Сваррик-Сваррацкий. — Г.Краевский в редакции "Журнала Министерства просвещения". — Мое знакомство с Краевским. — Перевод «Отелло». — Знакомство с Каратыгиным, Брянским и князем Шаховским.
С Кукольником я не мог видаться часто. Он возил свою «Руку» из дома в дом и читал ее. Толпы новых поклонников его возрастали с каждым новым чтением и заслоняли его от прежних. Надобно сказать правду, что эти поклонники набирались всюду без разбора и, соперничая друг перед другом в энтузиазме, вообще не отличались большим развитием.
"Рука" репетировалась между тем в театре. Наконец, наступило давно желанное для энтузиастов Кукольника представление. Весь партер был набит ими. Я, разумеется, был в том же числе. В нашей преданности и энтузиазме к поэту мы не щадили ни рук, ни голоса: кричали, топали, хлопали и вызывали автора несчетное количество раз после представления.
Успех был огромный. Но когда драма Кукольника появилась в печати, она встречена была, к нашему огорчению, не совсем благосклонно.
Всем известен отзыв об ней Полевого и последствие этого отзыва — «Телеграф» был запрещен. По этому поводу кто-то написал довольно остроумное четверостишие:
Рука всевышнего — три чуда совершила! Отечество спасла, Поэту ход дала И Полевого уходила.Вскоре после этой чудотворной «Руки» начались чтения новых произведений:
"Джулио Мости", "Джакобо Саназара", «Скопина-Шуйского», "Роксоланы" и так далее.
Кукольник читал нам свои новые произведения одним из первых. Сенковский произвел его за "Торквато Тассо" в Гете.
Такое непомерное повышение показалось неловким даже некоторым из самых благоразумных его поклонников. Мой, энтузиазм к поэту, впрочем, не остывал. Каждое новое его произведение казалось мне шагом вперед. Имя Кукольника гремело в журналах и в обществе. Он становился авторитетом, близко сошелся с Брюлловым и Глинкою и уже довольно равнодушно смотрел на фалангу своих поклонников, которые делались ему бесполезными.
Каждое чтение нового произведения оканчивалось ужином и шампанским. На этих ужинах поэт делал объяснения своим произведениям, из которых мы между прочим узнали, что цаца и ляля в "Джулио Мости" — любимые слова его детства и что он решился внести их в драму как приятное для него воспоминание. Известно, что Кукольник почти всех своих героев заставлял красноречиво пророчествовать и любил сам пророчествовать о себе на дружеских сходках.
Таким образом, однажды, разговорясь о литературе и о значении Пушкина, он сказал:
— Пушкин, бесспорно, поэт с огромным талантом, гармония и звучность его стиха удивительны, но он легкомыслен и неглубок. Он не создал ничего значительного; а если мне бог продлит жизнь, то я создам что-нибудь прочное, серьезное и, может быть, дам другое направление литературе… (Передавая слышанное мною из уст поэта, я ручаюсь, конечно, только за верность мысли, а не за слова и обороты фраз.) К сожалению, в действительной жизни пророчества не всегда сбываются так легко, как в литературных произведениях.
Сближение и короткость Кукольника с Брюлловым и Глинкою, пользовавшимся уже громкою известностью после "Жизни за царя", еще более возвысило Кукольника в глазах его многочисленных поклонников. Они мечтали видеть в этой короткости разумный союз представителей живописи, музыки и поэзии и полагали, что такой союз может иметь влияние на эстетическое развитие нашего общества. Едва ли Кукольник не поддерживал и не распространял эту мысль, о сущности, союз этот не имел и тени чего-нибудь серьезного.
Представители трех искусств сходились только для того, чтобы весело проводить время и, разумеется, толковать между прочим о святыне искусства и вообще о высоком и прекрасном.
Союз этот поддерживался некоторое время тем, что представители приятно щекотали самолюбие друг друга. Около них, как всегда около авторитетов, образовался небольшой штат угодников, шутов, исполнителей особых поручений и блюдолизов из маленьких талантиков. В числе таковых выдвигались на первом плане бесталанный художник Яненко, грубый, наглый циник, который для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому-либо из своих патронов, даже женой и дочерью, и другой — также бесталанный художник М*, с льстивой и рабской натурой, всегда притворно-робко входивший в ателье Брюллова, взглядывавший на новое произведение его кисти с лицемерным благоговением, восклицавший: "недостоин, недостоин!" и выбегавший, закрывая глаза, как бы ослепленный им… К ним присоединилось несколько маленьких литературных талантиков, отчасти из тщеславной мысли прослыть друзьями гениальных, по их мнению, людей, отчасти из того, чтобы вместе с ними веселиться, пить и есть.
В это время Кукольник занимал вместе с своим братом Платоном, управлявшим делами Новосильцова, довольно большую квартиру в Фонарном переулке, в доме Плюшара.
Он завел у себя Середы. Плюшар, мотавший тогда деньги, получаемые им с "Энциклопедического лексикона", находился в близких отношениях к Кукольнику, Сенковскому, Булгарину и Гречу. Кукольник также сошелся очень близко с последними.
На этих середах впоследствии (это уже было в начале сороковых годов) собиралось иногда человек до восьмидесяти. Тут не были исключительно любители искусства и поклонники литературы, художники и литераторы, а всякого рода весельчаки, военные и штатские, пожилые и молодые — даже игроки, аферисты и спекулаторы. Вся эта разнохарактерная ватага бестолково толпилась и шумела, бродя из комнаты в комнату.
Хозяин дома кочевал среди этой толпы и останавливался на минуту перед своими гостями с каким-нибудь любезным словом. О святыне искусства не было и помину. На этих середах перебывали все пишущие люди за исключением немногих писателей-аристократов, принадлежавших к друзьям Пушкина. Середы эти начались уже после смерти Пушкина. (Надобно заметить, что Пушкин никогда ни слова не говорил о сочинениях Кукольника, хотя он, как известно, радовался появлению всякого таланта.) Одну из важных ролей на этих середах играл Булгарин, к которому хозяин дома был очень внимателен. Здесь я увидел в первый раз этого господина. Кукольник познакомил меня с ним, хотя я вовсе не просил его об этом. Короткие отношения Кукольника с Булгариным действовали неприятно на меня и на всех молодых поклонников поэта. Новое пишущее и читающее поколение этого времени все без исключения презирало Булгарина. Тот, кто печатал свои статьи в «Пчеле» или был в коротких сношениях с ее редактором, компрометировал себя в мнении молодежи. Между старым и старевшим поколением Булгарин пользовался еще большою популярностию.
Можно сказать утвердительно, что Кукольник поступил нерасчетливо для своей литературной репутации, видимо склоняясь более на сторону отживавшего поколения и протягивая руку таким людям, как Булгарин. Но в это время уже, кажется, святыня искусства, о которой он так горячо проповедывал за приятельскими обедами и за ужинами в кафересторанах, отходила для него на второй план. Другие, более существенные и практические замыслы начинали уже, кажется, занимать его во вред поэзии.
Когда Кукольник подвел меня к Булгарину, Булгарин схватил мою руку и, спотыкаясь почти на каждом слове, скороговоркою произнес, брызгая слюнею:
— Очень рад, очень рад, почтеннейший! Я вас, еще не зная, душевно полюбил за вашу повесть… вы пишете чистым русским языком, прекрасный слог, прекрасный. Полюбите меня, не слушайте моих врагов… Я режу всем правду-матку в глаза, оттого и нажил много врагов…
— Дядюшку вашего я уважаю. Мы с ним старые знакомые… достойный человек, достойный.
В ту минуту, как он мне говорил это, я курил сигару и пустил ему дым прямо в рот.
Булгарин поперхнулся.
С тех пор, при упоминании о моих повестях в «Пчеле», он всякий раз заговаривал о сигаре совершенно некстати, уверяя, будто все изображаемые мною лица непременно курят сигары, что эти сигары весьма неуместны и что можно быть, конечно, охотником до них, но не надоедать с ними в литературе. Кроме меня и Булгарина никто, конечно, не понимал, что это значит.
При напечатании одной из моих повестей (это было также в начале сороковых годов, здесь я уж кстати введу этот эпизод) "Северная пчела" отозвалась, что хотя она не имеет удовольствия знать меня лично и не слыхала, к какому обществу я принадлежу, но судя по тому, что я недурно изображаю мирок мелких чиновников, я, вероятно, должен принадлежать к этому мирку. В заключение «Пчела» замечала, что я до такого совершенства изучил известного рода старушек, у которых собираются молодые девицы для приятного препровождения времени с молодыми людьми, и так верно изображаю подобные дома, что можно заключить, будто я родился и воспитывался в одном из таких домов. Эта милая выходка подала повод к большим толкам между многими из тех литераторов, которых Булгарин считал своими врагами, и когда я дня через два после этого приехал к князю Одоевскому, Одоевский, граф Соллогуб и Башуцкий встретили меня тем, что я непременно должен жаловаться на Булгарина; что такая наглость и гнусность не может остаться безнаказанной; что сегодня он оскорбил меня, завтра может оскорбить кого-нибудь из них, и проч.
Я, однако, жаловаться не решился; но граф Соллогуб при встрече с председателем ценсурного комитета князем Дундуковым-Корсаковым рассказал ему о выходке «Пчелы» против меня.
Князь Дундуков спросил в комитете, кто из ценсоров пропускал тот номер «Пчелы», где она была напечатана. Оказалось, что это был родной брат его, П. А. Корсаков. Корсаков отговаривался перед братом тем, что не понял намека. Князь Дундуков сделал ему выговор и приказал строже следить за "Пчелою".
Булгарин узнал об этом и написал к князю Дундукову письмо, в котором объяснял ему, что статью обо мне писал не он; что он и не подозревал об моем существовании; что мало ли что говорится иногда о людях и позначительнее меня; что неужели обо мне нельзя ничего сказать, потому что я ношу одну фамилию с каким-нибудь директором канцелярии? что он, Булгарин, человек благонамеренный, известный с самой хорошей стороны правительству; что он в детстве был, так сказать, повит голубыми лентами, что его вельможи ласкали, а Свистунов — всегда целовал; что он режет всем правду-матку в глаза; что поэтому его ненавидят разные литераторы, считающие себя неизвестно почему аристократами; что Соллогуб величается графом, хотя в Польше графов никогда не было; что князь Вяземский работал по найму у купца третьей гильдии Полевого; что князь Одоевский готов за деньги написать статью против кого угодно… и проч., и проч. В заключение он просил, как притесняемый, защиты у князя Дундукова и называл его брата Корсакова благородным ценсором и дворянином.
Письмо это хранилось в копии у г. Краевского, пылавшего тогда благородным негодованием против всяких нелитературных выходок.
Несколько месяцев спустя после этого я заехал к В. И. Панаеву.
— Что у тебя такое было с Булгариным? — спросил он меня.
Я давно забыл о выходке "Пчелы".
— Ничего, — отвечал я, — я с Булгариным не имею никаких связей и сношений; а что?
— Да я дней пять тому назад встретил его в Милютиных лавках. Он пристал ко мне.
"Ваше превосходительство, говорит, вы на меня сердитесь… Я не виноват…" — "За что мне на вас сердиться?" — "В «Пчеле», говорит, оскорбили вашего племянника; но я, клянусь вам богом, не знал об этом. Я вашего племянника люблю, ваше превосходительство, несмотря на то, что он якшается с моими врагами. Я поручил написать об нем одному сотруднику, думая, что он находится с ним в хороших отношениях, а он с ним в контре — он и ввел меня в эту неприятность. Простите меня, бога ради, не виноват, не виноват, ваше превосходительство!" И все тыкался мне в плечо и целовал, объясняясь в любви ко мне и к тебе. Я ничего хорошенько не понял.
Я рассказал Панаеву, в чем дело, и передал ему содержание письма Булгарина к Дундукову. Панаев покачал головою.
— Ах, неужели, — возразил он с свойственною ему мягкостию, — Булгарин такой нехороший человек! Я этого не думал… Мне как-то хочется думать об людях все лучше.
Эпилог к этой забавной истории разыгрался лет пять спустя.
Я жил на даче в Парголове, где жил тогда и Межевич, перешедший от г. Краевского к Булгарину и потом редижировавший "Полицейскими ведомостями".
С Межевичем я познакомился, когда он приехал из Москвы и сделался сотрудником "Отечественных записок" (об этом я буду говорить подробно). Межевич очень конфузился, перебежав в «Пчелу», и долго скрывал это от нас. В это время я написал статейку "Петербургский фельетонист", в которой мой фельетонист также тайно перебегает из одного журнала в другой. Межевич принял эту статейку на свой счет.
Я встретился с Межевичем по дороге в сад, и мы пошли вместе. Вечер был теплый и тихий; я разговорился с ним о чем-то. Тишина природы и моя любезность подействовали на Межевича.
Он вдруг, растроганный, остановился и произнес:
— Знаете ли, что я перед вами очень виноват?
— Каким образом? — спросил я.
— Ведь это я написал в «Пчеле» известный вам гадкий намек на вас. Я был тогда глубоко оскорблен вашим "Петербургским фельетонистом", простите меня.
— И, полноте, любезный Василий Степанович, — я уж давно и забыл об этом, — отвечал я.
Межевич с чувством и даже со слезящимися глазами пожал мою руку…
Но обратимся к середам Кукольника.
Вся ватага гостей его расходилась обыкновенно около часа, — иногда Яненко или ктонибудь из мелких литераторов, состоявших по особым поручениям при поэте, разными хитростями выживали гостей ранее. По очищении комнат накрывался ужин человек на двадцать самых интимных и продолжался до утра. За этим ужином происходили дружеские и всяческие излияния, выступала на сцену святыня искусства и раздавались вдохновенные и пророческие речи хозяина дома.
На одной из серед Кукольник часов в одиннадцать подошел ко мне, значительно мигнул и шепнул с улыбкою:
— Не уезжай. Когда разбредется вся эта шушера, останутся избранные. Вечера мои собственно начинаются тогда, когда они кончаются для них…
Кукольник указал головою на толпу гостей.
— До сих пор, — прибавил он, — была только увертюра, — самая опера начнется потом.
Надо заметить, что это происходило после «Роксоланы» и «Скопина-Шуйского», которые имели огромный успех на сцене. Усердие наше к крикам и хлопанью не уставало. К нам присоединилось еще множество офицеров различных полков — новых друзей поэта, с еще более громким голосом, чем у нас.
Хотя я продолжал быть убежден в огромном таланте Кукольника, но меня уже смущали его связи с Булгариным, Плюшаром и им подобными личностями, которым я не мог сочувствовать; его искание популярности без всякого разбора, ухаживанье за людьми чиновными и значительными и еще притом прославление их между приятелями, пиры без конца, повторение тех же громких фраз и проч. — все это много способствовало моему разочарованию. Сомнение начало закрадываться в меня относительно призвания поэта; я уже иногда посматривал на него как на простого смертного и даже осмелился замечать иногда его комические стороны.
В таком положении я был к нему, когда он сделал мне честь, которой удостоивались немногие — удержал меня на ужин.
Мне, однако, это было еще очень приятно.
За ужином Кукольника в этот раз было человек пятнадцать: несколько офицеров Преображенского полка, М. И. Глинка, Яненко, Струговщиков, переводивший Гете и издававший тогда "Художественную газету", и Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями a la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице.
Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим "Литературные прибавления", который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью Ф. П. Толстого. Остальных присутствовавших за этим ужином я не помню. Ужин отличался не столько съестною, сколько питейною частию. В столовой на одной стене висел портрет Кукольника-поэта, на другой его брата Платона — оба работы Брюллова, в великолепных рамах. Вино лилось. За шампанским Кукольник встал и, обращаясь в особенности к офицерам, подняв бокал и протягивая с ним руку к портрету брата, произнес торжественно:
— Преображенцы! за здоровье отсутствующего Платона!
Здоровье управляющего новосильцевским именьем было выпито с восторженными криками.
Я сидел возле М. И. Глинки.
Глинка перед ужином был в дурном расположении духа. Он говорил мало и нехотя, гордо поднимал свою голову и, заложив руку за жилет, важно прохаживался в толпе, будируя всех своих знакомых. Такие минуты находили на него часто. За ужином он, однако, малопомалу расходился: говорил мне о своих музыкальных планах, о своем «Руслане», над которым он тогда трудился, о будущности России (это был один из любимых его разговоров) и о русском народе, Глинка полагал, что он хорошо знает народ и умеет говорить с ним. При такого рода разговорах он обыкновенно очень одушевлялся: глаза его сверкали, он щипал руку того, с кем говорил — и беспрестанно повторял "неправда ли?.." В этот раз он исщипал мою руку до синяков.
Глинка был человек страстный, увлекающийся, настоящий поэт, — и в такие минуты он возбуждал к себе большую симпатию и увлекал многих своими фантазиями и парадоксами, потому что в его увлечениях не было ничего поддельного… надобно было только сидеть от него подальше. Но когда кто-нибудь затрогивал чуть-чуть его самолюбие или ему только казалось это, он становился нестерпимо горд, дулся, поднимался на ходули и принимал важные и пресмешные позы, вовсе не шедшие к его маленькой фигурке.
Степанов — нынешний редактор «Искры» — мастерски схватил комические стороны Глинки, Брюллова и Кукольника. Он представил всю жизнь их в очень злых, метких и остроумных карикатурах. Альбом этот принадлежит теперь графу Г. А. КушелевуБезбородко.
О святыне искусства за ужином Кукольника в этот раз не было речи. Он сообщил только нам, что он трудится над эпохою Петра Великого, приготовляет ряд повестей из этой эпохи, и кстати рассказал нам из нее несколько анекдотов.
После ужина все смолкли, потому что Глинка, почувствовав вдохновение, сел к фортепьяно и начал импровизировать. Кукольник стоял у фортепьяно, восклицая по временам: "дивно!", и, обращаясь к офицерам, шептал, прикладывая указательный перст к губам: "слушайте, слушайте, преображенцы!" В заключение Глинка пропел свой романс:
В крови горит огонь желанья — страстным, задыхающимся голосом, дико поводя глазами на слушателей.
Потом он повел рукою по лбу и волосам (это он часто делал в минуты волнения), встал со стула, из-за плеча бросил гордый взгляд на всех (кто из знавших Глинку не помнит этого взгляда?), прошелся по комнате, допил свой стакан, подошел ко мне улыбаясь, ущипнул меня и сказал:
— Если б наш Иван Акимыч воскрес и был здесь, что бы он сказал? — Михайло Иваныч заморгал и начал обдергиваться: — "Глинка… новый Орфей, продолжай услаждать слух гармонией… Жизнь коротка… мудрый, пользуйся жизнию… Добрый хозяин всегда имеет в запасе: бутылку на столе — две под столом… Разумей об этом тот, кому ведать надлежит…" — Глинка засмеялся. — Правда, ведь так? — заметил он.
Мы разошлись часов в 5 утра. …
Надобно сказать, что при начале вечеров Кукольника я был уже знаком со многими литераторами, с которыми сошелся на середах у Кукольника, на воскресеньях у графа Ф. П.
Толстого и у г. Краевского, приступавшего тогда к изданию "Литературных прибавлений к Русскому инвалиду" и скромно жившего неподалеку от Кукольника, на углу Глухого и Фонарного переулков, в 4-м этаже.
О знакомстве моем с г. Краевским я расскажу впоследствии. …
После службы моей в Департаменте государственного казначейства я отдыхал с год, и наконец, князь П. А. Ширинский-Шихматов, бывший тогда директором Департамента народного просвещения, с которым были знакомы мои родные, определил меня к себе в департамент младшим помощником столоначальника.
Когда я в первый раз явился к князю Шихматову, он сидел в своем кабинете у письменного стола в виц-мундире и со звездой.
— Милости прошу, — сказал он мне, немного приподнявшись с своих кресел и указывая на стул.
Князь Шихматов говорил тихо, медленно, с расстановками. В кабинете его стоял письменный стол, несколько стульев и кресел, а на одной из стен висел портрет какого-то монаха. На полном лице князя, желтом, как церковная свеча, выражалась совершенно монашеская кротость и смирение.
— Вы желаете служить в департаменте?.. Просьба ваша об определении у меня. С будущей недели вы можете уже начать службу. Вы поступите младшим столоначальником во II отделение, в стол г. Сваррику-Сваррацкому…
Я поклонился.
— Вы, я слышал, занимаетесь литературой? — спросил меня князь после минуты молчания.
— Немного, — отвечал я сконфузясь.
— Это похвальное занятие, — возразил князь, — я также в молодых летах питал любовь к литературе и писал стихи. Вы, может быть, знаете?..
— Как же, ваше сиятельство, — отвечал я, хотя, признаться, мне не случалось читать стихотворений князя.
Затем последовало молчание.
Князь Ширинский приподнялся с кресла, я встал со стула.
— Так на будущей неделе вы пожалуйте в департамент. До свидания-с.
Служба решительно не давалась мне, или, лучше сказать, я никак не мог подчиниться ей. У меня не оказывалось ни малейшего честолюбия. Камер-юнкерство уже перестало занимать меня; но мои близкие всякий раз, когда производили в камер-юнкеры сына или родственника их знакомых, с упреком говорили мне:
— NN сделан камер-юнкером. В каком восторге от этого его родители, и какой он прекрасный молодой человек, как он утешает их, как отзывается об нем начальство!.. Это примерный сын!
И за такими речами следовал обыкновенно глубокий вздох…
Я ездил в департамент довольно аккуратно, просиживал определенное время, но из этого ничего не выходило. Столоначальник мой г. Сваррик-Сваррацкий, добрейший человек, смотрел на меня снисходительно, потому что я был определен в департамент князем Шахматовым. К тому же у г. Сваррика был отличный старший помощник г. Кисловский, нынешний директор канцелярии министра просвещения.
Я изредка посещал по праздничным дням князя и княгиню Ширинских. Однажды при таком посещении княгиня пригласила меня к себе на танцовальный вечер, в присутствии князя, который молчал, но заметно нахмурился при словах "танцовальный вечер". Княгиня была так же богомольна и благочестива, как князь, но она находила, что для ее взрослых дочерей необходимо иногда развлечение.
Кавалеры на этом вечере большею частию состояли из чиновников департамента, под распоряжением экзекутора, который не приказал никого из них выпускать до 2 часов. В зале, где танцовали, зажжено было несколько ламп, издававших красноватый свет. Стены залы были также увешаны портретами монахов, которые, казалось, сурово и с удивлением смотрели на возмутившее их светское увеселение. Сам князь прохаживался, видимо смущенный бренчаньем на фортепьяно и прыганьем под эти звуки. Чиновники чувствовали себя неловко: для угождения княгине надобно было танцовать, а князь неблагосклонно посматривал на своих подчиненных — танцоров. Вечер не клеился, и уже не повторялся более.
Столоначальник мой, г. Сваррик-Сваррацкий, на другой день, впрочем, заметил мне, что вечер у князя был очень приятный.
Бедный Сваррацкий! упоминая об нем, я не могу удержаться, чтобы не рассказать о последних минутах его жизни. Он получил Анну на шею и вслед затем взял отпуск, чтобы блеснуть этим знаком отличия на родине, но простудился и слег в постелю. Доктор департамента Спасский, лечивший его, заехал к нему от раненого и умиравшего Пушкина.
Сваррацкому было плохо. Он приподнялся на постели, схватил руку доктора и произнес, бросая грустный взгляд на Анну, лежавшую на столике у его постели:
— Скажите мне, есть ли какая-нибудь надежда, доктор? Могу ли я выздороветь?
— Никакой, — отвечал Спасский, — да что ж такое? все мы умрем, батюшка. Вон и Пушкин умирает… Слышите ли, Пушкин?!. Так уж нам с вами можно умереть.
Сваррацкий со стоном опустил голову на подушку и умер в один день и почти в один час с Пушкиным. Спасский по этому случаю заметил:
— Вишь, счастливец! Умереть в один час с таким человеком, как Пушкин. Это не всякому удастся.
Сваррацкий нередко просил меня навести справки о чем-нибудь в редакции "Журнала просвещения", комнатка которой была на той же лестнице, где и департамент. Там я встречал чиновника небольшого роста, с очень серьезной и значительной физиономией, с густыми черными волосами, тщательно причесанными, как тогда носили, a la moujik, и с большими темносерыми глазами, имевшими строгое и резкое выражение.
— Кто это такой? — спросил я однажды у одного из чиновников.
— Это помощник редактора, — отвечал мне чиновник, — кандидат Московского университета Краевский — преученый человек.
Г. Краевский имел уже тогда в виду взять у Воейкова "Литературные прибавления"; ему нужны были сотрудники; он знал, что я пишу повести, и потому мы сошлись с ним легко и довольно близко, чему еще более способствовало то, что в это время мы коротко познакомились в одном доме, который стали посещать почти ежедневно.
Толки об учености Краевского в департаменте основывались, кажется, на компиляции его о философии аббата Ботеня, заказанной ему графом Уваровым и помещавшейся тогда в "Журнале Министерства просвещения".
В Петербург г. Краевский явился со статьею "Борис Годунов". Он прежде всего познакомился с Гречем, потому, вероятно, и статья эта была напечатана в "Сыне отечества".
Греч первое время отзывался о г. Краевском с увлечением. Вскоре, я уже не знаю по каким причинам, г. Краевский отвернулся от Греча и познакомился, кажется через П. А. Плетнева, с князем В. Ф. Одоевским, который принял его с распростертыми объятиями и с свойственным ему добродушием…
Через г. Краевского я познакомился потом с князем Одоевским в качестве переводчика «Отелло» Шекспира.
Кстати об этом переводе.
Как все молодые люди, я был страстный охотник до театра. Мир закулисный казался мне каким-то фантастическим, в высшей степени привлекательным и недоступным миром.
По тогдашней моей робости я и не смел думать о знакомстве с Каратыгиным или Брянским, которые доставляли мне своею игрою на сцене неописанное наслаждение. Я не пропускал ни одного представления «Разбойников», "Дон-Карлоса", "Коварства и любви" и различных немецких драм Грильпарцера и других, дававшихся в то время. Каратыгин и Брянский, особенно первый, поражали меня своим талантом.
В это время я принялся за чтение Шекспира. «Гамлета» я прочел в переводе Вронченко, еще будучи в пансионе, но он мне не понравился. Года два спустя после выпуска я снова принялся за него и, уже принудив себя прочесть его несколько раз, был поражен глубиною и величием этого произведения. Увлеченный им, я перешел от него к другим произведениям Шекспира. По-английски я не знал и познакомился с Шекспиром во французском переводе.
"Отелло" произвел на меня такое же впечатление, как некогда "Notre Dame de Paris" Гюго. Я несколько недель сряду только и бредил Отелло. Моему воображению представлялось, каковы должны быть Каратыгин в Отелло и Брянский в Яго. Желание увидеть эту драму на русской сцене преследовало меня и мучило.
Наконец я решился переводить ее, пригласив к себе в помощники моего родственника и приятеля М. А. Гамазова, знавшего довольно хорошо английский язык.
Утром и вечером я сидел за моим переводом и скоро окончил его. М. А. Гамазов много помогал мне и потом еще сверил перевод с английским.
Я отлично переписал его, велел переплести и решился предложить Брянскому для его бенефиса, наслышавшись, что Брянский серьезно понимает Шекспира и любит его. Перед этим он уже, кажется, давал в свой бенефис "Ричарда III", которого перевел для него его приятель Дидло.
С биением сердца я отправился к Брянскому. Брянский прочел мой перевод и остался им доволен. Я не скрыл от него, что я перевел с французского.
— Да мы на афише выставим — с английского; это необходимо, а то еще подумают, что это переделка Дюсиса…
Я смутился.
— Как же, — возразил я, — это неловко, ведь это обман?
— Да я вас прошу; это для меня, мне это важно. Вы не беспокойтесь, — прибавил Брянский, запахивая свой халат, надетый без ничего сверх рубашки (это был обыкновенный его домашний костюм): — этого никто и не заметит. Вы уж как хотите, а я выставлю перевод — с английского.
Я не противоречил более.
Через несколько дней потом он сказал мне, что читал мой перевод князю Шаховскому…
— Он мой старый друг и наставник, — заметил Брянский, — и знаток в нашем деле. Он похвалил ваш перевод и желает с вами познакомиться. Я обещал привести вас к нему.
Мы отправились с Брянским к Шаховскому в назначенный им день.
Шаховской жил тогда на набережной Фонтанки, неподалеку от Калинкина моста.
Я нашел в нем еще очень живого старичка. Он, пришепетывая, болтал без умолку, и показался мне очень добродушным. Репертуар Шаховского начинал в это время забываться; пиесы его появлялись на сцене изредка, что приводило автора, повидимому, в раздражение.
Он никак не думал, что время его прошло, а приписывал это интригам против него Театральной дирекции. Он очень горячился, упрекал Дирекцию в невежестве и с восхищением рассказывал о том времени, когда он управлял театрами, беспрестанно ссылаясь на Брянского и повторяя: "Плявда, братец, ведь плявда?" Шаховской похвалил мой перевод, но заметил, что у меня еще язык не совсем разговорный и встречаются длинные периоды, которые на сцене нестерпимы, но что, впрочем, все это легко исправить. Затем разговор перешел к Каратыгину. Шаховской, признавая в нем талант, говорил, что он попал в дурные руки и что его учители испортили его и внушили ему фальшивый взгляд на драматическое искусство. Надо отдать справедливость Брянскому в том, что он всегда молчал, когда заходила речь не в пользу Каратыгина; зато супруга Брянского, считавшая долгом рассматривать Каратыгина как соперника своего мужа и поэтому как непримиримого врага своего, ораторствовала против него повсюду с неслыханным ожесточением и устроивала беспрестанные ссоры между двумя артистами.
Мы просидели у Шаховского часов до двенадцати. Посторонних в этот вечер у него не было никого. Чай разливали его дочери от Ежовой (которая, кажется, умерла за год пред этим), девицы уже не первой молодости, но очень кокетливые, около которых увивался какой-то юнкер.
Это было мое первое и последнее свидание с Шаховским.
Обстановка «Отелло» занимала меня в высшей степени. Я был совершенно счастлив, попав за кулисы.
Для Брянского этот бенефис был очень важен, потому что в роли Десдемоны должна была дебютировать его дочь. По репетициям я никак не мог судить, хорошо ли пойдет пиеса: дебютантка была до крайности застенчива; первые сюжеты, особенно Каратыгин, небрежно, как-то сквозь зубы, произносили свои речи. Репетиции были беспрестанно прерываемы посторонними разговорами, появлением лиц, не принадлежавших к пиесе, и разными, может быть остроумными, но довольно грубыми шуточками между артистами и артистками.
Первую репетицию я просидел молча и робко, как человек, попавший в незнакомый ему мир, который издали казался ему гораздо привлекательнейшим. Я помню, меня смутило только, когда Каратыгин в 3-м действии — вместо: "Крови, Яго, крови!" произнес: "Крови, Яго, крови жажду я!" Это "жажду я" показалось мне неловким и лишним… Я, впрочем, успокоил себя мыслию, что он ошибся, но на генеральной репетиции это "жажду я" он произнёс еще с большею торжественностию и эффектом.
После репетиции я решился заметить ему, что в подлиннике и в переводе моем Отелло говорит просто: "Крови, Яго, крови!" и что, по моему мнению, это сильнее и проще.
Каратыгин взглянул на меня с высоты своей, улыбнувшись.
— Нет, — сказал он, — уж вы предоставьте мне говорить так, как я нахожу лучше. Эта фраза: "Крови, Яго, крови!" — коротка; для того чтобы придать ей силу, необходимо прибавлять "жажду я".
И он отвернулся от меня.
Делать было нечего — надо было покориться артисту; но (теперь мне смешно вспоминать об этом) это жажду я меня ужасно беспокоило.
Надо заметить, что Каратыгин меня знал с детства. Я встречал его в доме К*, с которыми были близки мои родные, и, переведя «Отелло», еще до знакомства моего с Брянским, я пригласил к себе на вечер Каратыгина, В. И. Панаева и Кречетова и прочел им мой перерод.
Каратыгин заметил, что хотя Шекспир большой талант, но играть его пиесы без значительных переделок невозможно, и что «Отелло» требует больших исправлений и выкидок. Дядя мой совершенно согласился с этим. Это возмутило меня, и тогда уже я решился обратиться к Брянскому.
Кречетов был в восторге от «Отелло». Он, кажется, познакомился с настоящим шекспировским Отелло в первый раз через мой перевод. До этого он знал «Отелло» по Дюсису, хотя и уверял, что глубоко изучил всего Шекспира, и называл его не иначе, как великим сердцеведцем; он удостоивал его также местоимения мой и иногда просто называл Уильямом.
Когда Панаев и Каратыгин уехали, Кречетов покачал головою и обратился ко мне:
— Эти господа, я вам скажу, ровно ничего не понимают, ничего-таки формально!
Стоило вам приглашать их! Ну, да, положим, ваш дядюшка… где ж ему обнять эту глубину, эту-эту силу, мощь, эту-эту беспредельность, эту полноту…
И Кречетов размахивал руками.
— Он взращен на этом приторном, сахарном Геснере… А Каратыгин-то! Еще считается великим артистом! Хорош, нечего сказать!
Когда речь касалась чего-нибудь театрального, Кречетов непременно всякий раз с энтузиазмом вспоминал о Катерине Семеновой, рассказывал о своем знакомстве с нею, рисовал ее в самых соблазнительных красках, намекал, что она была к нему неравнодушна и соблазняла его своей ножкой. В заключение он глубоко вздыхал и, разрывая свой волос с ожесточением, бросал его и произносил:
— Все это, батюшка -
Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой!Кречетов любил рассказывать о своей холостой жизни и о своих победах над прекрасным полом. Он посещал меня непременно раз в неделю и всякий раз передавал мне какой-нибудь эпизод из своих юношеских любовных приключений, заканчивая его вздохом и повторяя:
Теперь уж я не тот!
Надобно заметить, что за год до моего выпуска он женился на девице Гороховой, которую всегда описывал самыми поэтическими красками, говорил, что она совершенно удовлетворяет его идеалу и в пластическом и в моральном отношении и только смущался тем, что она уж слишком плодовита и рожает каждый год. Он называл ее обыкновенно своею милою нелепостью и иногда в рассказах о своей семейной жизни разнеживался до сантиментализма.
— Где вы провели канун нового года? — спросил он меня однажды.
— По обыкновению, у Одоевского, — отвечал я.
— А я так мирно и тихо провел дома: купил бутылку доброй малаги, взял корзиночку безе… и мы вдвоем с моею милою нелепостью полакомились и распили бутылку.
Кречетов получал тысяч семь ассигнациями от уроков и жил безбедно. Он иногда приглашал меня обедать на какие-то протасовские щи и на бутылку старой мадеры, до которой он был большой охотник, и однажды познакомил меня с своею супругою, которая, по усиленному настоянию его, пропела для меня после обеда "Соловья".
Кречетов был в восхищении от ее пения и часто повторял:
— Мне, батюшка, не нужно ходить в вашу Итальянскую оперу… У меня своя домашняя опера.
К числу самых резких заблуждений Кречетова о самом себе принадлежало убеждение, что он человек светский. Самым любимым его рассказом (Кречетов сильно повторялся) был рассказ о том, как Е. М. Хитрово, родственнику которой он давал уроки, представила его однажды графине Фикельмонт (жене австрийского посланника) и как он наговорил ей тысячи светских блестящих, безделушек и нелепостей…
Кречетов сделался для меня привычкою, необходимостию. Я постоянно прочитывал ему все мои новые сочинения, он держал их корректуры (надо отдать справедливость: он был превосходным корректором) и вообще принимал живое участие в моих литературных делах.
Возвращая мне корректуры, он обыкновенно говорил:
— Скоро, кажется, мне и за свои корректуры придется приняться и вытащить чтонибудь хорошенькое из-под спуда!
Но проходили годы, а из-под спуда Кречетова ничего не выходило на свет. Я только раз видел на его письменном столе лист бумаги, на котором было написано начало какого-то монолога:
"Она женщина! Она жена моя! Она спит!" Да еще раз Кречетов прочел мне начало, как он выражался, юмористической безделушки, в которой роль играл какой-то паук в печурке, сплетавший паутину — намек, не помню, на какого-то сочинителя…
Перед представлением «Отелло» Кречетов был почти в таком же волнении, как я…
В день бенефиса Брянского я ходил как в чаду и приехал в театр, замирая от страха.
Театр был, к моему огорчению, не полон, несмотря на то, что много было роздано даровых билетов.
Я с нетерпением ждал поднятия занавеса.
Он поднялся… Растрепанные и грязные декорации, истасканные костюмы, какой-то особенный акцент, обличавший невежество многих актеров, особенно дожа, неловкость и робость дебютанки — все это привело бы меня в отчаяние, но эффектный вход Каратыгина, его красота, его блестящий наряд, большие белые серьги, которые чрезвычайно шли к его черному лицу, и страшные рукоплескания публики при его появлении оживили меня.
Пьеса сошла кое-как; "жажду я", произнесенное с сверкающими глазами и с угрожающим жестом, произвело взрыв рукоплесканий. По окончании пьесы я, разумеется, был вызван друзьями бенефицианта, моими приятелями и в том числе Кречетовым, который кричал и хлопал изо всей силы.
"Отелло" давали несколько раз. В третье представление я отправился на репетицию. У входа в театр я встретил Григорьева-меньшого, очень удачно игравшего роль мещан и купцов низшего разряда. Григорьев-младший всегда был вполпьяна, что, впрочем, очень шло к его амплуа.
Он остановился, увидев меня, и произнес в замешательстве:
— Пожалуйста, вы уж меня извините. Я тут не виноват, мне приказано, — что же делать!
— В чем? — возразил я с удивлением, — каким образом вы можете быть виноваты передо мною?
— Да меня заставили играть сегодня роль дожа в «Отелло». Против начальства не пойдешь, вы сами знаете.
— И, полноте, что за церемонии! — отвечал я, пожав ему руку.
"Отелло" я напечатал отдельною книжкою, и так как на афише было объявлено "перевод с английского", то и на заглавном листе книжки повторено было то же самое. Я даже имел слабость, раз запутавшись во лжи, подтвердить еще эту ложь примечаниями и комментариями, сделанными для меня Гамазовым, которые я поместил в начале моего перевода. Я был наказан за это: ложь моя вскоре была обнаружена г. Вронченкою, глубоко любившим и понимавшим Шекспира. Русская литература обязана ему превосходными переводами «Гамлета» и "Макбета".
В то время, когда мой перевод «Отелло» появился на сцене, г. Краевский был уже редактором "Литературных прибавлений к Русскому инвалиду", которые открылись его статьею: "Мысли об России". В этой статье высказалось profession de foi молодого редактора, состоявшее в том, что Россия не имеет ничего обoего с западною Европою, что она развивалась и шла иным путем, чем Запад, что она поэтому не подлежит общему человеческому развитию и составляет как бы шестую часть света…
В статье не было, впрочем, ничего оригинального, кроме шестой части света. Эти "Мысли об России" обнаруживали только, что Краевский явился в Петербург под влиянием тогдашних московских славянофилов. Статья эта произвела, сколько мне помнится, большое впечатление на многих литераторов, с которыми г. Краевский вступил уже в приятельские связи; литературный ветеран А. Ф. Воейков и многие из известных в то время литераторов: барон Розен, Карлгоф, Якубович, состоявший при штабе жандармов Владиславлев и другие отзывались о статье с большою похвалою. Для патриотического чувства их было лестно открытие г. Краевского. Они приветствовали его как мыслителя весьма замечательного. Даже Кукольник, не любивший г. Краевского, отозвался о "Мыслях об России" с благосклонною снисходительностию: "статейка эта недурна, в ней много дельного", говорил он. П. А. Плетнев и князь В. Ф. Одоевский одобряли первые шаги г. Краевского на журнальном поприще. Князь Одоевский имел на него в это время, как должно предполагать, сильное влияние, потому что г. Краевский завел у себя точно такие же оригинальные столы со шкапиками, какие были у князя Одоевского, и снял с него покрой для своего кабинетного костюма во время ученых занятий.
ГЛАВА IV
Литературные сборища по утрам у г. Краевского. — Барон Розен, Якубович, Владиславлев с "Утреннею зарею", Гребенка, Вернет, Степанов, Струйский и другие. — Появление Бенедиктова, — Чтение «Хевери». — Соколовский. — Воейков. — Литературный вечер у меня. — Знаменитый обед, данный Воейковым при открытии новой типографии. — Русская пляска.
Все почти известные тогдашние литераторы, за исключением Кукольника и литературных аристократов, принадлежавших к пушкинской партии, собирались у нового редактора "Литературных прибавлений" раз в неделю, по утрам. Из них выдавался более других барон Розен, с которым г. Краевский сблизился у Брянского. Розен принимал деятельное участие в "Литературных прибавлениях" при их начале и напечатал, между прочим, в этой газете статью о представлении «Отелло», в которой отозвался восторженно о таланте дебютантки, выполнявшей роль Десдемоны. Барон Розен, соперник и враг Кукольника по драматическому искусству, был безусловным почитателем Брянского и не любил Каратыгина, вероятно потому, что Каратыгин не совсем лестно отзывался об его драмах и считал Кукольника великим драматургом. Кукольник же, в свою очередь, отзывался о Каратыгине как о великом, гениальном актере.
Барон Розен был уверен в том, что он глубокий и единственный в России знаток драматического искусства и величайший драматический поэт. Он очень наивно говаривал нараспев и с резким немецким акцентом:
— Из всего немецкого репертуара, без сомнения, самая замечательная вещь — это «Ифигения» Гете. Ее мог бы перевести один Жуковский и то только под моим руководством.
Впоследствии он гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего «Ревизора», он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся, и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтения катался от смеха.
В мнении о «Ревизоре» два драматических врага — Кукольник и Розен, ни в чем не сходившиеся, сошлись совершенно.
Раздражаемый неуспехом на сцене своих драм и успехом Кукольника, барон Розен горячился, выходил из себя, доказывал, что он настоящий драматический поэт, что Кукольник не имеет ни малейшего понятия о драматическом искусстве; что его, Розена, оценит потомство, и так далее.
Такова была любимая тема всех его разговоров. Все в глаза соглашались с ним и поддакивали ему, а за глаза подсмеивались, как это обыкновенно водится.
Якубович, писавший посредственные стишки, довольно звучные, но без всякого содержания, пользовался, однако, между журналистами и издателями альманахов значительною известностию. Без его стишков не обходился почему-то ни один журнал, ни один альманах. Надеждин рассказывал мне впоследствии, что, когда он был издателем «Телескопа», фактор типографии, в которой печатался этот журнал, явился к нему однажды с просьбою дать ему оригинала на полстранички для замещения пробела.
— Как быть? у меня нет ничего такого, — отвечал Надеждин.
— Да нет ли хоть Якубовича на затычку? — возразил фактор.
Надеждин отыскал стишки Якубовича, и они с тех пор всегда шли на затычку.
Якубович не имел ни малейшего образования и отличался редкою наивностию.
Кто-то из журналистов отозвался не слишком благосклонно об его стихотворениях.
Якубович с негодованием жаловался мне на это…
— Я всегда был с ним в самых хороших, приятельских отношениях, — говорил он, — я ничего ему дурного не сделал, всегда давал ему свои стихи, а он вдруг так, ни с того ни с сего, обругал меня… Ведь согласитесь, что это подло?
— Почему же? — отвечал я, — ведь он не вас обругал, а нашел кое-какие недостатки в ваших стихах. Может быть, он и ошибается, но он высказал об них свое мнение… Нельзя же сердиться за это.
— Нет, — возразил Якубович, — по-моему, если уж приятель, так действуй поприятельски. Я о приятеле никогда дурно не отзовусь… Что вы ни говорите, это подло.
В другой раз Якубович жаловался мне на Карлгофа, у которого были литературные вечера с ужинами.
— Нога моя не будет у него в доме, — говорил он, — представьте себе, что он выдумал. Он за Кукольником ухаживает, за ужинами сажает его возле себя и ставит перед ним дорогой лафит, а меня на конец стола, где стоит медок от Фохтса по 1 р. 20 к. Что же это такое? Ведь это гадко, согласитесь.
Однако, несмотря на это, он продолжал посещать ужины Карлгофа и не пренебрегал медоком Фохтса, потому что любил выпить, и пил без разбора все даровое, попадавшееся ему под руки.
Якубович от литературы не получал ничего, потому что тогда не только за стихи, да и за прозу платили только немногим избранным, и кое-как поддерживал свое существование уроками русского языка.
Говорят, будто бы, когда он умирал на чердаке в коморке в Семеновском полку, к нему пришло известие о смерти его дяди, который оставил ему в наследство более трехсот душ. Как оскорбительно насмеялась судьба над бедным поэтом!
Владиславлев, написавший несколько сантиментальных и военных рассказов, почти никем не замеченных, приобрел себе в литературе некоторую известность своей "Утренней зарею" и через эту «Зарю» завел знакомство с разными литераторами. Воспользовавшись ловко местом своего служения, он распространял свое издание в довольно значительном количестве. Большинство приобретало этот альманах по предписанию жандармского начальства, которое, в противоречие своим принципам, возбуждало таким образом интерес к литературе в русской публике.
Все литераторы очень хорошо знали, какими средствами расходится "Утренняя заря", но такая спекуляция никого не смущала и казалась всем очень обыкновенною и понятною.
Владиславлев ничего не платил за статьи и поэтому приобретал от своего альманаха довольно значительные барыши. Он стал жить открыто и завел даже разные прихоти для удовлетворения своего тщеславия. Он собрал между прочим акварельный альбом из рисунков Брюллова и других знаменитых художников, который стоил ему больших денег. У кого теперь этот альбом?
Владиславлев имел характер грубый, и беззастенчивость его в обращении доходила иногда до наглости. Вместе с расширением своего тела и своих средств он принимал все более важную осанку и обнаруживал крайнее самодовольствие. Он даже начал посматривать на литераторов, способствовавших так бескорыстно к увеличению его средств, покровительственно. Это отчасти происходило, вероятно, оттого, что он очень гордился своею должностью.
С г. Краевским он сошелся очень близко и, говорят, при начале "Отечественных записок" способствовал их распространению через III отделение. Это очень забавно, если справедливо, потому что впоследствии то же III отделение скупало "Отечественные записки" и предавало их ауто-да-фе.
Гребенка, отличавшийся большим добродушием и очень любивший угощать изредка своих приятелей киевским вареньем и малороссийским салом, был любим всеми литераторами. Для журналистов он был необходим, потому что повести его и рассказы очень нравились большинству читающей публики…
К числу посетителей литературных утренников г. Краевского, кроме лиц, упомянутых мною, Каменского, Струговщикова, Струйского (писавшего под псевдонимом Трилунного) — господина с грязным и циническим направлением — и некоторых других, о которых я забыл, принадлежал молодой человек, появившийся в первый раз в "Литературных прибавлениях" под псевдонимом Бернета с стихотворением, которое, если я не ошибаюсь, называлось «Вечерни» и было всеми замечено, даже Белинским, который отозвался об этом стихотворении в «Молве» или в «Телескопе» с большою похвалою.
На Бернета стали смотреть как на человека, возбуждающего надежду. Это была одна из той сотни литературных надежд, которым — увы! — не суждено было сбыться.
Н. А. Степанов, всегда любивший литературу и постоянно поддерживавший связи с литераторами, посещал также г. Краевского… Степанов наблюдал все комические явления из литературной жизни и набрасывал по временам очень ловкие карикатуры из этой жизни, независимо от своего альбома из жизни Брюллова, Кукольника и Глинки.
Я со всеми упомянутыми здесь лицами был уже в коротких отношениях. С г. Краевским я виделся почти каждый день.
Однажды утром, когда я заехал к г. Краевскому, он сказал мне, что вечером меня зовет к себе Бернет, что у него будет автор «Мироздания» Соколовский, написавший превосходные поэмы, и что он хочет прочесть одну из них. — Приходите ко мне. Мы отправимся вместе, — прибавил г. Краевский.
Часов в 7 вечера мы были уже у Бернета (в доме Фридрихса у Владимирской церкви).
Бернет познакомил меня с Соколовским. Соколовский был человек средних лет, небольшого роста, с темными коротко подстриженными волосами; в его лице выражалось что-то болезненное и страдальческое. На нем был истертый сюртук, застегнутый на все пуговицы. Он начал с печального рассказа о перенесенных им страданиях в сыром каземате, с потолка которого капала сырость и стены которого были усыпаны клопами.
Соколовский после окончания курса в Московском университете недолго пользовался свободой. На студенческой пирушке Соколовский и его товарищи вели себя в пьяном виде неосторожно и неприлично, говорили какие-то речи и были захвачены полицией. Кроме того, Соколовский был обвинен в сочинении какой-то песни, которая пелась на этой пирушке.
Заточение Соколовского продолжалось, кажется, лет шесть. Хотя он был очень крепкого телосложения, но такое долгое пребывание в сыром клоповнике совершенно разрушило его здоровье. Он искупил страшными болезнями и страданиями минутные заблуждения и увлечения своей молодости. Во все время 6-летнего своего заключения у него была одна только книга — Библия. Она произвела на него глубокое впечатление, которое отразилось во всех его сочинениях, написанных после "Мироздания".
Соколовский не имел истинного поэтического призвания, к тому же долгое заключение разрушило не только его тело, но убило и дух. Он впал в мистицизм и запил с горя.
Он прочел нам отрывки из своей странной драматической поэмы под названием «Хеверь». Поэма эта издана была впоследствии в 1837 году. В ней 244 страницы, разделяется она на три части, которые называются: первая — "Болезни и Здоровье", вторая — "Страсти и Чувство", третья — "Ветхое и Новое". Для того чтобы дать об ней некоторое понятие читателю, я приведу здесь из нее два отрывка: из начала и из конца.
В начале поэмы Дедан, верховный сатрап Ахшверуса, царя персов и мидян, так описывает красоту героини поэмы — молодой еврейки, дочери Аминадаба, невесты царя и потом его супруги:
…Я не встречал, чтобы в одно созданье Так много бы сливалося красот!.. Уста — как пыл, слова ее — как сот, Огнистый взгляд — заманчив, как желанье, И вся сама: как лилия — стройна, Свежа — как сад, как облако — пышна, И так дыша, как дивно дышит Саба, Она собой, чудесная она, Как лето — жжет, и нежит — как весна, Вот какова та дщерь Аминадаба!..В заключение поэмы Хеверь, взяв за руки царя Ахшверуса и своего воспитателя Асадая, произносит:
Пойдемте же, пойдемте, как друзья, Как добрые и близкие родные, На сладкий пир красот и чистоты, Где вкруг столов живящей благоты Кипят ключом отрады неземные И разлиты восторги — как моря!.. Да!.. Поспешим на светлый пир царя. …. Чтоб, весело оконча здешний путь, Нам у него в чертогах отдохнуть И радостно при свете наслажденья Субботствовать в объятиях любви… Становясь на колена. А ты, творец, — ты нас благослови!..(Ахшверус и Асадай в невольном благоговении поспешно кладут к ее ногам свои короны, так что они с короною Хевери составляют треугольник…) Г. Краевский слушал поэта с глубокомысленным вниманием, уставив на него свои выразительные глаза. Он прерывал изредка чтение отрывистыми похвалами.
— Превосходно, славно, — повторял он, — каждый стих пропитан библейским духом…
Удивительно!
Когда мы возвращались домой, г. Краевский сказал мне:
— У! это, батюшка, замечательный талант, замечательный! Какой оригинальный стихто, — чудо! Соколовский весь пропитан библейским духом.
Я согласился.
"Хеверь", однако, к удивлению нашему, произвела на всех тяжелое и неприятное впечатление, несмотря на то, что многие заранее прокричали о ней как о чуде. Едва ли этой «Хевери» разошлось до десяти экземпляров.
Один мой знакомый, которому я наговорил бог знает что о таланте Соколовского, взял у меня его поэму, пробежал ее и, возвращая мне, сказал:
— Знаете, теперь уже никто не будет говорить: какую ты порешь дичь или галиматью, а какую хеверъ ты порешь.
Соколовский вдруг упал с пьедестала, на который неосторожно вознесли его. Неуспех его «Хевери» совершенно убил его дух; он совсем опустился и все чаще и чаще начал появляться в нетрезвом виде.
Одно лето я жил с г. Краевским на даче в Лесном институте. Раз вечером собрались у нас кое-кто из литераторов. Явились, между прочим, Соколовский с Якубовичем. Подали чай и к чаю маленький графинчик с ромом. Через час после этого чая Якубович и Соколовский оказались вдруг, к удивлению нашему, совсем нетрезвыми… Чем и когда они могли напиться? Графинчик с ромом оставался почти нетронутым. Лакей наш объяснил нам потом, в чем дело. Якубович и Соколовский достали сами из буфета бутылку коньяку и распили ее вдвоем. ….
Я сделался наконец записным литератором: писал для журнала г. Краевского повести и разбирал, по его просьбе, разные литературные книжки, сам удивляясь своей критической смелости. Я работал охотно и бескорыстно, даже и не помышляя о том, что труд мой стоит чего-нибудь. Я вполне удовлетворялся уже одним тем, что видел его в печати.
Лето, проведенное мною с г. Краевским, если не сблизило, то по крайней мере коротко познакомило меня с ним. 'До этого я, признаюсь, был гораздо выгоднейшего мнения о его мыслительных способностях, ученых и исторических сведениях. История считалась тогда его специальностию. Многие разборы исторических книг в "Литературных прибавлениях", обратившие на себя внимание и приписывавшиеся перу г. Краевского, к удивлению многих, оказались принадлежавшими господину Савельеву-Ростиславичу, который часто забегал к г. Краевскому.
В течение всего лета мы вели жизнь чрезвычайно однообразную: вставали около 10 часов, пили кофе на балконе и потом принимались за работу. Я писал повести для "Литературных прибавлений", г. Краевский переводил, неизвестно для чего, какую-то драму Казимира Делавиня. В три часа мы отправлялись обыкновенно гулять, а в четыре часа садились обедать; после обеда я отправлялся на острова, или на Черную речку, или вместе с г. Краевским к Плетневу, жившему неподалеку от нашей дачи.
Г. Краевский, как я уже заметил, находился в очень коротких сношениях с Плетневым, виделся с ним в течение лета почти ежедневно и нередко сопровождал его в отдаленных прогулках. Петр Александрович был тогда неутомимым ходоком. Он выхаживал по крайней мере верст до 25 утром и вечером.
Г. Краевский, отличавшийся аккуратностию во всем и крайнею заботливостию о своем здоровьи, начал не только подражать Плетневу, но даже соперничать с ним относительно ходьбы. Вообще, по моему наблюдению, г. Краевский в юные свои годы легко подчинялся на время тем, с которыми сходился и которых почему бы то ни было принимал за авторитеты. Он усвоивал себе нередко их образ мыслей и подражал им даже во внешних мелочах, стараясь, впрочем, сохранить перед своими знакомыми вид строгий и самостоятельный. Инициативы у него не было никакой… Нельзя, впрочем, не заметить, что он пытался сделать некоторые грамматические перевороты и между прочим дать большую самостоятельность букве ж. Все это, однако, не принялось и вскоре забыто было самим изобретателем.
Соболевский звал в это время Краевского — Краежским, петербуржским журналистом…
Довольный моими литературными знакомствами и связями, я давно уже мечтал о том, чтобы устроить у себя литературный вечер в большом размере и пригласить к себе всех литераторов.
При первой возможности я осуществил мою мысль: созвал почти всех, за исключением Булгарина и Греча, накупил вин, осветил комнаты, даже уставил их цветами, и заказал ужин. Я жил тогда в Грязной улице, в доме Диммерта, где впоследствии останавливался у меня Белинский.
Часу в девятом вечера комнаты мои были набиты битком. В кабинете (я это очень живо помню) расположились Полевой, барон Розен, Краевский и Бенедиктов… Надобно заметить, что перед этим только что появились разборы стихотворений Бенедиктова: в «Телескопе» — Белинского, в "Литературных прибавлениях" — Краевского (в то время еще все статьи в "Литературных прибавлениях" приписывали самому редактору) и Полевого в "Сыне отечества", редакцию которого он принял, переселившись в Петербург. Г. Краевский безусловно восторгался поэтом, а Полевой почти повторил о нем то, что высказал Белинский в "Телескопе".
Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мнения о новом поэте? — отвечал, что у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял более…
Но обратимся к моему литературному вечеру.
Полевой и барон Розен, заклятые враги, к моему удивлению, очень мило разговаривали у моего письменного стола и объяснились в уважении и любви друг к другу. Г. Краевский и Бенедиктов сидели неподалеку от стола на диване в ту минуту, как появился А. Ф. Воейков. Я пользовался особенным расположением его за повесть мою, напечатанную в "Телескопе".
Воейков был среднего роста и сутуловат; голова его, несмотря на преклонные лета, покрыта была густыми вьющимися черными волосами с небольшою проседью, черты лица его были недурны и правильны, но черные масляные глаза его, резко и злобно сверкавшие исподлобья, придавали лицу его что-то неприятное, особенно когда он старался смягчить их выражение. Он прихрамывал и потому всегда ходил с палкой. Обыкновенный костюм его был темносерый сюртук с голубой ленточкой в петличке от медали 12 года. Говорил он немного в нос.
Воейков остановился посреди кабинета, обозрел его кругом исподлобья и произнес, обращаясь ко мне:
— Глазам своим не верю… Какая роскошь! С каким вкусом все убрано!.. Неужели это ваша квартира? А я думал, судя по отзывам об вас Булгарина (Воейков намекал на разные выходки против меня в "Пчеле"), что вы живете в какой-нибудь лачужке… Прекрасно! прекрасно! — повторял он, озираясь и крепко сжимая мне обе руки…
Потом, когда я отошел от него, он бросил взгляд исподлобья на присутствовавших и стуча своей палкой направился прямо к дивану, на котором сидели г. Краевский с Бенедиктовым.
— Андрей Александрыч! Владимир Григорьич! — воскликнул он, переходя взглядом от одного на другого. — Боже мой! как я рад вас видеть!. С каким удовольствием, Андрей Александрыч, я прочел ваш прекрасный, доказательный, умный разбор превосходных стихотворений Владимира Григорьича… Дельно, дельно! умно, умно!.. Это уж не то, Владимир Григорьич (он пожал руку Бенедиктова и искоса взглянул на Полевого), что другие дураки об вас пишут… Вы не смотрите на них, это завистники (и он махал рукой в сторону Полевого). Вы великой поэт, великой!..
Я так и обмер. Полевой все видел и слышал. Я заметил, что даже лицо его, при словах Воейкова, передернулось. Я боялся, что дело дойдет до объяснений и неприятностей, однако через десять минут Воейков обнимал Полевого, называл его почтеннейшим Николаем Алексеичем и чуть не объяснялся ему в любви, а Николай Алексеич ежился, ухмылялся и корчил приятные гримасы.
Тогда, по неопытности моей, я удивлялся этому. Такое лицемерие казалось мне в людях избранных необъяснимым. Теперь я уже ничему не удивляюсь.
Кукольник явился позже всех, и в дурном расположении. Он составил тотчас же свой небольшой кружок, подцепил Якубовича, Гребенку и еще двух или трех человек и начал им, по своему обыкновению, проповедывать что-то.
Гребенка слушал Кукольника с внимательностию, моргая глазами и покачивая головой…
Когда речь выходила сколько-нибудь из обыкновенной житейской колеи и принимала чуть-чуть отвлеченный характер, хотя бы дело шло об искусстве, Гребенка совсем терялся и только моргал глазами и покачивал головою. Но к людям, трактовавшим об отвлеченных предметах, он питал глубочайшее уважение, особенно к критикам, — боялся их, ухаживал за ними и угощал их на своих вечерах наливочками и малороссийским салом с необыкновенным добродушием. Таковы были впоследствии отношения его к Белинскому, которого он уважал от страха.
Якубович был не таков.
Отвлеченные разговоры не пугали его. Когда кто-нибудь при нем пускался в такого рода разговоры, он улыбался и шептал кому-нибудь из своих приятелей: "Ну, понес ерунду!" — Терпеть не могу, — несколько раз говаривал он мне, — когда человек занесется в какието превыспренние сферы и начнет молоть. Все это пустяки; пусть там кричат, что он умен, образован… а дайте ему написать какое-нибудь стихотворение, попробуйте — и плохонького не сумеет написать, ей богу! — а мы хоть и не пускаемся в эти превыспренности, а стихи пишем, кажется, недурно. Сам Пушкин их хвалит и просит у меня.
Однако перед Кукольником он пасовал:
— Ну, этот может врать, что угодно, — говорил он, — по крайней мере поэт.
К отвлеченным разговорам Гребенка и Якубович причисляли разговоры о политике.
Литераторов 30-х годов вообще не интересовали никакие политические европейские события. Никто из них никогда и не заглядывал в иностранные газеты. Они рассуждали так, что каждый должен заниматься своим делом, не вмешиваясь в чужое.
— Ну, что мне за дело, — говаривал Якубович, — что французы передрались между собой, прогнали одного короля, взяли другого, — мне от этого ни тепло, ни холодно. Нашему брату, литератору, выход какого-нибудь "Северного цветка" интереснее во сто раз всех этих политических известий. Да провались Франция хоть сквозь землю. Что мне до этого за дело?..
Якубович долго слушал Кукольника, потом подошел ко мне…
— Ну, я вам скажу, Кукольник такую околесную несет, что боже упаси. Я слушал, слушал, отошел да плюнул — ничего не поймешь, а все оттого, что избаловали, захвалили, пятнадцатирублевый лафит выставляют перед ним — вот он и заносится. Велите-ка мне дать рюмку водки: что-то под ложкой щемит…
Из нелитераторов на моем литературном вечере были актер Дюр, мой друг и товарищ М. А. Языков, неизбежный Кречетов и наш домашний доктор Яновский — молодой человек из семинаристов. Яновский благоговел перед всеми чиновными отличиями и титлами и замирал при виде генерала. Всякое новое для него явление поражало его и приводило в остолбенение.
Тупых и рабских натур я встречал у нас много, но такой тупости и рабства, как у Яновского, найти было трудно.
Яновский в первый раз в жизни видел вблизи актера и литераторов и с любопытством рассматривал каждого из них, как какого-нибудь зверя… Он беспрестанно подходил ко мне с нелепейшими вопросами.
— Это Дюр? — спрашивал он, исподтишка, указывая на Дюра.
— Да.
— Тот самый Дюр, который играет на сцене?
— Тот самый.
— Скажите пожалуйста! — восклицал Яновский, пожирая Дюра глазами. — Странно! — ничего в нем нет необыкновенного: и ходит и говорит, как все…
— А вот это кто? — спрашивал он через несколько времени, — такой приятной наружности… вот направо разговаривает с другим…
— Это Плетнев, — отвечал я.
Яновский вытянул длинное — а!
— Действительный статский советник?
— Да.
— Скажите пожалуйста!.. — И он качал головою и, смотря на Плетнева с некоторою робостию, невольно застегивал пуговицу своего виц-мундира.
Когда у меня умерла дочь, Яновский говорил в утешение моей жене:
— Не огорчайтесь… Что же делать! Вот на-днях умерла дочь у NN — и еще на руках у него… а действительный статский советник! Что ж делать! Смерть не щадит и генеральских детей…
Кречетов, познакомившийся через меня с г. Краевским и еще кой с кем из молодых литераторов, которые посматривали на него свысока, отзывался о них очень неблагосклонно…
— Все эти господа — это-это-это… — и он не прибирал слова и махал рукой, — они просто не стоят ногтя с мизинца моего умного, милого, доброго Дельвига.
Полевой, которого он очень уважал, как я уже заметил, произвел на него неприятное впечатление.
— Даже не хочется верить, что это Полевой! — повторял он, — это какой-то сиделец с гостинодворскими ужимками…
Кречетов шатался, как тень, из комнаты в комнату, иногда садился к какому-нибудь кружку и прислушивался, и потом, взяв под руку Языкова, шептал ему:
— Как все это, мой добрый Михайло Александрыч, далеко от нашего прежнего литературного кружка, когда мы, бывало, сходились — Дельвиг, Подолинский, я… Сколько, бывало, высказывалось на наших сходках серьезного, дельного, этаких питательных вещей для ума, а от этих господ — ни шерсти, ни молока… В целый вечер ни одного умного слова не услыхал…
Кречетов оживился только за ужином, и после ужина, расхваливая его мне, прибавил, что эти господа не стоят такого ужина, что они не умеют оценить его, что для этого надобно иметь тонкий гастрономический вкус, и прочее.
Я очень боялся какой-нибудь неприятной истории, сведя людей, враждовавших между собою и редко встречавшихся, однако все прошло благополучно.
Воейков до такой степени сошелся с Полевым, что сел рядом с ним за ужином.
Он говорил ему:
— За что нам ссориться, Николай Алексеич? Прошлое забудем; я ведь высоко ценю ваши дарования, ваши глубокие познания. К тому же теперь вы наш, петербургский.
И Полевой с различными ужимочками отвечал:
— И я также, Александр Федорыч, душевно предан-с вам. Конечно, это всё были недоразумения между нами-с.
И Воейков протягивал к Полевому свои объятия и лобызал иудиным лобзанием того, про которого он писал в своем "Сумасшедшем доме": ….
Самохвал, завистник жалкой, Надувало ремеслом, Битый рюриковой палкой И санскритским батожьем. Подл как раб; надут как барин. Но, чтоб разом кончить речь: Благороден, как Булгарин, Бескорыстен так, как Греч!Краевский дичился Кукольника и искоса посматривал на него, несмотря на то, что Кукольник приятно заигрывал с ним. С Плетневым и князем Одоевским Кукольник обращался с сухою вежливостию. Вообще от друзей Пушкина он отдалялся, да и они, кажется, не желали сближаться с ним…
Полевой, с которым я познакомился незадолго перед моим литературным вечером, которого еще с пансиона привык уважать, подействовал на меня неприятно. По «Телеграфским» статьям я составил в голове идеал его. Я воображал Полевого человеком смелым и гордым, горячо и открыто высказывающим свои убеждения — и увидел в нем какого-то робкого, вялого, забитого господина, с уклончивыми ужимками, всем низко кланявшегося, со всеми соглашавшегося, как будто не имевшего ни малейшего чувства достоинства, даже как-то оскорбительно, для почитавших его, унижавшегося передо всеми…
Он наговорил мне в этот вечер столько любезностей и неуместных вежливостей, так подобострастно смотрел на меня, так лицемерно жал мне руки, что даже возбудил к себе неприятное чувство.
Раз вечером, когда я сидел у него в кабинете (он жил тогда на Песках, в доме, принадлежавшем некогда Д. М. Княжевичу), дети его пришли с ним прощаться. Он перекрестил их и благословил, потом встал со стула, поклонился мне и сказал:
— Извините, Иван Иваныч, — уж у меня такая привычка-с…
Какое странное извинение!
Тяжело было смотреть на такое страшное падение человека, так смело и твердо державшего свое знамя в «Телеграфе», человека, который был столько лет грозою пошляков и рутинеров, бичом всех предрассудков и всего рабского и подлого. Глядя на него, невольно приходили в голову его слова, вставленные им в уста шекспировского Гамлета:
"За человека страшно!" Я вступил в литературный круг, как в какое-нибудь святилище, с благоговейным чувством. Я думал, что если не все, то по крайней мере избранные из литераторов — люди возвышенные, необыкновенные, непричастные никаким мелким страстишкам и слабостям обыкновенных смертных, — и должен был горько разочаровываться с каждым днем.
Вера моя в мои литературные кумиры поколебалась особенно с обеда, который Воейков заставил дать купца Жукова при открытии его типографии, управление которой Воейков взял на себя.
Воейков, истощавший, по обыкновению, все свое лицемерие и лесть перед людьми, из которых он думал извлечь для себя какую-нибудь пользу, уверявший их в своей высокой честности и бескорыстии, начал ухаживать с некоторого времени за купцом Жуковым (В. Г.), дела которого были тогда в самом цветущем состоянии. От "Русского инвалида" Воейков получал весьма немного. У него были побочные дети от женщины, которая исправляла у него должность ключницы или кухарки, на которой он женился незадолго перед своей смертию, и хотя он содержал семейство свое плохо, но ему все-таки недоставало денег, и он часто жаловался на свое стесненное положение.
Репутация Воейкова между литераторами и людьми близкими к литературе была не блистательная. На него смотрели почти так же, как на Булгарина. Из литераторов один только Владиславлев находился с ним в дружеских сношениях, но и тот отзывался о нем невыгодно и не давал ему денег взаймы. Владиславлев, тщетно уговаривавший Воейкова не жениться, принужден, однако, был присутствовать, по его просьбе, на свадьбе как свидетель и рассказывал о ней много комического. Жуковский, князь Вяземский и другие старые приятели Воейкова, прежде помогавшие ему, совсем почти отказались от него. Многие поддерживали с ним связи только из боязни попасть в его "Сумасшедший дом".
Потерявший всякое доверие и участие к себе между прежними своими приятелями, Воейков обратился к людям богатым и далеким от литературы…
Жуков попался на его удочку.
Воейков и в глаза и за глаза прославлял Жукова, называл его честнейшим, умнейшим, просвещеннейшим русским человеком; твердил ему, что он частичку из своих богатств должен употребить, как меценат, на пользу литературы, и уговорил его дать капитал на заведение типографии, прибавив, что он охотно возьмется, несмотря на свои преклонные лета и многочисленные литературные занятия, управлять этой типографией и блюсти выгоды почтеннейшего Василья Григорьича.
Самолюбие Жукова не устояло против грубой лести Воейкова. Жуков дал ему деньги на первое обзаведение и открытие типографии. Воейков уверил его при этом, что для придания большей известности новой типографии необходимо дать угощение в ней всем литераторам, начиная с И. А. Крылова и Жуковского. И на обед были выданы деньги Воейкову.
Я получил приглашение вместе с другими. Квартиру для типографии Воейков нанял в переулке близ Сенной площади, в грязном доме, пользовавшемся самою печальною известностию: во время холеры 1831 года в этом доме была устроена холерная больница, и из окон ее взбунтовавшийся народ выбрасывал на улицу докторов. В самой большой из зал типографии был накрыт стол покоем, человек на семьдесят.
К четырем часам литераторы начали съезжаться и сходиться. Воейков принимал всех как хозяин, очень довольный тем, что Крылов, Жуковский и Вяземский не отказались от приглашения. За исключением Булгарина, Сенковского и Греча — заклятых врагов Воейкова — на этом обеде присутствовали все до последнего фельетониста, накануне напечатавшего свою статейку в первый раз.
Крылов, Жуковский и Вяземский были посажены, конечно, во главе стола. Около них Плетнев, князь Одоевский и г. Краевский, который при первом появлении в залу озаботился, чтобы занять место как можно поближе к ним. Кукольник сел на другой конец стола со своими литературными друзьями и посадил возле себя Полевого. Остальные расселись как случилось.
Воейков не садился за стол. Он любезничал с своими гостями и угощал их. Воейков всех предварительно познакомил с Жуковым и за обедом оставил ему место около литературных знаменитостей.
За обедом между прочими присутствовали два какие-то монаха. Когда все уселись за стол, в зале появились квартальный надзиратель и два жандармских офицера. Явились ли они для поддержания, в случае нужды, порядка или принадлежали к знакомым Жукова и Воейкова и были ими приглашены? — это осталось неизвестным. Надобно думать, что они явились просто для порядка, потому что за стол не садились, а только по временам заглядывали в залу и потом исчезали в другой комнате, где в свою очередь угощаемы были будущие фактор и наборщики.
Кушаньям не было числа, но обед был из рук вон безвкусен и плох. Вино также не отличалось доброкачественностию, но уж зато лилось через край. Между бесчисленною, грязною и полупьяною прислугою бегали какие-то ребятишки и также прислуживали гостям.
Оказалось, что это были побочные дети Воейкова.
Воейков привел ко мне одного из этих мальчиков и, указывая на него, сказал:
— Я знаю, что вы охотник до портера, так вот обратитесь к моему Федюше. Он вам принесет все, что угодно. Слышишь, Федюша?.. Ты и не отходи от этого господина (он указал на меня), стой за его стулом и исполняй его приказания, а теперь сбегай да принеси-ко бутылочку портеру самого лучшего.
Вино действовало; в конце обеда начались дружеские излияния, различные объяснения, объятия, примирения, уверения в любви и уважении. Все, даже самые ожесточенные враги, смотрели в умилении друг на друга посоловевшими глазами. Полевой уверял Кукольника в том, что он один из самых пламенных приверженцев и почитателей его таланта. Кукольник кричал, что имя Полевого никогда не забудется в истории русской литературы; они при этом целовали друг друга и пили брудершафт… Все это было довольно гадко.
Шум и крики увеличивались, сливаясь в безобразный и нестройный гул. Жуковский, Крылов, Вяземский, Одоевский и многие другие с последним блюдом встали из-за стола и уехали.
— Ну, и хорошо сделали! — произнес Кукольник, махнув рукой на удалявшихся. — Мы обойдемся и без этих аристократов. A bas их! Правда, Полевой?
— A bas!.. — отвечал ухмыляясь Полевой, сладко глядя в глаза Кукольнику, и вскрикнул: — ура, Кукольник!
— Ура, Кукольник! Ура, Полевой! — закричали кругом их.
Барон Розен, еле державшийся на ногах, расхаживал по зале, кричал, что он создаст настоящую русскую драму, что «Ифигению» Гете может перевести один Жуковский под его руководством, натыкался на всех, обнимался со всеми и даже плакал.
Между тем совсем смерклось, и залу осветили двумя или тремя плохо горевшими лампами.
Пропитанная спиртным запахом и табачным чадом, она представляла неприятное зрелиoе. Столы были уже сдвинуты. Пьяные тени шатались и бродили в этом чаду, освещенные тусклым и красноватым светом ламп, крича, болтая всякий вздор и натыкаясь друг на друга. Полевого и Кукольника начали качать, каким-то образом даже Розен очутился потом в объятиях Кукольника. Кукольник кричал:
— Ты немец, но талантливый немец… в твоей "Осаде Пскова" есть дивные места… Ну, братцы, выпьемте за здоровье Розена!.. Воейков! вели подать вина!..
Квартальный и жандармские офицеры издалека посматривали на все это с подозрительным удивлением.
Хромой Воейков, стуча своею палкою, явился в сопровождении лакея, который нес шампанское. Воейков начал обнимать Кукольника и Розена и говорил, что он счастлив, что на его празднике совершилось примирение двух наших первых драматических писателей.
Кукольник провозгласил в десятый раз тост за процветание новой типографии.
Литературная оргия окончилась пляской.
Полевой, Кукольник и Яненко пустились вприсядку. Около них составился кружок, рукоплескавший им и кричавший: bravo, bis!..
Что происходило затем — я не знаю; я не дождался конца пляски. Мне было больно и оскорбительно за Полевого.
Через несколько дней после этого Степанов принес к г. Краевскому отличный карикатурный рисунок, на первом плане которого были Полевой и Кукольник, отхватывающие вприсядку…
ГЛАВА V
Альманах в память открытия типографии. — Э. И. Гувер. — Вечер у Воейкова в великом посту. — Чтение "Сумасшедшего дома". — Нумер "Русского инвалида", присланный мне Воейковым. — Юбилей Крылова. — С. Н. Глинка. — Литературно-великосветские субботы у князя В. Ф. Одоевского. — Сахаров, издатель "Сказаний русского народа". — Отец Иакинф. — Отношения Одоевского к молодым литераторам. — С. А. Соболевский. — Смерть Пушкина и разбор его бумаг. — Имя Краевского на обертке «Современника» вместе с именами князя Вяземского, Жуковского и Плетнева.
Присутствовавшие на обеде Воейкова при открытии типографии, по предложению, если я не ошибаюсь, Владиславлева, обязались подарить по статье на зубок новой типографии. Если бы все они сдержали свое слово, из этих приношений составилась бы книжища листов во сто. Мысль эта улыбалась Воейкову, но, к прискорбию его, она не осуществилась: только человек десять или пятнадцать из самых молодых литераторов, движимых рьяною страстью печататься (и в том числе, конечно, я), поднесли ему свои стишки и рассказцы, из которых составилась тощая и плохая книжечка. Перед выходом ее Воейков пустил об ней прекурьезное объявление с китайским бордюром, как объявления о чае. Он наименовал все статьи своего альманаха и при этом делал небольшую, но презабавную характеристику каждого автора. Я только помню две из этих характеристик — мою и Губера. Напечатав заглавие моего рассказа, он заметил: "сочинение И. И. Панаева, автора повести: "Она будет счастлива",* в которой в * Повесть эта была напечатала в «Телескопе», как я упомянул выше. первый раз изображена настоящая русская женщина"; объявляя о стихотворениях Губера, он прибавил: "того самого Э. И. Губера, который вступил в борьбу с исполином Германии — Гете и победил его". Остальные характеристики были в этом же роде.
Здесь кстати надо заметить, что Губер незадолго перед этим появился с большим эффектом на литературном поприще как переводчик «Фауста». Об этом переводе, еще до появления отрывков из него, толковали очень много: говорили, что перевод его — образец переводов, что более поэтически и более верно невозможно передать «Фауста». Кажется, Губер явился с отрывками из своего перевода прежде всего к Пушкину, и Пушкин переделал некоторые из этих отрывков. Об этом уже узнали впоследствии. Губер сначала довольно часто появлялся на литературных утренниках г. Краевского, потом он сблизился с Брюлловым, Глинкою и Кукольником… но о Губере я буду еще говорить впоследствии…
Объявление Воейкова рассмешило всех. Искренно ли было написано оно, или это была злая шуточка, до которых Воейков был такой охотник? Бог знает. Воейков как критик был вообще до крайности пошл и легко мог не шутя делать такого рода характеристики.
В своих выходках в "Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду" против Надеждина, Белинского и других он являлся тупым, плоским, отсталым старцем, огрызавшимся с бессильною злобою.
В Воейкове-журналисте не было, казалось, ничего общего с автором "Сумасшедшего дома", умно и метко злым, каким он являлся иногда и в обществе.
Однажды на вечере у Владиславлева, когда зашла речь о "Сумасшедшем доме", Владиславлев спросил у него:
— Скажите, Александр Федорыч, откуда вы берете эти слова, которыми вы так беспощадно бичуете в вашем "Сумасшедшем доме"?
Воейков улыбнулся, и масляные глазки его засверкали.
— Они мне не легко достаются, — отвечал он протяжно и в нос, — я ведь, почтеннейший, несколько лет коплю в себе желчь, и когда она накопится через меру, так уж сама собой както разливается.
У Владиславлева висел на стене в его кабинете портрет масляными красками Греча.
Краевский спросил у Владиславлева, почему он повесил у себя этот портрет Греча: разве он так уважает оригинал?
— Ах, Андрей Александрыч, — прогнусил Воейков, — оставьте его: пусть до виселицы-то хоть на гвоздике повисит!
Однажды Воейков пригласил меня к себе на вечер. Это было в великом посту. Он жил где-то около Шестилавочной в небольшом отдельном деревянном домике. На этом вечере были: Жуковский, князь Вяземский, г. Краевский, Владиславлев, Гребенка и некоторые другие литераторы.
Воейков был очень любезен с своими гостями и льстил самолюбию каждого.
Вяземский потребовал, чтобы он непременно прочел весь свой "Сумасшедший дом", не скрывая ничего.
— Ты ведь, верно, и меня поместил в него, — сказал Вяземский, — прочти обо всех. Я не рассержусь на тебя, я тебе даю слово; другие, верно, также не рассердятся.
— Что это ты, князь! — вскрикнул Воейков, — с чего ты это взял? Клянусь тебе, что о тебе нет ни одной строки. Я тебя так люблю, так уважаю!.. Сохрани боже, как это можно!
— Да и Жуковского ты, верно, любишь и уважаешь, — возразил Вяземский, — однако Жуковский попал же в "Сумасшедший дом".
Жуковский улыбался. Воейков смутился.
— Это прошедшее… это было так давно, — начал Воейков, — я теперь в этом раскаиваюсь… Это гадко, низко с моей стороны было трогать такого человека, как он (и Воейков указывал на Жуковского); я торжественно каюсь в этом поступке…
— Ну, полно, полно, — отвечал Жуковский, — принеси-ка свой "Сумасшедший дом" и прочти его нам, ничего не утаивая…
Все пристали к Воейкову. Он вышел и скоро возвратился с тетрадкою.
— Право, это не стоит читать, — говорил он, — вам всем это известно, нового тут ничего нет.
— Нет, читайте, читайте! — закричали все в один голос…
— Если вы непременно требуете, я повинуюсь — делать нечего.
И Воейков неохотно раскрыл тетрадку…
— Господа! — сказал Вяземский, — он непременно пропустит что-нибудь. Пусть прочтет кто-нибудь другой… Дай кому-нибудь из нас тетрадку.
Воейков начал клясться, что пропускать нечего, что нового нет ничего, — однако тетрадка его была передана Гребенке, который взялся читать.
Во время чтения Воейков стоял сзади стула Гребенки и прерывал чтение, повторяя:
— Видите ли, ведь я не солгал, тут нет ничего нового… Право, не стоит читать…
— Молчи! молчи! — замечал ему Жуковский, грозя пальцем.
Нового действительно ничего не оказалось, за исключением не известных для Вяземского и Жуковского четырех страшно оскорбительных стихов на Карлгофа, с которым Воейков был в очень приятельских отношениях.
— Видишь ли, князь, — воскликнул Воейков по окончании чтения, обращаясь к Вяземскому, — что я не солгал, что о тебе нет ни слова. Я бы отсек себе руку, которая бы написала о тебе хоть одну ядовитую строчку… Клянусь тебе, клянусь!
Вечер этот окончился постным ужином. Воейков во все время ужина извинялся, что он угощает постным.
— Жаль, — говорил он, — что мне пришлось принимать моих дорогих гостей в посту… ну, а вы уж меня извините, господа, — я свято исполняю христианский долг. Я всегда весь великий пост ем постное.
Провожая нас, Воейков говорил каждому:
— Благодарю вас за честь, которую вы сделали старику и не погнушались его приглашением, я это очень чувствую. Вы доставили мне истинное удовольствие. Я этого вечера никогда не забуду, — и так далее…
Из литераторов Воейков более всех ненавидел Сенковского, Греча и Булгарина и всякий раз выискивал с наслаждением случаи, чтобы нанести им какую-нибудь неприятность торжественно, перед лицом публики.
Один из таких случаев представился ему при юбилее Крылова.
Мысль о юбилее Крылова возникла, если я не ошибаюсь, на вечерах у князя Одоевского. Об этой мысли сообщено было графу Уварову, который как министр просвещения взялся испросить на этот литературный праздник высочайшее разрешение.
Сенковский, Греч и Булгарин, ненавидевшие Одоевского и Вяземского, потому только, что инициатива этого юбилея принадлежала им, отказались от участия в нем; но когда юбилей, высочайше одобренный, принял официальный характер, они начали хлопотать о билетах для себя; билеты уже были все розданы, и они на юбилей не попали.
Воейков воспользовался этим случаем и напечатал в «Инвалиде», что на празднике в честь нашего знаменитого баснописца не пожелали принять участие только Сенковский, Греч и Булгарин.
За эту невинную выходку Воейков просидел три дня на гауптвахте. Она показалась дерзкою высшему начальству.
Воейков очень тщеславился своею смелою выходкою (да! в то время и это считалось смелостью!) и разослал всем своим приятелям, в том числе и мне, тот нумер «Инвалида», в котором она была напечатана.
У меня он хранится до сих пор.
Наверху карандашом рукою Воейкова написано:
"Любезнейшему Ив. Ив. Панаеву на память от Ал. Воейкова".
Когда Воейкова выпустили на свободу, он, подробно рассказывая мне об этом происшествии, прибавил в заключение:
— Если бы меня предупредили заранее, что я просижу за это не три дня, а три года, я все-таки бы напечатал это и просидел бы с удовольствием три года в заключении для того только, чтобы опубликовать и опозорить этих господ перед всеми…
Юбилей Крылова праздновался в большой зале дома Энгельгардта, где теперь Русский магазин. Он принял, как я уже заметил, совершенно официальный характер. Перед началом обеда граф Уваров пришпилил к груди баснописца звезду ордена св. Станислава и в кратких, но выразительных словах поздравил его с этою высочайшею милостию.
За обедом говорили речи: Жуковский, князь Одоевский от лица молодого поколения литераторов, князь Вяземский прочел свое известное стихотворение к "Дедушке Крылову".
На хорах в зале присутствовало много любопытных великосветских дам. Крылов казался очень растроганным.
К концу обеда, после всех речей, встал с своего места Сергей Николаевич Глинка. На нем был синий фрак с бронзовыми пуговицами и с огромным Владимиром в петлице, манишка, повязанная сверх жилета, и сапоги сверх панталон. Глаза его имели несколько дикое выражение. Он направлялся с какою-то торжественностию к середине стола, где сидел Крылов, имевший своим соседом с правой стороны министра народного просвещения, а с левой Жуковского. Князь Одоевский и Плетнев сидели напротив Крылова, и около них приютился Краевский, начинавший для придания себе веса прицеплять себя к друзьям Пушкина и таким образом выдвигавшийся на видный план.
Сергей Николаевич остановился против Крылова, размахнул рукой и произнес горячо краткую, но не совсем связную речь, при всеобщих иронических взглядах, и затем потянулся к Крылову, который обнял его и поцеловал.
Когда пили за здоровье Крылова, энтузиазм в зале был страшный, и дамы на хорах кричали, махали платками и, кажется, бросили с хор несколько букетов…
Крылов бывал иногда на субботах князя Одоевского, и я в первый раз увидел там нашего знаменитого баснописца. Он имел много привлекательности и, несмотря на тучность тела, казался еще очень живым стариком. Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности: о том, как он однажды при представлении императрице Марии Федоровне в Павловске наклонился, чтобы поцеловать ее руку и вдруг чихнул ей на руку; о том, как какой-то сочинитель принес ему свое сочинение и просил его советов, как Крылов взялся очень охотно прочесть это сочинение и продержал его больше года; как сочинитель, выведенный наконец из терпенья, вошел к нему раз утром в спальню и увидел его спящего, а свое сочинение плавающим в каком-то сосуде, стоявшем у постели; как Крылов потерял жилет с самого себя, и прочее. Анекдоты эти известны почти всем.
Всякий раз, когда Крылов бывал у Одоевского, за ужином являлся для него поросенок под сметаной, до которого он был величайший охотник, и перед ним ставилась бутылка кваса.
На вечерах Одоевского бывали также довольно часто Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издалека, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появлявшийся обыкновенно очень поздно.
Известно, что желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось. Я уже намекнул об этом, говоря о Белинском.
Большинство наших так называемых светских людей того времени отличалось крайней пустотою и отсутствием всякого образования, потому что болтанье на французском языке, более или менее удачное усвоение внешних форм пошлого европейского дендизма и чтение романов Поль-де-Кока нельзя же назвать образованием. Исключений было немного, и к ним принадлежал граф Михаил Юрьевич Виельгорский — человек с тонкою артистическою натурою и притом с большою начитанностию для светского человека. Остальные не принимали и не могли принимать ни малейшего участия ни в развитии отечественной литературы, ни в каких человеческих интересах, а знали о существовании русской литературы только по Пушкину и по другим, которые принадлежали к их обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается в Жуковском, Крылове (басни которого их заставляли учить в детстве), Пушкине, князе Одоевском, князе Вяземском и графе Соллогубе, который своим светским приятелям читал тогда своего «Сережу», еще не появившегося в печати. Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной — вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был уже настоящий великосветский литературный салон с строгим выбором, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, к которой все известные наши поэты считали долгом писать послания.
Дух касты, аристократический дух внесен был таким образом и в "республику слова".
Аристократические литераторы держали себя с недоступною гордостью и вдалеке от остальных своих собратий, изредка относясь к ним только с вельможескою покровительственностию. Пушкин, правда, был очень ласков и вежлив со всеми, как я уже говорил, но эта утонченная вежливость была, быть может, признаком самого закоренелого аристократизма. Его, говорят, приводило в бешенство, когда какие-нибудь высшие лица принимали его как литератора, а не как потомка Аннибала, пред кем …громада кораблей вспылала И пал впервые Наварин!
Князь Одоевский, напротив, принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружески руку всем выступавшим на литературное поприще без различия сословий и званий. Одоевский желал все обобщать, всех сближать и радушно открыл двери свои для всех литераторов. Он хотел показать своим светским приятелям, что, кроме избранников, посещающих салон Карамзиной, в России существует еще целый класс людей, занимающихся литературой. Один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою и за свою донкихотскую страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей, которым не было никакого дела до литературы и которые вовсе не хотели сближаться с людьми не своего общества… Светские люди на вечерах Одоевского окружали обыкновенно хозяйку дома, а литераторы были битком набиты в тесном кабинете хозяина, заставленном столами различных форм и заваленном книгами, боясь заглянуть в салон… Целая бездна разделяла этот салон от кабинета.
Но для того чтобы достичь вожделенного кабинета, литераторам надобно было проходить через роковой салон — и это было для них истинною пыткою. Неловко кланяясь хозяйке дома, они, как-то скорчившись, съежившись и притаив дыхание, торопились достичь кабинета, преследуемые лорнетами и разными не совсем приятными для их самолюбия взглядами и улыбочками.
Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя издатель "Сказаний русского народа" И. П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облекался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского.
— Пусть их таращат на меня глаза, — говорил он, — мне наплевать, меня не испугают.
Книга Сахарова ("Сказания русского народа"), только что появившаяся в то время, обратила на себя всеобщее внимание в литературе, и через эту книгу Сахаров скоро сблизился со всеми литераторами и стал особенно ухаживать за журналистами. Он довольно часто появлялся у г. Краевского.
Кроме Сахарова, привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского отец Иакинф, изредка появлявшийся на субботах. Он обыкновенно снимал в кабинете Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и начинал ораторствовать о Китае, превознося до небес все китайское.
Он до того окитаился вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностию стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху.
Когда Иакинф заговаривал о своем Китае, многие светские господа из салона княгини приходили слушать его.
Отец Иакинф говорил грубо, резко напирал на букву о и не стеснялся в своих выражениях.
Какой-то светский франт перебил его однажды вопросом:
— А что, хороши женщины в Китае?
Иакинф осмотрел его с любопытством с ног до головы и потом, отворотясь, отвечал хладнокровно:
— Нет, мальчики лучше.
Однажды Иакинф проповедывал о том, что медицина в Китае доведена до высочайшего совершенства и что многие весьма серьезные болезни, от которых становятся в тупик европейские врачи, вылечиваются там очень легко и быстро.
— Какие же, например? — спросила княгиня Одоевская.
— Да вот хоть бы кровавый понос, — отвечал он…! Когда я в первый раз был у Одоевского, он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тон, с которым говорил он обо всем, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее, — все это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах — и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках; портрет Бетговена с длинными седыми волосами и в красном, галстуке; различные черепы, какие-то необыкновенной формы склянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского: черный шелковый вострый колпак на голове и такой же длинный до пят сюртук делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика.
Я почувствовал внутреннюю лихорадку, когда он заговорил со мною. Так точно действовал Одоевский и на моего приятеля Дирина, о котором я говорил выше.
Дирин благоговейно любил Одоевского, но одна мысль об его учености приводила его в трепет.
— Меня так и тянет к этому человеку, — говаривал мне Дирин, — в нем столько симпатического!.. Но когда он о чем-нибудь заговорит со мною, я вдруг робею, чувствую внутреннюю дрожь, и язык прилипает у меня к гортани… Меня это мучит, он должен считать меня ужаснейшим дураком!
Дирин и в могилу унес отроческий, раболепный страх к Одоевскому.
У меня этот страх прошел скоро.
Я имел случай не раз убедиться, что под этим таинственным астрологическим костюмом билось самое простое, самое откровенное и чистое сердце и что все эти ученые аксесуары, так пугавшие новичков, не были нисколько страшны.
Этот человек, приводивший нас с Дириным в трепет своею ученостию, нередко принимал за людей серьезных и дельных самых пустых людей и самых пошлых шарлатанов за ученых, доверялся им, распинался за них, выдвигал их вперед, и потом, когда их неблагодарность и невежество обнаруживались, он печально покачивал головой и говорил:
"Ну, что ж делать! Ошибся…" — и через день впадал в такую же ошибку.
Я мало встречал людей, которые бы могли сравниться с Одоевским в добродушии и доверчивости. Никто более его не ошибался в людях, и никто, конечно, более его не был обманут — я уверен в этом. Писатель фантастических повестей, он до сих пор смотрит на все с фантастической точки зрения, и прогресс человечества воображает в том, что через 1000 лет люди будут строить, вместо мраморных и кирпичных, стеклянные дворцы (см. его повесть).
Никто более Одоевского не принимает серьезно самые пустые вещи, и никто более его не задумывается над тем, что не заслуживает не только думы, даже внимания. К этому еще примешивается у него слабость казаться во всем оригинальным. Ни у кого в мире нет таких фантастических обедов, как у Одоевского: у него пулярка начиняется бузиной или ромашкой; соусы перегоняются в химической реторте и составляются из неслыханных смешений; у него все варится, жарится, солится и маринуется ученым образом.
В старые годы канун новых годов мы постоянно встречали, и очень весело, у Одоевского: раз, не помню, на какой именно год, к нему собралось более, чем обыкновенно, и в числе других был С. А. Соболевский, один из самих старых и коротких знакомых Одоевского.
Соболевский, тот самый, которого я увидел в первый раз у Смирдина с Пушкиным и с которым я познакомился впоследствии, запугавший великосветских людей своими меткими эпиграммами и донельзя беззастенчивыми манерами, приобрел себе между многими из них репутацию необыкновенно умного и образованного человека. Житейского ума, хитрости и ловкости в Соболевском действительно много; что же касается до образования… то образование его, кажется, не блистательно; но он умеет при случае пустить пыль в глаза, бросить слово свысока, а при случае отмолчаться и отделаться иронической улыбкой.
Соболевский принадлежит к тем людям, у которых в помине нет того, что называется обыкновенно сердцем, и если у него есть нервы, то они должны быть так крепки, как вязига.
Это самые счастливые из людей. Им обыкновенно все удается в жизни.
Для людей мягкосердых и нервических такого рода господа нестерпимы.
Перед ужином Одоевский предупредил всех, что у него будут какие-то удивительные сосиски, приготовленные, разумеется, совершенно особым способом. Он просил гостей своих обратить внимание на это блюдо.
Любопытство насчет сосисок возбуждено было сильно. Ужин открылся именно этими сосисками. Все разрезывали их и рассматривали со вниманием и, поднося ко рту, предвкушали заранее особую приятность, но разжевав, все вдруг замерли, полуоткрыли рот и не знали, что делать. Сосиски — увы! — не удались и так отзывались салом, что всем захотелось их выплюнуть.
Соболевский выплюнул свою сосиску без церемонии и, торжественно протягивая руку с тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился к хозяину дома и закричал во всё горло, иронически улыбаясь и посматривая на всех:
— Одоевский! пожертвуй это блюдо в детские приюты, находящиеся под начальством княгини.
У Одоевского, как вообще у всех людей нервических, не было espit de repartie: он совершенно смутился и пробормотал что-то.
Одоевский в двадцать лет вместе с В. Кюхельбекером был редактором журнала. Он обещал сделаться серьезным литературным деятелем, но после прекращения «Мнемозины» и переезда его в Петербург его литературная энергия ослабевает. Он упадает духом. Многие из родных и друзей его сосланы… Удар 14 декабря отозвался на всю Россию: все сжались и присмирели. В Петербурге Одоевский продолжает заниматься литературой, но не более, как дилетант. Главною целию делается служба. Убеждения и надежды его юности поколеблены.
Но служба не может наполнять его — и он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей врожденной любознательности: он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какието неслыханные музыкальные инструменты и, под именем доктора Пуфа, сочиняет непостижимые уму блюды и невероятные соусы; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем "Дедушки Иринея" и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник, — он совсем путается и теряется в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или с математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее.
Преследуя пошлый бюрократический формализм, он вводит его как председатель в Общество посещения бедных и в то же время уверяет, что хочет писать роман, в котором будет осмеивать этот формализм.
Не имея никаких придворных способностей, он делается придворным, и это стоит ему страшных усилий.
Один раз я заехал к нему часу в восьмом вечера. В ту минуту, когда я вошел в его кабинет, он стоял у стола в виц-мундире, в белом галстуке и в орденах и держал в руке кусочек сахара, на который княгиня капала что-то. Сахар почернел.
— Что это вы делаете, княгиня? — спросил я улыбаясь, — вы отравляете князя.
— Я всегда принимаю несколько капель опиума, — отвечал за нее князь, — от этого я становлюсь бодрее. Я должен ехать на вечер к великой княгине.
Во время коронации, в качестве камергера, Одоевский должен был подносить блюды императору и императрице и потом пятиться назад с лицом, обращенным к августейшим особам. Проделка эта нелегка, Одоевский очень серьезно занят был этим несколько дней и все учился пятиться.
Попав в чиновническую и придворную колею, Одоевский незаметно всасывал в себя честолюбие и чинолюбие и начал гоняться за различными знаками отличия; но он говорит искренно и чуть не со слезами на глазах, что, имея много недостатков, он только совершенно чужд одного — мелкого честолюбия — и благодарит за это бога!
Он утешает себя надеждою, что еще не совсем бросил литературу, что он напишет еще что-нибудь, что у него много разных планов и что для осуществления их ему надо только на время удалиться от своих служебных занятий.
Он потерял всякое сознание о самом себе и потому ставил себя беспрестанно в комические положения.
В последнее время он уверил себя, что он обладает удивительным даром изобретения.
Года три тому назад я встретился с ним в Гостином дворе и пошел вместе с ним.
— Ах, я совсем забыл… — вдруг начал он, — вам ничего не стоит вернуться несколько шагов назад. Я вам покажу мое новое изобретение.
Мы вернулись.
Он привел меня в лавочку, где продают фуражки и разные дорожные вещи. У входа ее висел клеенчатый лакейский плащ.
— Вот — смотрите! Не правда ли, это превосходная вещь!..
— Что такое?
— Клеенчатый плащ… ведь это мое изобретение. Я первый выдумал это…
Эти плащи в употреблении давным давно, но у меня недостало духу оспоривать Одоевского и разочаровывать его.
С год назад тому он очень серьезно и таинственно отвел меня в сторону.
— В настоящее время возник у нас в литературе очень серьезный вопрос, — сказал он мне… — о кухарках. Я по этому случаю написал статейку и пришлю ее вам. Это очень серьезная вещь, очень! Я развиваю этот вопрос и говорю о кухарках в Сардинии. Я на месте убедился, как эта часть там превосходно устроена…
Да! я теперь уже не боюсь учености и глубины князя Одоевского; вероятно, и Дирин перестал бы бояться его, если бы был жив; но до сих пор я питаю самое симпатическое чувство к этому человеку, который из всех литераторов-аристократов принимал действительное и искреннее участие во всех своих бедных собратах по литературе и обращался с ними истинно по-человечески я без всяких задних мыслей. В нашем обществе это большая заслуга!
В конце тридцатых годов Одоевский чуть было еще раз не сделался журналистом. Его настроивал на это г. Краевский, хотевший издавать журнал вместе с ним. Программа этого журнала, вместе с ручательством за благонамеренность редакторов, представлены были на высочайшее воззрение графом Уваровым. В это время государь, сломивший себе ключицу, находился в Чембарах в весьма дурном расположении духа. Он написал на представлении Уварова о новом журнале: "И без того много".
С этой минуты уже никакие просьбы о новых журналах не принимались, и существовавшие журналы стали перепродаваться за значительные суммы. Некоторые из немногих имевших привилегии на издание журналов и кое-как издававшие их ловко воспользовались этим и перепродавали их, делая таким образом очень хорошие спекуляции.
Краевский в это время еще крепко держался за Одоевского. Он вообще так и льнул к пушкинской партии и хотел втереться к самому Пушкину. Не знаю, удалось ли бы ему это: внезапная смерть Пушкина расстроила его планы, но он по крайней мере был утешен тем, что протерся-таки хоть к гробу Пушкина и вместе с друзьями поэта и жандармами тайком, ночью, выносил этот гроб из квартиры.
Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке у Певческого моста (Пушкин жил тогда в первом этаже старинного дома княгини Волконской) не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: "к Пушкину", и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта, ото было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви; стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми.
Дирин был страшно поражен смертию Пушкина. Он первый уведомил меня о ней, потому что во все время страданий Пушкина забегал справляться об его состоянии раз десять в день. Мы решили рано утром в день выноса тела явиться на квартиру поэта и присоединиться к тем, которые будут нести гроб.
Накануне вечером я сообщил об этом г. Краевскому.
— Ну что ж? доброе дело, — отвечал он отрывисто и сухо по своему обыкновению.
Знал ли он о том, что нашим желаниям не придется осуществиться, или распоряжение о выносе сделано было еще позже?
В 8 часов утра мы подъезжали к дому, где жил Пушкин. К удивлению нашему, около дома не было ни одного человека. Мы сошли с дрожек и вошли на двор. Подъезд был заперт.
Дворник объявил нам, что уж тело в церкви. Мы отправились к церкви.
Вся Конюшенная площадь была усыпана народом. В церковь пускали только по билетам, а у нас билетов не было… Квартальные так и сновали в толпе. Жандармы верхом окружали площадь… Мы с Дириным потолкались в толпе и печально отправились домой.
Недели через две после того, как тело по высочайшему повелению отвезено было А.И. Тургеневым в Святогорский Успенский монастырь (в 4 верстах от с. Михайловского), — г. Краевский объявил, что ему поручено разобрать книги и бумаги в кабинете Пушкина, что он пригласил к себе в помощники Сахарова и еще кого-то, не помню.
— Не хотите ли вы помочь нам? — прибавил он.
Я, конечно, не отказался от такого предложения.
Нечего рассказывать, с каким ощущением я входил в кабинет Пушкина…
Мы провозились целый вечер. Я, между прочим, нашел под столом на полу записку Мегниса, бывшего в то время секретарем английского посольства в Петербурге. Пушкин просил его быть своим секундантом, и Мегнис в своей записке отказывал Пушкину в этой просьбе, замечая, что, по его положению, он не может вмешиваться в такого рода дела.
Записку эту я передал г. Краевскому, который хотел отдать ее Жуковскому. Мегнис был прав. Но с какой точки зрения Пушкин адресовался к нему? С такого рода просьбами относятся, кажется, обыкновенно только к самым близким людям.
Во время наших занятий на пороге дверей кабинета появился высокий седой лакей.
Он, вздыхая и покачивая головой, завел с нами речь:
— Не думал я, чтобы мне, старику, пришлось отвозить тело Александра Сергеича! (Он сопровождал А. И. Тургенева.) — Я помню, как он родился, я на руках его нашивал…
И потом старик рассказал нам некоторые подробности о том, как они везли тело, в каком месте Святогорского кладбища погребено оно, и прочее.
Г. Краевский, кажется, посвятил разбору библиотеки Пушкина несколько вечеров, но я помогал ему только один вечер…
Когда испрошено было высочайшее разрешение на продолжение издания «Современника» в пользу детей Пушкина, к удивлению многих, на обертке, между именами издателей, друзей Пушкина: Жуковского, князя Вяземского, Плетнева, появилось имя А. А. Краевского. Положим, что Жуковский и Вяземский или по недосугу, или по лени и непривычке к делу не стали бы заниматься изданием, что они давали только свои имена для блеска; но разве Плетнев не мог сладить один с этим изданием?
Но г. Краевский в это время так расстилался перед Плетневым и ухаживал за ним, обнаруживал такое усердие и преданность перед друзьями покойного поэта, так совался им на глаза со своими услугами, что они наконец из благодарности удостоили его чести принять в соиздатели.
Г. Краевский сиял в это время.
Он, казалось, даже вырос… по крайней мере на вершок. И немудрено. Напечатать свое темное имя рядом с именами Жуковского и Вяземского почти все равно, что попасть из капралов прямо в генералы.
Андрей Александрович действительно с этих пор начал походить на литературного генерала.
ГЛАВА VI
Вечера у графа Ф. П. Толстого. — Кукольниковская партия. — Вечер у Гребенки. — Шевченко. — Сотрудник Сенковского и М. А. Языков. — Серапионовы литературные вечера во 2-м кадетском корпусе. — А. А. Комаров, П. В. Анненков и капитан Клюге фон Клугенау. — Знакомство мое с Н. А. Майковым. — 14-летний Аполлон Майков. — И. А. Гончаров и г. Дудышкин. — Кукольник в кругу офицеров. — Приезды А. В. Кольцова в Петербург. — Мое сближение с ним. — Разговоры о Белинском. — Впечатления, произведенные на меня "Литературными мечтаниями" Белинского.
Петербургские литераторы в тридцатых годах сходились обыкновенно по средам и по воскресеньям у П. А. Плетнева, по воскресеньям же у графа Ф. П. Толстого и по субботам у князя Одоевского. У Плетнева сбирались только самые короткие приятели его (г. Краевский был в числе их) и изредка появлялись Пушкин, Вяземский и Соболевский; о вечерах князя Одоевского я уже говорил; общество графа Ф. П. Толстого имело свой особенный колорит.
Оно состояло из молодых художников, подававших, по мнению гг. академиков, большие надежды, из литераторов партии Кукольника и из каких-то молодых и пожилых любителей литературы и искусств, захлебывавшихся при появлении Брюллова и Кукольника и для удовольствия хозяина дома готовых на все, — даже протанцовать, за неимением лучших кавалеров (у Толстого часто устроивали танцы). Брюллов бывал на этих воскресеньях редко, Кукольник не пропускал почти ни одного воскресенья.
Каменский, кавказский герой, о котором я уже упоминал, женился на дочери графа Ф. П. Толстого и жил в это время вместе с ним. Каменский устроил себе очень эффектный кабинет с яркопунцовыми занавесами и портьерами и с яркопунцовою мебелью. Он писал в красных широких шальварах и в красных туфлях на розовой бумаге свои "Иакова Моле", "Концы мира", «Фультонов», "Танцы смерти" и замышлял "Игнатия Лойолу". Приятель Брюллова и Кукольника — творцов "Последнего дня Помпеи", "Руки всевышнего", «Роксоланы» и прочее — не мог же он брать для своих сочинений какие-нибудь ничтожные предметы из вседневной жизни… Кукольник преследовал мелкое, по его мнению, направление литературы, данное Пушкиным, все проповедывал о колоссальных созданиях; он полагал, что ему по плечу были только героические личности. Брюллов писал колоссальные картины. Каменский все также бредил колоссами и с ироническою улыбкою поглядывал на тех, которые брали предметом для своих рассказов современную и обыденную жизнь.
Дом графа Толстого имел в это время так много привлекательного для молодых людей с артистическими наклонностями, все преувеличивающих и все раскрашивающих пылким воображением. Направо — изящный кабинет зятя, молодого литератора, беспрестанно переходившего от чудного мира своей фантазии, от своих колоссальных героев к очаровательной действительности — к своей молодой и прелестной жене, которая, наклонившись к его плечу, улыбалась ему с бесконечною любовию; налево — кабинет тестя, старца, исполненного благодушия, уже знаменитого артиста, талант которого приветствовал сам олимпиец Гете,* друга Брюллова и Кукольника, * Граф Толстой, после выпуска коллекции своих медалей к войне 112 года, получил письмо от Гете, в котором великий германский поэт в очень лестных фразах отзывается о таланте русского художника. отрывавшегося от своего резца и своего карандаша только для того, чтобы любоваться счастием своей дочери, не уступавшей в красоте лучшим античным произведениям… Кругом их молодежь, исполненная артистических и литературных талантов, кипящая надеждами, с утра до вечера толкующая о святыне искусства. Никаких претензий, никакого стеснения, совершенное равенство, полная свобода для всех, которые переступали за этот счастливый порог, почти патриархальная простота, искренность и радушие хозяев дома… Какая заманчивая картина! Кто бы из посещавших тогда дом графа Ф. П. Толстого мог подумать, что этот прелестный артистический колорит дома и это семейное счастие — только один мираж?
К числу замечательных ораторов литературно-артистических вечеров графа Толстого, за исключением царившего на них Кукольника, принадлежали: зять хозяина дома — жаркий поклонник Кукольника, повторявший с размахиванием рук и с сверкавшими глазами его фразы о святыне искусства, и тогда еще ученик академии — Рамазанов, ныне известный скульптор, рабски преданный Брюллову и также, трактовавший об искусстве очень фразисто и с тем внешним энтузиазмом, который так неприятно действует на слуховые органы.
Господа эти ораторствовали, конечно, в отсутствии своих патронов; при них они только изредка вмешивались в разговор. Граф Толстой говорил мало; с скромностию и благодушием он только слушал других, соглашался со всеми и всем приветливо улыбался. Кукольник обращался с ним почтительно и осыпал его преувеличенными похвалами, отзывавшимися лестию.
У графа Толстого есть довольно большой альбом рисунков для сочиненного им балета и очерки к «Душеньке» Богдановича.
Кукольник говорил, что это гениальные вещи, что трудно создать что-нибудь поэтичнее и выше, что очерки к Данту препрославленного в Европе Ретша — дрянь сравнительно с очерками Толстого к «Душеньке», и тому подобное.
Гости Толстого почти все были такого же мнения о трудах почтенного хозяина.
Каменский благоговел перед талантом своего тестя.
— У нас ничего не понимают в деле искусства, — кричал он с негодованием. — Какое-то отвратительное, постыдное равнодушие во всех: кто, например, ценит этого гениального старика? (Он указывал головою на Толстого.) Будь он англичанин или француз, его осыпали бы золотом с ног до головы, а здесь все его труды пропадают, не принося ему ни гроша… Это просто срам! Будь у нас умный, сколько-нибудь понимающий в искусстве директор театров, да он ухватился бы, как за клад, за рисунки графа для балета. Дай ему поставить этот балет на сцену — он принесет дирекции сотни тысяч!
Граф Толстой, в свою очередь, упрекал публику в равнодушии к отечественной литературе, потому что сочинения Каменского начали плохо сбываться и не производили уже никакого впечатления, к удивлению Владиславлева, который смотрел на Каменского как на одну из надежд русской литературы и на поддержку своей "Утренней зари".
Я часто бывал на вечерах Толстого. Простота и бесцеремонность, царствовавшие на этих вечерах, вначале очень нравились мне… Любители бильярда целый вечер не выходили из кабинета графа, в котором стоял большой бильярд. Тут постоянно можно было найти чтото такое сделавшего с байроновым «Дон-Жуаном» г. Любича-Романовича с Анной на шее и с постоянно приятною для всех улыбкою. При появлении всякого входившего в кабинет г. Любич отскакивал от бильярда, обязательно протягивал ему свою руку и крепко жал ее. В зале собирались любители танцев и составлялись кадрили. Сам хозяин дома и брат его граф К. П. Толстой — превеселый старичок — подавали в этом пример молодежи. Граф Ф. П. Толстой тщательно выделывал фигуры кадрили в своем обыкновенном домашнем костюме: в бархатной куртке, в вышитых туфлях и в шерстяных чулках. В кабинете у Каменского шли горячие толки о литературе и вообще об изящных искусствах. Он передавал планы замышляемых им творений или рассказывал о том, что созидает Кукольник, что замышляет Брюллов, какую они выпивку задали накануне и прочее. Всякий мог свободно удовлетворить своим наклонностям: играть в бильярд, танцевать, ораторствовать о святыне искусства или выслушивать планы повестей Каменского. Марья Федоровна Каменская была одушевительницею и царицею этих вечеров, которые оканчивались скромными, обыкновенными домашними ужинами с простым столовым медоком.
Граф Ф. П. Толстой вел жизнь чрезвычайно скромную, ни в нем самом, ни в его доме не было и тени каких-нибудь аристократических привычек и замашек. Он редко выходил из дому и всегда почти сидел с карандашом или с резцом в своем кабинете.
Он принадлежал к артистам старого поколения. Новое поколение артистов, развивавшееся под влиянием Брюллова — человека с дикими и неудержимыми страстями, — пустилось в эффекты, во фразы: кричало о величии артиста, о святыне искусства, отпускало бородки и бороды, волосы до плеч и облекалось в какие-то эксцентрические костюмы для отличия себя от простых смертных и в довершение всего, по примеру своего учителя, разнуздывало свои страсти и пило мертвую.
По мнению тогдашних молодых артистов, к ним нельзя было прилагать ту узкую и пошлую мерку, которая прилагается обыкновенно ко всем обыкновенным людям. Артист, как существо исключительное, высшее, мог безнаказанно вырывать серьги из ушей жены своей вместе с телом, предаваться самому грязному разврату и пьянству. Обвинять его в безнравственности могли только пошлые, рассудочные люди с мелкими потребностями, не понимающие широких титанических натур артистов и их волканических страстей. Это безумное возвеличение самого себя в качестве живописца, скульптора, музыканта, литератора, ученого; это отделение себя от остальных людей, которые получают презрительное название толпы или черни; это обожествление своего ума, своих знаний или своего таланта; это самопоставление себя на пьедестал — самое смешное и вместе печальное явление. В Европе оно ведет к доктринерству, у нас — просто к пьянству; оттого все наши широкие, артистические натуры кончают обыкновенно тем, что спиваются. Кроме положенных еженедельных артистически-литературных, великосветски-литературных и просто литературных вечеров, литераторы изредка сходились друг у друга и делали вечера.
Самым гостеприимным из литераторов того времени был Е. П. Гребенка, постоянно сзывавший к себе своих литературных приятелей при получении из Малороссии сала, варенья или наливок. Гребенка в это время еще не был женат. Он жил на Петербургской стороне в казенной квартире 2-го кадетского корпуса, где был учителем.
Однажды он пригласил меня к себе вместе с М. А. Языковым, который пользовался уже тогда большою известностью между всеми литераторами, с которыми был я близок, как приятный и веселый собеседник, остряк и каламбурист. Многие принимали Языкова за литератора и сотрудника г. Краевского.
— Вы чем именно занимаетесь? — спрашивали его, — какая ваша специальность?
— Да так, — отвечал обыкновенно, улыбаясь, Языков, — больше по смесям прохаживаюсь.
В этот раз у Гребенки сошлось многочисленное общество и, между прочим, Шевченко, который начинал уже пользоваться большою популярностью между своими соотечественниками; товарищи Гребенки по службе — А. А. Комаров и Прокопович (товарищ Гоголя по Нежинскому лицею и приятель его). Прокопович и Комаров оба очень любили литературу и пописывали стишки. С Комаровым я был знаком с детства и впоследствии, по приезде и Петербург Белинского, сблизился с ним еще более. О Комарове и о влиянии на него Белинского я еще буду иметь случай говорить впоследствии. На вечере у Гребенки некому было проповедывать ни о святыне искусства, ни о каких-нибудь возвышенных предметах; там просто болтали о вседневных и литературных новостях и приключениях.
В начале вечера Гребенка познакомил меня с каким-то господином, бывшим в это время (это было чуть ли не в 1837 году) одним из главных сотрудников "Библиотеки для чтения". Фамилию этого господина я не припомню. Он имел очень почтенный и глубокомысленный вид и, вместо белья, шерстяную красную фуфайку, которая виднелась изпод галстука и высовывалась из-за рукавов.
Языков обращал на себя всеобщее внимание своими забавными рассказами и многих смешил до упада.
За ужином ему пришлось сидеть рядом с сотрудником "Библиотеки для чтения" в шерстяной фуфайке. Сотрудник изъявлял не только величайшее уважение к Языкову, но обнаруживал перед ним какую-то робость, как перед авторитетом.
— Позвольте спросить, — отнесся он к Языкову, — я имею честь говорить с нашим знаменитым поэтом Николаем Михайловичем Языковым?
— Так точно, — отвечал Языков, скромно потупя глаза и нимало не задумавшись.
— Очень лестно и приятно познакомиться, — сказал сотрудник, протягивая ему свою руку.
Языков, нисколько не смущаясь, пожал ее.
— Не подарите ли вы нас каким-либо новым произведением? — продолжал сотрудник.
— Да у меня есть много набросанного, — отвечал Языков с чувством достоинства, — но все это надо привести в порядок… Я все собираюсь и все откладываю.
Этот разговор был подслушан многими, и к Языкову стали обращаться с разными вопросами как к поэту, его однофамильцу. Языков выдерживал свою роль довольно удачно.
Некоторые смешливые выскочили из-за стола…
Сотрудник "Библиотеки для чтения", после нескольких минут молчания, крякнул и снова отнесся к Языкову:
— Смею ли обратиться к вам, Николай Михайлович, — начал он, — с покорнейшею просьбою. Я сотрудник "Библиотеки для чтения", и если бы вы удостоили украсить наш журнал каким-либо хотя небольшим произведением, вы сделали бы истинное удовольствие Осипу Ивановичу Сенковскому, глубоко уважающему ваш талант.
Языков наклонил голову в знак благодарности за лестное мнение о нем Сенковского и отвечал, что в настоящую минуту он ничего обещать не может, но что со временем, может быть, когда что-нибудь обработает, и так далее…
— И самая надежда на получение от вас чего-нибудь будет льстить нам, — отвечал сотрудник.
В эту минуту многие не выдержали и покатились со смеху; но ужин кончился, и гром отодвигаемых стульев заглушил этот смех.
Где теперь этот сотрудник? Вспоминает ли он о своей встрече с знаменитым поэтом Языковым? И кто знает, может быть, в каком-нибудь повременном издании появится его статейка под названием: "Воспоминание о поэте Языкове". Вот будет клад-то для наших почтенных библиографов и для г. Геннади, так неудачно редактировавшего последнее издание Пушкина и заставившего воскликнуть Соболевского:
О, жертва бедная двух адовых исчадий. Тебя убил Дантес и издает Геннадий!После ужина все оживились еще более. Гребенка начал напевать малороссийские песни, а Шевченко подплясывал под свои родные звуки.
В описываемое мною время кроме литературных собраний, о которых я упомянул, были еще известные немногим литературные небольшие сходки любителей, еще, так сказать, домашним образом занимавшихся литературой. К таким собраниям принадлежали вечера в квартирах у А. А. Комарова и кадетского капитана Клюге фон Клугенау. Они назывались серапионовскими вечерами (Гофман у нас был тогда в большом ходу). На этих вечерах наши серапионы читали по очереди свои сочинения. К числу их принадлежал и П. В. Анненков, впоследствии получивший в литературе известность изданием Пушкина и критическими статьями.
В доме у Николая Аполлоновича Майкова, бросившего меч для кисти и палитры, сходились также еще тогда темные любители искусств и литературы, из которых иных ожидала светлая Литературная известность. Тринадцати- или четырнадцатилетний сын Майкова Аполлон обнаруживал уже тогда значительный литературный талант. Из его стихотворений, из опытов брата его Валериана и из трудов друзей дома Майкова и любителей литературы, между прочим И. А. Гончарова, — составлялись целые книжки, которые отлично переписывались, переплетались и показывались гостям Майкова.
И. А. Гончаров, без сомнения, много способствовал развитию эстетического вкуса в Аполлоне Майкове. Если я не ошибаюсь, к числу сотрудников майковского рукописного альманаха принадлежал и г. Дудышкин, ныне соиздатель г. Краевского по "Отечественным запискам".
Я усердно посещал все литературные вечера и сборища, которые уже начинали прискучивать мне, и убедился только в том, что за литературными кулисами так же нехорошо, как и за театральными… Я уже смотрел на литераторов, как на обыкновенных смертных и совсем перестал трепетать перед литературными авторитетами. На Кукольника я даже начал посматривать несколько с юмористической точки зрения. Он в это время стал беспрестанно появляться в различных кафе и ресторанах, окружаемый толпами любознательных офицеров различных полков.
Раз вечером я застал его у Доминика председательствовавшим за круглым столом, за которым сидели разные офицеры. Перед поэтом стояла бутылка пива и бутылка портера. Он мешал пиво с портером и ораторствовал.
В это время он был проникнут любовью — конечно, идеальною — к одной значительной даме (об этом он намекал) и писал свою поэму "Марию Стюарт". Вероятно, в Марии Стюарт он изображал ее, а в Риццио самого себя, хотя уже он вовсе не походил на Риццио: он значительно постарел, обрюзг, и лицо его приняло неприятный отек.
Он рассказывал офицерам о своем идеале.
— Она ходит по Летнему саду, — говорил он восторженным тоном, — вдоль и поперек, и я хожу вдоль и поперек. Что ни взгляд — то стихотворение. Двенадцать стихотворений в одно утро вынес.
И поэт вслед за тем выпил стакан пива и остановился. Один из офицеров толкнул другого и произнес в благоговейном изумлении:
— Слышишь ли — двенадцать в одно утро!
— А-а-а! — воскликнул Кукольник, увидев меня, щурясь и прикладывая руку к бровям, — это ты!.. Я сначала и не узнал тебя, — мы с тобой теперь видимся редко… Ты — Краевский…
Кукольник произнес последние слова таким тоном, как бы хотел сказать: "Ты пропащий человек!" — и махнул рукой.
Я говорил уже, что с г. Краевским он никак не мог сойтись. Г. Краевский не признавал в нем таланта, во-первых, потому, что Сенковский, Греч и Булгарин кричали о его гении, а во-вторых, потому, что вся пушкинская партия была очень равнодушна к поэзии творца «Рук», "Роксолан" и прочего.
В "Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду" появлялись о Кукольнике неблагосклонные отзывы. Он знал, что я принимаю участие в газете ему враждебной — и вот что означало восклицание: "ты — Краевский…" — Ну, садись с нами! — продолжал Кукольник, — я еще по старой памяти люблю тебя.
Здесь ты видишь все людей, горячо преданных искусству (он указал на офицеров) и тех, которые ему служат верою и правдою. Оттого они и Кукольника любят, — и потом он прибавил, улыбнувшись: — а твой Краевский ничего не понимает.
Кукольник говорил без умолку, но не совсем связно, Офицеры слушали его с тем простодушным благоговением, с которым я некогда слушал его. Они переглядывались друг с другом и, кажется, впивали в себя каждое его слово.
Я помню только, что к концу ужина он завел речь о Шекспире, заметив, что у него на Шекспира свое оригинальное воззрение, как и на все; что Шекспир — гений и Шекспир — дрянь, и что он умеет соединить эти, повидимому, две несоединимые вещи…
Фразы о святыне искусства хотя еще не совсем огадились мне, но с каждым днем уже теряли для меня значение и делались приторными. Я начал притом смутно понимать, что в литературе господствуют устарелые взгляды и рабское поклонение перед старинными литературными кумирами, какое-то пошлое лицемерие перед ними. Мне хотелось услышать новое слово, голос правды, — но какой правды? я не отдавал себе отчета. Но это неопределенное желание начало пробуждаться во мне после двух- или трехлетнего пребывания моего в литературном кругу, еще до издания г. Краевским "Литературных прибавлений". От кого же было услышать это новое слово, эту желанную правду? Полевой, на которого еще с ожиданием и надеждою смотрело новое поколение, видимо ослабевал: 6й не понял Гоголя и этот могучий талант встретил даже с недоброжелательством, да и Полевой принужден был скоро замолкнуть…
Однажды, прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в которой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, на котором они были разложены, и мне прежде всего попался на глаза последний нумер «Молвы». В этом нумере было продолжение статьи под заглавием: "Литературные мечтания. — Элегия в прозе". Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько предшествовавших нумеров и принялся читать.
Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охотно бы тотчас поскакал в Москву познакомиться с автором ее и прочесть поскорее ее продолжение, если бы это было можно.
Новый, смелый, свежий дух ее так и охватил меня.
"Не оно ли, — подумал я, — это новое слово, которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно хотел услышать?" Я выбежал из кондитерской, сел на первого попавшегося мне извозчика и отправился к Языкову.
Я вбежал к нему с криком:
— Ну, брат, у нас появился такой критик, перед которым Полевой — ничто. Я сейчас только пробежал начало его статьи — это чудо, чудо!..
— Неужто? — возразил Языков, — да кто такой? Где напечатана эта статья?..
Я перевел дух, бросился на диван и, немного успокоясь, рассказал ему, в чем дело.
Мы с Языковым, как люди, всем детски увлекавшиеся, тотчас же отправились в книжную лавку, достали нумера «Молвы», и я прочел ему начало статьи Белинского.
Языков пришел в такой же восторг, как я, и впоследствии, когда мы прочли всю статью, имя Белинского уже стало дорого нам.
Как ничтожны и жалки казались мне, после этой горячей и смелой статьи, пошлые, рутинные критические статейки о литературе, появлявшиеся в московских и петербургских журналах!
В статье Белинского, я это очень хорошо помню, я останавливался с особенным удовольствием на следующих строках:
"У нас еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторитетам: мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся говорить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами: сказать о нем резкую правду у нас святотатство!".[1]
"Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить (какие пророческие слова!) распространению на Руси основательных понятий о литературе?..
Литературное идолопоклонство! Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать! Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчествующих обществ".[2]
Эти строки были мне по сердцу, потому что после моего детского увлечения Кукольником, после смешного и рабского преклонения пред ним я чувствовал озлобление против всех авторитетов, даже против моего кумира Марлинского. Я с каким-то наслаждением любовался, как Белинский беспощадно разбивал его.
И как понятна ненависть, которую питали к Белинскому тогдашние литературные знаменитости и посредственности, лицемерившие перед старыми авторитетами из боязни за самих себя, за собственную литературную участь.
"Чего остается ожидать для себя, — говорил Белинский, — например, г. ИванчинуПисареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений и другие подобные безбожные мнения?".[3]
Это же самое явление повторяется, к сожалению, и в наши дни. Осмельтесь сказать, что Пушкин не мировой гений, что его время уже проходит, что он не может удовлетворять потребностям нового поколения, — литературные знаменитости нашего времени восстанут на вас с таким же ожесточением, с каким некогда восставали против Белинского литературные знаменитости его времени; и теперь раздадутся те же крики, и вас станут обвинять в невежестве, в безвкусии, в безбожии, в святотатстве, как некогда обвиняли Белинского… Но об этом лучше молчать.
Гоголь встречен был молодым поколением с еще большим энтузиазмом, чем Белинский.
Новый мир открылся для меня, когда я прочел "Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча" и «Миргород». Его "Вечера на хуторе", приветствованные Пушкиным в "Литературных прибавлениях" Воейкова, признаюсь, не произвели на меня большого впечатления… Но о Гоголе и о перевороте, который он произвел в литературе, мне еще придется говорить много раз.
После "Литературных мечтаний" и статьи о Бенедиктове, которая наделала большого шума, я уже не пропускал ни одной статейки Белинского.
О личности Белинского начали носиться между петербургскими литераторами какието сбивчивые, противоречивые и неблагоприятные слухи. Его смелость и резкость действовали неприятно на литераторов. Они видели, что на них идет нешуточная гроза. Мне ужасно хотелось узнать, что за человек Белинский, и я очень обрадовался, узнав о приезде в Петербург А. В. Кольцова. Я знал, что Кольцов близок с Белинским. Кольцов приехал в Петербург уже после напечатания в «Телескопе» моей повести "Она будет счастлива".
Краткий отзыв Белинского об этой повести польстил в высшей степени моему самолюбию.
Быть замеченным в литературе в первый раз — и кем же еще, этим неумолимым и беспощадным Белинским! Такой чести я уж никак не ждал. Говоря, что с некоторого времени его великодушные неприятели приписывают ему все значительные статьи в «Телескопе», Белинский прибавлял, что ему, между прочим, приписана повесть "Она будет счастлива", "обнаруживаются в неизвестном авторе неподдельный талант, живое чувство и уменье владеть языком"….[4]
Я хотел отправиться отыскивать Кольцова, но в одно утро, очень скоро после своего приезда, он явился ко мне сам.
Портрет Кольцова, приложенный к его сочинениям, очень верно передает его черты; художник не умел только схватить тонкого и умного выражения глаз его. Кольцов был небольшого роста и казался довольно крепкого сложения. Одет он был даже с некоторою претензиею на щегольство: на манишке его сверкали пуговицы с камешками, сверх жилета красовалась цепь от часов, он был напомажен и даже раздушон. Впоследствии за эти духи ему жестоко доставалось от Белинского. "Охота вам прыскаться и душиться какою-то гадостию, — говорил он, — от вас каким-то бергамотом или гвоздичкой пахнет. Это нехорошо.
Если мне не верите, спросите у него (и Белинский указывал на меня): он франт, он уж, батюшка, авторитет в этом деле".
Разговор мой с Кольцовым начался прямо с Белинского. Он привез мне поклон от него. Кольцов, человек проницательный и осторожный, умевший, как я узнал впоследствии, сдерживать себя и таивший перед петербургскими литераторами свои убеждения, заметив мой энтузиазм к Белинскому, заговорил со мною довольно откровенно.
— Да-с, Иван Иваныч, Белинский единственный человек у нас в настоящее время, владеющий эстетическим вкусом и понимающий искусство. Его немногие ценят, особенно из ваших петербургских литераторов, — это очень жаль-с… И какой светлый ум у этого человека!
Какое горячее, благородное сердце! Я обязан всем ему; он меня поставил на настоящую мою дорогу; без его советов я не решаюсь теперь печатать моих мараний: он мне говорит всегда, что нужно выкинуть, что исправить, что вовсе бросить. Уж он так добр ко мне, такое участие принимает во мне!
Кольцов рассказал мне некоторые подробности о жизни Белинского. Он был в восторге от московского кружка Белинского и говорил:
— Приезжайте в Москву-с. Вы увидите, там люди больше по вас, и Белинский будет очень рад вам. Он заочно полюбил вас.
До знакомства моего с Белинским Кольцов приезжал раза два или три в Петербург и в один из приездов привез мне первое письмо от Белинского.
Кольцов считал долгом делать визиты ко всем литераторам, из которых многие посматривали на него с высоты своего величия, с покровительством, как на талантливого мужичка.
Но этот мужичок, усвоивший уже себе кое-какие из убеждений и взглядов московского кружка Белинского и прочитавший все пьесы Шекспира в русском переводе (Шекспир произвел на него глубокое впечатление; он говорил о нем с энтузиазмом, особенно о «Гамлете», которого, по его словам, объяснил ему еще более Мочалов на сцене), этот необразованный мужичок понимал гораздо более и смотрел на литературу гораздо глубже многих из так называемых образованных литераторов — своих покровителей. С каждым приездом своим он становился со мною откровеннее. Он передавал мне впечатления, которые производили на него разные петербургские литераторы и литературные знаменитости, и характеризовал каждого из них. Эти характеристики были исполнены ума, тонкости и наблюдательности; я был поражен, выслушивая их.
— Эти господа, — прибавил Кольцов в заключение с лукавою улыбкою, — несмотря на их внимательность ко мне и ласки, за которые я им очень благодарен, смотрят на меня как на совершенного невежду, ничего не смыслящего, и презабавно хвастают передо мной своими знаньями, хотят мне пускать пыль в глаза. Я слушаю их разиня рот, и они остаются мною очень довольны, а между тем я ведь их вижу насквозь-с.
— Ну, Алексей Васильич, — сказал я ему, — ведь и я, грешный человек, посматривал на вас тоже немножко свысока. Простите меня.
Кольцов улыбнулся.
— Да ведь на меня, Иван Иваныч, — возразил он, — человека необразованного, иначе и не могут смотреть образованные люди, — я это очень хорошо понимаю; но вы ведь меня не принимаете за дурачка, а они на меня совсем как на дурачка смотрят, вот хоть бы Евгений Павлыч Гребенка… а ведь я не глупее же его. Впрочем, я это так только заметил: все здешние литераторы и Евгений Павлыч — люди очень добрые и почтенные… Вот хоть бы князь Одоевский, он такой приветливый, уж он так меня обласкал, а впрочем московский кружок — то есть я разумею именно кружок Белинского — все-таки нельзя сравнить с здешними: вот вы поедете в Москву, сами убедитесь в этом… Я, откровенно вам скажу, только и отдыхаю там от разных своих забот и неприятностей… К тому же у этих людей есть чему поучиться.
Почти всякий свой приезд в Петербург Кольцов созывал к себе литераторов на угощение и между прочим потчевал их какой-то соленой рыбой, которую он привозил из Воронежа.
Но я узнал еще ближе Кольцова впоследствии, когда переехал в Петербург Белинский.
ГЛАВА VII
Запрещение «Телескопа». — "Библиотека дня чтения". Сенковский и гении, им созданные. — Возвращение больного Надеждина из Усть-Сысольска. — Мое сближение с ним. — Надеждин как собеседник. — Ответ Надеждина на вопрос: почему теперь нет хороших стихов? — Отношения Надеждина к разным издателям. — Два слова о Н. И. Грече. — Гоголь у Прокоповича. — Башуцкий и его вечера. — Приготовления к изданию "Отечественных записок". — Разговор мой с г. Краевским по этому поводу. — Объявление об издании "Отечественных записок".
Причина внезапного конца «Телескопа», который начинал приобретать еще более значения с появления в нем Белинского, известна всем. Прекращение этого журнала наделало большого шуму, возбудило различные толки и заставило прочесть статью Чаадаева — виновницу прекращения — даже тех, которые отроду не читали таких серьезных статей. Того нумера «Телескопа», в котором она появилась, скоро достать уже было невозможно: его расхватали, и статья Чаадаева стала расходиться во множестве рукописных экземпляров.
Кажется, все строгие запретительные меры относительно литературы никогда не действовали во вред ей. Запрещение журнала всегда возбуждало в публике сочувствие и участие к журналисту, подвергшемуся опале; а статья, вследствие которой запрещался журнал, приобретала популярность не только между всеми грамотными и читающими людьми, но даже и между полуграмотными, которые придавали ей бог знает какие невежественные толкования. «Телескоп» недолго пережил «Телеграф». Издатель «Телескопа» возбуждал большой энтузиазм между московскою университетскою молодежью своими лекциями. Об его удивительном даре слова и многообразных сведениях доходили слухи и до Петербурга; но его критические статьи в «Телескопе» под псевдонимом Надоумки, несмотря на много дельного, высказавшегося в них, не нравились в Петербурге по своему тону, отзывавшемуся несколько бурсою.
Как бы то ни было, «Телеграф» и «Телескоп» были любимыми журналами петербургской читающей молодежи. Несмотря на свой огромный успех и блестящие имена на обертке, "Библиотека для чтения" не пользовалась никаким кредитом между молодежью и теми литераторами, которые смотрели на литературу серьезно. Белинский справедливо замечал о ней: «Библиотека» есть журнал провинциальный: вот причина ее силы".[5] Направление, заключавшееся в том только, чтобы во что бы то ни стало забавлять, при отсутствии своих убеждений, производство Кукольника в Гете, неудачная попытка своих домашних журнальных прислужников, вроде г. Тимофеева, возводить в ранг замечательных талантов, вообще все мистификации и шуточки Сенковского оскорбляли эту горячую молодежь.
С Сенковским я познакомился незадолго до его смерти. В это время он был уже расслаблен нравственно и физически и пописывал фельетоны в «Весельчак» и "Сын отечества" г. Старчевского. Дела Сенковского были в это время расстроены; от прежней роскоши, с которою он, говорят, жил, не оставалось почти и следа… Сенковский умер вовремя. Если бы он прожил еще несколько лет, ему пришлось бы играть печальную роль при г. Старчевском. Из самовластного начальника он превратился бы в подчиненного и даже, может быть, принужден был бы пользоваться благодеянием того, которому он некогда сам благодетельствовал. Еще лучше было бы умереть Сенковскому несколькими годами ранее: тогда бы он не пережил своей громкой известности.
С Тимофеевым я встречался несколько раз. О нем ходили странные слухи: живя на даче в Парголове одно лето, он вырыл, говорят, какую-то пещеру и в ней читал и писал, возбуждая к себе любопытство дачниц, которые прозвали его Парголовским пустынником.
Тимофеев был высок ростом, красив и немного туповат на вид. Он говорил неестественно тихо и как-то вдохновенно закатывал глаза под лоб. Он не в шутку вообразил, что он поэт, добродушно поверив мистификации Сенковского. Более я ничего не могу сказать о Тимофееве.
О Сенковском, его редакторстве и об его странных отношениях к сотрудникам, вероятно, много любопытного может передать Е. Ф. Корш, который года полтора вместе с Грановским (до отъезда Грановского за границу) трудился для "Библиотеки для чтения". Я слышал от Грановского множество пресмешных рассказов о Сенковском; в них вполне охарактеризовалась не совсем достойная уважения личность человека, игравшего несколько лет такую шумную роль в русской литературе.
Но я заговорил не о нем, а о «Телескопе» и о Надеждине. Перейдем же к нему. В 1837 году Надеждин возвратился из места своего изгнания — Усть-Сысольска в Петербург, расслабленный и без ног. Он остановился в гостинице Демута. Здесь перебывали у него все петербургские литераторы, за исключением некоторых аристократов. Кроме литераторов, я часто встречал у Надеждина его друзей Княжевичей, конногвардейского полковника Галахова (бывшего потом оберполициймейстером) и других лиц — известных или начинавших делаться известными в чиновном мире. Кто познакомил меня с Надеждиным — я не помню, но Надеждин увлек меня с первого раза. Меня так и тянуло к нему. Он также обнаружил ко мне некоторое влечение. Я ездил к нему почти всякий день.
Я был в то время довольно веселым рассказчиком, начинал подмечать комическую сторону жизни и пародировал довольно удачно нескольких лиц, известных в литературе и в обществе. Надеждин от моих рассказов катался обыкновенно со смеху и этим ободрительным смехом еще более подстрекал меня.
Его обширные сведения, изумительная память, дар слова — все это поразило меня. Это был первый литератор, удовлетворивший моему идеалу. Я полагал во время оно, что всякий литератор непременно должен обладать ученостию или, по крайней мере, обширным образованием. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что можно быть весьма недурным поэтом или довольно даровитым рассказчиком, не имея не только образования, но даже ума, я ни за что не поверил бы этому. А сколько таких нехитрых господ из литераторов случалось мне встречать потом в течение тридцатилетнего моего литературного поприща! Некоторые из них пользовались значительным успехом в публике, и творения их подвергались даже тонким анализам, глубокомысленным критикам, очень лестным для авторов по тонкости и глубине, но совершенно непонятным для них.
Надеждин по своим обширным сведениям и по уму стоял во главе тогдашних литераторов. Наружность Надеждина была мало привлекательна. Черты болезненного, осунувшегося и побагровевшего лица его были резки; у него был длинный красный нос, рот почти до ушей, раскрывавшийся совсем не только при смехе, даже при улыбке, и обнаруживавший не только зубы, даже десны. Манеры его были неуклюжи и аляповаты, голос криклив. В минуты одушевления он издавал какие-то звуки, похожие на рычание, и дикие восклицания вроде: "а-га-га-га!" Но несмотря на все это, он имел в себе много симпатического. Такова сила ума, смягчающая даже самое безобразие и придающая одушевление и приятность самым грубым чертам. Если бы ум и знания соединялись в Надеждине с твердостию воли, он, вероятно, оставил бы по себе прочную память в летописях Московского университета или в истории русской литературы. К сожалению, при своем замечательном уме и при своих блестящих способностях, он вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей: без сожаления покидал свое ученое поприще для литературных занятий, литературные занятия для служебной деятельности — и нигде не оставлял по себе глубокого следа. В науке, в литературе, на служебной арене — он везде обнаружил большие способности, но не сделался серьезным ученым и не имел влияния ни в литературном, ни в чиновничьем мире. Надеждин был человек вполне просвещенный и свободномыслящий, но не имевший никаких твердых убеждений, которые заставляют человека итти неколебимо по избранному им пути, преодолевая все препятствия и не отклоняясь ни на шаг в сторону.
Как бы то ни было, он, как я уже заметил, всегда вносил в беседу мысль и одушевление. В нем был своего рода юмор, не совсем тонкий, но иногда довольно злой; как в человеке (я не говорю — в писателе) в нем не было ни малейшей сухости и педантизма. Он не пугал своими знаниями, как это делают многие ученые, не хвастал своей эрудицией, хоть при случае любил блеснуть ею, и был почти постоянно одушевляем веселостию — несмотря на расстройство своего здоровья. В этой веселости было что-то добродушное, искреннее, возбуждавшее веселость в других, хотя искренность и добродушие не были его отличительными качествами…
Все его недостатки, истекавшие из слабости его характера, очень видимы были для всех его приятелей: они обсуживались за глаза строго, возбуждали даже негодование; но когда приятели сходились с ним лицом к лицу — они искренно забывали всё и всё прощали ему.
Он имел дар привлекать к себе всевозможного рода людей — не одних литераторов…
Люди светские, купцы, значительные чиновники, сойдясь с ним случайно, привязывались к нему.
У Надеждина был наемный человек Иван. Он начал служить при нем с начала издания "Телескопа".
Когда Надеждин отправлялся в ссылку, он призвал Ивана для того, чтобы рассчитаться и проститься с ним. Он никак не предполагал, чтобы тот решился ехать с ним бог знает куда и на неопределенное время; но Иван решительно объявил, что хоть бы он ехал на край света, он не оставит его.
Надо заметить, что Надеждин обращался с Иваном не совсем гуманно; как все больные, он был иногда несносно капризен и придирчив, — и несмотря на это, Иван остался при нем до последней минуты. Последние годы, когда Надеждина разбил паралич, Иван не оставлял его ни на шаг и ухаживал за ним, как добрая нянька за ребенком.
Недаром же возбуждал Надеждин такую сильную привязанность к себе!
В две недели я сблизился с ним так, как будто был век знаком. При моем появлении он обыкновенно улыбался, разевал рот, обнаруживая десны, протягивал ко мне свои длинные руки и восклицал:
— А-га-га-га!.. Вот и он! Вот и он!.. Ну, что нового в литературе?..
Надеждина интересовали всякие литературные сплетни.
Я передавал ему вое, что знал: о жалобах Якубовича на Карлгофа, о воейковском обеде в холерной больнице, и прочее, и прочее. Надеждин хохотал от всей души. Он собирал тогда статейки для "Одесского альманаха" и просил меня дать что-нибудь. Я написал для него рассказ под заглавием: "Как добры люди!" Этот рассказ был до такой степени пошл и плох, что мне стыдно вспоминать об нем. Я и тогда, впрочем, чувствовал, что он плоховат, и заметил это Надеждину, который вскрикнул:
— Э, ничего! Сойдет с рук!.. А давно ли вы видели нашего Лукьяна? — прибавил он (Якубовича звали Лукьяном). — Мне он нужен… Ведь и у него надо взять стишков на затычку…
И Надеждин, говоря это, осклаблялся и издавал звуки, похожие на смех.
— Лукьян славный малый, добрый, — продолжал он, — без его стихов нам нельзя обойтись… И ему ведь ничего не стоит налупить по заказу три-четыре стихотворения, только слово скажи.
Кстати, о стихах.
Надеждин (это было уже гораздо позже) рассказывал мне, что на обеде у А. М. Княжевича, с которым он был очень близок, он встретился с одним штатским генералом, занимавшимся некогда литературою, враждебно смотревшим на новейшую литературу и притом, кажется, не благоволившим к Надеждину как к бывшему издателю «Телескопа» за его либеральный образ мыслей.
— Ну, почтеннейший, — воскликнул Надеждин, — чудо из чудес! Как бы вы думали! — я удостоился благоволения его превосходительства, он даже прижал меня к своей звездоносной груди и напечатлел поцелуй на моих губах, — теперь вы должны иметь ко мне больше уважения.
— Чем же вы его так разнежили? — спросил я.
— А вот как. За обедом речь зашла о литературе. Генералы всё толковали о том, отчего теперь нет торжественных хороших стихов, какие писывались в их время, и никак не могли добиться отчего?.. Его превосходительство, который, как вам известно, прежде неблагосклонно посматривал на меня, вдруг обратился ко мне с улыбкою: "Не объясните ли вы нам этого, — вы, который были журналистом?" — Почему же? Охотно, ваше превосходительство, — отвечал я, — по моему мнению, оттого, что нынче большею частью пишут не-дворяне. Этим только и можно объяснить упадок нашего стихотворства!.. — Генерал при этом пришел в совершенный экстаз — и вот почему я удостоился его превосходительных объятий и поцелуя. Он потом все покачивал печально головой и говорил: "Вы совершенно справедливы; именно так, другой причины нет, а это очень жаль!" — Так вот видите, почтеннейший, каков я? Умею, ведь себя вести с генералами?..
Дней через пять я встретил этого генерала. Он знал меня с детства и поэтому говорил мне ты.
— Ты знаешь Надеждина? — .спросил он меня.
— Очень хорошо.
— Он, кажется, прекрасный и очень благонамеренный человек, — заметил генерал чувствительным и мягким тоном…
Слова Надеждина генерал принял серьезно.
Вот наивность-то!..
Я не могу себе объяснить нерасположения Надеждина к Белинскому. Надеждин не любил говорить об нем и на вопросы о Белинском отвечал обыкновенно нехотя и представлял его каким-то циником, о чем я уже упоминал в статье моей о Белинском. В то же время Надеждин уж слишком яркими красками и даже не без энтузиазма описывал мне некоторых из друзей его. По его описанию я воображал найти в одном из них что-то похожее на Рафаэля или на Иоанна Богослова.
Впоследствии я убедился, что в этих характеристиках Надеждина гораздо более было его собственной фантазии, чем правды.
По возвращении Надеждина не только петербургские журналисты, но даже и издатели альманахов бросились к нему с просьбами о статьях… Он прежде всех удовлетворил Владиславлева. Владиславлев боялся ума и учености Надеждина; Надеждин, в свою очередь, не то чтобы боялся Владиславлева, но оказывал ему особое внимание и ласку по месту его служения. Вследствие этого они были в очень коротких отношениях. Г. Краевский обращался с Надеждиным довольно фамильярно, как и следует ученому с ученым, но, кажется, не любил его и, вероятно, побаивался, сознавая, что Надеждин все-таки ученее его.
Надеждин, напротив, обнаруживал к нему расположение и даже очень любил говорить об нем, называя его просто Андреем… Если кто-нибудь при нем не совсем хорошо отзывался о г. Краевском, Надеждин обыкновенно восклицал:
— Полноте нападать на моего Андрея, он славный малый, — вы не шутите с ним: он изобрел у нас шестую часть света!
По натуре своей Надеждин был очень ленив; но свои журнальные статьи он писал с необыкновенною быстротою и легкостию, почти без помарок. Рукописи его отличались большою оригинальностию: он писал обыкновенно на бумаге очень длинного формата и довольно узко обрезанной. Почерк у него был довольно четкий, но русские буквы принимали под его пером какую-то старинную форму, несколько похожую на готическую.
Усть-Сысольск значительно охладил его литературную деятельность. Он после своего приезда оттуда начал смотреть на литературу как на дело, отошедшее для него на второй план. Он решился всего себя посвятить служебной деятельности, и мечты о служебной карьере занимали его уже гораздо более.
Знакомство с Надеждиным, который резко отличался от всех петербургских литераторов, возбудило во мне еще большее желание познакомиться с московскими литераторами. Москва начала очень занимать меня. На московскую литературу я смотрел всегда с большим уважением. Направление ее выражалось «Телеграфом», "Телескопом", «Молвою» и, наконец, "Московским наблюдателем", редакцию которого принял на себя впоследствии Белинский; тогда выступали в Москве на литературное поприще молодые люди, только что вышедшие из Московского университета, — с горячею любовию к делу, с благородными убеждениями, с талантами… Это было самое блестящее время московской литературной деятельности. К Петербургу с его «Библиотекою» и "Северною пчелою" я получил уже совершенное отвращение; петербургские литераторы также не возбуждали во мне никакого интереса. Я был знаком со всеми ими, не исключая даже Николая Иваныча Греча, который всегда обращался со мною с большою благосклонностию, хотя и изъявлял сожаление моему дяде, что я связываюсь в литературе с людьми неблагонамеренными, которые заразят меня своими вредными идеями. Да, это справедливо: чтобы сохранить чистоту нравов и благонамеренность, я должен был поддерживать только связи с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. Теперь я вижу это ясно, но поздно…
Из находившихся в ту минуту в Петербурге литераторов я не был знаком только с Гоголем, который с первого своего шага стал почти впереди всех и потому обратил на себя всеобщее внимание. Мне очень захотелось взглянуть на автора "Старосветских помещиков" и "Тараса Бульбы", с которыми я носился и перечитывал всем моим знакомым, начиная с Кречетова.
Кречетова поразил или, вернее сказать, ошеломил «Бульба». Он во время моего чтения беспрестанно вскакивал с своего места и восклицал:
— Да это chef-d'oeuvre… это сила… это мощь… это… это… это…
— Ах, да не перебивайте, Василий Иваныч, — кричали ему другие слушатели…
Но Кречетов не выдерживал и перебивал чтение беспрестанно, засовывал свои пальцы в волосы, раздирал свои волоски с каким-то ожесточением.
Когда чтение кончилось, он схватил себя за голову и произнес:
— Это, батюшка, такое явление, это, это, это… сам старик Вальтер-Скотт подписал бы охотно под этим Бульбою свое имя… У-у-у! это уж талант из ряду вон… Какая полновесность, сочность в каждом слове… Этот Гоголь… да это чорт знает что такое — так и брызжет умом и талантом…
Кречетов долго после этого чтения не мог успокоиться.
Случай скоро представился мне увидеть Гоголя. Через А. А. Комарова я познакомился с Прокоповичем, учителем словесности в кадетских корпусах, стихотворцем, большим чудаком и, главное, добрейшим человеком. Прокопович в один год с Гоголем кончил курс в Нежинском лицее. Приятель с ним еще со школьной скамьи, Прокопович, горячо любивший литературу, после первых произведений Гоголя присоединил к своей школьной дружбе еще благоговейную привязанность к нему как к писателю. Гоголь, повидимому, был очень близок с ним: во время своего пребывания в Малороссии или за границей он всегда делал Прокоповичу различные поручения и, возвращаясь в Петербург, останавливался у него.
Прокопович, узнав через А. А. Комарова мое желание посмотреть на Гоголя, пригласил меня в тот день, когда Гоголь обещал у него обедать.
Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с претензиею на щегольство, волосы завиты и кок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не гюнравились глаза его — небольшие, прониидательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие. Он занят был перед обедом приготовлением макарон по-итальянски (это было уже после второй поездки его за границу) и беспрестанно выходил на кухню смотреть за их приготовлением. За обедом он говорил мало и ел много. Разговор его не был интересен, он касался самых обыкновенных и вседневных вещей; о литературе почти не было речи, только, не помню к чему, он заметил, что, по его мнению, первый поэт после Пушкина — Языков и что он не только не уступает самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха.
Меня еще неприятно поразило то, что в обраицении двух друзей и товариицей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича к Гоголю невольно проглядывало то подобострастие, которое обнаруживает друзья низшие к друзьям высшего ранга; Гоголь, в свою очередь, посматривал на Прокоповича тоже как будтй немножко свысока. Тотчас после обеда мы все разошлись, и когда я уходил, Прокопович заметил мне, что Гоголь сегодня был не в духе.
Я слышал, что Гоголь в духе рассказывал различные анекдоты с необыкновенным мастерством и юмором; но после издания «Миргорода» и громадного успеха этой книги он принимал уже тон более серьезный и строгий и редко бывал в хорошем расположении…
Иногда только он обнаруживал свой юмор перед людьми высшего общества, с которыми начал сближаться. До этого и обращение его с Прокоповичем было гораздо проще и искреннее, так, по крайней мере, уверяют те, которые были знакомы с ним с самого приезда его в Петербург…
Говоря о литераторах и литературных вечерах, я забыл сказать об А. П. Башуцком.
Деятельность Башуцкого была изумительна: он занимался службой, литературой, составлял различные промышленные проекты — и в то же время выезжал в свет и был один из самых плодовитых и красноречивых собеседников. Он затевал все в роскошных широких размерах, рассчитывал на десятки и сотни тысяч, но его литературные и другие затеи никогда почти. не удавались и не приносили ему ничего, кроме убытка. Он издал "Панораму Петербурга", заказал гравюры для этого издания в Лондоне, но корабль с его гравюрами погиб в море; он начал издавать газету "Общеполезных сведений", но от этих сведений подписчики не только не получили никакой пользы, но потерпели убыток, потому что она прекратилась на первых нумерах.
Аккуратность Башуцкого и внешний порядок в его кабинете были изумительные: картоны и ящики с различными надписями, письменный стол с бесчисленными кипами бумаг под красивыми пресс-папье… и все это так изящно и так мастерски разложено и расставлено.
В комнатах его каждая самая незначительная вещица постановлена была так, что производила эффект. Сам хозяин всегда был одет с удивительною тщательностию; ни на галстуке, ни на манишке ни малейшей складочки, точно как будто на нем было все подклеено; парик прекрасно расчесан и распомажен; говорил Башуцкий с большим искусством; плавный разговор его так и лился и журчал; в разговоре его можно было слышать — где запятая, где тире, где точка с запятой и т. д. У него было пять-шесть рассказов и в числе их знаменитый рассказ о смерти Милорадовича, при котором он был адъютантом 14 декабря. Этот рассказ он при мне повторял раз десять, не изменяя в нем ни йоты, и всегда производил им величайший эффект на тех, которые имели удовольствие первый раз слушать его. Когда Башуцкий развивал свои проекты разных коммерческих предприятий (а они рождались у него чуть не ежедневно), его слушатели, пораженные его красноречием, готовы были отдать на эти предприятия последний грош. Так убедителен и заманчив казался оратор.
Для начатия самых исполинских предприятий, по мнению Башуцкого, требовались самые ничтожные суммы. Положив, например, тысяч пять на предприятие Башуцкого, вы могли, по его словам, в несколько лет сделаться миллионером. Все это было так ясно, так просто, как дважды два четыре. Глядя на самого Башуцкого и на его обстановку и слушая его речи, можно было принять его за человека самого положительного, самого практического, а между тем трудно было найти человека, более увлекавшегося. Это фантазер, облекавший свои фантазии в щегольские фразы, которыми он сначала только любуется, не веря им, но которыми потом сам увлекается до такой степени, что принимает их серьезно. Это не утопист, а просто балансер, балансировавший не над пучиною морскою, а над грязной и мелкой лужей, в которой никак нельзя утопиться, но, упавши, можно очень больно ушибиться и загрязниться…
К Башуцкому сходились по пятницам. Общество на этих пятницах было немногочисленное и притом случайное… На них появлялись, впрочем, изредка и знаменитости — Кукольник и Каратыгин. Одним из постоянных посетителей пятниц Башуцкого был Владимир Строев, который известен в литературе тем, что Воейков удостоил его почему-то поместить в свой "Сумасшедший дом" вместе с литературными знаменитостями, назвав его левым глазом Греча с бельмом. На этих пятницах можно было без удивления встретить вместе кого угодно: Краевского и Греча, Булгарина и Воейкова, Сенковского и Белинского… Башуцкий был эклектик. У него появлялся даже и Кречетов, очень любивший его и в особенности его ужины с доброю бутылкою мадеры.
О литературной деятельности Башуцкого, которая развернулась в начале сороковых годов, о его изданиях, романах, о знакомстве с Белинским — обо всем этом я буду говорить в свое время…
Теперь я приступаю к очень любопытному времени в нашей литературе — к покупке г. Краевским знаменитых "Отечественных записок" Свиньина.
Успех "Библиотеки для чтения" не мог не подействовать на редактора "Литературных прибавлений к Русскому инвалиду". Пять тысяч подписчиков* * Известно, что "Библиотека для чтения" в первый год существования своего имела пять тысяч подписчиков — цифра, до которой не достигал ни один из русских журналов того времени. — какая приятная цифра! О роскоши, с которою жил редактор «Библиотеки», носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи… Литераторы с завистливым удивлением рассказывали о великолепном кабинете Сенковского, о его лестнице, установленной цветами и тропическими растениями… и всем этим остроумный профессор восточных языков, пожаловавший сам себя в бароны, был обязан — журналу. Следовательно, большой журнал — хорошее коммерческое предприятие. Чему была обязана своим успехом "Библиотека для чтения"? — громкому объявлению с бесчисленными именами. Ну, что г", разве нельзя пустить такое же объявление и набрать имен еще более? Толщина книжек «Библиотеки» также немало способствовала ее успеху. И это дело немудреное… можно пустить книжки еще потолще. Многие приписывали успех «Библиотеки» талантливому балагурству, остроумию и беззастенчивости ее редактора, являвшегося под различными псевдонимами. Прекрасно.
Допустим и это, но к шуточкам и балагурству Сенковского начинали уже охладевать; ученые и литераторы становились в враждебное положение к редактору «Библиотеки» за его восточное самоуправство с их сочинениями, следовательно новый журнальный орган должен быть принят ими благосклонно. Но для начатия журнала необходимы деньги — затруднение было только в этом, потому что Свиньин, будучи в это время в стесненном положении, очень охотно уступал свой журнал, который терял подписчиков с каждым годом.
Г. Краевский, получивший уже некоторую известность как редактор "Литературных прибавлений к Инвалиду", вступил с Свиньиным в переговоры в половине 1838 года и менаду тем составил нечто вроде небольшого акционерного общества из нескольких своих приятелей и приятелей этих приятелей. К числу вкладчиков, сколько я помню, принадлежали следующие лица: князь В. Ф. Одоевский, А. В. Всеволожский, Н. П. Мундт и Владиславлев.
Все они обязались внести, кажется, по 3000 рублей ассигнациями — и я также… Я, впрочем, не внес денег, — г. Краевский и не требовал их с меня, потому, вероятно, что нашел достаточною для начала сумму, внесенную другими. Таким образом, "Отечественные записки" начались с весьма незначительным капиталом.
— Кто же у вас будет заниматься критическим отделом? — спросил я однажды у г. Краевского, — ведь критический отдел в журнале — самая важная вещь.
— Я еще не знаю, — отвечал г. Краевский и прибавил глухо, но с свойственным ему глубокомыслием: — у меня, есть один человек на примете…
Разговор этот происходил в доме Брянского.
— Да вот вам человек для этого — Белинский, — продолжал я, — чего же лучше? Если б он решился только переселиться в Петербург, это было бы отлично.
— Покорно вас благодарю, — сказал г. Краевский резко и сухо, — я не имею никакого желания связываться с этим крикуном-мальчишкой…
Он видимо не желал продолжения этого разговора и завел речь с кем-то другим, отвернувшись от меня…
Г. Краевский заключил условие с Свиньиным, обязавшись за право пользования его "Отечественными записками" платить ему ежегодно 5000 р. ассигн., а после смерти Свиньина — вдове его. Через год, кажется, Свиньин умер. Г. Краевский вошел с просьбою к министру народного просвещения о передаче ему права издания и утверждении его редактором. На всеподданнейшее представление об этом министра последовало высочайшее соизволение, на основании которого г. Краевский прекратил выдачу вдове Свиньиной. В условии между Свиньиным и г. Краевским сказано было, что в случае каких-либо недоразумений или неисполнения условия со стороны Краевского он, Свиньин, и его наследники прибегают к посредству третейского суда. Третейский суд, с общего согласия договаривающихся, состоял из Л. В. Дубельта, В. И. Панаева и П. А. Плетнева. Вдова Свиньина прибегла к ним; судьи обратились к г. Краевскому. Г. Краевский отвечал, что так как право на издание "Отечественных записок" высочайше утверждено за ним, то вследствие этого условие его с покойным Свиньиным уничтожилось само собою и вдова его не должна уже иметь никаких претензий на него, Краевского. Тогда третейский суд прибегнул к великодушию г. Краевского и хотел смягчить его сердце бедственным положением вдовы Свиньиной. Успел ли он в этом — я не знаю…
Объявление об издании "Отечественных записок" под новою редакцией было не без эффекта. Для этого объявления набрано было чуть ли не до ста имен различных петербургских и московских ученых и литераторов…
Какое же знамя поднял г. Краевский? Представителем какого направления выступал возобновленный журнал?
Редактор сам ясно не сознавал этого; неопровержимые доказательства этого обнаружатся впоследствии, когда я буду говорить о г. Краевском как о редакторе "Отечественных записок".
Г. Краевский начал свое коммерческое предприятие на авось, как большая часть русских людей начинают свои предприятия.
Впоследствии он утверждал (в объявлениях об "Отечественных записках"), что цель журнала его — истина в науке, истина в искусстве, истина в жизни… Это прекрасно, но очень неопределенно.
Как бы то ни было… г. Краевский не спал ночи и проводил их за корректурой в типографии перед выходом первой книжки. Об ней уже ходили заранее различные — доброжелательные и враждебные — слухи. Я ожидал ее с нетерпением, потому что для этой книжки и я скропал статейку о французской литературе… 1 января 1839 г. книжка явилась. Это была, впрочем, не книжка, а книжища, вдвое — если не более — толще "Библиотеки для чтения".
Все любители литературы с любопытством бросились смотреть на нее — и вот:
Громада двинулась и рассекает волны…ГЛАВА VIII
Начало "Отечественных записок". — Граф Соллогуб и "История двух калош". — Лермонтов и его отношения к г. Краевскому. — Стихотворение Лермонтова: "Есть речи…". — Впечатление, произведенное на Лермонтова появлением его «Казначейши» в «Современнике» Плетнева. — Лермонтов после дуэли с Барантом. — Белинский в Ордонансгаузе у Лермонтова. — Ошибка г. Дудышкина. — Несколько слов о характере Лермонтова. — Приезд в Петербург Межевича и прием, сделанный ему г. Краевским. — Очерк Межевича. — Состояние литературы в конце тридцатых годов. — Отъезд мой в Москву. — Заключительное слово.
Первая книжка "Отечественных записок" произвела сильный эффект. "Отечественные записки" разделялись на 8 отделов:
1) Современная хроника России.
2) Науки (статьи сборные).
3) Изящная словесность.
4) Художества (этим отделом заведывал зять графа Ф. П. Толстого Каменский).
5) Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще.
6) Критика.
7) Современная библиографическая хроника и
8) Смесь.
Статья критическая о «Фаусте» по поводу перевода Губера в № 1 "Отечественных записок" принадлежит И. К. Гебгардту. Следовавшие книжки нового журнала обратили также общее внимание.
"Отечественные записки" подняли шум в литературных кружках. И немудрено. В этих книжках явились: Лермонтов с своею «Бэлою» и несколькими стихотворениями, Кольцов с своими «Песнями», граф Соллогуб с своими «Калошами», князь Одоевский с "Княжною Зизи" и так далее.
"Отечественные записки" возобновились кстати. "Библиотека для чтения" начинала уже прискучивать публике повторением своих острот и шуточек; она оскорбляла многих своим глумлением над литературою; ее критический авторитет поколебался после возвеличения Кукольника, Тимофеева и некоторых других, после неблагосклонных отзывов о Гоголе и приятельского заигрыванья с Булгариным, после неприличных и неуместных выходок против передовых людей европейской науки… Большая часть известных русских литераторов начинала отзываться с неудовольствием о деспотическом обращении редактора «Библиотеки» с их произведениями, которые появлялись в журнале Сенковского в совершенно изуродованном виде, с сокращениями, переделками или прибавлениями самого редактора, навязывавшего авторам такие воззрения и мысли, которые они не могли разделять… Шутка в «Библиотеке» переходила все границы. Это была уже шутка для шутки, желание смешить публику во что бы то ни стало и на чей бы счет ни было. Она посягала на все и на всех без разбора и изобличала в редакторе журнала полное отсутствие всяких серьезных убеждений, возбуждая уже не смех, а негодование…
Потребность нового журнала с направлением более дельным, который обнаруживал бы большее уважение к литераторам и публике, чувствовалась всеми — и в такую-то благоприятную минуту появился г. Краевский с своими "Отечественными записками".
Немудрено, что они встречены были симпатично и литераторами и публикою… Все замечательные литературные деятели охотно присоединились к ним. В возобновленных "Отечественных записках" допевали свои лебединые песни лучшие из наших беллетристов и блистательно начали свои дебюты молодые люди, только что выступавшие на литературное поприще.
Г. Краевский после смерти Пушкина добился-таки до того, что имя его появилось на обертке «Современника» рядом с именами друзей поэта — с Жуковским, Вяземским, Одоевским и Плетневым. Аристократическая литературная партия, прекратившая все сношения с Булгариным и Сенковским, протежировала г. Краевского и хотела сделать "Отечественные записки" своим органом. Г. Краевский заискивал в то же время в московских ученых и литераторах, пользовавшихся авторитетом, просил их советов, сотрудничества и рассыпался перед ними в комплиментах. Он невольно возбуждал к себе участие в ученых и литераторах своею скромностию, аккуратностию и благонамеренностию. С благородным ожесточением он говорил о Булгарине, скорбел о падении Полевого, оскорблялся до глубины души шутовскими выходками Сенковского и твердил только о том, что необходим новый орган в журналистике, в котором бы сгруппировались все талантливые, серьезные, честные и благонамеренные ученые и литературные деятели. Он достиг этого. "Отечественные записки" были встречены приветливо всеми тогдашними литературными знаменитостями, московскими и петербургскими; вся талантливая молодежи с жаром принялась сотрудничать в них. Только Сенковский, Булгарин, Кукольник и их партия смотрели враждебно на новый журнал. Сенковский прикидывался, что он не знает даже о его существовании; Булгарин открыл свои походы против него, г. Краевского, придравшись к доуендаге (так было неудачно переведено в 1 No "Отечественных записок" слово doyen d'age). Походы эти упорно продолжались около пятнадцати лет и возобновлялись с особенным ожесточением осенью, при подписке, нисколько, разумеется, не вредя "Отечественным запискам", потому что число подписчиков их возрастало с каждым годом.
Г. Краевскнй, довольный своим успехом, упрочивший свои связи со всеми литературными знаменитостями, гордый враждою к нему Булгарина и Сенковского, ставший во главе журнала, принявшего литературно-аристократический оттенок, был очень доволен собою. Это самодовольство выражалось в нем тою серьезностью и самостоятельностью, тем строгим ученым видом, который он принял на себя и которого уже не оставлял потом.
В это время Белинский и его молодые друзья, участвовавшие в «Телескопе» и «Молве», начали издавать "Московский наблюдатель"… Г. Краевский никак не предвидел, что этим молодым горячим людям суждено будет играть замечательную роль в истории русской литературы, что имя Белинского сделается историческим именем и что ему суждено будет поддержать и придать нравственную силу и значение "Отечественным запискам".
Литературные авторитеты и знаменитости или не удостаивали замечать в то время Белинского, или отзывались о нем презрительно, как о вздорном и наглом крикуне, не имевшем ни foi, ни loi и осмеливавшемся нападать на бессмертные имена, на неприкосновенные доселе авторитеты. Сближаться с Белинским — значило компрометировать себя во мнении авторитетов, перед которыми усердно преклонялся г. Краевский… Но не из боязни компрометировать себя перед ними, а совершенно искренне и добродушно он презирал Белинского и его молодых друзей и клеймил их именем мальчишек-крикунов, считая неприличным для собственного достоинства связываться с ними.
Он сознавал, что для журнала необходим критик, что без дельной критики журнал не может существовать, что время литературных сборников прошло… Но откуда же взять критика? Эта мысль озабочивала его сильно. Он отверг мое предложение о Белинском; выбор его уже был сделан, он только хранил его в тайне.
Критический дебют "Отечественных записок" был неудачен; впрочем, статья под заглавием: "Русская литература в 1838 году" — плохая компиляция, без всякого взгляда, наполненная общими местами — скрылась за прекрасными стихотворениями и повестями, в особенности за "Историей двух калош" графа Соллогуба, которая и литературой и публикой принята была с восторгом. Имя Соллогуба, дебютировавшего в "Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду" рассказом «Сережа», после "Истории двух калош" стало пользоваться громкою известностию и не в одних аристократических салонах, где читал ее автор… Повесть эта возбудила большую симпатию к автору во всех классах читающей публики и во всех литературных кружках. Белинский был от нее в восторге. — "Соллогуб своими «Калошами» растрогал меня до слез", — говорил он мне впоследствии.
Ободренный блистательным успехом, Соллогуб с жаром принялся писать новую повесть и стал изредка появляться между литераторами, но он чувствовал себя не совсем ловко в этом новом для него обществе. Он разыгрывал между ними великосветского человека и как бы несколько женировался званием литератора.
Я замечаю это не в упрек графу Соллогубу. Это был недостаток общий всем тогдашним литераторам-аристократам, за исключением, как я уже говорил, Одоевского. Граф Соллогуб имел сначала непреодолимую наклонность к литературе, но серьезному развитию этой наклонности мешали его великосветские взгляды и привычки, и он потом уже занимался ею слегка, как дилетант…
Появление всякого нового замечательного таланта в русской литературе было праздником для Соллогуба. В Соллогубе не было ни малейшей тени той литературной зависти или того неприятного ощущения при чужом успехе, которые, к сожалению, нередко встречаются в очень талантливых артистах и литераторах… Он был увлечен "Бедными людьми" Достоевского и приставал ко всем нам: — "Да кто такой этот Достоевский? Бога ради покажите его, познакомьте меня с ним!" Он ходил, как помешанный, на другой день после прочтения комедии Островского "Свои люди — сочтемся", прокричал об этой комедии во всех салонах и устроил у себя вечер для чтения ее; но об этом вечере и вообще о литературных вечерах Соллогуба я буду говорить подробно во 2-й части моих "Воспоминаний".
Наклонность к так называемой великосветскости, которой были подвержены некоторые литературные деятели 20-х, 30-х и 40-х годов, действовала на них и на их произведения весьма неблаготворно. Этой наклонности были подвержены даже такие могучие таланты, как Пушкин и Лермонтов.
Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора.
Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была, между прочим, наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах "На смерть Пушкина"), несмотря на то, что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей железный стих, Облитый горечью и злостью… — он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно.
Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением "На смерть Пушкина"; но еще и до этого, когда он был в юнкерской школе, носились слухи об его замечательном поэтическом таланте — и его поэма «Демон» ходила уже по рукам в рукописи.
Литературная критика обратила на него внимание после появления его повести о купце Калашникове в "Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду", издававшихся под редакциею г. Краевского.
Я в первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Одоевского.
Наружность Лермонтова была очень замечательна.
Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у г. Краевского моего приятеля М. А. Языкова… Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его.
Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был сообщителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его наконец из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен.
— Странно, — говорил мне один из его товарищей, — в сущности он был, если хотите, добрый малый: покутить, повеселиться — во всем этом он не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва, — без этого он не мог быть покоен, — и, выбрав ее, он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его.
Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Одоевского и потом довольно часто встречался с ним у г. Краевского. Где и как он сошелся с г. Краевским, этого я не знаю; но он был с ним довольно короток и даже говорил ему ты.
Лермонтов обыкновенно заезжал к г. Краевскому по утрам (это было в первые годы "Отечественных записок", в 40 и 41 годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал и покрой которого был снят им у Одоевского, — разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на ты, и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:
— Ну, полно, полно… перестань, братец, перестань. Экой школьник…
Г. Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие.
Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал.
Посещения его всегда были очень непродолжительны.
Заговорив о Лермонтове, я выскажу здесь кстати все, что помню об нем, и читатель, верно, простит меня за нарушение в рассказе моем хронологического порядка.
Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него.
Лермонтов привез ему свое стихотворение:
Есть речи — значенье Темно иль ничтожно…прочел его и спросил:
— Ну что, годится?..
— Еще бы! дивная вещь! — отвечал г. Краевский, — превосходно; но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность…
— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.
— Из пламя и света Рожденное слово…Это неправильно, не так, — возразил г. Краевский, — по-настоящему, по грамматике надо сказать из пламени и света…
— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, — ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много… Однако… (Лермонтов на минуту задумался)… дай-ка я попробую переделать этот стих.
Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался… Так прошло минут пять. Мы молчали. Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:
— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук…
В другой раз я застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса «Казначейши» в «Современнике», издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.
— Это чорт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… — Это ни на что не похоже!
Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру.
Вероятно, этот нумер «Современника» сохраняется у г. Краевского в воспоминание о поэте.
Я также встретился у г. Краевского с Лермонтовым в день его дуэли с сыном г. Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге… Лермонтов приехал после дуэли прямо к г. Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский.
Белинский часто встречался у г. Краевского с Лермонтовым. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило.
Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.
— Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно; но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою.
И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то по крайней мере — идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить.
Когда он сидел в Ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его; он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.
Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.
— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.
— Откуда?
— Я был в Ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было.
Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!. Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе; ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать, он меня… Что еще связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры… Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер-Скотте… "Я не люблю Вальтер-Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух", — и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер-Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в ВальтерСкотте, и доказывал это с тонкостию, с умом — и что удивило меня — даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом…
В материалах для биографии, во 2-й части сочинений Лермонтова, г. Дудышкин говорит:
"В 1840 году, когда Лермонтов сидел уже под арестом за дуэль, он познакомился с Белинским. Белинский навестил его, и с тех пор дружеские, отношения их не прерывались".
Это несправедливо. Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более…
Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. "Что касается его таланта, — рассуждают так, — об этом и говорить нечего, но он был пустой человек, и притом недоброго сердца".
И вслед за тем приводятся обыкновенно доказательства этого — различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и гусарском полку.
Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?
Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его миросозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина — в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы… Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным.
Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелкоплавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры.
Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние — эти тупые мудрецы, важничающие своею дельностию и рассудочностию и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре.
Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов взрос и воспитывался, отчасти увлечения молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ неприятно действовали на многих действительно серьезных людей и придавали Лермонтову неприятный, неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова?.. Он умер еще так молод. Смерть прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась сильная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения…
Появление Лермонтова в первых книжках "Отечественных записок", без сомнения, много способствовало успеху журнала; но без критики, как бы ни был блистателен его беллетристический отдел, журнал не мог итти. Г. Краевский тайно принимал меры, как я сказал, обеспечить себя относительно этого предмета.
В начале 1839 года я, по некоторым обстоятельствам, прожил у г. Краевского несколько дней… Раз утром, это было, если не ошибаюсь, в конце февраля месяца, в квартире г. Краевского послышался сильный звонок… Г. Краевский вышел в залу, чтобы посмотреть, кто звонит. Он заглянул в переднюю, вдруг бросился туда и в одно мгновение очутился в объятиях человека, только что освободившегося от шубы, с радостным криком:
— Василий Степаныч! Любезнейший Василий Степаныч — наконец-то!
Это был Межевич, давно ожидаемый критик, выписанный г. Краевским из Москвы…
Межевич был старый московский знакомый г. Краевского. Он был, кажется, учителем в том пансионе, который содержала мать г. Краевского. Межевич печатал в «Телескопе» какие-то статейки по части теории словесности, очень нравившиеся многим. Г. Краевский, вероятно, заключил по этим статейкам, что Межевич должен иметь критическое дарование. Они вошли в залу рука об руку. Г. Краевский представил нас друг другу. Межевич был небольшого роста, белокур, с незначительными чертами, с мутными подслеповатыми глазами и в очках, которые он поправлял беспрестанно. В манерах его было что-то нерешительное и даже робкое, говорил он не совсем складно о самых обыкновенных предметах. В его движениях, словах, взглядах была такая неуверенность в самом себе, которая даже возбуждала сострадание. Межевич имел. сердце мягкое, расплывавшееся, характер совершенно слабый и мелкий. Он чувствовал боязнь к уму, к убеждениям, ко всякой моральной силе и впоследствии почти тайком ускользнул из редакции "Отечественных записок", сошелся с Булгариным, начал писать статейки в «Пчелу», вдался в мелкую литературу и стал во главе ее в «Репертуаре» и, наконец, добился редакторства "Полицейских ведомостей"… В этом последнем приюте он нравственно упадал с каждым днем, сдружился с каким-то г. Смирновским, сочинявшим безграмотные статьи лакейским слогом, и дошел до гимнов кондитеру Излеру, который открыл увеселительное заведение на "Минеральных водах"…
Вот каков был выбор г. Краевского, вот кому вверял он критический отдел своего журнала, вот кого предпочел он Белинскому!
Я был свидетелем приготовления Межевича к критическим дебютам в "Отечественных записках".
Мы писали с ним в одной комнате на квартире г. Краевского: он — разбор какой-то книжки, я — конец повести "Дочь чиновного человека" для 4 No "Отечественных записок".
Межевичу, кажется, нелегко доставались его критические статейки; он морщился, грыз перо, поправлял очки, прохаживался в размышлении по комнате, тер себе лоб, выжимал после этого из себя несколько строчек и снова начинал мучиться.
На процедуру его писания было смотреть тяжело. Надежды, возложенные г. Краевским на Межевича, должны были рухнуть очень скоро. Но я не буду забегать вперед…
Петербургская литература и журналистика, как я замечал уже, по мере моего сближения с нею, теряла для меня ту прелесть, в которой представлялась мне некогда издалека. Я видел, толкаясь за литературными кулисами, какие мелкие человеческие страстишки — самолюбие, корыстолюбие, зависть — двигали теми, которых я некогда считал за полубогов… Статьи Белинского в «Телескопе», в «Молве», повести Гоголя в его «Миргороде», стихотворения Лермонтова начинали несколько расширять мой горизонт, они повеяли на меня новою жизнию, заставляли биться сердце предчувствием чего-то лучшего. Статьи Белинского начинали окончательно колебать мою тупую веру в литературные авторитеты и мой раболепный страх перед ними. Я уже иногда задумывался над такими явлениями, которые прежде не возбуждали во мне ни малейшей думы; начинал пристальнее вглядываться в лица и в окружавшую меня действительность; сомнение несколько начинало тревожить меня, и мне уже как-то не хотелось принимать на веру и безусловно разные жизненные факты, которым я привык подчиняться с детства, вследствие домашней и школьной рутины. Но все эти признаки пробуждающегося сознания еще проявлялись во мне очень бледно и слабо…
Мысль, что искусство должно служить самому себе, что оно составляет отдельный, независимый свой мир, что чем художник безучастнее в своих произведениях или чем он объективнее, как выражались тогда, тем выше — эта мысль была самою рельефною и господствующею в литературе тридцатых годов. Пушкин развивал ее в своих звучных, гармонических стихах и довел ее до вопиющего эгоизма в своем стихотворении "Поэт и чернь", которое все мы декламировали с восторгом и считали чуть ли не лучшим из его лирических стихотворений. Все замечательные литературные деятели тогдашнего времени вслед за Пушкиным и кипевшая около них молодежь были ревностными, горячими защитниками искусства для искусства.
В последние годы жизни Пушкина, и еще резче после его смерти, Кукольник, принадлежавший также к поклонникам этой теории, проповедывал, как мы видели, еще о том, что истинное искусство не должно обращать внимания на обыденную, современную, пошлую жизнь, что оно должно парить высоко и изображать только героические, исторические и артистические личности. Отсюда эти длинные и скучнейшие драмы с художниками, холодные внутри, как лед, но с клокочущими на поверхности страстями, огромных размеров картины с эффектными освещениями, — и чем длиннее и скучнее была драма, чем больше холст, на котором была написана картина, тем более удивлялись поэту или художнику. Любимыми темами не только для драм, но и для повестей сделались артисты. Кукольник в своих пятиактных драмах, Полевой в своих многотомных романах представляли различных артистов и художников в апофеозе. Кукольник, кроме того, еще пустил в ход патриотические драмы с трескучими фразами, в которых немцев выбрасывали из окон при диких криках и рукоплесканиях райка, и развивал этими произведениями нелепую самоуверенность, которая впоследствии стоила нам так дорого, что русские могут весь мир закидать одними шапками. Полевой соперничал с ним в таком патриотизме и еще придавал ему пошлый, сантиментальный колорит. Оба они наперерыв друг у друга пожинали сценические лавры… Все это было, однако, до такой степени лицемерно и фальшиво, что не могло долго держаться…
Петербургская журналистика представляла также не совсем привлекательное зрелище.
Полевой являлся уже совершенно бесцветным и выдохшимся в "Сыне отечества", с появлением каждого нумера теряя свой нравственный кредит. О Сенковском я говорил. О Булгарине и других журналистах говорить нечего. Второстепенные петербургские литераторы писали только так, по рутине и для своего удовольствия, подражая первостепенным и не заботясь ни о каких вопросах и теориях, даже о теории искусства для искусства.
Тоска и апатия невольно овладевала в такой среде… Ни живого слова, ни живого звука при литературных сходках: или одни и те же фразы об искусстве, которые всем прискучили и повторялись уже вяло, или литературные сплетни, выводившие литераторов из апатии и оживлявшие их на минуту.
Даже имя Пушкина уже не так электризовало меня, как прежде. Его русские сказки и Анджело неприятно подействовали на всех его многочисленных и восторженных поклонников; его «Современник» был довольно холодно принят и в литературе и в публике.* Большинство говорило, * Одна только статья Гоголя в 1 No «Современника»: "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году" наделала большого шуму в литературе и произвела очень благоприятное впечатление на публику. И что поэту не следовало пускаться в журналистику, что это не его дело. Начинали поговаривать, но еще робко, что Пушкин стареет, останавливается, что его принципы и воззрения обнаруживают недоброжелательство К новому движению, к новым идеям, которые проникали к нам из Европы, медленно, но все-таки проникали, возбуждая горячее сочувствие в молодом поколении… И несмотря на то, что в художественном отношении Пушкин достигал совершенства с каждым новым своим произведением, молодое поколение начинало заметно охлаждаться к поэту, и только неожиданная и трагическая смерть его возвратила ему общее горячее сочувствие…
В обществе неопределенно и смутно уже чувствовалась потребность нового слова, и обнаруживалось желание, чтобы литература снизошла с своих художественных изолированных высот к действительной жизни и приняла бы хоть какое-нибудь участие в общественных интересах. Художники и герои с реторическими фразами всем страшно прискучили. Нам хотелось видеть человека, а в особенности русского человека. И в эту минуту вдруг является Гоголь, огромный талант которого первый угадывает Пушкин своим художественным чутьем и которого уже совсем не понимает Полевой, на которого еще все смотрели в то время как на передового человека.
"Ревизор" Гоголя имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии.
Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая, таланта в Гоголе, замечал: "а все-таки это фарс, недостойный искусства".
Вслед за Гоголем появляется Лермонтов. Белинский своими резкими и смелыми критическими статьями приводит в негодование литературных аристократов и всех отсталых и отживающих литераторов и возбуждает горячую симпатию в новом поколении.
Новый, свежий дух уже веет в литературе… …
Кольцов, как я говорил, возбудил во мне непреодолимое желание познакомиться с Белинским, с которым я уже был в переписке, и с его друзьями.
Случай к этому скоро представился… По некоторым домашним обстоятельствам я должен был уехать на время из Петербурга…
Я написал письмо к Белинскому, что скоро надеюсь его видеть… и с трепетным наслаждением приготовлялся к минуте этого свидания…
Я выехал из Петербурга 9 апреля 1839 года…
В Москве, кроме Белинского, ожидало меня знакомство с Грановским, Аксаковым, Хомяковым, Кудрявцевым, Коршем (Е. Ф.), Катковым, Бакуниным, Боткиным (В. П.), Клюшниковым (печатавшим свои стихотворения под буквою? в «Наблюдателе» Белинского и потом в "Отечественных записках")… Я вступал в новую среду, не имевшую ничего общего с описанною мною… Этой среде я обязан всем. В ней начинала пробуждаться и развиваться моя мысль, в ней я получил сознание человеческого достоинства и приобрел те убеждения, которые осмыслили мою жизнь… Белинскому и его друзьям, кроме моего развития, я обязан самыми лучшими, самыми счастливыми минутами в моей жизни…
Но об них я буду говорить во второй части Моих "Литературных воспоминаний"…
Я подхожу к времени уже слишком близкому к нам и потому продолжать мои «Воспоминания» в последовательном порядке не нахожу возможным. Из второй части я представлю, впрочем, несколько отрывков о Грановском, Белинском, Гоголе, Аксаковых и Загоскине…
Часть вторая (1839 — 1847)
ГЛАВА I[6]
Москва. — Знакомство с кружком Белинского. — Семейство С. Т. Аксакова. — Белинский и Константин Аксаков. — Обеды и вечера у Аксаковых. — И. Е. Великопольский. — Бал, данный им на Пресненских прудах, и иллюминация. — М. Н. Загоскин. — Обед у него. — Моя поездка с ним на Воробьевы горы. — Мочалов в «Гамлете» и «Отелло». — Предложение Погодина. — Вечера у Мельгунова. — Павлов и Хомяков, рассуждающие о Милькееве. — Чтение "Тоски по родине" у Аксаковых. — Моя статейка о Москве в "Литературных прибавлениях к Инвалиду".
— Разговор мой с К. С. Аксаковым на берегу Москвы-реки у Драгомиловского моста. ….Всякий раз, когда я выезжал из Петербурга, мне становилось легче. Я родился и провел большую часть моей жизни в Петербурге, но никогда не чувствовал к нему особенной привязанности… В Москве я бывал несколько раз ненадолго, проездом. Ее оригинальность, живописность, ее разметанность по холмам, картина Замоскворечья из Кремля, ее исторические памятники, хотя подштукатуренные и выбеленные, вся ее внешняя обстановка возбуждала во мне всякий раз неопределенное поэтическое ощущение, и я начинал питать к ней невольную привязанность… Ко всему этому рассказы Кольцова о кружке Белинского так и притягивали меня к Москве… Москва представлялась мне после этих рассказов в упоительном свете; и теперь, когда она вытягивалась передо мной сквозь пыль с своими бесчисленными куполами и колокольнями, вся залитая лучами солнца, сердце мое сильно забилось и даже слезы выступили на глазах. Мне казалось, что в ней я найду все то, к чему неопределенно стремился, чего смутно и беспорядочно искал, что неясно предчувствовал…
В это время я отчасти уже понимал дикость барства, среди которого я взрос и воспитался. Барская жизнь, барские воззрения, замашки и привычки, барская нравственность нередко смущали меня; но я не останавливался еще ни разу серьезно на самом себе и тупо отдавался всем мелочам праздной, внешней жизни, всей ее пустоте и суетности. Самое легкомысленное тщеславие еще двигало моими поступками. Мне, например, доставляло большое удовольствие знакомство с каким-нибудь титулованным светским господином, хоть самым пустейшим из пустейших; я хлопотал о том, чтобы попасть в великосветский салон, и, попадая в него, ощущал себя почти счастливым, несмотря на то, что в салоне мне было и неловко и душно. Если бы не отсутствие во мне необходимого для света внешнего блеска, если бы не врожденная робость и не страсть к литературе, которая в то же время все сильнее развивалась во мне, я отдался бы вполне и безусловно светской жизни…
Общественные вопросы и политическое движение были совершенно чужды мне, да они почти совсем не занимали в 30-х годах даже передовых людей в литературе, хотя память о наших политических мучениках должна бы, казалось, невольно наводить молодое поколение на эти вопросы. Стоны из сибирских рудников не могли не доходить до него.
Реакция после 14 декабря была страшная, все присмирело и оцепенело, запуганное большинство предалось личным интересам — взяточничеству, грабежу и удовлетворению своего чиновнического самолюбия, замаскированного верноподданническими чувствами; незначительное меньшинство мыслящих людей нашло себе примирение и успокоение в немецкой философии и отыскивало в ней данные для возвеличения самодержавного произвола; даже Белинский — по преимуществу, революционная натура — приводил в каком-то дурмане экстаза слова из "Ричарда II" шекспирова, что
…Елей с помазанного короля Не могут смыть все волны океана…Литература способствовала общественной дремоте, занявшись исключительно искусством и ратуя с дон-кихотскою яростию за нелепый принцип "искусства ради искусства", — принцип, который снова, но уже без всякого успеха возобновлен был в наше время бессердечными и празднословными литературными джентльменами.
В такую неблагоприятную для моего развития минуту сошелся я с Белинским и его друзьями. Тогда, впрочем, я не сознавал этого и тотчас же безусловно подчинился их авторитету. Каждое их слово сделалось для меня законом.
Когда я подъезжал к Москве, сердце мое билось сильно и радостно при мысли, что я через несколько часов увижу Белинского…
Я сошелся с Белинским и его друзьями в тот момент, когда они, на пути своего развития, запутавшись в гегелевских определениях и формулах, отыскивали примирения во всем — и в литературе и в жизни, примирения во что бы то ни стало, и с такими вещами, с которыми нет возможности примиряться; когда знаменитый принцип "искусства для искусства" возведен был ими в вечный закон, а отрицающие или не признававшие его предавались строгой опале, как люди тупоумные, лишенные эстетического чувства… ….
Я уже говорил о моем первом свидании с Белинским… Через несколько времени после этого я познакомился с некоторыми из его друзей у Боткина, с которым Белинский был в то время в размолвке… …. …Дом Боткиных расположен на одном из самых живописных мест Москвы. Из флигеля, выходившего в сад, в котором жил тогда Боткин, из-за кустов зелени открывалась часть Замоскворечья. Сад был расположен на горе, в середине его беседка, вся окруженная фруктовыми деревьями…
В этой-то беседке, в половине мая, в теплый, солнечный день, я встретил в первый раз Каткова, только что окончившего курс в университете, но еще студентом сблизившегося с Белинским и его друзьями, которые видели в нем замечательное литературное дарование и большое расположение к философским занятиям… Клюшникова, печатавшего свои стихотворения под буквой? и Бакунина… Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулативный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный — все это поражало в нем с первого раза.
Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к воспринятию проповедуемых им отвлеченностей.
Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о примирении и о прекраснодушии на совершенно непонятном для меня философском языке.
Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал, ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.
Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву логику, другой читал не без усилия его эстетику, третий изучал его феноменологию духа, — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича. Каждый благоговейно вспоминал об нем. У Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал мне об нем и знакомил меня с его нежною, тонкою, симпатическою личностию… "Станкевич был душою, жизнию нашего кружка, — прибавил он в заключение, — теперь уже не то… Самое цветущее наше время прошло! Он своею личностию одушевлял и поддерживал нас. Бакунин, как ни умен, но он не может заменить Станкевича…" Влияние Станкевича на Белинского было глубоко. Белинский всегда сознавался в этом. Первые критические статьи его, где выражался его взгляд на искусство и на жизнь вообще, писаны, без всякого сомнения, под влиянием Станкевича. "В письмах Станкевича, — справедливо замечает г. Анненков, — можно найти намеки на все вопросы, занимавшие потом Белинского и более или менее приближенные им к разрешению"… Станкевич своей кроткой примиряющей натурой несколько смягчал и сдерживал кипучую натуру Белинского и хотел принудить его учиться языкам, особенно немецкому. Он предугадывал в Белинском сильного литературного бойца и хотел расширить его миросозерцание, но очень, повидимому, боялся его, как он полагал, излишней энергии… "Будь чем хочешь — хоть журналистом, хоть альманашником (писал он к нему в 1836 году) — все будет хорошо, только будь посмирнее".
Развитию Белинского способствовало, кроме Станкевича и Бакунина, семейство последнего, в котором Станкевич и Белинский были приняты дружески. Это замечательное семейство, состоявшее из нескольких сестер и братьев, принадлежало к исключительным, небывалым явлениям русской жизни. Оно имело полуфилософский, полумистический немецкий колорит, судя по рассказам Белинского и его друзей. Одна из сестер Бакунина, под влиянием мистического экстаза, доходила, говорят, иногда даже до видений. Бакунин имел, конечно, неограниченное влияние на своих сестер и братьев.
На Белинского, никогда не бывавшего ни в каком женском обществе, такое семейство должно было произвести с самого начала сильное впечатление. В сестрах Бакунина его поразил прежде всего их пытливый взгляд на жизнь, их стремление доискиваться разрешения самых отвлеченных вопросов и то нервическое раздражение, происходившее от мистического настроения, которое он принимал за поэзию.
Белинский, впрочем, кажется, недолго находился под этим обаянием. Он увлекался беспрестанно, но тотчас же отрывался, хотя не без боли, от своих увлечений. В то время, когда я с ним сошелся, он говорил о семействе Бакуниных с большим уважением и с большою симпатиею, но уже ясно видел то болезненное направление, которому отдались сестры Бакунина.
"Слава богу, я теперь отрезвился, — говорил он мне (это было после его последнего приезда из деревни Бакуниных), — отделался от прекраснодушия и мистических бредней и начинаю дышать легче и свободнее и вижу все яснее".
Белинский и не подозревал в эту минуту, каким болезненным направлением был одержим он сам и какой туман застилал глаза его.
К кружку Белинского принадлежал в это время и Константин Сергеич Аксаков.
Я не был знаком с семейством Аксаковых, но между нами существовала некоторая связь. Сергей Тимофеич Аксаков воспитывался в Казанском университете вместе с моим отцом и дядею, с которыми он был очень близок, особенно с последним… (Он часто вспоминает об них, рассказывая о своей гимназической и университетской жизни.) Я знал это и через два дня после приезда моего счел долгом отрекомендоваться Сергею Тимофеичу. Я отправился к нему так же четверней на вынос, как и к Белинскому.
С. Т. Аксаков и сын его Константин приняли меня с необыкновенным радушием.
Сергей Тимофеич был большой хлебосол и гордился этою московскою добродетелью.
Аксаковы жили тогда в большом отдельном деревянном доме на Смоленском рынке.
Для многочисленного семейства требовалась многочисленная прислуга. Дом был битком набит дворнею. Это была уже не городская жизнь в том смысле, как мы ее понимаем теперь, а патриархальная, широкая помещичья жизнь, перенесенная в город. Такую жизнь можно еще, я думаю, и до сих пор видеть в Москве… Дом Аксаковых и снаружи и внутри по устройству и расположению совершенно походил на деревенские барские дома; при нем были: обширный двор, людские, сад и даже баня в саду. Константин Аксаков помещался наверху, в мезонине.
С. Т. Аксакову было в это время с небольшим 50 лет. Он был высок ростом, крепкого сложения и не обнаруживал еще ни малейших признаков старости. Выражение лица его было симпатично, он говорил всегда звучно и сильно, но голос его превращался в голос стентора, когда он декламировал стихи, а декламировать он был величайший охотник. Любимым занятием его было уженье, и он очень часто с ночи отправлялся удить в окрестности Москвы.
По вечерам он обыкновенно играл в карты. Между прочими партнерами его были тогда И. Е.Великопольский и Н. Ф. Павлов. Тогда еще Сергей Тимофеич не пользовался тою блестящею литературною известностию, которую, он приобрел впоследствии…
Я полюбил С. Т. Аксакова и скоро сошелся с Константином Аксаковым. Я был у Аксаковых почти всякий день и, кроме того, часто встречался с Константином Аксаковым у Белинского.
Белинский был некогда довольно короток в доме Аксаковых, но перед моим приездом в Москву между им и этим семейством произошло какое-то недоразумение, размолвка.
Белинский говорил мне, что его не совсем жалует г-жа Аксакова и не очень приятно смотрит на его дружбу с Константином. Константин Аксаков отстаивал, однако, Белинского долго от нападков своей матушки. Белинский в это время заходил только к Константину Аксакову в мезонин и очень редко спускался вниз…
Константин Аксаков был такого же атлетического сложения, как его отец, только пониже ростом. Его открытое, широкое, некрасивое, несколько татарское лицо имело между тем что-то привлекательное; в его несколько неуклюжих движениях, в его манере говорить (он говорил о любимых своих предметах нараспев), во всей его фигуре выражалась честность, прямота, твердость и благородство; в его маленьких глазках сверкало то бесконечное добродушие, то ничем не преодолимое упорство… Его привязанность к Москве доходила до фанатизма; впоследствии его любовь к великорусскому народу дошла до ограниченности, впадающей в узкий эгоизм. Он любил не человека, а исключительно русского человека, да и то такого только, который родился на Москве-реке или на Клязьме.
Русских, имевших несчастие родиться на берегу Финского залива, он уже не признавал русскими.
В ту минуту, когда я познакомился с ним, он еще, впрочем, не дошел до этого забавного отрицания и до этой странной исключительности. Славянофилизм только еще зарождался тогда, и Константин Аксаков стоял на полдороге между "Московским наблюдателем" Белинского, в котором он принимал участие, и между «Москвитянином» Шевырева и Погодина, на который он начинал смотреть с участием…
Единственною нитью, соединявшею К. Аксакова с Белинским и его друзьями, была философия Гегеля, которая имела большое влияние на Аксакова, и общий взгляд их на искусство с точки зрения этой философии. Впоследствии, когда уже не исключительно одно искусство, а и общественные вопросы стали занимать литературу, когда образовались славянофильская и западная партии, Константин Аксаков совершенно и окончательно разошелся с Белинским. Они очутились в двух враждебных лагерях…
Если бы я приехал в Москву пятью годами позже, — нет никакого сомнения, что К. Аксаков не допустил бы меня до себя; но в том еще неопределенном и неустановившемся положении, в каком он находился в 1839 году, он искренно протянул мне дружескую руку, несмотря на то, что я был рожден на берегу Финского залива. Он, впрочем, и тогда говорил мне с негодованием о Петербурге и старался при всяком случае возбуждать во мне энтузиазм к Москве. Он останавливал меня перед Иваном Великим, перед Васильем Блаженным, перед Царь-пушкою, перед Колоколом — и глазки его сверкали — он сжимал мою руку своей толстой и широкой рукой… "Вот Русь-то, вот она, настоящая Русь-то!" — вскрикивал он певучим голосом. Он возил меня в Симонов и Донской монастыри, и когда я обнаруживал мой восторг от Москвы, восхищался ее живописностию и ее старинными церквами, К. Аксаков схватывал мою руку, жал мне ее так, что я только из деликатности не вскрикивал, даже обнимал меня и восклицал:
— Да! вы наш, москвич по сердцу!
Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться.
Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями. Старик Аксаков в последние годы отпустил бороду и ходил в русском кафтане с косою рубашкою, каким он изображен в "Портретной галлерее" г. Мюнстера. Портрет этот очень удачен.
Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником.
Белинский горячо любил Константина Аксакова. "Благороднейший, честнейший юноша, — говорил он об нем, — но в голове его какая-то узкость, китаизм, несмотря на глубокость духа, а в характере неподвижность и упрямство".
Белинский предчувствовал, что они должны разойтись скоро. ….
В доме у Аксаковых я познакомился с Н. Ф. Павловым, его супругою Каролиною Карловной, урожденною Яниш, с М. Н. Загоскиным, который был тогда директором московских театров, с И. Е. Великопольским и с многими другими московскими известностями.
Великопольский имел собственный дом на Пресненских прудах. Однажды он давал в этом доме по какому-то случаю — а может быть, без всякого случая — бал и пригласил к себе всех своих старых и новых знакомых и в том числе меня и Белинского. С Белинским он познакомился через Аксаковых и, зная стесненное положение Белинского, нередко помогал ему. Белинский намекает об этом в одном из писем ко мне, напечатанных мною в «Воспоминаниях» моих об нем. Великопольский, человек с добрым и доверчивым сердцем, всю жизнь был увлекаем двумя пагубными страстями: к картам и к литературе; ни в литературе, ни в картах ему не везло. За одну из его драм цензор Ольдекоп был отставлен от должности, и благородный автор тотчас же предложил ему ежегодно выдавать его цензорское жалованье. Уволенный цензор отказался, кажется, от этого великодушного предложения. Эту драму Великопольский в начале сороковых годов читал нам в "Отеле Демута". На этом чтении присутствовал между прочими и С. Т. Аксаков, находившийся в то время в Петербурге. Перед чтением слушателям дан был роскошный обед… Чтение началось в 7 часов и продолжалось до полуночи. Насыщенные слушатели дремали и от времени до времени вздрагивали. С лица С. Т. Аксакова, сидевшего против самого автора, лился пот градом, он беспрестанно вытирал свой лоб и с некоторым ожесточением упирался о спинку стула, который трещал при этом напоре. Когда чтение кончилось и Сергей Тимофеич встал со стула, стул совсем развалился. В карты Великопольского обыгрывал даже Пушкин, которого все обыгрывали, и потому, вероятно, великий поэт питал к Великопольскому какую-то ироническую нежность. В собрании сочинений Пушкина находится послание поэта к Великопольскому…
Часу в девятом я отправился на бал к Великопольскому вместе с К. С. Аксаковым и Белинским…
Дом Великопольского был набит битком гостями, оркестр гремел, танцы были во всем разгаре… Лакеи беспрестанно разносили разные прохладительные, конфекты и фрукты…
Толпы любопытных собрались у дома. Сад на Пресненских прудах был также наполнен гуляющими. Белинский, К. Аксаков и я недолго оставались в комнатах, где была нестерпимая духота. Мы пошли гулять на Пресненские пруды. Когда стемнело, к изумлению нашему, часть Пресненских прудов была иллюминована и импровизировалось народное гулянье.
Около подъезда дома, на дворе, толпы густели; многие господа, не знакомые хозяину праздника, входили бесцеремонно в дом и угощались. Хозяин дома появлялся на крыльцо, разговаривал приветливо со стоявшими тут и отдавал приказание угощать всех лимонадом, оршадом и конфектами. Подносы появлялись даже на Пресненских прудах. Из толпы явился какой-то поэт и продекламировал стихи в честь великодушного хозяина… Все это было чрезвычайно оригинально.
— Вот какие праздники дают у нас в Москве! — воскликнул К. Аксаков, с торжественным, сияющим лицом обращаясь ко мне: — где вы увидите что-нибудь подобное?..
Не выражается ли в этом широкая, размашистая славянская натура? Как не любить нашу Москву, Иван Иванович, не правда ли?.. …К числу самых коротких людей дома Аксаковых принадлежал М. Н. Загоскин. Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические пословицы, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура — маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная — как-то невольно располагали к нему… Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый, основанный на преданиях, на рутине, и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с презабавною горячностию. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспоривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и наливались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице… Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. "Поверь мне, милый, все это чепуха, — говорил он К. Аксакову, — завиральные идеи, взятые из вашей немецкой! философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит… Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово, — немцу смерть. Чорт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к матушке святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя потому, что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе, — ну, а уж твои приятели… Этих бы господ я…" Загоскин останавливался, сжимал руку в кулак и принимал энергическое выражение…
Загоскин разумел под приятелями Аксакова в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал. Ненависть его ко всему иностранному была забавна… "Пьют лафиты, — говорил он, — да разные иоганисберги и шато д'икемы и хвастают этим, а не знают, что у нас есть свое родное, крымское, которое ни в чем не уступит их д'икемам и лафитам".
Однажды Загоскин пригласил меня обедать. За обедом он усердно угощал меня красным вином. "Каково винцо-то? — приговаривал он, — букет-то какой!" Вино мне действительно показалось недурным, и я похвалил его… "Ну, а какое это вино?" — спросил он, устремляя на меня проницательный взгляд и улыбаясь. — Я не знаю… — отвечал я, — лафит, кажется?.. — "Ах вы, европейцы! — вскрикнул Загоскин, — лафит! лафит!.. Нет, милый, я с Депре с вашим не имею знакомства… Это вино чисто крымское, из винограда, созревшего на русской почве… Чем оно хуже вашего лафита?.. Да и Депре-то ваш ведь надувает, я думаю, вас: он продает вам втридорога то же крымское, выдавая вам его за какой-нибудь шато-лароз, а вы смакуете да восхищаетесь: какой лафит! 15 р. бутылка! — а мне эта бутылка стоит 3 р. 50 к.! Пора нам стряхнуть с себя иностранную, дурь!.." Загоскин не знал иностранных языков, но когда он сделался директором московских театров, он почел необходимым учиться по-французски и учился без учителя. Он просто выучил наизусть почти весь лексикон Ольдекопа (память у него была удивительная) и говорил по-французски презабавно, большую часть без артиклей. Когда одна придворная дама в театре, в царской ложе, спросила у него бинокль, Загоскин начал отыскивать его по столам и стульям и метаться из угла в угол (он был очень рассеян) и потом, подойдя к даме, сказал: "Ублие, прянсес"…
Несмотря на мою близость с Белинским, Загоскин обнаруживал ко мне большую внимательность и расположение, вероятно потому, что встретил меня в доме С. Т. Аксакова, с которым он был очень дружен.
— Мы его сделаем москвичом, — говорил Загоскин Аксакову, ударяя меня по плечу. — Ему надо показать Москву во всей красоте. Я свезу его на Воробьевы горы.
Загоскин пригласил С. Т. Аксакова и меня обедать к себе. Он жил в Петровском парке на собственной даче. Тотчас после обеда был подан кабриолет и, к удивлению моему, с английской закладкой.
— Едем, едем… пора! — говорил мне Загоскин. — Эй, человек, шляпу, пальто!.. да не забыл ли я чего?
Он хватался за свои карманы, шарил на столе, не отдавая себе в рассеянности отчета, чего он ищет…
— Табакерка-то со мною ли? — спрашивал он у лакея… — Здесь, здесь! — кричал он, ощупав ее в кармане.
Наконец мы вышли на крыльцо. С. Т. Аксаков провожал нас. Загоскин сел в кабриолет и взял вожжи.
— Садитесь, садитесь скорей, — говорил он мне. Я сел… Лошадь поднялась на дыбы и рванулась.
— Не погуби, Михаил Николаич, молодого-то человека. Ты мне за него отвечаешь, — кричал нам вслед, смеясь, Сергей Тимофеич.
— Ничего, ничего, милый, — кричал Загоскин, — я доставлю тебе его в целости. Будь покоен!..
От Петровского парка до Воробьевых гор пространство огромное. Надобно проехать через всю Москву. До Триумфальных ворот мы проехали благополучно; но путешествие наше по Москве было сопряжено с опасностями на каждом шагу. Загоскин при каждой церкви опускал вожжи, снимал шляпу и крестился; лошадь начинала нести. Я замирал от страха и стыдился обнаружить его, но наконец не выдержал.
— Позвольте, я буду править, — сказал я Загоскину.
— Ничего, ничего, милый, не бойтесь… Это лошадь смирная, она уж знает мои привычки…
Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад.
— Нет, нет — не оглядывайтесь, — вскрикнул Загоскин, — мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву…
Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе…
— Ложитесь под это дерево, — сказал он мне, — и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший! вид…
Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, с своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда — озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез…
— Ну, что… что скажете, милый, — произнес он взволнованным голосом: — какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида. Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву, — может быть, но это все не то!.. Смотри, смотри!.. Ну, бога ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы?.. Иванто Великий как высится… господи!.. Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево…
Загоскин снял очки, вытер слезы, навернувшиеся у него на глазах, схватил меня за руку и сказал:
— Ну, что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?
В экстазе он начал говорить мне "ты".
Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глазами, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то — все это сильно подействовало на меня.
— Благодарю вас, — сказал я Загоскину, — я никогда не забуду этого вечера.
Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал:
— Ты настоящий русский, ты наш, — только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш — малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца…
И он тыкал себя пальцем в левый бок…
С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта…
— Не знаю только, удастся ли, — говорил он: — надо пообождать немного. В эту минуту он никуда не годится, запил, каналья!
С. Т. Аксаков при всяком свидании с Загоскиным спрашивал: "ну, что Мочалов?..", получал неудовлетворительный ответ и приходил в бешенство…
— Погиб, кажется, окончательно этот великий талант! — восклицал он, ударяя кулаком по столу, — что с ним делать?
Сергей Тимофеич рассказал мне при этом, что он долго возился с ним и напрасно употреблял всевозможные усилия для того, чтобы пробудить самолюбие в Мочалове и оторвать его от грязной, невежественной жизни. Мочалову было неловко и дико в обществе образованных людей… Он давал им слово остепениться, благодарил Аксакова за участие, проклинал собственную свою слабость, несколько дней вел себя прилично, но потом вдруг незаметно исчезал, отдавался самому отчаянному кутежу с разными купчиками, напивался, буянил и кричал: "На колени передо мною! Я гений! Я Мочалов!" — Теперь я уж махнул рукой на него, — прибавил Аксаков: — едва ли вам удастся видеть его в настоящем свете; а впрочем — кто его знает?.. У него вдруг, неожиданно еще до сих пор вырываются истинно вдохновенные минуты, особенно в "Гамлете".
— Ну, милый, я тебе привез приятную новость, — заговорил однажды Загоскин, входя в кабинет С. Т. Аксакова: — говорят, Мочалов приходит в себя… Мы дадим для него «Отелло» и «Гамлета» (он указал на меня)… Только крепко боюсь я за него. Едва ли он надежен…
— Бог даст, ничего, — заметил Сергей Тимофеич: — в целом не выдержит, так, может быть, минутами будет хорош…
Через несколько дней после этого на афише появился «Гамлет» с Мочаловым. Сергей Тимофеич ждал этого спектакля с большим волнением, между страхом и надеждою…
Я вместе с ним сидел в директорской ложе. Загоскина не было при начале спектакля…
Перед поднятием занавеса Сергей Тимофеич произнес с беспокойством: "посмотрим, что-то будет!" По окончании первого акта Сергей Тимофеич посмотрел на меня грустно и, покачав головою, произнес: "нет — из рук вон плох". Во время второго акта, в сценах, где появлялся Гамлет, Аксаков уже едва сдерживал свое огорчение и негодование… Он с беспокойством поворачивался на своем стуле и шептал: "он совсем погиб!.. Еще никогда он не был так дурен в Гамлете. Его просто надо прогнать со сцены". Когда занавес опустился, Сергей Тимофеич вышел из ложи совсем встревоженный и наткнулся в комнате перед ложею с Загоскиным, который только что приехал.
— Какая гадость, — сказал он, обращаясь к Загоскину и задыхаясь от досады: — ведь смотреть, братец, нет никакой возможности…
— На кого? На Шекспира? — перебил Загоскин рассеянно и приглаживая у зеркала свои волосы… — То-то, милый, — продолжал он, — вы все кричите: Шекспир! Шекспир! Гений! гений! и считаете святотатством, если из него слово выкинешь; а его надо непременно сокращать, я это всегда говорил…
Аксаков вышел из терпения, схватил Загоскина за отвороты фрака и начал трясти его…
— Какой Шекспир! Ну какой Шекспир!.. Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нет возможности смотреть… Понимаешь?..
— А-а! — протянул Загоскин: — ну, да я предчувствовал, что он играть не может.
— Зачем же ты заставил его играть? Ведь на него жалко и стыдно смотреть. Это не Гамлет, а пародия на Гамлета!..
Загоскин вспыхнул.
— Да ведь ты же приставал ко мне: "скоро ли покажешь ты нам Мочалова? да когда ж велишь дать Гамлета?.." Ну, вот я и велел дать, а ты на меня же накидываешься.
После сцены с матерью в третьем акте Сергей Тимофеич не выдержал — махнул рукой и уехал…
Я тоже едва усидел до конца: ни одного вдохновенного проблеска, ни одного слова, вырвавшегося из сердца; неуместные вскрикивания, неловкость движений, нестерпимая бестактность в игре… "Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?.." Я вышел из театра усталый, с неприятным, тяжелым впечатлением.
Через неделю после этого давали "Отелло".
В «Отелло» Мочалов был так же плох, как и в «Гамлете», только в сцене второго акта, когда Десдемона встречает его на острове Кипре, Мочалов обнаружил такую искреннюю нежность, такую бесконечность любви к своей супруге, что по этой сцене можно было догадываться, каким бывает он в лучшие, вдохновенные свои минуты на сцене. Голос его поразил меня своею симпатическою мягкостью, выражение лица — глубоким и истинным чувством.
Но мне так и не удалось видеть Мочалова в настоящем его свете.
— У меня завтра вечером, — сказал мне Сергей Тимофеич, — Загоскин читает свой новый роман "Тоску по родине". Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей…
Чтение началось со 2-й части, содержание первой автор рассказал нам.
Я сидел возле С. Т. Аксакова.
Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту… Вдруг этот приятно усыпляющий слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь… Я невольно встрепенулся… Место действия романа в Испании, — как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:
— Как хорошо это!
Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:
— Что это вы? — шепнул он мне: — ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..
После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:
— Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?
Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:
— А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..
И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина… …Дни летели для меня в Москве весело, разнообразно и с быстротою неимоверною.
Мысль о том, что я должен месяца через два оставить Москву (мне необходимо было ехать по делам в Казанскую губернию), приводила меня в беспокойство.
— Если бы можно, я никогда не расстался бы с Москвою! — говорил я Константину Аксакову…
— Да переезжайте совсем к нам, — возражал Аксаков: — у вас нет ничего общего с Петербургом.
Мы говорили вполголоса. В нескольких шагах от нас у окна (это происходило в гостиной Аксаковых) стоял Сергей Тимофеич с М. П. Погодиным, с которым я еще не был знаком.
— Вот, Михаиле Петрович, — сказал Константин Аксаков, подводя меня к нему, — петербургский литератор, который в восторге от нашей Москвы.
Аксаков взглянул на меня с любовию и представил меня Погодину.
Погодин протянул мне руку.
— Очень рад с вами познакомиться… А "Отечественные записки", — сказал он через минуту, обращаясь ко мне, — прекрасный журнал, судя по вышедшим номерам. Молодец Краевский!.. Нам бы соединиться вместе. Я охотно отдал бы ему мой «Москвитянин». Право.
Напишите-ко ему об этом… Мы не расходимся, кажется, во взглядах.
Первые номера "Отечественных Записок" вообще одобряли все известные московские литераторы. У постели тогда больного Н. А. Мельгунова довольно часто собирались по вечерам: Шевырев, Хомяков, Павлов (Н. Ф.), Конст. Аксаков и другие… Шевырев и Хомяков также очень хвалили журнал г. Краевского. Здесь я услышал в первый раз из уст самого автора стихотворение:
Гордись, — тебе льстецы сказали… и т. д., которое производило в Москве фурор еще до появления в печати.
Кстати об этом стихотворении. Оно в июне 1839 г. было послано Н. Ф. Павловым к Краевскому для напечатания в "Отечественных записках"…
Осенью, по возвращении моем из Казани в Москву, я получил письмо Краевского (от 10 октября), в котором он между прочим писал мне: …"Какова оказия! Пожалуйста, сообщите все следующее аккуратно Николаю Филипповичу (Павлову)… Начинаю ab ovo. Он летом прислал мне стихотворение Хомякова "Гордись, тебе льстецы сказали". Я, как расчетливый человек, отложил напечатание его до осени. Настал сентябрь; я представляю это стихотворение в ценсуру. Ценсор и ценсурный комитет вычеркивают стих: "Скажи им таинство свободы". Заменить этого стиха я ничем не осмелился и потому написал к Николаю Филипповичу, чтоб спросил на сей казус решение самого Хомякова. Пока я жду, вдруг, ровно неделя тому назад, является в 230 No "Санктпетербургских ведомостей" (академических) это же стихотворение Хомякова под названием «Отчизна», без подписи имени автора и со стихом, у меня вычеркнутым, но только без тех шести стихов, которыми Хомяков заменил находящиеся в средине два стиха:
А твой завет, твое призванье, Твой богом избранный удел…и которые в доставленной мне рукописи написаны рукою Николая Филипповича. Это изумило меня! Я тотчас же пишу письмо к князю Дондукову (тогдашний попечитель санктпетербургского округа и председатель ценсурного комитета) и прошу позволения напечатать стихи Хомякова в том виде, как они ко мне присланы и с примечанием; он позволил (они помещены в 10 книжке); но на другой же день в 231 No "Санктпетербургских ведомостей" помещена поправка, в которой сказано, что «Отчизна» написана Хомяковым…
"Инвалид" и даже "Губернские санктпетербургские ведомости" перепечатали это стихотворение прежде "Отечественных записок". Что все это значит? Не растолкует ли Николай Филиппович?
Если же подобная штука сделана без воли Хомякова, то надобно, чтобы он написал сам к Дондукову письмо, в котором жаловался на подобное своеволие; иначе ни одна статья наша не будет безопасна от такого грабительства. Я этого дела здесь разыскать не могу, ибо не имею сношений ни с Очкиными, ни с какою этою…." Я передал все это Павлову; но каким образом разъяснилась эта штука, по выражению Краевского, я не помню.
Однажды ночью мы возвращались от Мельгунова пешком домой по бульварам:
Павлов, Хомяков и еще не помню кто-то… Разговор между Павловым и Хомяковым был необыкновенно одушевлен. Предметом его был некто Милькеев, издавший незадолго перед тем, под протекциею Павлова и Хомякова, небольшое собрание своих стихотворений, которые теперь никому не известны, кроме записных библиографов. Павлов и Хомяков были тогда в восторге от громких стихов Милькеева и считали его одною из самых блестящих надежд русской литературы. Каролина Карловна Павлова, уже известная тогда своим поэтическим даром и альбомом, в котором ей написал что-то сам Гете, — удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, кажется, было в это время двадцать два или двадцать три года. Это был талант-самородок, как выражались тогда; он не имел почти никакого образования и вовсе не знал иностранных языков. Николай Филиппович Павлов, как человек светский, доказывал, что Милькеева необходимо заставить учиться по-французски, что французский язык доставит ему возможность сблизиться с порядочным обществом, которое будет способствовать к его развитию… Хомяков горячо возражал против этого, говоря, что ни французский язык, ни общество не могут принести ему ровно никакой пользы, напротив — вред; что его надо принудить заняться серьезно немецким языком, что знакомство с немецкой литературой и философией расширит его миросозерцание. Спор был горячий; спорящие не хотели уступать друг другу и расстались, не решив участь гения-самородка… Через полгода после этого к Милькееву совершенно охладели, и он вскоре умер… если я не ошибаюсь, в крайней бедности.
Когда я рассказывал об этом споре за Милькеева Белинскому, Белинский грустно улыбнулся.
— Вот чудаки-то! — воскликнул он, — вместо того чтобы спорить об нем и издавать его стихотворения, не имеющие ничего, кроме реторических фраз, лучше бы просто помогли бедняку. Они ему сделали большой вред… Он по их милости возмечтал о себе бог знает что!
Да если бы он имел и действительный поэтический талант, так и тогда бы он умер с голоду, потому что за стихи не платят. Павлов хочет сделать его светским человеком, Хомяков мыслителем, — а ему прежде всего нужен кусок насущного хлеба и средства, чтобы добыть его. ….
После поездки моей с Загоскиным на Воробьевы горы я написал восторженную, то есть исполненную реторики, статейку о Москве, с восклицательными и вопросительными знаками, бесчисленными точками и со всевозможными эпиграфами о Москве из Дмитриева, Грибоедова, Пушкина и других. Она была напечатана в "Литературных прибавлениях к Инвалиду" г. Краевского. Статейка эта, впрочем, была искрения, несмотря на реторические фразы, и ею я приобрел себе еще большее расположение семейства Аксаковых.
Константин Аксаков был очень доволен ею, обнимал меня и крепко жал мне руки.
Вечером в тот день, когда он прочел ее, мы отправились с ним бродить по Москве и, утомленные, расположились, наконец, отдохнуть на береговом скате Москвы-реки, в виду Драгомиловского моста.
Мы лежали на траве без сюртуков. Дневной жар начинал спадать понемногу. Легкий вечерний ветерок приятно освежал нас… Закат был великолепный.
— Есть ли на свете другой город, — говорил мне Константин Аксаков, — в котором бы можно было расположиться так просто и свободно, как мы теперь?.. Далеко ли мы от центра города, а между тем мы здесь как будто в деревне. Посмотрите, как красиво разбросаны эти домики в зелени на горе… В Москве вы найдете множество таких уединенных и живописных уголков, даже в нескольких шагах от центра города… Вот ведь чем хороша Москва! Я не понимаю, как можно жить в вашем холодном гранитном Петербурге, вытянутом в струнку?..
Нет, оставайтесь у нас; у вас русское сердце, а русское сердце легко может биться только здесь, среди этого простора, среди этих исторических памятников на каждом шагу… Как не любить Москву!.. Сколько жертв принесла она для России!..
Аксаков постепенно одушевлялся и, заговоря об этих жертвах, вскочил с земли; глазки его сверкали, рука сжималась в кулак, голос его делался все звучнее…
— Пора нам сознать нашу национальность, а сознать ее можно только здесь; пора сблизиться нам с нашим народом, а для этого надо сначала сбросить с себя эти глупые кургузые немецкие платья, которые разделяют нас с народом (и при этом Аксаков наклонился к земле, поднял свой сюртук и презрительно отбросил его от себя). Петр, отрывая нас от нашей национальности, заставлял брить бороды, мы должны теперь отпустить их, возвращаясь к ней… Так-то, Иван Иваныч! — сказал Аксаков в заключение, кладя свою широкую ладонь на плечо мое, когда я приподнялся с травы: — бросьте Петербург, переселитесь к нам… Мы славно заживем здесь. Не шутя, подумайте об этом.
Он натянул на себя узкий немецкий сюртук, который как-то неловко сидел на его коренастой фигуре, и мы отправились домой, когда уже солнце совсем село… …Лет через пять после этого Константин Аксаков наделал в Москве большого шуму, появись в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке.
На одном бале (это было в сороковых годах) он подошел, говорят, к известной тогда в Москве по своей красоте К.
— Сбросьте это немецкое платье, — сказал он ей: — что вам за охота носить его? Подайте пример всем нашим дамам, наденьте наш сарафан. Как он пойдет к вашему прекрасному лицу!..
В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан.
Князь Щербатов улыбнулся…
— Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны? — возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова.
— Да! — сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак, — и почему же не так?.. Скоро наступит время, когда все мы наденем кафтаны!
Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться.
— Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым? — спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены.
— Право, я не знаю хорошенько, — отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь, — кажется, Константин Сергеич уговаривал военного губернатора надеть сарафан… что-то вроде этого…
ГЛАВА II
Кетчер. — Несколько слов о кружке, к которому принадлежал он. — М. С. Щепкин и его семейство. — Поездка в Химки к нему на дачу. — Гоголь у Аксаковых. — Чтение I главы "Мертвых душ". — Представление «Ревизора» в присутствии автора. — Н. Ф. и К. К. Павловы. — Кетчер и Павловы.
Кружок Белинского был в очень коротких и близких сношениях с М. С. Щепкиным и его семейством. Я был знаком с Михайлом Семенычем еще до приезда моего в Москву и тотчас по приезде познакомился с его семейством.
У Щепкина часто сходились Катков, Белинский, братья Бакунины и Кетчер, переводчик Шекспира. Кетчер был домашним человеком в доме Щепкина. Он, впрочем, имел свойство делаться домашним человеком всюду, куда ни появлялся. С бесцеремонным участием он входил тотчас же во все семейные дела… Кетчер пользовался между всеми своими близкими и в кружке Белинского репутациею необыкновенно прямого, честного человека, готового хоть на плаху за друзей своих.
Наружность Кетчера не имела большой привлекательности; но простота его манер, доходящая до грубости, бесцеремонность обращения со всеми, впадающая в некоторый цинизм, резкая, непрошенная правда, которую он бросает в лицо и другу и недругу, крикливый голос, заглушающий все голоса, руки, вечно движущиеся и рассекающие воздух, как крылья ветряной мельницы, добродушный, но оглушающий хохот на каждом шагу, вырывающийся из огромного рта, — все это вместе, может быть, неприятно действует на людей нервических, но как-то располагает к нему невольно и внушает доверенность.
Приятели Кетчера, подшучивая над ним, уверяли, что он только в месяц раз умывается и не имеет в заводе ни гребня, ни щетки, потому что никогда не чешет головы. Впрочем, гребень и не нужен ему, потому что волосы его, всегда подстриженные коротко, образуют на его голове щетинистую шапку.
Кетчер был приятелем Белинского и его друзей, но он, собственно, не принадлежал к их кружку…
За несколько лет до этого он сошелся с Искандером, когда еще тот был студентом Московского университета, и с его друзьями и товарищами по университету Огаревым и Сатиным. …У них образовался свой кружок, главою которого сделался Искандер. С блестящими способностями, с пытливым умом, жаждавшим знания и не останавливавшимся ни перед какими преградами преданий, взращенный на французской литературе XVIII века, пылкий и остроумный, Искандер скоро обратил на себя внимание всей мыслящей Москвы… Среди юношеского разгула за бутылками шампанского, разливаемого Кетчером с криками и хохотом (Искандер и Огарев не имели недостатка в средствах), приятели горячо рассуждали о разных общественных, исторических и политических вопросах. Они принадлежали в то время к числу немногих у нас, постоянно следивших за политическим движением…
Искандер познакомился с Белинским, статьи которого начинали уже обращать на себя внимание; но они не могли сойтись в то время, как сошлись впоследствии.
Белинский и его кружок, занятый исключительно философскими отвлеченностями и категориями, весь погруженный в Гегеля, чуждый политических современных вопросов и движения, даже не замечавший их на высотах своего миросозерцания, не очень благосклонно поглядывал на кружок, образовавшийся под влиянием Искандера, который не увлекался немецкой философией и имел направление более практическое. Искандер и Белинский поговорили друг с другом и разошлись, конечно, с полным уважением друг к другу, но с убеждением, что им вместе делать нечего.
Белинский сожалел Искандера, Искандер еще более скорбел о Белинском… Вскоре, впрочем, судьба разбросала Искандера и его друзей по разным углам России. Кетчер один остался в Москве. ….
Белинский любил Кетчера, но замечал иногда, что он "тяжело действует на его нервы". Он называл его несносным крикуном — в глаза. "Все они прекрасные люди, — говорил Белинский о кружке Искандера, — но их привычки и вино, которое льется на их сходках, — все это не по моей натуре. Из них только один Искандер — человек необыкновенно замечательный, блестящий и остроумный". …Каким образом и где я познакомился с Кетчером, я хорошенько не помню. Мне теперь кажется, что знаком с ним с самого рождения. Знаю только то, что через пять минут после нашего знакомства мы были уже на ты, и Кетчер обращался в первый день знакомства со мною так же бесцеремонно, как с теми, с которыми он был дружен несколько лет… Я как теперь вижу его перед собою, с бутылкою шампанского в руке, наливающего мне стакан с диким хохотом и кричащего: "Ну, пей же, братец, пей!" В июне месяце Щепкин с семейством переехал на дачу близ Химок (первая станция от Москвы), и мы отправились к нему с Белинским и Кетчером. Кетчер явился ко мне в черном плаще без воротника, подбитом красным стаметом, как дьявол в «Роберте», и с корзинкою, из которой торчала солома.
— Что за корзинка? — спросил я его. Кетчер захохотал во все горло.
— Ах ты, шут эдакой! — закричал он: — кто ж об этом спрашивает? Натурально, это дорожный запас. У нас, брат, без этого никуда не ездят; тут две бутылки моих и две твоих, — понимаешь теперь?..
Всю дорогу Кетчер кричал без умолку, доказывая преимущества Москвы перед Петербургом во всех отношениях, и между прочим немилосердно ругал петербургских журналистов…
День был душный. Страшно парило. Пот лил с нас градом; я и Белинский задыхались от шоссейной пыли и не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Но на Кетчера ничто не действовало… Он все кричал, хохотал и размахивал руками… Когда мы подъезжали к дому, где жили Щепкины и которого не видно с большой дороги, Кетчер пребольно ударил меня по плечу.
— Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи — ведь это скверные карточные домики на тине и болоте, — а это, смотри — какая роскошь!..
Перед нами на холму был старый деревянный довольно большой помещичий дом, с прудом напереди и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глава церкви.
Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листами, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал глохнуть… Место, действительно, было прекрасное. За садом гладкое необозримое поле, засеянное хлебом…
Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахнуло свежестию и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями. Кетчер при этом встал в коляске, замахал руками и начал издавать какието крикливые звуки с хохотом…
Все это я помню живо, с мельчайшими подробностями, хоть 22 года прошло с тех пор!..
Михаиле Семеныч встретил нас с распростертыми объятиями, и мы с каким-то наслаждением прикладывались к его мягким и полным щекам, дрожавшим при малейшем движении…
Щепкину было тогда лет за пятьдесят, и несмотря на свою тучность, он был еще очень бодр и жив.
Многочисленное семейство его едва помещалось в этом помещичьем деревенском доме. Кроме четырех его сыновей, из которых старший, Дмитрий, был уже на службе, а двое (Николай и Петр) студентами университета, — у него жили два молодых человека Барсовы, сироты, дети его сценического приятеля, и две пожилые девицы — сестры его, так же маленькие и толстенькие, как он, с мужскими манерами, не выпускавшие изо рту чубуков и немилосердно истреблявшие жуков табак… Старшая дочь Щепкина, болезненная и слабая, почти не выходила из своей комнаты; вторая, имевшая южный тип своей матери (женщины очень кроткой и симпатичной), уже дебютировала с успехом на московской и на разных провинциальных сценах… Она незадолго перед этим ездила с отцом в Казань, где произвела большой эффект… У нее в это время было множество поклонников и, между прочим, один из самых юных приятелей Белинского, принадлежавший к его кружку. Незадолго до этого, кажется, и сам Белинский был не совсем равнодушен к ней. Меньшая дочь Щепкина была еще ребенком.
В комнатах был порядочный хаос, точно как будто семейство перебралось сюда накануне. В большой комнате в середине дома, из которой был выход через балкон в сад, был накрыт длинный стол… В этой же комнате лежал на полу огромный пуховик, на котором сидела одна из сестер Щепкина с длинным чубуком во рту.
Кетчер прежде всего позаботился, чтобы шампанское поставили на лед. Он расхаживал по всем комнатам, хохотал, кричал и отпускал дамам дешевые остроты, которыми сам был всех довольнее.
Между посторонними мы нашли здесь М. Н. Каткова, который был отчего-то в трагическом настроении: складывал руки по-наполеоновски, потуплял задумчиво голову и потом рассеянно поднимал ее, щуря свои маленькие глазки, ходил в отдалении от других, нахмуря брови, и бесился на Кетчера, который беспрестанно приставал к нему с шуточками, сопровождавшимися хохотом.
До обеда хозяин дома, его сыновья и Катков отправились купаться на пруд. Мы смотрели на них с берега. Щепкин-отец, великий мастер плавать, представлял нам разные фокусы на воде и между прочими остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой.
За обедом Щепкин, с свойственным ему мастерством, рассказывал нам разные анекдоты и случаи из своей жизни, между прочим и Сороку-Воровку, которую впоследствии, со слов его, так хорошо изложил Искандер. Кетчер разливал шампанское и кричал: "да ну, пейте же, пейте!", сам подавая пример всем. Он ходил кругом стола с бутылкою, как-то страшно размахивал ею, строго следя за непьющими, и останавливался перед недопитым бокалом с криками: "Это что такое? сейчас допивать! Дрянь вы! Сколько вас тут, а четырех бутылок не могут допить!" Всякий раз, когда Кетчер проходил мимо Белинского, тот хмурил брови и беспокойно взглядывал на него, но Кетчер, смотря на него с сожалением и качая головою, говорил:
— Не бойся, не бойся, не налью… Уж я тебя не трогаю, чорт с тобой!
Белинский однажды (это он сам мне рассказывал, говоря о Кетчере) серьезно поссорился с Кетчером, принуждавшим его пить, и взял с него слово, чтобы он никогда не приставал к нему с вином. С тех пор Кетчер постоянно обходил его с бутылкой, отпуская, впрочем, каждый раз на счет его какие-нибудь остроты…
В это время Щепкин был в полном расцвете своего таланта. Он производил тогда фурор в роле «городничего»… Влияние его на молодых людей, вступавших на сцену, было велико и благодетельно: он внушал им серьезную любовь к искусству и своими советами и замечаниями о игре их много способствовал их развитию, Щепкина ценили и любили все литераторы, и все были близки с ним. Шевырев отзывался об нем и его таланте с таким же энтузиазмом, как и Белинский… Блестящие рассказы Щепкина, исполненные малороссийского юмора, его наружное добродушие, вкрадчивость и мягкость в обращении со всеми, его пламенная любовь к искусству, о которой он твердил всем беспрестанно; толки о его семейных добродетелях, о том, что он, несмотря на свои незначительные средства и огромное семейство, содержит еще на свой счет сирот — детей своего товарища, и т. д., - все это, независимо от его таланта, делало для тогдашней молодежи Щепкина лицом в высшей степени интересным и симпатичным… Темные слухи, робко выходившие откуда-то, о том, что Щепкин будто бы интриган и человек, умеющий ловко и льстиво подделываться к начальству и к сильным мира сего, были с негодованием заглушаемы… Для меня Щепкин казался идеалом артиста и человека. Я даже чувствовал к нему вроде сыновней нежности.
После «Ревизора» любовь Щепкина к Гоголю превратилась в благоговейное чувство. Когда он говорил об нем или читал отрывки из его писем к нему, лицо его сияло и на глазах показывались слезы — предвестники тех старческих слез от расслабления глазных нерв, которые льются у него теперь так обильно, кстати и некстати. Он передавал каждое самое простое и незамечательное слово Гоголя с несказанным умилением и, улыбаясь сквозь слезы, восклицал: "Каков! каков!" И в эти минуты голос и щеки его дрожали…
После обеда, когда мы с старшим сыном Щепкина, погуляв по саду, возвратились в дом, я заметил во всех какое-то беспокойство… Катков был бледен, как смерть, и дышал неровно; около него ухаживал Кетчер с участием и с хохотом; Белинский, также несколько изменившийся в лице, тревожно прохаживался по комнате.
Мне стало неловко. Я понял, что тут происходит какая-то маленькая драма. Белинский вышел со мною в другую комнату…
— Пройдемтесь по саду, — сказал он мне. Мы пошли в сад. Белинский молчал.
— Что такое с Катковым? — спросил я.
— С ним было дурно, — отвечал Белинский: — к тому же он еще совершенный ребенок и любит мелодраматические сцены…
Белинский остановился на этом. Я, разумеется, не расспрашивал его более и заговорил о другом…
Перед отъездом нашим Михайло Семеныч объявил мне, что он на-днях будет обедать у Сергея Тимофеича с Гоголем (который только что приехал в Москву), и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожавшим голосом:
— Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое!.
Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу "Мертвых душ".
Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня…
В исходе четвертого прибыл Гоголь… Он встретился со мною, как с старым знакомым, и сказал, пожав мне руку:
— А, и вы здесь… Каким образом?
Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе. Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал "Семейство Багровых".
День этот был праздником для Константина Аксакова… С какою любовию он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя! Как он переглядывался с Щепкиным! Как крепко жал мне руки, повторяя:
— Вот он, наш Гоголь! Вот он!
Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это, как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека…
Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках с ребяческой, наивной искренностию, доходившей до комизма. Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром.
После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза — в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим… В комнате мгновенно все смолкло… Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шопотом и махая руками:
— Тсс! тсс! Николай Васильич засыпает!..
Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался… Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?.. У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события…
Наконец Гоголь зевнул громко.
Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.
— Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас…
Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шопотом спрашивали — будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего неизвестно.
Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.
— А вы, кажется, Николай Васильич, дали нам обещание?.. вы не забыли его? — спросил он осторожно…
Гоголя подернуло несколько.
— Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого…
При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеич не потерял духа и с большою тонкостию и ловкостию стал упрашивать его… Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал:
— Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам… Не знаю только, что прочесть?..
— И приподнялся с дивана.
У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шопот: "Гоголь будет читать!" Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствия мало знакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его.
Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного… и вдруг икнул раз, другой, третий…
Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом недоумении.
— Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились… Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок…
Гоголь продолжал:
— Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто чорт знает, чего не ешь…
И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою…
"Прочитать еще "Северную пчелу", что там такое?.." — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.
Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел… Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: "Каково? каково читает?" Щепкин заморгал глазами, полными слез.
Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора.
— Теперь я вам прочту, — сказал он, — первую главу моих "Мертвых душ", хоть она еще не обделана…
Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о "Мертвых душах". Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всех читал начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведение гениальное… Любопытство к "Мертвым душам" возбуждено было не только в литературе, но и в обществе.
Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками…
Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшею простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, — он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении… В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большею простотою, чем Писемский…
Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне…
На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были и потрясены и удивлены. Гоголь открывал для своих слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностию, с такою изумительною верностию и с такою художественною силою…
И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия.
После чтения Сергей Тимофеич Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас… "Гениально, гениально!" — повторял он.
Глазки Константина Аксакова сверкали, он ударял кулаком о стол и говорил:
— Гомерическая сила! гомерическая!
Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях.
Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех…
На другой день я с Константином Аксаковым отправился к Белинскому…
Аксаков передал ему о вчерашнем чтении с энтузиазмом, он говорил, что после первой главы "Мертвых душ" нельзя уже сомневаться в том, что Гоголь гений и что он подарит русскую литературу колоссальным произведением, в котором отразится вся Русь.
Белинский слушал Аксакова с жадностию и смотрел на нас с завистию.
— Чорт вас возьми, счастливцы! — сказал он: — я не знаю, чего бы я не дал, чтобы выслушать теперь эту главу…
Белинский в это время еще не был лично знаком с Гоголем. (Он познакомился с ним впоследствии в Петербурге у Прокоповича.) После выхода «Миргорода» Белинский поражен был художественной силой Гоголя, особенно выразившейся в "Старосветских помещиках" и "Невском проспекте". От «Ревизора» он был вне себя.
Значение этой комедии он понял один из первых. Пушкин восхищался только удивительным комизмом автора…
Замечательно, что когда впоследствии Белинский начал разъяснять великое общественное значение произведений Гоголя, Гоголь пришел в ужас от этих разъяснений и объявил, что вовсе не имел в виду того, что приписывают ему некоторые критики.
Гоголь, друг Жуковского и других литературных авторитетов, смотревших на Белинского очень неблагосклонно, между прочим боялся, кажется, что энтузиазм к нему молодого, не признаваемого ими критика может несколько скомпрометировать его в глазах их…
Сергей Тимофеич Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене по случаю приезда Гоголя в Москву…
Спектакль этот дан был сюрпризом для автора: Щепкин и все актеры наперерыв друг перед другом старались отличиться перед ним. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом, был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа.
Белинский, Боткин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали, где он? Но его не было видно.
Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов в углу бенуара г-жи Чертковой.
По окончании третьего акта раздались громкие крики: "Автора! автора!" Громче всех кричал и хлопал К. Аксаков. Он решительно выходил из себя…
— Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. — восклицал Николай Филиппыч Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо…
— Оставьте меня в покое, — отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.
— За что же сердиться? Я желаю вам добра… Вот, — продолжал он, обращаясь ко мне, — Константин Сергеич на меня сердится за то, что я уговариваю его умерить свой. энтузиазм, который может повредить его здоровью… В самом деле, ведь это вредно для здоровья так выходить из себя? Правда? а?..
Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным.
Занавес поднялся.
Актер вышел и объявил, что "автора нет в театре".
Гоголь, действительно, уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора.
На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.
— Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает, — говорил ему Николай Филиппович: — вы его избаловали… Не правда ли? а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?
— Да, это он сделал напрасно, — заметил К. Аксаков с огорчением…
Николай Филиппыч Павлов сидел в первом ряду, в желтых перчатках, в лакированных сапогах, от время до время вынимал из кармана золотую табакерку и с какою-то особенною грациею понюхивал табак. В антрактах он прогуливался по театральной зале, заговаривая со всеми знаменитостями. Если бы я не имел удовольствия лично знать автора "Трех повестей", я принял бы его, наверно, за какого-нибудь знатного московского барина по его наружной изящности и особенным манерам.
Белинский, робкий, неловкий, не имевший никаких манер, — в поношенном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, — был просто жалок, когда он стоял рядом с Павловым, благосклонно с ним разговаривавшим и подносившим ему свою золотую табакерку (Белинский нюхал табак).
Время, о котором я говорю, было самым цветущим временем Н. Ф. Павлова, незадолго перед этим вступившего в брачный союз с известною московскою поэтессою, девицею Яниш, которая, кроме своего таланта, владела еще тысячью душами крестьян и домом на Сретенском бульваре, с парадной лестницей и швейцаром…
Павлов победил ее своими "Тремя повестями", которые произвели фурор при своем появлении, — и она отдала свое поэтическое сердце и свою руку счастливому повествователю.
Когда Николай Филиппович представил меня своей супруге, я ощутил невольно некоторую робость…
Передо мною была высокая, худощавая дама, вида строгого и величественного, как леди Локлевен Вальтер-Скотта. В ее позе, в ее взгляде было что-то эффектное, реторическое.
Она остановилась между двумя мраморными колоннами, с чувством достоинства слегка наклонила голову на мой поклон и потом протянула мне свою руку с величием театральной царицы… Мне казалось, что мне следовало в эту минуту стать на колени, чтобы приложиться к ней, — однако я просто пожал ее.
Через пять минут я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием Алекс. Гумбольдта и Гете и что последний написал ей несколько строк в альбом… Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками… Через четверть часа Каролина Карловна продекламировала мне несколько стихотворений, переведенных ею с немецкого и английского…
Когда я короче познакомился с Каролиной Карловной, я заметил, что манеры ее, несмотря на их театральное величие, отзывались иногда не совсем приятною грубоватостию.
Однажды Н. Ф. Павлов, в гостиной дома Аксаковых, стоял перед зеркалом и натягивал желтые перчатки. Он хотел отправиться куда-то. Супруги его не было… Она приехала после и вошла в гостиную в ту минуту, когда он охорашивался у зеркала… Она значительно мигнула г-же Аксаковой, приставила палец ко рту и, на цыпочках пробравшись к супругу, изо всей силы ударила его в спину.
Николай Филиппович вскрикнул во все горло, покорчиваясь обернулся назад, взглянул на свою супругу и сказал:
— А я думал, что это меня какой-нибудь солдат ударил в спину…
Каролина Карловна приезжала в Москву изредка. Она жила на даче по Владимирской дороге, и К. Аксаков раза два возил меня к ней… Я помню, что в один из этих приездов мы сидели втроем на балконе дачи и забавлялись шуточными переводами некоторых стихотворений Виктора Гюго, между прочим:
Ce siecle avait deux ans, Rome remplacait Sparte… и т. д.
Я помню два первые стиха нашего подстрочного перевода:
Сей век о двух годах. Рим Спарту заменил, Под Бонапартом уж Наполеон сквозил…
Каролина Карловна находила эти стихи очень забавными и торжественно декламировала их, распростирая в воздухе правую руку.
Несколько лет после этого, в один из приездов моих в Москву, она жила на той самой даче в Соколове по петербургской дороге, которую занимал впоследствии Искандер. В день ее рождения (кажется, в июле) я вместе с Сатиным приглашен был к ней обедать. Мы приехали к четырем часам.
У подъезда и на крыльце нас встретили лакеи в летних платьях с гербовыми пуговицами… Чей герб был на этих пуговицах: Николая Филипповича или Каролины Карловны, или два их соединенные герба, — я не знаю.
Николай Филиппович повел нас в небольшую комнату, где находилось уже несколько гостей. На столе перед диваном стояла большая открытая шкатулка, обитая внутри малиновым бархатом. Это был дамский дорожный несесер с вызолоченными вещицами, поднесенный Николаем Филипповичем супруге и поставленный здесь, вероятно, на удивление гостей.
Хозяин дома, до появления хозяйки, занимал нас рассказами… Николай Филиппович Павлов есть живое доказательство понятливости, ловкости и сметливости русского человека.
Его назначали в актеры, и он получил первое образование в театральной московской школе.
Можно представить себе, что это было за образование; притом сценического таланта у него не оказалось ни малейшего; но его бойкий ум, переимчивость, смелость, его замечательные способности обратили на него особенное внимание Кокошкина. Павлов выучился довольно порядочно по-французски и даже начал говорить очень недурно на этом языке… Он, кажется, занимался также и английским языком, доказательством чего служит его перевод "Венецианского купца" Шекспира. В доме Кокошкина, куда съезжалась вся аристократическая Москва, он приобрел знакомства, получил внешнюю полировку, превратился, наконец, в совершенного московского джентльмена — и оставил сцену.
Кокошкин определил его на службу…
Павлов вышел в отставку и обратился к литературе… Имя его приобрело громкую известность "Тремя повестями". Либеральное направление этих повестей обратило на автора внимание правительства. Говорят, будто даже сам император удостоил их прочтения и, строго осудив их неблагонамеренное направление, заметил, чтобы посоветовать талантливому автору избегать впредь такого рода сюжетов, что он может заняться, например, описанием кавказской природы или чем-нибудь подобным… Этим повестям Павлов обязан, как я уже заметил, и браком своим с девицею Яниш…
У Павлова была всегда страсть к картам, которая развилась в нем сильнее при расширении его средств: говорят, что он проигрывал и выигрывал в вечер по 10 и 15 тысяч и расстроил состояние жены своей, от которой имел полную доверенность на управление ее имением. Отсюда начались между супругами весьма неприятные домашние сцены, окончившиеся, как известно, разрывом и большою неприятностью для Павлова. Это подало повод Соболевскому, отъявленному врагу его, написать следующие куплеты:
Ах, куда ни взглянешь, Все любви — могила!.. Мужа мамзель Яниш В яму посадила. Молит эта дама, Молит все о муже: — Будь ему та яма Уже, хуже, туже… и т. д.Говорят, что известное четверостишие Соболевского:
Не в ту силу, что ты жалок, Не даю тебе я палок, Но в ту силу, что мне жалки Щегольские мои палки— было написано им также на Павлова. Откуда истекала ненависть Соболевского к Павлову, я не знаю; но известно, что Соболевский всегда носил с собою афишку, в которой был возвещаем бенефис каких-то трех посредственных актеров и в том числе Павлова. "Это я так берегу, на всякий случай, — говорил Соболевский, — если Павлов забывается, я обыкновенно вынимаю на этот случай эту бумажку и издалека молча показываю ее ему". Павлов, сделавшийся литератором и светским человеком, страшно боялся, чтобы ему напоминали о его прежнем поприще…
Впрочем, Павлов пользовался вообще репутацией очень либерального и неподкупного человека, — по крайней мере, в кругу известных московских литераторов. Он был очень хорош с Аксаковым, Хомяковым и Шевыревым, хотя имел совершенно западное воззрение и не разделял нисколько их славянофилизма.
В то время (это было в конце 40-х годов), когда мы с Сатиным приглашены были в Соколово праздновать рождение Каролины Карловны, семейные отношения супругов уже начинали колебаться. Г-жа Павлова взяла слово с своего мужа не брать в руки карт. Он держал это слово: сам точно не брал их в руки, но просил играть за себя других… Супруга не подозревала этой хитрости, и колебавшееся домашнее спокойствие кое-как еще поддерживалось… Я сказал, что мы приехали в Соколово в четыре часа и что хозяин дома занимал нас более часа своими рассказами в ожидании супруги. Аппетит уже начал беспокоить нас, но в четверть шестого растворились двери — и Каролина Карловна, накрахмаленная и нарядная, появилась с большою торжественностию.
Она удостоила обратить на меня особенное внимание и предложила мне руку, чтобы пройтиться по саду.
Николай Филиппович с остальными гостями последовали за нами. Едва сделали мы несколько шагов, как Каролина Карловна объявила мне, что она пишет большую поэму под названием «Кадриль», и начала мне декламировать из нее отрывки наизусть с пафосом и с драматическими жестами. Мы обошли все аллеи довольно большого сада, а декламации не предвиделось и конца.
Николай Филиппович решился воскликнуть:
— Что же, Каролина Карловна, мы будем сегодня обедать? Уж шесть часов.
— Ну, прикажите подавать, — отвечала она и продолжала декламацию.
Наконец мы подошли к столу. В эту минуту в столовой появились маменька и папенька Каролины Карловны, старичок и старушка очень приятной наружности. Они очень скромно уселись за стол, с подобострастною любовию и уважением посматривая иногда на свою талантливую дочь, перед авторитетом которой они преклонялись безусловно. Отец Каролины Карловны имел слабость к живописи и малевал какие-то картины; мать вязала чулки и исполняла обязанность ключницы…
Дочь царила в доме и хлопотала только о том, чтобы придать ему аристократическую наружность и некоторого рода живописность. Она, говорят, даже осматривала туалет маменьки и папеньки перед их выходом к гостям…
Маменька была одета с немецкою аккуратностию и щепетильностью, в отлично сплоенном чепчике и в искусно гофрированном воротничке около шеи. Папенька в летнем пальто цвета небеленого батиста. Длинные серебряные его волосы с тщательным пробором на середине головы спускались до плеч. Эти две фигуры были точно сняты с какой-нибудь фламандской картины.
За обедом более всех говорила, конечно, сама хозяйка дома. Предметом ее разговора была литература и описание гениальных способностей ее сына…
Каролина Карловна выражала большое неудовольствие на Белинского, который неуважительно отзывался о поэтическом таланте Хомякова в "Отечественных записках", замечала, что каждый стих Хомякова звенит, как золото, и в доказательство продекламировала несколько стихотворений его. Затем она перешла к своему собственному таланту… В ту пору только что появились в "Отечественных записках" стихотворные пародии, и г-жа Павлова объявила, что недавно, гуляя по саду, она также вздумала импровизировать пародию — и надеется, что эта шутка не хуже петербургских пародий.
— Я вам прочту ее, — сказала она.
Она положила салфетку на стол и, приняв торжественный вид, начала декламировать…
Николая Филипповича подергивало… Г-н и г-жа Яниш с благоговейным восторгом следили за дочерью.
Николай Филиппович, впрочем, сам в это время был еще в восторге от стихов своей супруги и нередко при ней читал нам наизусть ее стихи, причем она обыкновенно величественно улыбалась и значительно поглядывала на нас…
Кетчер был довольно близок с Павловым, но не любил бывать в его доме, потому что не чувствовал расположения к его супруге. Г-жа Павлова не могла также питать к нему особенной симпатии. Своей фигурой, своими жестами, своими криками, своим хохотом, своею непрошенною резкою правдою и вообще своею циническою бесцеремонностию — Кетчер был неудобен для дома с такой великосветской обстановкой… В его присутствии нарушалась щегольская чопорность и оскорблялась искусственность этого дома.
Что касается до меня, то я очень любил быть вместе с Кетчером у Павловых.
Контраст между им и хозяевами дома со всею их обстановкой был очень забавен. К тому же, надо сказать правду, без Кетчера у Павловых была тоска нестерпимая, потому что уж все в этом доме было как-то слишком изящно, чинно, прилично и рассчитанно…
ГЛАВА III
Воззрения Белинского и его кружка в 1839 г. — Встреча Белинского с студентом Кавелиным. — Мои письма к г. Краевскому о Белинском. — Отрывки из письма ко мне г. Краевского. — Мой отъезд из Москвы в деревню. — Возвращение в Москву. — Еще письмо г. Краевского. — Вечера у Боткина. — Статья Белинского по поводу книжки о "Бородинской годовщине". — Негодование Белинского против Менцеля. — Отъезд мой с Белинским из Москвы. ….
К Белинскому я заходил каждое утро…
Он очень хандрил и жаловался на боль в груди… Обстоятельства его были в это время печальные. Степанов, издатель "Московского наблюдателя", платил ему помесячно (да и то неаккуратно) какие-то ничтожные деньги за редакцию. Белинский сначала был увлечен мыслию стать во главе журнала, сотрудниками которого должны были сделаться все его молодые и талантливые друзья… Он твердо был убежден, что при их содействии, соединенном с его кипучей, энергической деятельностью, успех журнала будет несомненен…
"Я покажу, чем должен быть журнал в наше время", — писал он ко мне… Но надежды его не оправдались. Подписка на «Наблюдатель» оказалась незначительной, и при выходе пятой книжки все средства издателя уже совершенно были истощены. Причинами этого были: невозможность объявить о том, что журнал переходит под редакцию Белинского; непрактичность и издателя и редактора, пустивших очень небольшое число объявлений о преобразовании журнала, в которых притом глухо и неопределенно сказано было о переходе «Наблюдателя» от г. Андросова (бывшего редактора) под новую редакцию. Впрочем, и это, может быть, не зависело ни от издателя, ни от редактора. И наконец, то примирительное направление первых книжек возобновленного «Наблюдателя» — направление, которому публика никак не могла симпатизировать.
Сотрудники видели, что дело не ладится, и охладели к журналу. Белинский был недоволен составом первых книжек и совершенно упал духом. Между ним и некоторыми из его друзей произошли недоразумения: с одним из них, Боткиным, как я говорил уже, Белинский в течение нескольких месяцев совсем не видался; Константин Аксаков, начинал с ним внутренне расходиться, уже слишком склоняясь к славянофилизму…
При таких неблагоприятных обстоятельствах Белинский задолжал в лавочку. В долг ему не хотели ничего отпускать. Обед его, при котором я не раз присутствовал, был и без того неприхотлив: он состоял из дурно сваренного супа, который Белинский густо посыпал перцем, и куска говядины из этого супа… Конечно, Белинский не мог умереть с голода — близкие люди не допустили бы его до этого; но жить благодеяниями — и еще при сознании своей силы и таланта, при уверенности, что он мог бы приобретать достаточно своими трудами — нелегко. Всякий дрянной фельетонист, с некоторым практическим тактом, был гораздо обеспеченнее Белинского, живя только одним своим ремеслом… При своих внутренних силах и энергии Белинский был бессильным ребенком в жизни, как многие, впрочем, умные люди, принадлежавшие к его поколению, — и вследствие этого легко и за ничтожную плату отдавался в руки спекуляторов, ужасаясь мысли умереть с голоду или жить благодеяниями, что еще хуже…
Через несколько времени после приезда моего в Москву Белинский уже объявил мне, что «Наблюдатель» продолжаться не может. Неуспех его он приписывал разным причинам, — но он в это время еще не подозревал, что в самом направлении, которое он хотел придать журналу, заключалась невозможность его успеха.
Увлекшись толкованиями Бакунина гегелевой философии и знаменитою формулою, извлеченною из этой философии, что "все действительное разумно", — Белинский проповедывал о примирении в жизни и искусстве, усиливаясь во что бы то ни стало, против своей натуры, сделаться консерватором, и с ожесточением ратовал за искусство для искусства. Он дошел до того (крайности были в его натуре), что всякий общественный протест против старого порядка казался ему преступлением, насилием; французская революция — делом нескольких экзальтированных людей, безумцев, осмеливавшихся посягнуть на разрушение государственного порядка, и смиренно преклонился перед всяким произволом, исходившим свыше… Он с презрением отзывался о французских энциклопедистах XVIII столетия, о критиках, не признававших теории "искусства для искусства", о писателях, заявлявших необходимость общественных реформ и стремившихся к новой жизни, к общественному обновлению. Он с особенным негодованием и ожесточением отзывался о Жорж-Санд. Искусство составляло для него какой-то высший, отдельный мир, замкнутый в самом себе, занимающийся только вечными истинами и не имевший никакой связи с нашими житейскими дрязгами и мелочами, с тем низшим миром, в котором мы вращаемся. Истинными художниками почитал он только тех, которые творили бессознательно. К таким причислялись Гомер, Шекспир и Гете. Гете назывался не иначе, как олимпийцем. Шиллер не подходил к этому воззрению, и Белинский, некогда восторгавшийся им, охлаждался к нему по мере проникновения своей новой теорией. В Шиллере не находил он того спокойствия, которое было непременным условием свободного творчества, того объективного, бесстрастного взгляда, который проявлялся в произведениях олимпийца Гете, за исключением, впрочем, 2-й части «Фауста», которая всегда казалась Белинскому сухой и мертвой символистикой… Пушкин, к великому, впрочем, сожалению Белинского и его друзей, также не совсем подходил под их теорию, — в нем не отыскивался элемент примирения, и потому стихотворения Клюшникова (?), в которых ясно выражался этот элемент, были признаваемы Белинским и его кружком хотя уступающими Пушкину по обработке и форме, но несравненно более глубокими по мысли.
Светлый взгляд Белинского затуманивался более и более; врожденное ему эстетическое чувство подавлялось неумолимой теорией; Белинский незаметно запутывался в ее сетях, которые еще скреплял Бакунин. Его свободной, в высшей степени гуманной природе тяжело, неловко, тесно и душно было такое рабское подчинение философским категориям и формулам, в которых еще тревожно путался сам Бакунин.
К этому присоединились еще — неудача «Наблюдателя», долги, размолвки с приятелями. Я застал Белинского в напряженном, лихорадочном состоянии, которое я не мог не заметить, но приписывал это только его стесненному положению.
Через несколько времени после моего приезда в Москву Бакунин уехал, кажется, в деревню… С Боткиным Белинский не виделся (он снова сошелся с ним уже после возвращения моего из Казани). Его навещали только Клюшников и Кудрявцев, который был еще студентом. Белинский, как я уже говорил в моих «Воспоминаниях» о нем, полюбил Кудрявцева за его эстетический вкус, за его, как он выражался, тонкую, нежную натуру. Они часто толковали о современных литературных деятелях и перечитывали лучшие, по их мнению, произведения русских поэтов. К числу таковых они причисляли так называемые патриотические стихи Пушкина ("Бородинская годовщина" и к "Клеветникам России"),
"Чернь", к «Поэту», "Пророк" и другие. Белинский с увлечением отзывался об этих стихотворениях и часто читал их наизусть, прибавляя обыкновенно в заключение:
— Вот где Пушкин является истинным, великим художником!.. …. …Однажды вечером я возвращался откуда-то с Белинским домой. На Арбатской площади попался нам навстречу молодой человек небольшого роста, полный, румяный, очень приятной наружности, с вьющимися темными волосами, в очках. На нем был студентский сюртук.
Увидев Белинского, студент с юношеским неудержимым увлечением бросился к Белинскому, схватил с жаром его руку и воскликнул, запыхавшись:
— Виссарион Григорьич! Как я рад вас видеть, Виссарион Григорьич!..
— Ах, здравствуйте, — отвечал сухо Белинский, видимо смущенный таким внезапным нападением на него, и взглянул на студента холодно и резко, как бы спрашивая: "что вам от меня нужно?" Студента, кажется, покоробило от этого взгляда; он произнес еще несколько слов и удалился, смущенный. Мне стало жаль его…
— Кто это такой? — спросил я, — и отчего вы с ним обошлись так холодно?..
— Это бывший мой ученик, — отвечал Белинский, — Кавелин, мальчик очень умный, горячий, с большими способностями, подающий большие надежды; но я терпеть не могу, когда мальчишки пристают ко мне, — ну, о чем мне толковать с ними? Что я могу иметь с ними общего?
Студент этот был тот самый Кавелин, который через несколько лет после этого получил блестящую известность на кафедре Московского университета и присоединился к кружку Белинского. Кавелин припоминал не раз Белинскому об этой встрече, и оба они очень смеялись…
В этот вечер Белинский был очень не в духе, обнаруживал особенное раздражение и жаловался на боль в груди…
Когда я зашел к нему, он бросился в кресло, совершенно ослабленный и тяжело дыша.
Несколько минут он не говорил ничего. Наконец, бледный, с страдающим лицом, он обратился ко мне.
— Нет, — сказал он, — мне во что бы то ни стало надобно вон из Москвы… Мне эта жизнь надоела, и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида Краевского?
Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о погибели «Наблюдателя», объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять на себя критический отдел в "Отечественных записках". Я не скрыл от него, как г. Краевский отзывается об нем.
— Он вполне надеется, — прибавил я, — что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении.
Белинский горько улыбнулся.
— Ну, нечего сказать, — хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич — бесталаннейший смертный, совершенная тупица… Межевич ничего не может сделать; ему понадобится непременно другой человек; а вы между тем намекните ему, что я не прочь… разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о Менцеле — и расхвалите ее, разумеется, как можно больше, и прибавьте, что эту статью я предназначаю для его журнала… Она еще не написана, — ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним да обделайте это дело половчее… Не говорите ему об моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня…
В письмах к г. Краевскому я говорил всякий раз что-нибудь о Белинском и его кружке… Г. Краевский между тем завел переписку с Катковым, который через меня обещал ему статью для журнала. Уже в первых письмах г. Краевского ко мне заметно было, что бессилие и неспособность Межевича начинали тревожить его, и я не сомневался, что только чувство собственного достоинства мешает ему обратиться прямо к Белинскому.
Воспользовавшись этим, я написал г. Краевскому прямо, что Белинский предлагает ему свое сотрудничество, что недурно было бы, если он перепечатает в своих изданиях превосходную статью Белинского о "Сыне отечества" Полевого, что у Белинского есть статья о Менцеле, которая производит в Москве фурор и которую он не прочь был бы прислать в "Отечественные записки"…
В ответ на это я получил от него письмо (от 20 июня). Он писал мне, между прочим, следующее:
"Статья о "Сыне отечества" перепечатается (если она едка) в "Литературных прибавлениях" из «Наблюдателя» под таким названием: Справедливое суждение "Московского наблюдателя" о "Сыне отечества", в pendant к Справедливому суждению "Сына отечества" об "Отечественных записках", перепечатанному в "Пчеле"…
"Прошу Белинского статью о Менцеле и душевно рад его будущему сотрудничеству.
Поклон ему от меня низкий и вопрос: "как устроится это сотрудничество? по каким частям?" и проч.
Я тотчас же отправился с этим письмом к Белинскому. На Белинского оно произвело очень благоприятное впечатление. Он повеселел. Г. Краевский почувствовал необходимость прибегнуть к крикуну-мальчишке для поддержания своего журнала. Белинскому открывалась возможность оставить Москву и расплатиться с своими долгами. Перемена жизни улыбалась ему.
В письме г. Краевского была, между прочим, следующая приписка:
"Ради бога, скажите Каткову, что это он со мною делает? не шлет до сих пор окончания своей статьи! Я уж писал к нему об этом, — а он все медлит. О, Москва! Москва!.." Последнее восклицание очень понравилось Белинскому…
— Это правда, — заметил он: — все мы, москвичи, — прекрасные и умные люди, но всё делаем как-то спустя рукава. В нас недостает безделицы — настоящего практического смысла и настоящей деятельности… На словах мы герои, а чуть до дела…
Белинский не докончил фразы, махнул рукой и повторил, смеясь: "О, Москва!
Москва!.." Перед отъездом моим в Казань, в июле месяце, дело о переезде Белинского в Петербург было решено. Он принял условия г. Краевского: г. Краевский должен был ему выслать к осени вперед незначительную сумму на уплату долгов и на отъезд и обязался платить ему три тысячи пятьсот рублей ассигнациями в год, с тем, чтобы Белинский принял на себя весь критический и библиографический отдел "Отечественных записок". Мы решили ехать в Петербург вместе после возвращения моего из Казани в Москву. ….
Я вернулся в Москву в начале октября. 10 октября я получил письмо от г. Краевского. Вот отрывки из него:
"Христа ради, хлопочите сами, подбейте Павлова и Погодина, чтоб вырвать у Гоголя статью для "Отечественных записок". Кстати. Я объявил было в "Литературных прибавлениях" о приезде Гоголя в Москву; но Плетнев сказал мне, что получил от него письмо с просьбою — никому не объявлять, что он в Москве… Жуковский сказывал мне, что Гоголь через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. Растолкуйте ему необходимость поддерживать "Отечественные записки" всеми силами. Если же он сделался равнодушен к судьбам "российской словесности", чего я не ожидаю, то покажите ему впереди за статью хорошие деньги, в которых он, верно, нуждается. Если ж ничто не возьмет, то надо дожидаться приезда его сюда и здесь напасть на него соединенными силами…" "…Виссариону Григорьичу низкий поклон и благодарение за статьи его. В статье о "Бородинской годовщине" Никитенко выкинул два места: что делать! Он не любит Европы и не хочет признавать, чтоб в ней было что-нибудь порядочное. Прочее все осталось так, как было, кроме отзыва о Жуковском, который я посмягчил. Статья о книге доктора Ратье также изменена мною, потому что один из здешних дельных врачей доставил мне о ней статью: ведь мы с Виссарионом Григорьичем в этом деле профаны, надо верить тому, кто лучше знает…" "Утешьте Виссариона Григорьича: браниться можно обиняками, как увидит он из статьи?витабуки в "Литературных прибавлениях".* В статье его * Статья эта против Греча была написана, кажется, самим г. Краевским, по крайней мере он очень гордился ею и часто ссылался на нее как на образец остроумной полемики. для "Литературных прибавлений" не делано было ни мною, ни Межевичем никаких прибавлений, — все это делал бич журналов — ценсор Лангер, а в разборе "Стихотворений Леонова" (Каткова) — Никитенко…" "Убедите, бога ради, Каткова отыскать большое письмо, которое я посылал к нему еще в сентябре и которого, как видно из его писем, он не получал. Что же это такое, господи боже мой! Времени мало, урвешься написать — да и то пропадет! Я адресовал его на имя г. Боткина, как сам же Катков просил: отчего же оно пропало? Скоро буду к нему еще писать и уж адресую на имя Галахова. Авось будет вернее!" "Поблагодарите г. Боткина за его премилую статью о музыке Лангера…" "Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Клюшникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего «Демона», из которого я хотел напечатать отрывки, и бабы чорт знает куда дели его; а у него уж, разумеется, нет чернового; таков мальчик уродился!.." "…Жду вас и Виссариона Григорьича. Ради бога, приезжайте скорее…" Далее в письме речь о каком-то доносе Булгарина.
Из этого письма видно, что между г. Краевским и кружком Белинского начались уже деятельные сношения…
По возвращении моем в Москву я, к великому удовольствию, увидел, что все недоразумения между Белинским, Боткиным и отчасти Катковым прекратились и что они находятся в полном мире и согласии.
Белинского я застал в очень хорошем расположении духа… Близость отъезда из Москвы и предстоящая перемена жизни оживляла его. Из всех друзей его только один Константин Аксаков смотрел на него с грустью, сожалением и отчасти с досадою. Он не понимал, как москвич может равнодушно оставлять Москву…
Друзья сходились большею частию по вечерам у Боткина… Разговор был постоянно одушевленный, горячий. Предметом его были толки об искусстве с точки зрения Гегеля: с этой точки строго разбирали Пушкина и других современных поэтов. Лермонтов с своим демоническим и байроническим направлением никак не покорялся этому новому воззрению.
Белинского это ужасно мучило… Он видел, что начинающий поэт обнаруживает громадные поэтические силы; каждое новое его стихотворение в "Отечественных записках" приводило Белинского в экстаз, — а между тем в этих стихотворениях примирения не было и тени!
Лермонтова оправдывали, впрочем, тем, что он молод, что он только что начинает, несколько успокоивались тем, что он владеет всеми данными для того, чтобы сделаться со временем полным, великим художником и достигнуть венца творчества — художественного спокойствия и объективности… Клюшников, сам имевший в себе частичку демонизма, очень симпатизировал таланту Лермонтова и довольно остроумно подсмеивался над некоторыми толками о поэте; Катков и К. Аксаков прочитывали свои, переводы из Гейне, Фрейлихграта и из других новейших немецких поэтов. Катков обыкновенно декламировал с большим эффектом, принимая живописные позы, складывая руки накрест, подкатывая глаза под лоб…
Я никогда не забуду этих вечеров…
Сколько молодости, свежести сил, усилий ума потрачено на разрешение вопросов, которые теперь, через 20 с лишком лет, кажутся смешными! Сколько кипения крови, сколько увлечений и заблуждений!.. Но все это не пропало даром. До истины люди добираются не вдруг… Этот кружок займет важное место в истории русского развития… Из него вышли и выработались самые горячие и благородные деятели на поприще науки и литературы.
Я всей душою привязался к Белинскому и его друзьям. Пробужденная ими, моя мысль начала обнаруживать некоторую деятельность под их влиянием…
Через несколько дней после моего возвращения в Москву Белинский принес мне прочесть свою рецензию на книгу Ф. Глинки "Бородинская годовщина", которую он отослал для напечатания в "Отечественные записки".
— Послушайте-ка, — сказал он мне: — кажется, мне еще до сих пор не удавалось ничего написать так горячо и так решительно высказать наши убеждения. Я читал эту статейку Мишелю (Бакунину), и он пришел от нее в восторг, — ну, а мнение его чего-нибудь да стоит!
Да что много говорить, я сам чувствую, что статейка вытанцовалась…
И Белинский начал мне читать ее с таким волнением и жаром, с каким он никогда ничего не читал ни прежде, ни после.
Лихорадочное увлечение, с которым читал Белинский, язык этой статьи, исполненный странной торжественности и напряженного пафоса, произвел во мне нервное раздражение…
Белинский сам был явно раздражен нервически…
— Удивительно! превосходно! — повторял я во время чтения и по окончании чтения: — но… я вам замечу одно…
— Я знаю, знаю что, не договаривайте, — перебил меня с жаром Белинский: — меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями… Пусть их! Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали…
Он начал ходить по комнате в волнении.
— Да! это мои убеждения, — продолжал он, разгорячаясь более и более… — Я не стыжусь, а горжусь ими… И что мне дорожить мнением и толками чорт знает кого? Я только дорожу мнением людей развитых и друзей моих… Они не заподозрят меня в лести и подлости.
Против убеждений никакая сила не заставит меня написать ни одной строчки… они знают это… Подкупить меня нельзя… Клянусь вам, Панаев, — вы ведь еще меня мало знаете…
Он подошел ко мне и остановился передо мною. Бледное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила к голове, глаза его горели.
— Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода — я и без того рискую эдак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя…
Разговор этот со всеми подробностями живо врезался в мою память. Белинский как будто теперь передо мною…
Он бросился на стул, запыхавшись… и отдохнув немного, продолжал с ожесточением:
— Эта статья резка, я знаю — но у меня в голове ряд статей еще больше резких… Уж как же я отхлещу этого негодяя Менцеля, который осмеливается судить об искусстве, ничего не смысля в нем! …По мере приближения нашего отъезда в Петербург Белинский становился все оживленнее и веселее.
— Теперь уж я не ваш! — говорил он, смеясь, своим друзьям. — Я петербуржец… А вы — москвичи, провинциалы; да, ваша Москва — провинция, что вы ни говорите и как ни гордитесь ею…
Белинский глубоко благоговел перед реформою Петра I и оправдывал ее во всех ее крайностях. Петербург поэтому еще особенно привлекал его…
Кетчер кричал против Петербурга изо всей силы; К. Аксаков, ударяя себя в грудь, восклицал, что Москва выстрадала за Русь, что она искупительница России, что она ее центр, что вся святыня Руси хранится в Москве, а Петербург — город дворцов и казарм, временный лагерь.
— Ничего, — перебил Белинский, — придет время и Петербургу, — он еще молод…
Петербург имеет уже одно важное значение, что это — окно, прорубленное Петром в Европу.
К. Аксаков при этом выходил из себя. Хотя еще он не питал той непримиримой ненависти к Петру I, которая развилась в нем впоследствии, — но он и в это время уже не чувствовал к нему расположения… …День нашего отъезда в Петербург, наконец, наступил. Нас провожали до Черной грязи Боткин, Кетчер и Катков.
Кетчер явился на наши проводы в своем красном плаще, с неизбежным хохотом и еще более неизбежной корзинкой, из которой торчала солома…
Мы, вероятно, долго пробыли бы на станции, потому что Кетчер, по своему обыкновению, расходился, кричал, потрясая бутылкой, подшучивал над Белинским, подавал ему советы, как забрать в руки Краевского — и все это сопровождал хохотом. Белинский, не терпевший шумных и длинных проводов, торопился ехать. Он был молчалив и грустен.
Видно, что отрываться от своего кружка ему было нелегко… Боткин обнаруживал сильное нетерпение…
— Уж поезжайте лучше скорей, друзья, — повторял он, качая головою. — Проводы эти всегда ужасно тяжелы.
— К чему торопиться? вздор! — кричал Кетчер: — да вы не допили еще своих стаканов. — Но Белинский решительно встал. Наша дорожная карета давно уже ожидала нас у подъезда.
— Ну, прощайте, господа, — сказал он, — не забывайте меня…
Все бросились обнимать Белинского. Боткин гладил его по затылку и по голове и, смотря на него с нежностию, говорил: — ну, я рад за тебя, Виссарион… Нам с тобой тяжело расставаться, голубчик, очень тяжело, ты это знаешь, но ведь тебе в Москве оставаться не для чего…
Катков энергически сжимал Белинского в своих объятиях и крепко, несколько раз поцеловал его.
Кетчер поднес ему стакан с шампанским.
— Ну, Виссарион, чокнемся, — сказал он. — Теперь ты должен выпить.
Белинский выпил стакан без противоречия.
— Молодец! — закричал Кетчер, целуя его: — ну, теперь прощай, да смотри же, не поддавайся Краевскому…
Когда карета двинулась и мы высунулись в окно, — Боткин с нежною грустью смотрел на нас, махая своим платком, Кетчер кричал что-то и размахивал фуражкой, Катков стоял неподвижно со сложенными накрест руками, с надвинутыми на глаза бровями, провожая нас глубоким и задумчивым взглядом…
ГЛАВА IV
Клюшников, Кетчер и Бакунин и вообще их московский кружок. …
ГЛАВА V
Грановский и московский кружок.
Теперь, оставляя на время хронологический порядок, которого я насколько мог придерживался в моих «Воспоминаниях», я хочу остановиться на Грановском и по этому поводу поговорить вообще о московском кружке. Я не имею претензии представить полный образ этого человека, рассмотреть со всех сторон эту замечательную личность — указывать на значение Грановского как профессора, разбирать его исторические труды и т. д. Я очень хорошо знаю, что это мне не по силам. Я просто и откровенно выскажу о нем то, что знаю.
Если в этом слабом очерке найдется хоть одна незамеченная и новая черта, которая пригодится для его будущей биографии, — я буду доволен и этим…
Когда я возвратился из Казани в Москву, Грановский незадолго до меня приехал в Москву из-за границы, где он пробыл три года (с 1836 — 1839). Он тотчас же сошелся с Белинским и с его друзьями. Они были близки ему уже по Станкевичу, с которым он познакомился за границей " к которому привязался всей силой души.
Первая новость, встретившая меня в кружке Белинского, это был приезд Грановского…
— Нашего полку прибыло, — сказал мне Белинский: — Грановский здесь. Какой гуманный, симпатичный человек! Я почти не встречал еще в жизни человека, кроме Станкевича, который бы с первой минуты так располагал к себе, как он… Недаром Станкевич так любил его и так горячо писал нам об нем. Действительно, это человек с избранной натурой…
Люди самых противуположных мнений сходились в мнении о Грановском. На вечере у Мельгунова — Шевырев, Хомяков и Павлов отзывались об нем почти точно так же, как Белинский.
Приезд его вообще произвел большой эффект в московских ученых и литературных кружках.
— Я сказал Грановскому, что вы здесь, — сказал мне Белинский: — он желает с вами познакомиться и хочет зайти к вам. Предупредите-ко его.
Любопытство мое насчет Грановского было возбуждено сильно, и я на другой же день отправился к нему, не застал его дома и оставил карточку.
Он жил тогда на казенной квартире, в доме бывшего Московского благородного пансиона, на Тверской.
Грановский отплатил мне визит в тот же день. Я жил наискосок от него — в гостинице Копа…
Грановскому было тогда лет около тридцати.
Черты лица его были крупны и неправильны: нос и губы толстые — лицо это не имело той вульгарной, внешней красоты, которая поражает с первого раза; но его большие, глубокие, темные глаза с меланхолическим оттенком, с надвинутыми густыми и широкими бровями, его открытый лоб, почти черные волосы, зачесанные назад и доходившие до плеч, его грустная, добродушная, кроткая улыбка — все это вместе поражало той внутренней красотой, в которую чем более вглядываешься, тем более она кажется привлекательною… В его движениях, взглядах, голосе, манере говорить (он несколько пришепетывал, что нисколько не портило его) было что-то неотразимо симпатичное. Все женщины были от него в восторге; все мужчины, даже враждебные его убеждениям, не могли не питать к нему личной симпатии.
Всегда несколько робевший перед авторитетами, я сначала смутился было перед новым возникавшим авторитетом молодого профессора, но он так мило и просто обошелся со мною, что после первых объяснений я почувствовал себя совершенно легко и свободно.
Предметом нашего разговора был наш общий знакомый, приятель его и Станкевича, Я. М. Неверов.
После этого я встречался с Грановским на вечерах у Боткина.
Грановский, впрочем, не часто посещал в это время кружок Белинского. Нет сомнения, что он симпатизировал людям, но не мог никак симпатизировать их тогдашним убеждениям. Грановского интересовали более человеческие дела, чем философские отвлечения.
Он, как прекрасно выразился кто-то, "думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду". С его светлым воззрением на современную гражданственность, основанным на историческом знании и изучении, те убеждения, до каких дошли Бакунин и Белинский, опираясь на отвлеченные, философские толкования, должны были казаться ему дикими…
Грановский, впрочем, не высказывался. Он, вероятно, угадывал, что убеждения эти — только минутное заблуждение. Он видел экзальтацию Белинского… и не хотел даже слегка касаться его больной стороны.
К тому же Грановский, мягкий по своей натуре, наделенный большим тактом в обращении с людьми, любящий и снисходительный, понимал, может быть, что ему не совсем выгодно, — несмотря на то, что истина была на его стороне, — вступать в споры с таким яростным бойцом, каков был Белинский, и с таким несокрушимым диалектиком, каков был Бакунин.
Таким образом, Грановский расстался с Белинским, уезжавшим в Петербург, без всяких объяснений. Их короткие, дружеские отношения начались уже после, когда кружок Белинского слился с кружком Искандера.
Месяца через три после отъезда Белинского в Петербург Грановский познакомился с Искандером в проезд сего последнего из Владимира в Петербург.
"Мельком видел я его тогда, — говорит Искандер, — и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него как в будущего близкого человека.
Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года (в 1842 г.), когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвращался на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко".
"Он был, — продолжает Искандер, — звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский принадлежат к самим светлым и замечательным личностям нашего круга, несмотря на то, что в них было много непохожего".
Нельзя лучше характеризовать Грановского, как характеризует его Искандер.
"Грановский, — говорит он, — напоминает мне ряд задумчиво-покойных проповедников времен реформации; не тех бурных, грозных, которые в гневе своем чувствуют вполне свою жизнь, как Лютер; а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.
Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов; и действительно, Грановский по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям — скорее был бы гугенот и жирондист, нежели анабаптист или монтаньяр"…
Грановский и Искандер привязались друг к другу сильно, несмотря на несходство своих характеров и отчасти воззрений, как оказалось впоследствии. Грановский с своей кроткой и мягкой натурой робко отступал перед суровой логикой Искандера и перед тем, что Искандер называл "бесстрастной объективностию природы"… Искандер шел вперед грудью, напролом, не отступая ни перед чем, не пугаясь никаких выводов, как бы они ни были безотрадны. Отсюда впоследствии должна была произойти между ними неизбежная размолвка.
Но как глубока была привязанность Грановского к Искандеру и Огареву доказывают следующие строки из письма его к Искандеру через два года после отъезда Искандера за границу (в 1849 г.):
"На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к душе моей такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса…" В первые годы знакомства Грановского с Искандером между ними существовала, впрочем, полнейшая гармония… В политических убеждениях они всегда сходились; до глубоких же внутренних вопросов касались или слегка, или вовсе не касались; к тому же Искандер в то время еще не доходил до беспощадной крайности своих воззрений и до того желчного сарказма, который проявился у него потом… …Искандер глубоко уважал Белинского, видел, каким мощным полемическим талантом владеет он, сколько энергии в душе его, и скорбел, что эта энергия растрачивается на поддержку отживающих идей… В статье моей о Белинском я говорил о первом посещении Белинского Искандером в январе 1840 года… Объяснение между ними последовало тотчас, иначе и быть не могло. Искандер высказал Белинскому, что он идет по ложной и опасной дороге и бог знает до чего может дойти по ней… Он даже прямо высказал ему — до чего…
Белинский был уязвлен глубоко, он почувствовал, что в жестких словах Искандера было много правды, но еще упорно отстаивал свой образ мыслей, несколько успокаивая себя тем, что взгляды Искандера узки, что его миросозерцание не просветлено гегелевской философией и т. д. Он был видимо поколеблен.
После отъезда Бакунина в Берлин и сближения с Искандером Белинский впадает в тоску и апатию — предвестницу внутреннего переворота. Он борется с собою до конца 1841 года, но во второй приезд Искандера в Петербург, в 1842 году, он крепко жмет ему руку, обнимает его и, улыбаясь, говорит ему: "ты победил, галилеянин!" С этой минуты Белинский воскресает духом, он дышит легче и свободнее, он уж не насилует своей революционной натуры. Он делается ожесточенным, неумолимым противником тех идей, которые за год перед тем проповедывал с такою горячностию и искренностию. Он употребляет все свои способности и силы для искупления этих прошлых заблуждений, о которых он вспоминает с болью и негодованием. С этой минуты он совершенно сходится с Искандером, Грановским и другими…
Кружок расширяется и приобретает большее значение и силу… К нему присоединяются, кроме молодых профессоров Московского университета, вернувшихся из-за границы (Каткова, Редкина и других), все передовые тогдашние люди — Белинский, Искандер, Боткин, Огарев, Галахов, Евгений Корш и многие другие… …Е. Корш, с которым Грановский до отъезда своего за границу дружно работал вместе для "Библиотеки для чтения" Сенковского, около этого времени поселяется в Москве. С Коршем до кончины своей Грановский остается в самых близких отношениях…
Е. Корш, уступавший многим относительно литературной деятельности, был одним из самых приятных собеседников кружка. Его отсутствие чувствовалось даже при Искандере, который, по выражению Корша, всегда заливался и звонил, как колокольчик. В этом серебряном звоне было столько силы, блеска, ума, иронии, знаний, что он никогда не мог надоесть. Его можно было слушать бесконечно и заслушиваться. Он с неподражаемою ловкостию умел переходить от шутки к делу. Его блестящая речь играла и искрилась, как шампанское, которое он так любил… Корш, с своим неглубоким, хотя метким умом, быстро подмечал смешные стороны всех друзей, даже не исключая Грановского и Искандера, и очень едко острил над всеми, еще пришпиливая, по чьему-то удачному выражению, свои остроты заиканьем, которое придавало большую оригинальность его разговору, его замечаниям и шуточкам.
Присутствие Грановского все сливало в какую-то гармонию, на все накладывало тонкий, поэтический колорит, смягчало резкости, примиряло диссонансы и даже смиряло Кетчера, которого перекричать и смирить было трудно…
Приятели собирались часто то у Боткина, то у Кетчера, то у Искандера (всего чаще) и у Грановского, который только что женился. Искандер сделал удивительно тонкую и меткую характеристику домашнего быта Грановского, и я позволю себе снова прибегнуть к нему.
"Жена его (Грановского), — говорит он, — была очень молода и еще не совсем сложилась; в ней еще был тот особенный элемент отроческой нестройности, даже апатии, которая нередко встречается у молодых девушек с белокурыми волосами и особенно германского происхождения. Эти натуры, часто даровитые и сильные, поздно просыпаются и долго не могут притти в себя. Толчок, заставивший молодую девушку проснуться, был так нежен и так лишен боли и борьбы, пришел так рано, что она едва заметила его. Кровь ее продолжала медленно и покойно переливаться по ее сердцу".
"Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно-тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся, как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку, спокойно и твердо итти перед инквизитора".
"Они мне казались братом и сестрой, тем больше, что у них не было детей…" ….
На сходках друзей быстро обменивались мысли и знания, среди острот, шуток, неистовых и неизменных криков Кетчера: "Эй вы! что ж вы бокалы-то свои забываете?..
Допивайте!.. Допивайте!.." Друзья сообщали друг другу новости, все прочитанное и узнанное ими, спорили; "вырабатываемое каждым делалось достоянием всех" — по выражению Искандера.
Грановский между тем приобретал все большую известность на своей кафедре, возбуждая к себе любовь и энтузиазм своих слушателей…
Весною 1843 г. он открыл публичный курс "Средневековой истории Франции и Англии". Вся блестящая Москва съехалась на эти лекции, как будто сговорившись заранее; дамы занимали половину аудитории. Грановский серьезно и смело для того времени проводил свои воззрения. Начальство, правда, косилось уже на него, но явно придраться к нему не могло. Успех этих лекций был колоссальный. По окончании последней лекции энтузиазм выразился, как обыкновенно, хлопаньями, криками, пожатиями руки профессора и чуть не бросанием на воздух чепцов со стороны барынь… Все теснились около профессора, изъявляя ему свой восторг, свое участие… Грановский был глубоко тронут. Ему даже не дали досказать заключительных, благодарственных слов. На крыльце его ожидали студенты и вынесли его на руках на улицу.
Популярность Грановского в Москве упрочилась этими лекциями… Шевырев, вообще не питавший к Грановскому большого расположения, после этого не мог скрывать более свою зависть и злобу, — он стал тайно интриговать против Грановского в университете и открыто, вместе с своим другом Погодиным, нападать на него в «Москвитянине». Нападки эти были нелепы и грубы… Грановского обвиняли в западничестве, а на языке этих господ быть западником значило быть почти врагом отечества.
Дело дошло до того, что Грановский на одной из своих лекций во время вторых своих публичных чтений в 1844 г, адресовался открыто к славянофилам:
"Да отчего же я должен питать ненависть к Западу? — спросил он у них. — И добросовестно ли было бы с моей стороны, ненавидя Запад, взяться за преподавание его истории?.." Публика и студенты были, конечно, на стороне Грановского. Благороднейшие из славянофилов (К. Аксаков, Хомяков, Киреевские) видели, как аляповато и неловко нападают на Грановского их собраты по убеждениям, и старались, по окончании второго курса публичных лекций Грановского, сделать попытку к примирению. Они изъявили желание принять участие в обеде, который давался в честь Грановского, и уговорили Шевырева и Погодина присутствовать на этом обеде… …Я приехал в Москву накануне этого обеда и был на последней лекции Грановского.
Грановский не имел на кафедре блестящего ораторского таланта, поражающего с первого раза; но в манере изложения его было столько простоты, увлекательности, пластичности и внутреннего сосредоточенного жара, который выражался в его прекрасных и грустных глазах; в его тихом голосе было столько симпатии, что, смотря на него и слушая его, я не удивлялся тому всеобщему энтузиазму, который производил он своими лекциями…
После шумных изъявлений восторга, рукоплесканий и криков (всех шумнее обнаруживали свой восторг из дам К. К. Павлова, а из кавалеров — Кетчер) все отправились прямо в дом, где приготовлен был обед в честь профессора. Распорядителями этого обеда со стороны западников был Искандер, со стороны славянофилов К. С. Аксаков или Хомяков — я хорошенько не помню.
Стол был накрыт покоем. На почетном месте, в середине стола, сидел Грановский, возле него Шевырев. Мне досталось место против них. За обед сели в три часа.
В половине обеда начались тосты. Первый тост был за Грановского, сопровождавшийся громкими единодушными криками западников и славянофилов.
Грановский благодарил и предложил тост за Шевырева. Третий тост был за университет.
После этого поднялся Константин Аксаков. С энергически сжатым кулаком и сверкающими глазками, громким, торжественным голосом, ударив кулаком по столу, он произнес:
— Милостивые государи! я предлагаю вам тост за Москву!
Тост этот был принят всеми с энтузиазмом… и в эту самую минуту раздался звон колоколов, призывавших к вечерни.
Шевырев, воспользовавшись этим, произнес своим певучим и тоненьким голосом:
— Слышите ли, господа, московские колокола ответствуют на этот тост!..
Эта эффектная выходка с одной стороны возбудила улыбку, с другой — восторг.
Константин Аксаков подошел к Шевыреву, и они бросились в объятия друг друга… Затем Константин Аксаков произнес с необыкновенным пафосом известные стихи свои к Москве, начинающиеся так:
Столица древняя, родная, Тебя ль не ведает страна? Тебя назвать — и Русь Святая С тобою вместе названа… и т. д.После этих стихов Шевырев в свою очередь подошел к Аксакову и начал прижимать его к груди своей…
Когда шум и славянофильские восторги смолкли, кто-то из западников сказал:
— Милостивые государи! я предлагаю тост за всю Русь, не исключая и Петербурга…
Г. Шевырев вдруг изменился в лице при этих словах…
— Позвольте, я прошу слова! — воскликнул он, вскакивая с своего стула…
Все смолкли и обратились к нему. Он начал:
— Милостивые государи! позвольте заметить, что тост, предложенный нам сейчас — бесполезен, ибо уже в тосте за Москву, который был принят всеми без исключения с таким единодушным энтузиазмом, заключался тост всей России. Москва — ее сердце, милостивые государи, ее представительница. Москва, как справедливо заметил Константин Сергеич Аксаков в превосходной статье своей, помещенной в No "Московских ведомостей" (номер я забыл), поминала ежедневно на перекличке все русские города. — И пошел, и пошел…
Когда красноречивый оратор Москвы кончил, я обратился к нему:
— Позвольте вам сказать, что Москва не поминала на своей перекличке Петербурга, — по очень естественной причине, что Петербург не существовал тогда. За что же вы хотите исключить Петербург из общего тоста?
— Я с большим удовольствием выпью за ваше здоровье, г. Панаев, — отвечал мне Шевырев, протягивая свой бокал и чокаясь с моим бокалом…
— За Петербург! за Петербург! — кричали юные западники, и даже Кетчер заорал громче всех — "за Петербург!" — только в контру Шевыреву, потому что Кетчер не терпел Петербурга так же, как и Шевырев, хотя и смеялся над славянофилизмом…
Западники обнаружили сильное желание развернуться, но Грановский смягчил их своим кротким и умоляющим взглядом, да и сами они поняли, что Грановскому было бы крайне неприятно, если бы они пиршество, данное в честь его, превратили в два враждебные лагеря.
Обед кончался. Уже многие встали с своих мест. Тосты, впрочем, продолжались.
Славянофилы обнимались с западниками. Зала гудела от говора, от времени до времени раздавался дикий хохот Кетчера и его крики: "Пей же, пей!" Шум еще увеличился, когда все встали из-за стола и смешались…
К. Аксаков, с которым я не видался более четырех лет (он жил в это время — с семейством в своей подмосковной) встретил меня на этом обеде с явною холодностью и избегал разговора.
Я спросил его: — какая причина этому?..
— Лично против вас я ничего не имею, — откровенно отвечал мне Аксаков, пожимая мою руку: — но, — прибавил он с добродушною суровостию, — к вам как к петербургскому литератору я не могу питать никакой симпатии. Ваш Петербург извращает людей… Что сделали вы с Белинским? Можно ли было ждать, чтобы после наших дружеских отношений он позволил себе против меня такие выходки…
Какие выходки — я не знал; но я возразил Аксакову, что Белинский восставал не лично против него, а вообще против всей его партии, против «Москвитянина» в особенности, который зацеплял его очень неделикатно.
Но Аксаков горячился и отзывался о Белинском с желчью.
Примирение на этом обеде славянофилов с западниками со стороны большинства было, может, искренно, но непродолжительно. Полемика между двумя этими партиями сделалась еще ожесточеннее прежнего.
Над этим минутным и неудавшимся примирением очень справедливо подсмеивался Белинский.
— Дети, дети! — говорил он о Грановском и Искандере: — им только бы придраться к какому-нибудь случаю, чтобы лишний раз выпить и поболтать… Какое это примирение? И неужели Грановский серьезно верит в него? Быть не может!.. Сколько ни пей и ни чокайся, это не послужит ни к чему, если нет в людях никакой точки соприкосновения, никакой возможности к уступке с той или с другой стороны. Для меня эти лобызания в пьяном виде — противны и гадки…
Белинский изъяснялся еще резче в своих письмах к московским друзьям по поводу этого мнимого примирения.
Примирительный обед так раздражил его, что после него он стал писать в "Отечественных записках" против славянофилов еще злее.
Грановскому сначала это было неприятно. По мягкости своего характера он, кажется, полагал, что дурной мир лучше доброй ссоры, и даже старался иногда оправдывать перед своими друзьями Шевырева, своего непримиримого врага…
Но когда появились бессильные и гадкие стихи Языкова под заглавием: "Не наши", в которых прежний поэт разгула и свободы, сделавшийся, как выразился очень удачно Искандер, славянофилом по родству (Хомяков был женат на его сестре), намекал на Чаадаева — как на отступника, на Грановского — как на лжеучителя, губящего юношество, на Искандера — как на лакея, щеголяющего западной ливреей; на всех разделяющих их идеи — как на изменников отечества, — при такой выходке даже миролюбивый и кроткий Грановский вышел из себя.
— Нет, господа, — говорил он, — я каюсь в своем глупом заблуждении. Белинский тысячу раз прав. Примирение с господами, действующими против нас такими средствами, глупо и нелепо.
Впрочем, благороднейший и честнейший из славянофилов К. Аксаков с негодованием, как известно, протестовал против стихотворного доноса болезненного поэта, выживавшего из ума и пережившего свой поверхностный талант.
Ссоры с славянофилами, обнаруживавшиеся желчной полемикой в журналах ("Москвитянине" и "Отечественных записках") и оканчивавшиеся всегда торжеством западной партии, которой явно сочувствовала читающая публика, — были все-таки не по сердцу Грановскому. Многих из славянофилов Грановский и уважал и любил. Он отзывался постоянно с увлечением о благородстве и честности К. Аксакова и братьев Киреевских и отдавал полную справедливость блестящим способностям и остроумию Хомякова.
Всепримиряющее, нежное свойство души Грановского, ровность и приятность его обращения со всеми, — его вкрадчивость, сказал бы я, если бы с этим словом не соединялась мысль о хитрости, несовместной с его характером, — все это вместе постепенно привлекало к нему различные слои московского общества и способствовало к распространению его популярности… Грановский был, между прочим, очень дружен с П. Я. Чаадаевым, но об этом я буду, иметь ещё случай говорить впоследствии. За Грановским все гонялись, все искали его знакомства, его внимания, все дорожили его мнением и впоследствии на связи с ним основывали свою известность. Такое искание его, такое внимание к нему отвлекало его от занятий, не давало ему времени сосредоточиваться для них; но Грановский, по мягкости своей, не мог отказаться от общественных связей, от своего расширявшегося знакомства. Он нередко даже исчезал на несколько дней из своего кружка и на насмешливые упреки своих друзей пожимал плечами и, улыбаясь, отвечал:
— Ну, что ж делать?.. Если я вижу, что огорчу людей своим отказом, у меня недостает духу отказываться.
Каролина Карловна Павлова одно время с свойственною ей бойкостию завладела было совсем Грановским недели на две… Она перечитала ему все свои поэмы и стихотворения, и Грановский, очень хорошо умевший отличать громкие стихотворные фразы от истинной поэзии, наделенный большим эстетическим вкусом, увлекся было реторикой Павловой и начал через меру восхвалять ее стихи. Приятели подсмеивались над ним, особенно Белинский. Грановский сам чувствовал, что он неправ.
— Ну, если в ее стихах нет поэзии, — возражал он, — по крайней мере нельзя же отказать ей в том, что у нее стих необыкновенно звучный…
— Да кто же не пишет теперь звучных стихов? — перебили его.
— Вот и он! — прибавил Боткин, указывая на меня, и прочел ему по этому случаю мою пародию на Павлову:
Она все думала, что мысль и вдохновенье Достались ей в удел; Что рождена она для песнопенья, Для высших дел; Что ей и стих и смелое созвучье В ущерб другим даны; Что нет ее созданий в мире лучше… и т. д.Пародия эта очень понравилась Грановскому, он смеялся и с этих пор уже не вступался за поэзию автора «Кадрили». После напечатания некоторых глав из этой поэмы он даже сам подсмеивался над своим увлечением. ….
Грановский любил общество молодых, умных и развитых женщин и с некоторыми из таких он был в самых интимных отношениях, к которым никогда не примешивалось ни малейшей доли страсти; но кружок друзей нараспашку, за хорошим обедом или ужином, в придачу с Кетчером (т. е. с шампанским) он все-таки предпочитал утонченным дамским беседам; ему приятно было внимание к нему московского общества; но он дорожил гораздо более тем энтузиазмом, который возбуждал в своих слушателях и вообще во всей развитой молодежи. Он очень ясно видел, что она приветствует в нем, как удачно заметил кто-то, "рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной зависимости и борьбы за нее"…
С каждым приездом моим в Москву и с каждым приездом Грановского в Петербург я привязывался к нему сильнее. Грановский видел это и не раз обнаруживал мне свою симпатию.
Еще более сблизился я с ним летом 1845 г. в Москве. Жена моя была очень дружна с женою Грановского. Она была почти всякий день у Грановских, я довольно часто обедывал у них. Жили они тогда на Садовой, в доме Мюльгаузена (тестя Грановского). Мы только что вернулись из нашей заграничной поездки, и я передавал Грановскому и всем нашим общим приятелям парижские похождения различных наших соотечественников и некоторых людей, очень близких нам. Я очень смешил всех этими рассказами. Грановскому особенно нравился мой рассказ о забавных похождениях некоего капитана Клыкова (человека, впрочем, доброго и честного), окончившихся процессом в исправительной полиции. ….
Искандер летом в 1845 г. переехал на дачу в Соколово… Соколово, старинное барское село, некогда принадлежавшее Румянцевым, находится в 20 верстах не доезжая Москвы по петербургской дороге… Место, где расположен Соколовский парк, очень живописно. В этом парке выстроено несколько домов и домиков. В одном из больших домов жил сам помещик Дивов, другие он отдавал внаймы на лето.
Искандер занял дом, стоявший в парке на горе, над небольшою, извивающеюся речкою. Влево, в полуверсте от дома, где кончался парк, стояла беседка, в густой зелени, носившая название Belle-vue, из которой открывался отличный вид вдаль; вправо расстилались луга и хлебная степь…
Грановский, Корш, Боткин, Кетчер и другие ездили туда почти каждую субботу и оставались там до понедельника. В одну из суббот я присоединился к ним.
— Насчет питий, — кричал Кетчер, — не беспокойтесь, я уж распоряжусь; надо взять с собой по крайней мере дюжину шампанского, да и других вин. У них там, по моему расчету, должно быть вино на исходе. Надо, впрочем, справиться у Депре (при этом он как-то строго вздернул брови), когда в последний раз брали у него; но во всяком случае ящик шампанского взять необходимо…
Жена Грановского уже несколько дней перед этим гостила в Соколове вместе с М. Ф. Корш (сестрой Корша).
Часов в 8 вечера мы выехали из Москвы. Кетчер уложил огромный запас вина нам под ноги, так что мы не знали, куда девать наши ноги; сам он уселся на козлы с ямщиком, в своем мефистофелевском плаще на красной подкладке, и хохотал над нами всю дорогу, забавляясь тем, как мы корчили ноги.
Когда мы приехали в Соколово и вышли, чтобы подняться пешком на гору, уже начинало темнеть… Кетчер шел впереди, указывая нам дорогу, размахивая палкой и оглашая дуброву своим зычным голосом и гомерическим смехом.
Искандер выбежал на этот голос и смех нам навстречу. Вслед за ним появились дамы — жена Искандера и жена Грановского.
Грановский, поцеловавшись с женой, отправился с нею вперед и исчез между деревьями, а Кетчер, обращаясь к Искандеру, его жене и М. К. Рейхель, девице, жившей у Искандера, кричал:
— Ну, что вы поделываете, как вы поживаете? — кричал Кетчер. — Ха, ха, ха! Ждали ли вы таких дорогих гостей? Ха, ха, ха!.. А есть ли у тебя вино? Чем ты будешь поить нас? Ха, ха, ха!
Он подбоченился и остановился перед Искандером.
— У меня есть еще небольшой запас; но зная, что вы все приедете, — отвечал он, — я сегодня послал к Депре.
— Ну, а зачем же ты не написал ко мне? Для чего напрасно мучить и посылать человека?..
Кетчер имел обыкновение обращаться с своими совершеннолетними друзьями, как гувернер с детьми. Он начал серьезно ворчать на Искандера и сопровождал это ворчанье сильной мимикой.
— Перестань орать! Скучно! — заметил Искандер. — Вино будет. Чего тебе еще?
— Не в том сила, — возразил упорно Кетчер: — я уж позаботился об этом, мы привезли вина с собой, — дело в том, что ведь ты свистун, братец, не умеешь ничем заранее распорядиться…
И вслед за тем он снова залился добродушнейшим хохотом…
Отпустив еще с хохотом несколько любезностей дамам, Кетчер направился лично убедиться, поставлено ли шампанское на лед. …. …Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям. Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far-niente на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша, дикий, но добродушный хохот Кетчера, размахивавшего длинным чубуком — все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии… В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы…
А лето 1845 года в Соколове действительно было закатом молодости этого кружка, лучшими представителями которого были Белинский, Искандер и Грановский, — но закатом великолепным, блестящим, ярко и картинно озарившим всех друзей своими последними лучами… …Утром, после чая, Искандер шел обыкновенно в свой кабинет работать, и все рассыпались в парке… Кто лежал с книгой под деревом, кто гулял, кто вел тихую беседу с приятелем на берегу реки, кто отправлялся купаться; Кетчер обыкновенно с огромной палкой и с котомкой уходил в лес за грибами. Перед обедом все сходились. Искандер являлся после своих занятий еще живее и веселее обыкновенного, обед был шумный, вино не сходило со стола до ночи. Кетчер ликовал, — он был в своей сфере, откупоривая с шумом бутылку за бутылкой. Эти хлопанья, среди самых непрерываемых, одушевленных и пылких речей, нередко продолжались до самого рассвета. Все кипели молодою жизнию. Никто не думал о сне, никому не хотелось расстаться друг с другом, даже дамы не спали…
После одной из таких ночей, недалеко до рассвета, я, несколько утомленный, отправился спать. Я спал вместе с Кетчером в отдельном небольшом домике… Хочу отворить дверь — дверь заперта; я стучусь… нет ответа, только внутри дома раздается хохот Кетчера и женские голоса… Я подхожу к окну — и вижу Елизавету Богдановну (жену Грановского) и Марью Каспаровну (девицу, жившую у Искандера). Они сговорились с Кетчером подшутить надо мной и не пускать меня до рассвета. Делать нечего. Я воротился в Belle-vue, где еще продолжался шумный, веселый разговор до солнечного восхода… Вина было выпито страшное количество, но оно как будто не действовало на нас, только солнце уличило нас в неумеренной попойке, осветив наши бледные и зеленоватые лица…
Часов около десяти на другой день Искандер пришел будить нас…
— Ну, Панаев, — сказал он, — беда! Нам сегодня, кажется, вовсе придется не обедать.
— Отчего? — спросил я.
— Весь запас истощился, и даже капли водки не осталось.
Рюмка водки перед обедом была для меня и для него необходимостию…
— Что же делать? об этом надо серьезно подумать, — продолжал Искандер. — Я послал в Москву человека, да не знаю, успеет ли он вернуться к обеду… Ах, вот блестящая мысль!.. Я возьму у Наташи спирту, на котором приготовляют кофе, и мы впустим туда несколько капель воды. Это может с успехом заменить водку.
Действительно, так было сделано. Эта импровизированная водка до того понравилась мне и Искандеру, что мы долго потом употребляли вместо водки спирт, подвергаясь остроумным замечаниям Корша и других приятелей… …Для полного комплекта недоставало в это лето только Огарева, который был за границей. Отсутствие его особенно чувствовалось Грановским и Искандером, которые были к нему сильно привязаны…
Весною 1846 года Грановский читал третий и последний курс своих публичных лекций. Опять вся Москва собралась к его кафедре. Я не слышал этих лекций, но все наши друзья говорили, что лекции эти не были так удачны, как первые, что Грановский обнаруживал какое-то утомление, что-то как будто тревожило его и лишало одушевления.
После одной из этих лекций Грановский узнал о приезде Огарева и Сатина.
Вместе с Искандером они бросились к Яру.
Свидание после нескольких лет разлуки было горячо…
Теперь кружок был в полном сборе.
Тут же сговорились, чтобы лето провести неразлучно и непременно опять в Соколове, которое я называл почему-то всегда Соколовкой. Искандер постоянно подсмеивался над этим.
— Настоящий барин, — говорил он про меня, смеясь: — он все употребляет уменьшительные: Прохор у него Прошка, Соколово — Соколовка.
Искандер занял прежний дом, Грановский — небольшой флигель в этом же парке, Огарев поместился на антресолях, Кетчер — в маленьком домике, в глубине парка…
Все мечтали о том, как будет хорошо и весело. Надежды, однако, не сбылись… После переселения на дачу у Искандера умер отец. Хлопоты и дела отвлекли его на время от друзей…
Я приехал в Москву, когда Искандер кончил свои дела, и отправился вместе с ним в Соколово.
Раз вечером, когда мы все сидели на верхнем балконе дома, занимаемого Искандером, между ним и Грановским зашла речь о тех теоретических вопросах, до которых они вовсе не касались или касались только слегка, как бы боясь серьезно затронуть их… Слово за слово, спорящие разгорячились; Грановскому спор этот, повидимому, был очень неприятен, он старался прекратить его, но Искандер упорно продолжал его. Наконец Грановский, меняясь в лице, сухо сказал:
— Довольно, — что бы ты ни говорил, ты никогда не убедишь меня и не заставишь принять твоих взглядов… Есть черта, за которую я не хотел бы переходить. Мы дошли до этой черты.
Искандер взглянул на Огарева грустно-иронически. Огарев печально покачал головою.
Последовало неловкое молчание; потом разговор возобновился об обыкновенных вещах.
Я в первый раз видел Грановского в раздраженном состоянии и до этого не подозревал, чтобы между им и Искандером могло существовать разногласие, близкое к охлаждению их отношений…
Весь этот вечер и Грановский и Искандер были грустны и чувствовали неловкость…
Даже крики и хохот Кетчера, который они всегда сносили терпеливо, кажется беспокоили их.
На другой день, за обедом, Грановский очень хвалил одну из статей Искандера, напечатанную в "Отечественных записках".
— Да что ж тебе нравится, — возразил с ироническою улыбкою Искандер: — стиль, что ли? Ведь ты не согласен с моим взглядом…
Грановский вспыхнул.
— Твои статьи, — возразил он, — будят, толкают, — вот чем они хороши… Разумеется, односторонности твоих воззрений и теорий поддаваться нельзя…
— Так если мои теории — пустяки, для чего же будить и тревожить людей из-за пустяков?
Спор снова закипел, в него вмешался Огарев, который был на стороне Искандера, и кончился тем, что Грановский сказал, побледнев и дрожащим голосом:
— Вы меня, господа, очень одолжите, если в разговоре со мною не будете касаться таких предметов. Можно говорить о чем-нибудь более приятном и полезном…
Жена Искандера круто переменила разговор…
Корш через несколько дней после этого заметил Искандеру и Огареву, что, будучи уже в совершеннолетии и зрелости, мечтать о каком-то идеальном тождестве между друзьями невозможно.
Грановский и Искандер сходились попрежнему; в их наружных отношениях ничего не переменилось; но если не холодность, то какая-то осторожность уже заметна была в обращении их друг с другом.
Они так и расстались.
После отъезда Искандера за границу представителем московского кружка остался Грановский. Около него группируются все остальные. Авторитет его доходит в это время до своей высшей ступени.
Грановский делается кумиром кружка, может быть даже и сам не замечая этого при начале. Его влияние растет как будто против его воли, потому что он вовсе не хлопочет об этом и не только не старается поддержать его, напротив, делает все, чтобы поколебать его, как мы увидим впоследствии. Если Грановский обращает внимание на какого-нибудь молодого человека и замечает о его таланте, отзывается с похвалою о его научных сведениях, — этот молодой человек одним словом Грановского тотчас же выдвигается из толпы: петербургские журналисты начинают гоняться за ним, предлагают ему хорошие деньги за его статьи, стараются переманивать его друг от друга и проч. Грановский, по своей доброте и снисходительности, нередко ошибался в людях, и на его рекомендации не всегда можно было положиться. Он поднял было на минуту Ордынского, объявив его человеком чрезвычайно даровитым и знатоком греческого мира. Ордынский вдруг явился сотрудником в лучших журналах; но его несостоятельность и тупость обнаружились скоро, — и Грановский тотчас же сознается в своей ошибке и еще смеется над собою…
Сделавшись авторитетом и сознавая это, Грановский носил этот авторитет так легко, так незаметно, что его нельзя было отличить от простых смертных… Он никого не тяготил своим авторитетом, никому не навязывал его. Он оставался тем же гуманным, мягким, симпатическим. Грановским, которым был и до этого.
Он сам скорее тяготился приобретенным им значением и теми обязанностями, которые это значение налагало на него. У него недоставало необходимой для представителя кружка силы, энергии, и потому, после отъезда Искандера за границу, московский кружок мельчает, бледнеет, выдыхается. В среде его начинают появляться новые люди, конечно прекрасные, но ограниченные и малоспособные. Корш переезжает в Петербург, Огарев живет в деревне… Все как-то расклеивается…
После 1848 года неблагосклонность правительства к университетам, преследование литературы, тупоумие ценсуры доходит до последних пределов. Малейшее движение на Западе отзывается у нас новым гнетом. О Грановском в течение трех месяцев два раза собирает справки тайная полиция. Все избранные, передовые люди, подавленные страданием, упадают духом — и Грановский, может быть, более, нежели другие… Он ищет развлечения, забвения разных неприятностей — в картах. Слабость к картам развивается у него до страсти. Он ведет большую игру, вовсе несообразную с своими ограниченными средствами, путается в своих делах, занимает деньги, заводит связи с людьми, не имеющими с ним ничего общего, нимало не заботясь о том, что это вредит его авторитету как профессора и как представителя кружка. Студенты начинают роптать на него, хотя любят его попрежнему; друзья исподтишка покачивают головами и вздыхают, замечая, что карты губят его…
В это время возвращается из-за границы Н. Г. Фролов, после смерти первой жены своей, урожденной Галаховой, — женщины, по всеобщему сознанию всех знавших ее, чрезвычайно замечательной. Грановский познакомился с Фроловыми за границей и был очень близок с ними.* * См. подробности об этом в книге г. Анненкова о Станкевиче.
Отношения Грановского к Фролову и связи, скреплявшие их все более и более после возвращения Фролова в отечество, заставили Грановского быть несколько пристрастным к нему и придавать ему значение, которого он не имел. Закоренелые кружковые доктринеры искренно или по расчету подчинялись во всем безусловно Грановскому, смотрели, разумеется, его глазами на Фролова, не позволяя иметь о нем никому самостоятельного мнения и в противном случае грозили кружковой опалой. Маленький и кругленький Фролов вдруг поднялся и вырос в качестве друга Грановского…
Я здесь, кстати, передам те впечатления, которые оставил во мне Фролов. Верны они или нет — пусть судят об этом люди, которые близко знали его и смотрели на него беспристрастно и независимо от его связи с Грановским. Только эта связь заставляет меня остановиться перед ним на минуту.
Фролов занимал середину между людьми, которых обыкновенно клеймят названием дюжинных людей, и людьми, выдающимися из толпы по своим способностям…
Уже он не мог быть вполне дюжинным человеком, потому что самолюбие дюжинных людей удовлетворяется обыкновенно мелочами и пустяками, а самолюбие Фролова, которое постоянно грызло и терзало его, заключалось в том, чтобы сделаться серьезным человеком и приобрести во что бы то ни стало ученую известность. Он воспитывался в Пажеском корпусе и выпущен был оттуда в Семеновский полк. Четыре года исполнял он с безукоризненною отчетливостию все служебные обязанности, но недостаток высшего образования не давал покою его самолюбию. Он завел знакомство с разными петербургскими профессорами, спрашивал у них советов, особенно дорожил советами профессора Никитенки, и решился выйти в отставку и отправиться в Дерпт. Из Дерпта он уехал в Германию и женился на Е. П. Галаховой… Он не знал, на чем остановиться, не имея ни к какой науке положительного, истинного призвания, и потому слушал в Берлине всевозможные курсы: истории, философии, права, естественных наук и путался в этой обширной программе. Наконец, после долгих странствований и исканий, он остановился на Гумбольдте и Риттере и их последователях, в намерении перенести на русскую почву столь мало известную, у нас науку землеведения.
Возвратясь в 1847 году в Россию, он вывез из-за границы начало труда своего об Александре Гумбольдте, перевод I части «Космоса», модели памятников жены своей и картины и рисунки того места кладбища, где она покоится…
Я познакомился с Фроловым в конце 1844 года в Париже; он посещал усердно лекции в Сорбонне, тщательно записывал их, по вечерам писал что-то, рылся в своих бумагах, обнаруживал какую-то ученую кропотливость и среди шумной парижской жизни вел жизнь монашескую, упорно подавляя в себе страсти, которые иногда, против воли его, прорывались в его взглядах и в выражении лица его. В нем действительно было что-то монашеское…
Сходясь с людьми, он имел поползновение тотчас закрадываться в их внутренний мир и управлять их совестью, подобно католическим аббатикам; но это редко удавалось ему, потому что ему недоставало их ядовитой хитрости и тонкости.
В Петербурге он обратился ко мне, как уже к близкому знакомому, с рукописью о Гумбольдте, для напечатания ее в «Современнике». Мы решились печатать ее, хотя конца ее не предвиделось. Влияние Грановского на нас в этом случае было сильно. Грановский отзывался о статье с большою похвалою. До этого (то есть еще до приезда его в Россию) было уже напечатано в «Современнике» исследование Фролова о женевской тюрьме, доставленное нам Грановским же.
Первая статья о Гумбольдте не произвела благоприятного впечатления на публику.
Фролов не совладел с своим предметом, путался, повторялся и еще более затемнял изложение неуменьем владеть русской фразой.
Я заметил ему, что его язык надо поправлять… Это было неприятно ему, но он согласился, с тем чтобы поправки эти делались в его присутствии…
Часа три сряду мы сидели над мелко исписанною, нечеткою рукописью — и я едва успел привести в порядок первые пять страниц. Фролов даже никак не мог справиться с знаками препинания. Точек у него вовсе не было; вся рукопись испещрена была точками с запятыми. Поправки мои ему не нравились, он упорно защищал свои бесконечные периоды.
Пот лился с меня градом. Это была невыносимая пытка.
Поправки эти и то, что вторая, полуисправленная статья напечатана была без шпонок (то есть теснее обыкновенного, строчка к строчке) — оскорбили его самолюбие. Он надулся на нас.
Друзья Грановского и Фролова вменяли нам отсутствие этих проклятых шпонок в великое преступление, обвиняли нас в том, что мы сделали это из барышничества, из жадности к деньгам, чтобы менее заплатить за статью, не принимая в соображение, что расчет уменьшился на какие-нибудь 10 р., которые обогатить нас не могли, и что мы из угождения к кружку бросали сотни рублей не только бесполезно, даже, может быть, ко вреду журнала, ибо статьи о Гумбольдте оставались в журнале неразрезанными…
Фролов так и не окончил эти статьи, углубившись в перевод «Космоса», доказавший только окончательно совершенное неуменье переводчика владеть отечественным языком.
Едва ли у кого-нибудь из самых любознательных читателей достало терпения пересилить половину первой части знаменитого творения Гумбольдта в переводе Фролова.
Поселившись в Москве, Фролов скоро женился на больной сестре Станкевича, которая умерла через несколько месяцев после брака. Средства его после этого значительно расширились, и он мог независимее предаваться своим кропотливым трудам, продолжать свою труженическую жизнь. С Грановским он сближался теснее и теснее.
Летом 1850 года он переехал на дачу вместе с Грановским в Архангельское князя Юсупова. Они заняли один из больших флигелей, выдававшихся к Москве-реке. Грановские поместились в нижнем этаже, Фролов — наверху… …Я приехал в Москву вскоре после их переезда и остановился, по обыкновению, у Боткина. Грановский и Фролов, бывшие в это время по делам в Москве (Фролов строил для себя дом), просили меня и Боткина переселиться к ним в Архангельское, недели хоть на две, говоря, что у них очень обширное помещение. Фролов был со мною любезен. Он забыл, повидимому, о шпонках.
— У нас вам будет хорошо, право хорошо, — говорил он, обращаясь ко мне и Боткину и смотря на нас с двусмысленною улыбочкою: смесь добродушия с дурно скрываемым самодовольством от сознания своего превосходства.
Фролов постоянно обращался к нам с такою улыбочкою. Переложенная на слова, она как будто говорила: "вы люди хорошие, добрые, но ветреные, пустые; несмотря на это, я, человек дельный и серьезный, удостоиваю вас своим расположением. Вы мне нравитесь…" — Вам будет покойно, — продолжал Фролов, кладя мне руку на плечо: — мы поместим вас вместе с Васильем Петровичем, у вас будет отдельная комната… Мы постараемся доставить вам всевозможные развлечения, вы не соскучитесь… Какие прогулки у нас, какое купанье!
Мы охотно приняли это приглашение и сговорились ехать вместе с Грановским в его тарантасе на другой день вечером…
Вечер этот для меня незабвенен.
Мы уселись втроем в тарантасе и отправились в Архангельское часов около восьми.
Это было в исходе июня.
Когда мы въехали на проселочную дорогу, ведущую к Архангельскому, а город с пылью и духотою остался далеко за нами и нас охватил свежий и душистый воздух полей и деревенский простор, — нам сделалось необыкновенно легко и приятно…
Грановский и без того в этот день был в очень хорошем расположении духа: лицо его было как-то особенно светло и приветливо, и его задумчивые, грустные глаза смотрели веселее, как будто какая-то тяжесть спадала с него.
У него была потребность высказаться, и он разговорился с нами о себе с такою увлекательною горячностию и откровенностию, с таким бесконечным добродушием, с такою задушевною простотою, к которым способны только люди с высшими, избранными натурами, не боящиеся открыто сознаваться в своих недостатках и слабостях.
Он завел речь о своей страсти к картам.
— Вы и вообразить не можете, господа, — сказал он нам, — до чего доводила меня эта безумная страсть и в какое ужасное положение она ставила меня!..
И он рассказал нам, как, увлекаясь постепенно и проигрывая, он увеличивал игру, с каждым днем путаясь более и более; с каким трудом доставал деньги для уплаты; как, наконец, он задолжал такую сумму, которую непременно надо было выплатить через неделю, а достать ее в такой короткий срок не предвиделось никакой возможности; как честь его висела на волоске; какие страшные и мучительные бессонные ночи проводил он; как, узнав его безвыходное положение, к нему обратились известные московские шулера с предложением ему денег, с тем чтобы он вступил в их сообщество. Им нужно было безукоризненное, честное имя, чистая репутация для прикрытия их мошенничества, плутней и грабежа. Грановский тут-то только увидел ясно, до какого страшного падения довела его безумная страсть, над какой пропастью остановился он… Шулера, конечно, уехали от Грановского смущенные, поняв всю глупость и необдуманность своего поступка, а Грановского спас один из его приятелей, достав нужную ему сумму.
— Уж теперь кончено, господа, — прибавил он в заключение своего рассказа: — урок, полученный мною, был слишком жесток, и я даю вам слово, что не буду брать этих проклятых карт в руки…
Потом он начал рассказывать нам с одушевлением о замышляемых им трудах, о тех исторических вопросах, которые занимали его в ту минуту… Глаза его горели. Лицо было одушевлено. Мы радовались, видя его нравственное обновление. С этого незабвенного вечера я полюбил его еще более…
Подъезжая к Архангельскому, Грановский заметил Боткину, почему он не попробует себя в повествовательном роде… что по складу своего ума он мог бы написать недурную психологическую повесть… Мысль эта понравилась Боткину…
— А в самом деле, разве попробовать? — сказал он в раздумьи и покачивая головою: — сюжет-то трудно выдумать; что бы такое придумать?.. Сюжет — это ужасно трудная вещь!
И Боткин начал импровизировать сюжет, сначала довольно серьезно, но так как из этой импровизации ничего не выходило, то он обратил ее в шутку, и мы от души смеялись над его вымыслом, до тех пор покуда въехали в густую аллею великолепного архангельского парка.
У крыльца дома ожидали нас жена Грановского с своею сестрой, Фролов и Ник.
Щепкин с женою, нанимавшие также дачу в Архангельском…
На нас с Боткиным посыпались отчасти колкие, отчасти добродушные замечания Фролова, сопровождаемые улыбками и дружеским трепаньем по плечу…
Все мы перед ужином прошлись немного по парку к большому дому…
Архангельское и в вечернем сумраке поразило меня своим великолепием, изяществом и широтою своих размеров… Боткин кстати начал припоминать стихи Пушкина об Архангельском, из послания его к Юсупову.
Ложась спать, мы с Боткиным мечтали о том, что проведем несколько приятнейших дней в Архангельском.
Боткин был в самом тихом и приятном настроении, которое часто у него расплывалось до сантиментальности. Он, сидя на постели, покачивая мерно и тихо головою, с сладким выражением лица хвалил Фролова…
— Милый человек, милый! — повторял он: — у него прекрасное сердце… конечно, он не орел… между нами, Грановский ведь пристрастен к нему… ведь у Фролова в голове путаница, туман, — но человек он милый, милый, добрый…
Мечты наши о приятных днях, предстоящих нам в Архангельском, осуществились не вполне. К концу нашего пребывания гармония, царствовавшая между нами и нашими гостеприимными хозяевами, была несколько нарушена; но об этом после.
Первые дни нашего пребывания прошли весело и незаметно в разговорах, прогулках, в катаньях на лодке по Москве-реке, в осмотре достопримечательностей Архангельского.
Последнее Грановского мало занимало, но Фролов был нашим усердным чичероне: он водил нас в дом, в театр, посвященный Гонзаго, указывал нам на каждую картину и статую, казавшиеся ему замечательными; причем Боткин замечал иногда раздраженным голосом:
— Что это вы-с? С чего вы взяли, что это хорошая вещь? Это дрянь, просто дрянь… Это все плохие копии. Все, что было здесь замечательного, вывезено отсюда в Петербург еще отцом Юсупова… а это дрянь, дрянь!
Фролов останавливал нас даже перед старыми и развесистыми дубами и липами в парке и замечал, что такие деревья можно найти только в одном царскосельском парке (по приезде в Петербург он поселился в Царском селе и изучил его парки с подробностию).
День наш начинался часов в девять — кофеем, чаем и различными закусками, расставленными на длинном столе в большой столовой, внизу, которая примыкала к теплице, уставленной большими померанцевыми, апельсинными и лавровыми деревьями. Грановский, пивший декохт, вставал ранее нас и после декохта около часу прохаживался по великолепной широкой липовой аллее, которая вела от флигеля к большому дому, пробегая "Journal des debats", «Independance» и "Allgemeine Zeitung"… Затем, когда он оканчивал свою прогулку, мы отправлялись к чаю, где все уже были в сборе, кроме Фролова. Фролов являлся немного позже, с заспанными глазками, целовал ручки дамам, всех дружно приветствовал, потом пил и кушал с усердием и, накушавшись, что называется, вплотную, отправлялся к себе наверх заниматься… Раз с Боткиным мы не выдержали, посмотрели в щель двери и увидели Фролова преспокойно и пресладко спавшим… С тех пор, когда Фролов говорил, что он идет заниматься, мы с Боткиным без невольной улыбки не могли взглядывать друг на друга. После чая с завтраком Грановский уходил в свой кабинет и до самого обеда не отходил от своей конторки. Его занимал в это время, если я не ошибаюсь, его курс истории для учебных заведений. В 4 часа садились за стол, а после обеда предавались различным развлечениям, прогулке и беседе.
Наше мирное деревенское времяпровождение нарушено было прежде всего приездом Сатина и Кетчера с ящиком шампанского, затем приездом в Архангельское молодого Юсупова с своими приятелями и последовавшими затем празднествами…
Я и Боткин были довольно коротко знакомы с Юсуповым. Юсупов, узнав о нашем пребывании в Архангельском, тотчас пригласил нас к себе. С Юсуповым приехали в Архангельское также близко знакомые мне Г* и В*. Мы провели у Юсупова вечер и следующие затем три дня. На второй день у Юсупова был обед. Юсупов, зная, что Грановский нанимает дачу у него в Архангельском, не сделав предварительного визита Грановскому, вздумал пригласить его на обед, не сказав ни мне, ни Боткину ни слова об этом.
Грановский улыбнулся этому приглашению и оставил его без внимания. Мы, ничего не подозревая, очень беспечно и спокойно явились к утреннему чаю Грановского… Через несколько минут мы стали замечать, что на нас посматривают очень недоброжелательно, отвечают на наши вопросы нехотя и вообще обращаются с нами с холодною сдержанностию.
Более всех обнаружил к нам холодность Н. Щепкин, едва удостоивавший смотреть на нас, и Фролов. В самом Грановском мы еще не заметили, впрочем, никакой перемены: он обращался к нам со всегдашнею своею приветливостию и улыбался нам так же симпатически.
Мне и в голову не приходила причина перемены к нам остальных. Я никак не мог придумать, что бы это значило… Когда мы ложились спать, Боткин, проведавший обо всем, уже объяснил мне, в чем дело.
Фролов предположил, что Грановский был приглашен Юсуповым по совету моему и Боткина, что мы этим скомпрометировали и унизили достоинство Грановского. Ко всему этому примешивались еще кое-какие сплетни.
Меня очень огорчило это. Я так высоко ценил Грановского, так искренно любил его, так дорожил его приязнью ко мне, что всякое недоразумение между им и мною было тяжело мне. До остальных мне не было дела.
Утром, при встрече с Грановским, я тотчас же объяснился с ним. Я был сильно взволнован и невольно высказал по этому поводу со всею горячностию мои чувства к нему.
Грановский обнял меня и поцеловал.
— Клянусь тебе, — сказал он мне, — что ни в тебе, ни в Боткине я не сомневался, я был уверен, что вы не могли поступить так бестактно. Я против вас ничего не имею и люблю вас всею душою. Фролов по дружбе ко мне принял все это слишком горячо и в горячности заподозрил вас. Согласись, однако, что приглашение было странно: с какой стати я пошел бы обедать к не знакомому мне человеку по его приглашению. Он мог бы сначала сделать мне визит, если бы желал видеть меня у себя… Об этом, впрочем, не стоит толковать, и я очень благодарен тебе за твое прямое объяснение.
Но Фролов и Щепкин уходились еще не так скоро… …Мы провели у Грановского еще дня два, не так уже приятно, как прежде, и уехали в Москву.
С тех пор я не видел Фролова. Фролов женился после этого в третий раз на родственнице Грановского и продолжал вести свою однообразную, труженическую жизнь, занявшись в последнее время изданием "Магазина землеведения и путешествий". Он умер в один год с Грановским, несколькими месяцами ранее его, в черниговском имении своей последней жены…
Еще за несколько времени до поездки моей в Архангельское я обедал с Грановским в Троицком трактире. Грановский был в этот день в хорошем настроении.
Зашла речь о Фролове. Я заметил, что у него какая-то путаница в голове.
Грановский улыбнулся.
— Нет, — сказал он, — поверь мне, что Фролов очень умный человек и душа у него прекрасная, но у него нет никакого диалектического дара: когда он говорит со мною об отвлеченных предметах, в ту минуту, когда он говорит, я ничего не могу понять; но после, когда я остаюсь один и вспоминаю его разговор, я понимаю, что он хотел сказать мне. …. …Грановский принимал горячее участие в успехах русской литературы, радовался развитию нашей журналистики и постоянно твердил о необходимости поддерживать лучшие ее органы. К «Современнику» он питал более симпатии, чем к "Отечественным запискам"; с г. Краевским он не мог иметь ничего общего, но, несмотря на это, считал как бы своею обязанностию посылать ему изредка свои статьи… Враждебные отношения этих двух журналов беспокоили его, и он умолял нас не вступать в полемику с "Отечественными записками".
— Бросьте, ради бога, ваши личные отношения, — говорил он нам не раз: — дело не в Краевском, чорт с ним совсем! Я сам его не люблю, — но существование и процветание его журнала необходимо так же, как существование и процветание вашего.
В один из своих приездов в Петербург он остановился у Корша и пригласил на вечер между прочими своими знакомыми и г. Краевского.
За ужином он встал и, обращаясь в особенности к г. Краевскому и ко мне, предложил тост за процветание "Отечественных записок" и «Современника» и за восстановление между ними полного согласия.
"Желательно было бы, — сказал он, — чтобы между "Отечественными записками" и «Современником» не существовало никаких враждебных отношений — и о чем враждовать им? Они идут к одной цели, действуют в одинаковом направлении. Вы, господа (он обратился к г. Краевскому и ко мне), должны оставить ваши личные неприятности и отношения и соединиться во имя общего дела. Мы все от души пьем за процветание "Отечественных записок" и "Современника"!
Г. Краевский, с насупившимися бровями, проговорил что-то глухо. Я протянул ему свой бокал и сказал, что искренно желаю успеха "Отечественным запискам" и что даже лично против него не имею ничего. "Нас призывает, как заметил Грановский, — прибавил я в заключение, — дело общее, забудемте наши личные мелочные отношения и дадим себе слово прекратить навсегда личную полемику!" Г. Краевский чокнулся с моим бокалом и так же глухо произнес:
— Что ж, я не прочь с своей стороны, если вы…
И затем он подсел ко мне и начал говорить с ожесточением о "Письмах Иногороднего Подписчика", печатавшихся тогда в «Современнике», уверяя, что эти письма и породили полемику между нами и что он, г. Краевский, никакого шутовства, гаерства, никакой сенковщины выносить не может, что он ратует за науку, за искусство и проч.
На другой день Кавелин давал обед в честь Грановского. Г. Краевский, поздоровавшись со всеми, взглянул на меня и отвернулся…
Примирение не удалось…
С этих пор при встречах мы придерживаемся этой методы — то есть отворачиваемся друг от друга.
Грубость г. Краевского была очень досадна Грановскому: самолюбие его было несколько оскорблено его благородною и неудачною попыткою; но он очень смеялся, когда я рассказал ему, что г. Краевский считает гаерством фельетоны Дружинина и что он уверяет, что он так уважает искусство и науку, что никакого шутовства не может переносить в литературе.
В Грановском не было тени педантизма закоренелых ученых, — он, впрочем, и не принадлежал к так называемым ученым в строгом смысле; он был одним из самых талантливых и изящных дилетантов науки. Он не изгонял остроумной шутки из области литературы, не презирал и не преследовал ее, как это делают тупоумные мудрецы; напротив, остроумная пародия, ловкая и забавная шутка очень нравились ему и заставляли его смеяться от всей души.
Кузьма Прутков, которого он прочитывал у меня еще в корректурах, забавлял его целый вечер, он знал наизусть некоторые из его лучших афоризмов и любил повторять их…
Чувство такта и меры в оценке литературных явлении никогда не покидало его. Ему очень нравились, например, "Записки Багрова" С. Т. Аксакова; но когда Аксаков возведен был в литературные патриархи, Грановский смеялся над этим… Через два года, после выхода «Воспоминаний» Аксакова (это было на вечере у Арапетова) Грановский довольно резко остановил П. В. Анненкова, придававшего преувеличенное значение Аксакову.
— В том, — сказал он, — что Аксаков в последнее время обнаружил замечательный талант — об этом никто не спорит, но для чего вы хотите делать из него кумир? Конечно,
"Воспоминания" Аксакова повыше «Записок» Жихарева. Аксаков прекрасно владеет языком — это бесспорно, но вы ставите его, господа, на такую недосягаемую высоту, которая вредит ему и делает его смешным.
Беседа Грановского, всегда исполненная тонкого ума, внутренней теплоты, чувства гуманности, симпатии ко всем живым явлениям современности, не имевшая в себе ничего блестящего, но освещенная тихим, ровным поэтическим колоритом, производила всегда отрадное впечатление на его слушателей, возбуждала их привязанность и укрепляла в них сочувствие к нему… Но иногда Грановский, затронутый за живое, являлся в ином, более ярком свете: в нем проявлялась необыкновенная сила, в глазах загоралась энергия, речь его лилась быстрым потоком и даже принимала не свойственный ему желчный и иронический колорит.
Таким, впрочем, я видел его всего один раз, на квартире у Корша в Петербурге. Это было в последний приезд его в Петербург.
Надобно сказать, что Корш, несмотря на свой колкий ум, быстро схватывавший в других все странное и смешное, имел какое-то пристрастие к Москве и ко всему московскому. Не разделяя вовсе славянофильских воззрений, над которыми он постоянно тешился, Корш жил и дышал только воспоминаниями о Москве. В Петербурге ему было нехорошо, неловко, скучно. Он беспрестанно рвался к Москве и стонал по ней. Этою слабою своею стороною он даже немного надоедал своим приятелям…
Корш имел в Петербурге положение довольно хорошее (он был тогда при редакции "Журнала министерства внутренних дел" и заведывал журналом с тех пор, как Надеждин был разбит параличом); положение его после смерти Надеждина должно было значительно улучшиться, но, несмотря на это, Корш рвался в Москву и охотно готов был бросить Петербург на какие-то московские надежды и фантазии. Это бесило Грановского, который очень любил Корша и принимал глубокое участие в его многочисленном семействе. С сестрой Корша Марьей Федоровной он был связан тесной дружбой.
Я заехал к Коршу нечаянно и нашел у него довольно большое собрание, обычный хвост кружковых петербургских доктринеров, всюду таскавшийся за Грановским во время приездов его. Все сидели за длинным чайным столом. У Корша самовар почти никогда не сходил со стола…
Стоны Корша о Москве и его толки о том, что жить можно приятно и независимо только в Москве, что только в Москве ум, знание, радушие и все возможные добродетели, раздражили Грановского. Он одушевился и начал оспоривать мнение Корша. Начала речи его я не застал…
Когда я взошел в комнату и взглянул на Грановского, я как будто увидел перед собою нового человека или, по крайней мере, совсем преображенного. Внутренний пыл ярко отражался в его благородных, прекрасных чертах, в которых мелькала грустная, но едкая ирония; даже в голосе его была не свойственная ему энергия. Я никогда не слышал, чтоб речь его лилась так звонко, горячо и свободно (Грановский говорил обыкновенно тихо и запинался в разговоре и на кафедре). Я никогда не видал его таким прекрасным и таким вдохновенным, как в эту минуту.
Изредка и вяло прерываемый Коршем, он говорил часа два сряду. Каждое его слово в этот вечер надобно было стенографировать. Он доказывал, что Москва отживает, то великое и неоспоримое значение, которое она имела некогда для России, что, напротив, значение для России Петербурга, в ущерб Москве, обнаруживается с каждым днем более и более и что Петербургу предназначено играть со временем большую роль в судьбах нашего отечества; что русский человек развитый и мыслящий еще несколько свободнее может жить из всей России в одном только Петербурге…
— Если бы не моя привязанность к Московскому университету, — говорил он, — я ни одной минуты не остался бы жить в Москве, — и что такое для меня, для тебя и для всех нас Москва без людей, дорогих нашему сердцу, кровных нам по убеждению, по мысли? Москва дорога мне по одним воспоминаниям об этих людях… С этой барской, пошлой, тупоумной Москвой, представителем которой является Английский клуб; с этой апатичной, ленивой Москвой, которая только спросонья важничает и, как старая баба, хвалится своим древним родом, своими прежними заслугами, толкует по старой памяти о своем умственном превосходстве, нелепо хвастает какою-то будто бы независимостию, которую приобрела она, — с этой Москвою я не могу, не хочу и не должен иметь ничего общего… И какая независимость в Москве? Москва, как все русские провинциальные города, подчинена произволу и прихоти начальствующих лиц. Хороша независимость при Закревском, перед которым все трепещут и который распоряжается всеми нами, как турецкий паша! Всякий произвол и гнет, конечно, тяжел, но прямо идущий от барина он все-таки более сносен, чем произвол холопа, всегда разбивающего себе лоб от излишнего усердия… Медному холопскому лбу ничего не делается, но каково другим, подчиненным этому медному лбу!.. В Москве могут жить хорошо теперь только люди остановившиеся, обеспеченные, отживающие. Человеку с свежими силами, с неостывшей энергией, с жаждою деятельности — в Москве делать нечего. Такого человека не может удовлетворить одно только бесплодное возвращение к своему прошедшему, эгоистическое наслаждение своими воспоминаниями; ему некогда праздно оглядываться назад, он стремится вперед и вперед… Ему должно казаться нестерпимым это бездеятельное, тупое самодовольствие, в которое погружена Москва. Такое самодовольствие есть несомненный признак отсталости и дряхлости…
Грановский никогда так сильно и резко не высказывал своих убеждений относительно Москвы. Корш был поражен и смущен его словами, которые, однако, не убедили его, а только раздражили: во весь этот вечер он был сам не свой и не отпустил ни одной колкости или остроты…
Могло ли мне прийти в голову, что я не услышу более Грановского, что ужин, который накрывали, был для некоторых из нас последнею, прощальною нашею трапезою с Грановским перед вечной разлукой?..
Вино как-то не пилось, Грановский был в волнении после своего разговора, Корш не в духе, все чувствовали невольно какую-то безотчетную грусть…
Грановский после ужина долго говорил с Марьей Федоровной в стороне… Наконец обнял всех и простился…
На другой день с первым поездом железной дороги Грановский уехал в Москву…
Это было в конце февраля 1855 года (если я не ошибаюсь), а 4 октября этого же года Грановского не стало…
Больная жена его, дни которой давно уже были сочтены, имела несчастие пережить его, но ненадолго…
В течение пятнадцати лет (с 1839 по 1855) Грановский боролся на кафедре с различными препятствиями, с величайшим трудом проводя независимую мысль, одушевлявшую его. Он носил в душе глубокий протест против старого порядка, грозно поддерживавшегося одной физической силой, и несмотря на то, что этот протест выражался в его лекциях и в его статьях в свойственных его характеру формах, деликатных и мягких, — влияние его на молодое поколение все-таки было очень сильно… …В минуты безвыходного отчаяния Грановский говорил: "Благо Белинскому, умершему во-время!" — "Сердце ноет при мысли, чем мы были прежде и чем стали теперь!" Падая духом, охладевая к своим трудам и обязанностям, он хотел заглушать свои внутренние страдания, как мы видели, бурной жизнию игрока; но его чистая, благородная натура спасала его… и он измученный, разбитый, надломленный возвращался снова к своему долгу, говоря: "ведь еще кое-что можно делать"…
Но эта борьба, но эти страдания, доводившие его до отчаяния и падения, сокрушили его и без того непрочное здоровье и ускорили его кончину. Еще будучи в Берлине, в конце тридцатых годов, он жаловался, впрочем, на боль в груди.* *Это видно из писем к Грановскому Станкевича, помещенных г. Анненковым в его биографии Станкевича.
Горькая насмешка судьбы!.. Грановский умирает именно в ту самую минуту, когда надежда на лучшее будущее вдруг одушевила всех и возбудила в нем умственную деятельность и энергию. По уверению друзей его, никогда он не порывался так трудиться на общую пользу и в особенности на пользу образования, как последний (1855) год своей жизни.
Возвратясь осенью в Москву из деревни вдовы Фроловой, он с горячностию взялся за мысль о периодическом издании "Литературно-исторического сборника", в котором, кроме исторических исследований, должны были помещаться статьи литературные и политические… Грановский замышлял ряд статей о своей науке под названием "Исторических писем". Программа сборника была готова, и он хотел ехать в Петербург, чтобы исходатайствовать разрешение этого издания… Смерть вдруг останавливает его порывы.
От Грановского осталось немного: исторические монографии, писанные им на ученые степени, очерки и характеристики, журнальные критические статейки и рецензии. Все это имеет более литературного, чем строго ученого достоинства. Грановский, конечно, мастерски владел языком, и фраза его отличается простотою, ясностию, сжатостию и изящностию, но по одним сочинениям Грановского, не представляющим ничего особенного, никак нельзя объяснить, почему имя его приобрело такое значение, почему возбуждал он такой энтузиазм при жизни и отчего такая благоговейная любовь сохраняется некоторыми к его памяти?
Объяснить это для тех, которые не знали Грановского, почти невозможно. Только те, кто слушали его лекции, видели его в дружеском кружке, пользовались его советами, беседовали с ним, могут засвидетельствовать, что влияние его было действительно велико, что личность его была в высшей степени симпатична я обаятельна и что его значение не преувеличено его друзьями, как это теперь предполагают многие… …В одном из своих сочинений Грановский говорит, что в переходные эпохи всегда особенно выдаются два типа:
"1) Люди с гордой и самонадеянной силой, идущие смело вперед, не спотыкаясь о развалины прошедшего, с чутким слухом и зорким оком. Сердца их не отзываются на звуки былого. За ними всегда остается право победы. 2) Люди, в которых воплощается вся красота и достоинство отходящего времени. Они лучшие его представители и доблестные защитники".
Грановский стоял как бы примирителем между теми и другими, сочувствуя более первым, но относясь к ним как историк с одинаковым беспристрастием. С своим глубоким, врожденным чувством изящного, он не мог не останавливаться перед красотою прошедшего, не мог не отзываться, и даже с любовью, на былые звуки, но мысль его вся была устремлена к будущему, и, не чувствуя в себе разрушающей силы первых, он понимал необходимость их и в полном сочувствии к ним благословлял их на великий подвиг…
ГЛАВА VI
Белинский в Петербурге. — Приезд Бакунина. — Его посещения. — Переезд Белинского на Петербургскую сторону. — Приезд Каткова, остановившегося у меня. — Наши занятия и гулянья. — Перевод "Путеводителя в пустыне" Купера. — Ссора Каткова с Бакуниным у Белинского. — Толки о дуэли. — Книгопродавец Поляков. — Отъезд Бакунина и Каткова за границу. — К. Аксаков в Петербурге проездом за границу. — Полтора года страдальческой жизни Кетчера в Петербурге.
Белинский, как уже известно моим читателям, остановился у меня на квартире. Через час после нашего приезда мы сидели у г. Краевского.
Г. Краевский, казалось, был очень доволен нашим приездом. Довольство выражается у него обыкновенно грубоватою любезностию и тупыми шуточками. Белинский передал ему о том, какие капитальные статьи он замышляет для "Отечественных записок". Г. Краевский одобрял планы Белинского, не без удовольствия улыбаясь, и поддакивал нам во всем с особенною мягкостию в голосе, причем иногда пускался в кое-какие рассуждения о литературе собственно для того, чтобы зарекомендовать Белинскому свое глубокомыслие. ….
Белинский тотчас принялся за свою вторую большую статью о "Бородинской годовщине", появившуюся в декабрьской книжке "Отечественных записок" 1839 года, и вслед за тем за "Менцеля"…
Приезд Бакунина в Петербург зимою 1840 года очень обрадовал Белинского. Бакунин заходил к нам почти всякий день и, исполненный монархического экстаза по Гегелю, рассказывал нам различные анекдоты об императоре, которые сообщались ему флигельадъютантом Глазенапом, и возводил их в апофеозы… Сомневаться в гении Николая Павловича считалось признаком невежества. Мне казалось все это несколько странным, однако и я, по авторитету Белинского и Бакунина, настраивал себя на благоговейное восхищение монархом…
Мы только и делали, что пересказывали нашим приятелям августейшие слова, речи и поступки, сообщаемые нам Бакуниным, восторгались, умилялись и с жаром оглашали воздух стихами:
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России?.. …Иль мало нас? или от Перми до Тавриды… От потрясенного Кремля До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, Не встанет русская земля? и так далее.Бакунин оставался в Петербурге, все время в таком настроении, до весны 1840 года.
Белинский переехал от меня ранней весною на Большой проспект Петербургской стороны, в видах экономии, и с любовию занялся устройством своего хозяйства и квартиры. Я переехал почти в то же время к Пяти углам, в дом Пшеницыной, который впоследствии Катков называл "кораблем Пшеницына"…
В апреле я получил от Каткова письмо, в котором он уведомлял меня, что намерен ехать за границу и перед этим прожить несколько времени в Петербурге. Я приглашал его остановиться у меня. Перед этим Катков прислал нам свой перевод шекспирова "Ромео и Юлии", который был продан нами книгопродавцу Полякову, бывшему тогда издателем «Пантеона». Деньги должны были быть заплаченными по напечатании перевода.
Катков был уже деятельным сотрудником "Отечественных записок". Несколько статей его было напечатано в библиографии; он готовил несколько больших критических статей и между прочим статью о Сарре Толстой, от которой был тогда в восторге весь кружок…
В неустоявшейся еще молодости Каткова было в это время много смешного и дикого.
Его статьи и он сам были исполнены претензий; он смешивал фразу с делом, раздраженье пленных мыслей принимал за серьезный труд; рисовался и в жизни и в статьях и доводил свою самоуверенность до заносчивости.
Когда я вспоминаю о Каткове, он до сих пор представляется мне почему-то не иначе, как с несколько прищуренными глазками, с сложенными на груди руками, декламирующий стихотворение Фрейлихграта и повторяющий с легким завыванием:
Capitano! Capitano!.. или декламирующий свой прекрасный перевод гейневского "Французского гренадера":
Какое мне дело! пускай поджидают… Бросаю детей и жену, Голодною смертью пускай умирают: В плену император! в плену!..Катков был тогда очень молод, и его молодость проявлялась в нем странными фантазиями. Раз как-то захотелось ему итти непременно в погребок и провести там вечер, как это делывал в Берлине знаменитый Гофман, которым все мы сильно увлекались в то время.
Катков предложил мне это.
— Да ведь здесь, Михайло Никифорыч, нет таких погребков, как в Германии, — возразил я: — здесь берут только вино в погребках, а не распивают его там… Если вы хотите, я пошлю за вином…
— Нет, я хочу непременно пить в погребке.
— Да коли это здесь не водится?
— Отчего не водится? Это вздор! Если не водится, так мы введем это в обычай… Я знаю, почему вам не хочется: вы боитесь унизить этим свое достоинство… — и разгорячась более и более, Катков начал нападать по этому поводу на различные дворянские предрассудки и нелепые приличия, которыми я, по его мнению, был заражен.
— Так вы решительно не хотите итти со мною? — спросил он в заключение, складывая торжественно руки и щуря глазки.
— Решительно нет.
— Ну, так я пойду один.
Катков взялся было уже за шляпу, но потом отложил свое намерение.
Дня два после этого он дулся на меня…
В другой раз мы отправились с ним, с Белинским, с Бакуниным, с Языковым и еще не помню с кем-то из наших приятелей на биржу есть устрицы, до которых Белинский был страстный охотник.
Все запивали устрицы портером, но Катков потребовал какого-то крепчайшего вина, уверяя, что устрицы обыкновенно пьют с этим вином — и один выпил всю бутылку.
Когда мы окончили наш завтрак и вышли на улицу, вино мгновенно обнаружило свое действие над Катковым: он, ни слова не говоря нам, пустился бежать от нас. Мы уговаривали его остановиться, хотели удержать его, но он вырвался от нас и скоро исчез.
Все остальные из биржи зашли ко мне. Прошло часа три, мы сели уже за чай, но Катков не являлся. Это уже начинало беспокоить нас, тем более, что горничная моей жены сказала нам, что видела его на Семеновском мосту, что он стоял со сложенными руками посредине моста, что все экипажи объезжали его и что около него собралась даже толпа…
Каткова мы так и не видели в этот вечер.
На другой день Языков, живший с своей сестрою, передал нам, что Катков заходил к нему и звонил так сильно, что оборвал звонок и перепугал сестру его.
— Неужели? — вскрикнул, вспыхивая, смущенный Катков, — а я, клянусь вам, и не помню, заходил ли я к вам. Бога ради, извините меня.
Такие вспышки веселья и разгула бывали, впрочем, у него редко; большую часть времени Катков проводил в постоянном усиленном труде, который, кроме его внутренней потребности, был необходим ему потому, что этим трудом он должен был содержать не только себя, но свою старуху-мать и брата, который тогда приготовлялся к университету.
Средства к существованию Каткова основывались в это время единственно на сотрудничестве в "Отечественных записках". Г. Краевский платил ему с трудом за его критические статьи по 100 рублей ассигнациями за лист, если я не ошибаюсь. Положение г. Краевского в первые три года издания "Отечественных записок" было затруднительно: журнал не окупался, долг возрастал. Многие из московских друзей Белинского работали для "Отечественных записок" con amore, бесплатно, стараясь поддерживать журнал, в котором участвовал он. Белинский привлек в "Отечественные записки" вместе с собою всю талантливую и горячую московскую молодежь. Он одушевлял, оживлял и подстрекал всех к труду…
Незадолго до приезда Каткова в Петербург я прочел только что изданный во французском переводе роман Купера: "Путеводитель в пустыне" (Le Lac Ontario). Роман этот произвел на меня сильное впечатление, и я рассказал содержание его Белинскому.
— Его надобно непременно перевести для "Отечественных записок", — сказал Белинский, — и скорей, чтобы кто-нибудь не перебил.
Каткову "Путеводитель в пустыне" также нравился, и Белинский упросил нас переводить его вместе. Катков взял на себя перевод двух первых, а я двух последних частей; Катков переводил с английского, я с французского. Г. Краевский объявил нам, что за перевод деньгами он платить не может, а отпечатает нам 200 отдельных экземпляров, которые мы можем продать в свою пользу. Мы согласились на это условие и принялись за труд с жаром.
Целые вечера за одним столом на корабле Пшеницыне мы просиживали над этим переводом.
Через месяц по отпечатании его в журнале мне были доставлены 200 условленных экземпляров, которыми мы могли, впрочем, распоряжаться не прежде полугода.
Г. Юнгмейстер только что открыл тогда книжный магазин, и я продал ему наши экземпляры за 700 рублей ассигнациями, то есть по 3 руб. 50 коп. асе. за экземпляр. Г. Юнгмейстер говорил мне впоследствии, что он бросил эти деньги даром, потому что продал только 2 экземпляра! С год назад тому мне понадобился наш перевод… Я не мог отыскать его, однако, ни в одной книжной лавке (не исключая и лавки г. Юнгмейстера), даже не нашел его на Толкучем. Куда же девался этот бедный «Путеводитель», или г. Юнгмейстер сжег его?..
Перед этим весь наш кружок был в сильном волнении, и вот по какой причине. Через два месяца после переезда Белинского на новую квартиру в одно утро у него сошлись Катков и Бакунин. По обыкновению, начались рассуждения о разных философских вопросах. Катков вступил в спор с Бакуниным; спорящие никогда, кажется, не питали друг к другу особенного расположения, и потому спор с самого начала принял желчный и колкий оттенок, доведший спорящих до того, что они потребовали удовлетворения друг у друга.
Катков не без эффекта сообщил мне об этом и просил меня быть его секундантом… Я согласился не без страха… Несколько дней Катков был торжественно мрачен, щурил глаза более обыкновенного, чаще складывал руки по-наполеоновски, заводил речь о смерти и т. д.
Белинский сначала встревожился этим происшествием… Наконец, по долгом размышлении и после многих переговоров, решено было отложить дуэль до Берлина, чтобы не подвергнуться строгости отечественных законов и не воспрепятствовать решенной обоими ими поездке за границу…
Бакунин уехал несколькими месяцами ранее Каткова.
Катков поневоле откладывал свою поездку, потому что рассчитывал на деньги, следуемые ему от книгопродавца Полякова за перевод "Ромео и Юлии". Он полагал, что с этими деньгами и с прибавкою к ним незначительной суммы (не более, впрочем, ста рублей ассигнациями), бывшей у него, он может доехать до Берлина и прожить еще там несколько времени до новых ресурсов, имевшихся у него в виду. Но книгопродавец Поляков, ухмыляясь, изгибаясь и извиваясь перед Катковым, каждый день клялся ему, что он заплатит завтра. Таким образом прошло более месяца. Катков вышел из терпения и взял билет на пароход… Он объявил об этом Полякову и сказал, что долее терпеть не намерен…
— Будьте уверены-с, Михайло Никифорыч-с, — отвечал Поляков, — клянусь вам всем священным-с; вы можете назвать меня подлецом-с в глаза, если завтра в 10 часов утра я не доставлю вам всей суммы сполна-с, новенькими-с, ассигнация к ассигнации-с, на подбор-с, ей-богу-с.
Это было накануне отъезда Каткова. Мы прождали Полякова до часу и отправились к нему в лавку. Катков был вне себя…
Поляков хотел было скрыться от нас, но мы поймали его за фалду. Он чуть было не бросился в ноги Каткову и со всеми возможными клятвами уверял, что уж завтра в 10 часов утра (то есть в день самого отъезда) он всенепременно расплатится…
— Пароход отходит в час из Петербурга в Кронштадт… Смотрите же, — говорили мы, — мы вас опубликуем, опозорим!..
— Сохрани боже-с! — стонал Поляков. — Как это можно-с! Я не допущу себя до этого срама-с… Помилуйте, кто сам себе враг-с…
— Что мне делать? — сказал Катков: — ведь этот мошенник опять надует меня.
Я имел наивность думать, что в этот раз Поляков наконец сдержит свое обещание, и успокоивал Каткова…
Но Поляков не явился. В 11 часов мы, в совершенной ярости, вбежали в его лавку. В лавке его не оказалось… Дома его поймать было невозможно. Наша ярость пала на его приказчиков, которым, впрочем, это было нипочем. Они уже были приучены к подобным сценам.
И Катков должен был уехать за границу со ста рублями ассигнаций.
Мы провожали его до Кронштадта…
— Бога ради, спасайте же меня, — сказал он, обнимая нас при прощаньи: — высылайте мне скорей деньги в Берлин… Я могу умереть с голода, если вы меня забудете.
Как ни тревожило, однако, Каткова его безденежье, он был весел и счастлив мыслию, что через несколько дней будет в Западной Европе, которая так давно манила его к себе; что он вступит в самое святилище науки, в этот Берлинский университет, о котором он так давно мечтал. Он предавался разным упоительным фантазиям со всем увлечением и беспечностию молодости, забывая свое стесненное положение и предстоящую ему в Берлине дуэль, считая ее неизбежной.
Через несколько дней после его отъезда Поляков заплатил деньги, и мы тотчас же отослали их к Каткову в Берлин, с прибавкою денег от г. Краевского…
Я забыл сказать, что еще за год до этого, весною 1840 года, останавливался на несколько дней в Петербурге, проездом за границу, Константин Аксаков.
Он на другой же день после своего приезда пришел ко мне.
После объятий и крепких рукопожатий я спросил его:
— Надолго ли вы к нам, Константин Сергеич?
— Нет, нет… — отвечал он, — зачем мне оставаться здесь?.. Вы знаете, что мне противен ваш Петербург… Я послезавтра уезжаю за границу. Мне просто душно здесь. Ваш Петербург… точно огромная казарма, вытянутая в струнку. Этот гранит, эти мосты с цепями, этот беспрестанный барабанный бой — все это производит подавляющее, гнетущее впечатление… Лица какие-то не русские… Болоты, немцы и чухны кругом. Нет, сохрани боже оставаться здесь долго!
Когда мы вышли вместе с Аксаковым на улицу, он с недоброжелательством начал посматривать на все: на домы, на людей, встречавшихся нам; его раздражал гром от экипажей, движение на улицах… И как будто для того, чтобы забыться и отвлечь свое внимание от всего этого, он начал смотреть вверх, на небо.
Небо было ясно, одна только небольшая тучка пробегала по синеве…
Аксаков схватил меня за руку, остановился и начал с жаром декламировать:
Последняя туча рассеянной бури, Одна ты несешься по ясной лазури… и т. д.Он продекламировал мне все стихотворение, не замечая ничего и никого, а около нас уже образовалась толпа с ироническими улыбками.
Когда я обратил на это внимание Аксакова, Аксаков печально покачал головою.
— Я забылся, — сказал он, — я думал, что я в Москве. У нас нисколько не кажется странным, если человеку вздумается прочесть стихотворение, идя по улице. А у вас, верно, это не принято, оттого эти господа и обступили нас. В Москве широта, простор, свобода во всем, а здесь…
И он продолжал на эту тему, прибавив в заключение:
— Бога ради, извините меня, может быть я скомпрометировал вас?..
Аксаков думал пробыть с год за границей, но пробыл в Германии, кажется, не более четырех месяцев, страдая тоской по Москве и порываясь к родному очагу, без которого жизнь была для него невозможна.
Европа не произвела на него приятного впечатления; он возвратился в Москву еще более яростным москвичом, чем был до своей поездки, и скоро сделался ожесточенным противником Запада и одним из самых фанатических представителей славянофилизма.
Ходило множество забавных рассказов из заграничной жизни Аксакова. Я помню один, справедливость которого, смеясь, подтверждал сам он.
На углу одной из берлинских улиц Аксаков заметил девочку лет 17-ти, продававшую что-то. Девушка эта ему понравилась. Она всякий день являлась на свое привычнее место, и он несколько раз в день проходил мимо нее, не решаясь, однако, заговорить с нею…
Однажды (дней через девять после того, как он в первый раз заметил ее) он решился заговорить с нею…
После нескольких несвязных слов, произнесенных дрожащим голосом, он спросил ее, знает ли она Шиллера, читала ли она его?
Девушка очень удивилась этому вопросу.
— Нет, — отвечала она, — я не знаю, о чем вы говорите; а не угодно ли вам что-нибудь купить у меня?
Аксаков купил какую-то безделушку и начал толковать ей, что Шиллер — один из замечательнейший германских поэтов, и в доказательство с жаром прочел ей несколько стихотворений.
Девушка выслушала его более с изумлением, чем с сочувствием.
Аксаков явился к ней на другой день и принес ей в подарок экземпляр полных сочинений Шиллера.
— Вот вам, — сказал он, — читайте его… Это принесет вам пользу. Вы увидите, что, независимо от таланта, личность Шиллера — самая чистая, самая идеальная, самая благородная…
— Благодарю вас, — произнесла девушка, делая книксен, — а позвольте спросить, сколько стоят эти книжки?..
— Четыре талера.
— Ах боже мой, сколько! — наивно воскликнула девушка. — Благодарю вас… Но уж если вы так добры, так лучше бы вы мне вместо книжек деньгами дали…
Аксаков побледнел, убежал от нее с ужасом и с тех пор избегал даже проходить мимо того угла, где она вела свою торговлю. ….
Ненависть к Петербургу, как читатель уже видел, питали не одни московские славянофилы, а и москвичи-западники, как, например, Корш и Кетчер.
Надобно было посмотреть на бедного Кетчера, когда он вздумал было переселиться в Петербург, по совету своего брата, на службу в Медицинский департамент! Кетчеру была необходима жизнь нараспашку, в каком-нибудь маленьком деревянном флигельке с садиком или по крайней мере с палисадником, в котором бы он мог копаться запросто в халате: садить огурцы и подсолнечники; вести небольшое хозяйство, иметь небольшие запасы, — для этого требовались различные чуланчики, небольшой отдельный погребок и тому подобное…
В Москве он легко пользовался всеми этими удобствами: сохранял кислую капусту до осени и угощал середи лета друзей своих жирными селянками; по утрам он беспрестанно переходил от своих гряд с огурцами к переводу Шекспира и от Шекспира снова к огурцам; после раннего обеда отправлялся куда-нибудь за город к приятелям и собирал дорогой еще иногда грибы, проходя через какой-нибудь лесок, а вечером кричал и хохотал на вольном воздухе, разливая шампанское… После такой привольной, размашистой жизни он вдруг очутился в тесной квартире огромного петербургского дома, по крайней мере с 4000 обитателей, на самом верху: грязная лестница, ни одного чуланчика, ни одной травки на вымощенном дворе, — все как-то узко, тесно… и приятели — люди небогатые и расчетливые, у которых шампанское не появляется всякий день?.. Ни голосу, ни движениям, ни размашистым привычкам нет никакого простора.
Кетчер изнемогал в такой жизни, стонал по Москве и гремел проклятиями против Петербурга… По его словам, в Петербурге ничего даже нельзя было достать порядочного: и говядина хуже московской, и вино скверное, подмешанное, и шампанское поддельное, и сигары никуда не годные.
Белинский, который, напротив, симпатизировал с петербургской жизнью, часто подсмеивался над Кетчером и любил представлять московскую жизнь в карикатуре. Кетчер выходил из себя, защищая Москву, и поднимал такой крик, что Белинский затыкал обыкновенно уши и умолял Кетчера замолчать.
— Ведь тебя не перекричишь, бог с тобой, я со всем согласен… — говорил Белинский, улыбаясь.
Кетчер никак не мог примириться с петербургской жизнию; тоска по Москве увеличивалась в нем с каждым днем… и при первой возможности он переселился в Москву.
Еще до сих пор с ужасом вспоминает он о своей петербургской жизни и не шутя уверяет всех, что в Петербурге ни за какие деньги не достанешь ни говядины порядочной, ни настоящих гаванских сигар, ни настоящего шампанского…
ГЛАВА VII
Наш петербургский кружок. — Субботы у меня. — Увлечение Белинского Леру и ЖоржСандом. — "Revue independante". — Неловкое положение г. Краевского вследствие нового направления Белинского. — Женитьба Белинского. — Кречетов. — Удар паралича. — Некрасов. — Знакомство с ним и с Григоровичем. — Появление Тургенева. — Два слова об эксплуататорах и об эксплуатируемых.
После отъезда Бакунина и Каткова Белинский, найдя неудобным жить вдалеке от редакции, переехал с Петербургской стороны к Аничкину мосту в дом Лопатина, куда я также переселился и где нанял себе квартиру г. Краевский после смерти жены своей.
Около Белинского в Петербурге составлялся мало-помалу небольшой кружок из людей, высоко ценивших его как писателя и глубоко уважавших его как человека. К этому кружку принадлежали между прочими: П. В. Анненков, Кавелин (переехавший в Петербург), А. А. Комаров, М. А. Языков, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев и другие; вскоре к ним присоединились Некрасов и Тургенев и позже Ф. М. Достоевский и Гончаров… Из Москвы часто приезжали В. П. Боткин, Искандер и Огарев. Приезды эти были праздником для Белинского и для всех нас. Искандер с каждым приездом своим все теснее сближался с Белинским…
Белинский, с свойственною ему энергиею, начал действовать в новом направлении. Но прошедшее все еще давило его, как кошемар.
— Жизнь моя не должна быть долга, — говорил он мне, — во мне зародыш чахотки, — я это очень хорошо знаю; но я охотно отдал бы несколько лет жизни, если бы мог искупить этим вполне мое безумие, дотла истребить воспоминание об этой эпохе и уничтожить все нелепые статьи мои, относящиеся к ней.
В то самое время, когда в Белинском совершался внутренний переворот под влиянием Искандера, — в Париже появился под редакциею Леру, Жоржа Санда и Виардо "Revue independante". Я принялся читать его с жадностию и, увлеченный статьями Леру, переводил их отрывками Белинскому. Перед этим Белинский прочел все романы Санда, которые были переведены (я перевел нарочно для него конец "Спиридиона"), и прежнее негодование его к Жорж-Санд, так резко выразившееся в статье о Менцеле, заменилось в нем пламеннейшим энтузиазмом к ней. Все прежние его литературные авторитеты и кумиры — Гете, ВальтерСкотт, Шиллер, Гофман — побледнели перед нею… Он только и говорил о Жорж-Санд и Леру.
Увлечение его было так сильно, что он решился учиться по-французски, чтобы читать их в подлиннике. К гегелианизму вообще он охладевал немного: о гегелианцах правой стороны он отзывался с негодованием и желчью, но обнаруживал большое сочувствие к гегелианцам левой стороны.
Покуда Белинский освоивался понемногу и не без труда с французским языком (к изучению языков он вообще не обнаруживал способностей), я начал составлять для него историю французской революции по Минье, с прибавлением самых замечательных речей жирондистов и монтаньяров, которые я брал из "Histoire parlementaire de la revolution francaise".
Белинский и многие наши приятели, не знавшие французского языка или мало знакомые с подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывал им то, что успевал составить и перевести в течение недели. Для Белинского открывался новый мир, который до сих пор представлялся ему смутно, по рассказам… Он следил за чтением с лихорадочным любопытством; потрясенный до глубины, он прерывал чтение восторженными восклицаниями, беспрестанно вскакивал со стула в волнении и повторял несколько раз:
— Да! всему виною мое проклятое невежество. Если бы я знал все это прежде, я не написал бы этих безобразных статей, которые составляют несчастие моей жизни, лежат на мне неизгладимым пятном!..
Ко мне в эту зиму (1841) Белинский обнаруживал большую симпатию, чем когданибудь, и в увлечении своем приписывал мне такие способности и достоинства, которых я никогда не ощущал в себе…
Я считал себя счастливейшим человеком, видя, что способствовал моим переводом просветлению мыслей Белинского и расширению его кругозора. Я гордился тем, что возбуждал его благородный энтузиазм, доставлял ему минуты высокого наслаждения и пробуждал в нем и в других слушателях гражданское чувство…
Все мои слушатели ждали субботы, как праздника, и следили за моим чтением с напряженным вниманием. Маслов, не имевший до этого никакого понятия о французской революции, был поражен грандиозностью этой эпохи, он трепетал от восторга при речах Верньо, Гаде и других жирондистов и заплакал, когда дело дошло до их смерти… Он и некоторые другие сделались отчаянными жирондистами. Мы с Белинским отстаивали монтаньяров.
Чтение оканчивалось обыкновенно жаркими спорами… Надобно было видеть в эти минуты Белинского! Вся его благородная, пламенная натура проявлялась тут во всем блеске, во всей ее красоте, со всею своею бесконечною искренностию, со всей своей страшной энергией, приводившей иногда в трепет слабеньких поклонников Жиронды.
Маслов каждую субботу после чтения давал нам клятвы, что он выучится французскому языку.
Белинский укорял его в лености и распущенности.
— Если бы у меня было столько свободного времени, как у вас, — говорил он, — я, при всей моей тупости к языкам, давно бы уж выучился по-французски. Как вам не стыдно!.. Я замучен работой, да и тут нахожу время заниматься… и начинаю понемногу смекать пофранцузски… Через полгода, я даю вам слово, я буду читать свободно и понимать все без труда; а вы…
И тут, постепенно одушевляясь, Белинский разражался против русского человека вообще, против его апатии, равнодушия ко всему, беспечности, против отсутствия в нем всякой любознательности, и все это приписывал нашей славянской породе.
— Прежде нам была нужна палка Петра Великого, — говорил он, — чтобы дать нам хоть подобие человеческое; теперь нам надо пройти сквозь террор, чтобы сделаться людьми в полном и благородном значении этого слова. Нашего брата славянина не скоро пробудишь к сознанию. Известное дело — покуда гром не грянет, мужик не перекрестится. Нет, господа, что бы вы ни толковали, а мать святая гильотина — хорошая вещь!
Внутренняя ломка, начавшаяся в Белинском после его сближения с Искандером (нет сомнения, впрочем, что она произошла бы и без влияния Искандера, — Искандер только ускорил ее), страдания Белинского, его борьба с самим собою, предшествовавшая радикальному перевороту в его воззрении, была, конечно, видима только его близким.
Г. Краевский ничего не подозревал. Он еще повторял фразы Белинского из его статей о "Бородинской годовщине" и «Менцеле», когда уже в "Отечественных записках" начали появляться рецензии в совершенно противоположном направлении. Когда он заметил перемену направления в своем журнале, это сначало крайне удивило его. Делать, впрочем, было нечего. В области мысли он не был так силен, как в области денежных расчетов, и должен был покориться безусловно Белинскому; ему так же легко было променять свой прежний образ мыслей на новый, как выпить стакан воды… К тому же новое направление, может быть, еще обещало усиление подписки. Вот начало либерализма Краевского.
В начале и половине сороковых годов мало обращали внимания на русскую литературу, существование ее едва замечали. Правительство не только не чувствовало необходимости в пособии литературы, но оно одну мысль об этом сочло бы до крайности дерзкою. Если бы оно узнало, что самовластие его осмеливаются укреплять на каких-то философских формулах, оно наверно бы зажало рот своим непрошенным защитникам. Силу свою оно основывало на миллионе штыков, а не на философских бреднях. Считаться в это время архимонархическим публицистом не было никакой выгоды, и те, которые заподозривали Белинского в лести и в подкупе, обнаруживали только свою смешную наивность и непонимание дела. Статьи Белинского о "Бородинской годовщине" прошли совершенно незамеченными правительством, а если бы они и были замечены, то нет никакого сомнения, что Белинскому было бы сделано внушение не вмешиваться впредь в дела, не касающиеся литературы. Исключительною областью литературы, по мнению правительства, была природа и любовь, не выходящая, разумеется, из законных форм; мораль заключалась в строгом наказании порока и в награждении добродетели.
К этому дозволялось литературе воспевать славу русского оружия и подвиги полководцев… Все литераторы, хоть на одну черту выходившие из этой программы, считались людьми неблагонамеренными… Пушкин был под постоянным надзором полиции, несмотря на свое стихотворение "Клеветникам России". Надеждин, чтобы загладить свои телескопские прегрешения, должен был сделаться усердным чиновником, возвратившись из Усть-Сысольска; Полевой искуплял свой «Телеграф» "Парашами-Сибирячками" и усиливался подделываться под тон Булгарина, считавшегося между журналистами и литераторами образцом благонамеренности…
Необходима была глубокая вера в свои убеждения, соединенная притом с величайшим литературным тактом, чтобы проводить в то время смелую, независимую мысль сквозь тупую ценсуру, вооруженную, впрочем, очень острыми ножницами. Белинский, убедившись в своем настоящем призвании и проникнувшись горячей верой в свои новые убеждения, приобрел удивительную способность газировать свою мысль и проводить ее незаметно от ценсора, несмотря на его строгий ценсурный надзор…
Но все это стоило Белинскому страшных усилий, и притом не всегда удавалось сдерживать свою энергическую, кипучую натуру, тайком проводить мысль, удовлетворяться иногда только одними намеками на нее… Для него это была невыносимая пытка. Он страдал, выбивался из сил и горько жаловался. С каждым днем он убеждался более и более, что никакое человеческое свободное развитие невозможно с теми принципами, которых он был минутным защитником.
— Я не понимаю, как мог доходить до такого безумия, — повторял он.
Когда он получил первое письмо от Бакунина, в котором тот отрекался от своего прошедшего и издевался над ним, и когда впоследствии доходили до него слухи о Бакунине, сделавшемся самым видным человеком между тогдашними германскими публицистами, Белинский был в восторге от этих известий.
— Каков наш Мишель-то! — повторял он: — впрочем, смешно было бы и сомневаться в нем, — прибавлял он обыкновенно с самою светлою улыбкою.
Все мы более или менее, когда туман, застилавший наши глаза, начал рассеиваться, начинали порываться к лучшему будущему, усматривали яснее наш идеал, стали понимать несостоятельность старого порядка и чувствовать его тягость.
На эту тему разыгрывались тогда все разговоры людей, считавших себя передовыми и современными; им, разумеется, подражали остальные, тершиеся около них.
Мой наставник Василий Иваныч Кречетов, с которым я познакомил читателя в первой части моих «Воспоминаний», наслушавшись Белинского и других моих приятелей и начитавшись "Revue independante", которое он брал у меня, начал также стремиться к идеалу и жаловаться на то, что человеку мыслящему нельзя жить в этом растленном и разлагающемся обществе, как он выражался. Несмотря на это, он продолжал кушать, как всегда, с большим аппетитом; с прежнею любовию глядел на сочный кусок ростбифа и с прежнею приятностию, покрякивая, выпивал за обедом до капли бутылку доброго шери (как он называл херес).
Когда он увидел у меня в первый раз Белинского, Белинский чувствовал себя нездоровым, посматривал мрачно и говорил мало… Кречетов затрогивал разные вопросы, на которые Белинский отвечал лаконически и сухо. Желая блеснуть перед Белинским своею ученостию, он цитировал Горация, замечая, что он всего его знает наизусть, рассуждал о романтизме, произнося русское наш, как N французский, и не возбудил ничего в Белинском, кроме улыбки…
— Ну, батюшка, — сказал он мне, — кажется, нет ничего особенного в вашем хваленом Белинском!..
Но когда он увидел Белинского в одушевлении и услышал его в споре, он сжал значительно нижнюю губу и произнес:
— О да, да! В нем видна эта, эта-эта сила, эта мощь… Голова, умная голова!
С тех пор он питал к Белинскому уважение, смешанное с страхом, разумеется скрывая это и хорохорясь перед ним, но не любил его, потому что Белинский никогда не обращался к нему серьезно…
Кречетов заходил ко мне попрежнему довольно часто… Я начал замечать с некоторого времени, что он как будто не в своей тарелке, ест меньше, сидит повеся голову, тяжело вздыхает. Сначала я приписывал это уменьшению его средств и спросил: как идут его уроки?.. На уроки он не жаловался; напротив, у него прибавились новые ученики; да и когда, бывало, он нуждался в деньгах, он брал у меня на определенный срок несколько рублей и возвращал мне их день в день, минута в минуту. Он был необыкновенно честен в этом отношении. Раз как-то я взглянул на него попристальнее. Меня поразили пурпуровый цвет его мясистых щек и краснота глаз, тем более, что он был в совершенно трезвом состоянии.
— Да что с вами, Василий Иваныч, вы не очень здоровы? — спросил я его: — вы как-то грустны в последнее время и у вас цвет лица такой странный?..
Кречетов печально, безнадежно махнул рукой.
— Физически я здоров… у меня железная натура, но морально я точно расстроен…
Верите ли, что вот уж больше двух недель меня гнетет эдакая, эдакая… непроходимая тоска…
Места нигде не нахожу.
— Да отчего же?
— Смешной вопрос! — возразил Кречетов: — мне, как и всякому мыслящему человеку, нестерпимо, невыносимо жить среди этого дикого, пошлого общественного устройства… Я чувствую, что нельзя дышать в этой душной, смрадной атмосфере…
И Кречетов пыхтел и отдувался…
Через день после этого, возвращаясь с урока, он зашел на Сенную, купил добрую часть телятины, взял кулек и хотел отправиться домой… Вдруг почувствовал, что правая его рука, державшая кулек, слабеет и правая нога не повинуется… Он успел только вскрикнуть в испуге:
— Извозчик!
И упал без чувств на мостовую.
Его привезли домой замертво.
Кречетов две недели перед этим страдал сильным приливом к голове. Не будь он знаком с нами, он, вероятно, не приписал бы своей тоски такой отдаленной и отвлеченной причине; а догадавшись о настоящей, просто пустил бы себе кровь, предупредил бы удар и преспокойно продолжал бы наслаждаться жизнию за куском сочного бифстекса, орошаемого шери…
Вот до каких гибельных последствий доводит иногда сближение с так называемыми современными людьми!
Кречетов, впрочем, действительно имел железную натуру. Через два месяца он оправился и прожил после этого лет десять, правда, ковыляя и с покривившимся ртом, но продолжая за обедами своих старых знакомых попрежнему и даже более прежнего наслаждаться жирными телятинами, сочными ростбифами и бифстексами, добрым золотистым шери и т. д. и повторяя заученную фразу:
"В этом растленном обществе жить нет возможности человеку мыслящему!.." В начале 40-х годов к числу сотрудников "Отечественных записок" присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним. До этого Некрасов имел прямые сношения с г. Краевским. Я в первый раз встретил Некрасова в половине 30-х годов у одного моего приятеля. Некрасову было тогда лет 17, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под заглавием "Мечты и звуки", которую он впоследствии скупал и истреблял. Мы возобновили знакомство с ним через семь лет. Он, как и все мы, очень увлекался в это время Жорж-Сандом. Он был знаком с нею только по русским переводам. Я звал его к себе и обещал прочесть ему отрывки, переведенные мною из «Спиридиона». Некрасов вскоре после этого зашел ко мне утром, и я тотчас же приступил к исполнению своего обещания…
С этих пор мы виделись чаще и чаще. Он с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов и принес однажды Белинскому свое стихотворение "На дороге".
Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни — и которому Белинский всегда мучительно завидовал.
Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш… Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому.
Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно:
— Некрасов пойдет далеко… Это не то, что мы… Он наживет себе капиталец!
Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением.
Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником, но когда он прочел ему свое стихотворение "На дороге", у Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами в глазах:
— Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?
С этой минуты Некрасов еще более возвысился в глазах его… Его стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям… У Белинского были эпохи, как я уже говорил, когда он особенно увлекался которым-нибудь из своих друзей… В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем…
Некрасов сделался постоянным членом нашего кружка… …Через Некрасова я познакомился с Григоровичем. Григорович был сотрудником мелких изданий Некрасова, и для одного из таких изданий он сочинил плохой рассказ под названием "Штука полотна".
Однажды я встретил Некрасова на Невском проспекте. Он шел с каким-то стройным и высоким молодым человеком очень приятной наружности. Я присоединился к ним.
Каким-то образом у нас зашла речь об издании, в котором была помещена знаменитая "Штука полотна"… Я подшучивал над этим изданием. Некрасов смеялся вместе со мною и прибавлял свои шутки.
— Но уж нелепее всего в этой книжке, — заметил я, — это "Штука полотна"…
— Рекомендую вам автора этой "Штуки", — сказал Некрасов, указывая на молодого человека приятной наружности. — Это г. Григорович…
Я еще не успел смутиться, как Григорович протянул мне руку и сказал, улыбаясь:
— Бога ради, не конфузьтесь… Я сам об этой «Штуке» совершенно такого же мнения, как вы… Уж нелепее и пошлее, конечно, быть ничего не может… Очень рад с вами познакомиться.
Около этого же времени, может быть несколько ранее, я сошелся с И. С. Тургеневым.
Я встречал, еще до моего знакомства с ним, довольно часто на Невском проспекте очень красивого и видного молодого человека с лорнетом в глазу, с джентльменскими манерами, слегка отзывавшимися фатовством. Я думал, что это какой-нибудь богатый и светский юноша, и был очень удивлен, когда узнал, что это — Тургенев.
О Тургеневе я много слышал от Грановского и других, познакомившихся с ним за границей. Грановский, встречавший его в Берлине у Фроловых, отдавал справедливость его уму; но вообще отзывался о нем не совсем благосклонно. Он до самого конца жизни не питал к нему большой симпатии. Я слышал также от многих, что Тургенев имеет блестящее образование, страсть к литературе и пишет очень недурные стихи.
Тургенев скоро сблизился с Белинским и со всем нашим кружком. Все, начиная с Белинского, очень полюбили его, убедившись, что у него при его блестящем образовании, замечательном уме и таланте — сердце предоброе и премягкое.
Тургенев начал свое литературное поприще элегиями и поэмами, которые всем нам тогда очень нравились, не исключая и Белинского.
"Отечественные записки" приобрели в Тургеневе замечательного сотрудника; кружок наш — блестящего и образованного собеседника, хорошо знакомого с иностранными литературами, слегка посвященного в тайны немецкой философии, и мастерского рассказчика, увлекавшегося иногда через край своей прихотливой и поэтической фантазией…
Тургенев не изъят был в это время от мелочного светского тщеславия и легкомыслия, свойственного молодости. Белинский прежде всех подметил в нем эти слабости и зло подсмеивался иногда над ними. Надо заметить, что Белинский был беспощаден только к слабостям тех, к которым он чувствовал большое сочувствие и большую любовь.
Тургенев очень уважал авторитет Белинского и подчинялся безусловно его нравственной силе… Он даже несколько побаивался его.
Белинский рассказывал множество презабавных выходок с ним Тургенева. Я помню между прочими следующую:
Во время поездки Белинского за границу он встретился где-то в Германии с Тургеневым. Тургенев, видя болезненное его расстройство и тоску, дал ему слово не покидать его…
— Вы соскучитесь со мною, я не хочу стеснять вас, — заметил ему Белинский, — лучше не давайте слова.
Тургенев начал клясться, что он ни за что не оставит его…
Он прожил с ним таким образам дней пять… Тоска тайно томила его, ему хотелось вырваться на свободу, но сознаться в этом Белинскому он ни за что не решился. На шестой день он тихонько вынес свой чемодан и тайком уехал в Англию, не простившись с Белинским…
Белинский очень горячо любил всех своих петербургских приятелей; они благоговели перед ним, смотрели на него как на своего учителя, слушали его не переводя дыхание и принимали на веру каждую его строчку, каждое его слово. Каждый из них готов был за него в огонь и в воду, но из них не было ни одного, который бы мог вступать с ним в состязание относительно теоретических вопросов, а для кипучей, деятельной натуры Белинского обмен мыслей, спор, состязание с бойцом равной силы были потребностию… И потому Белинский часто скучал в своем кружку и, чтобы сколько-нибудь удовлетворить свою потребность, за отсутствием живого слова, писал длинные послания к своим московским друзьям о разных вопросах, тревоживших его… И когда кто-нибудь из них, особенно Искандер или Грановский, приезжали в Петербург, он, как говорится, отводил с ними душу. Появление Тургенева оживило его. В нем он мог найти до некоторой степени удовлетворение своей потребности и потому сильно привязался к нему. Впрочем, Белинский никогда ни на кого из своих петербургских друзей не смотрел с высоты своего авторитета и никому из них не дал ни разу почувствовать своего превосходства; напротив, он отыскивал в каждом лучшие его стороны, даже преувеличивал их.
Он высоко ценил в Языкове кротость его характера, мягкость сердца, бесконечную преданность его друзьям и отсутствие эгоизма, доходившее до пренебрежения собственных выгод; в Анненкове он восхищался разумным эгоизмом, уменьем отыскивать себе наслаждение и удовлетворение во всем — и в природе, и в искусстве, и даже во всех мелочах жизни… "Это один из самых счастливейших людей, каких я встречал в жизни, — говорил про него Белинский, — здоровая, цельная натура, неиспорченная этой поганой рефлексией, которая была развита в нашем московском кружке до болезненности". На Кавелина он смотрел с любовию, как на благородного, пылкого, без меры увлекающегося и доверчивого юношу, и замечал иногда с улыбкою: "Одно только беда, что ведь он до старости останется таким!" Кавелин, только что переселившийся тогда в Петербург, поселился на одной квартире с Н. Н. Тютчевым и Кульчицким.
В этой квартире Белинский до своей женитьбы обыкновенно отдыхал от своих занятий. Две недели в месяц он почти не выпускал пера из рук и не отходил от своего стола; другие две недели отдавался развлечению. Развлечение это большею частию состояло в преферансе, по 3 к., до которого Белинский был страстный охотник… Чаще всего мы собирались вечером на преферанс в квартире трех приятелей. Кульчицкий, очень добрый малый (умерший за два года до смерти Белинского в чахотке), известен был кое-какими журнальными статейками и шуточным трактатом о преферансе. Он был искренно привязан к Белинскому и всеми силами старался угождать ему. Он приготовлял обыкновенно карточный стол за полчаса до нашего прихода, сам тщательно вычищал зеленое сукно, так что на нем не было ни пылинки, клал на него четыре превосходно завостренных мелка и колоду карт.
Когда мы с Белинским входили, Кульчицкий торжественно обращался к Белинскому, подводил его к столу и восклицал:
— Как вы находите это зеленое поле?.. Не правда ли, это радует сердце?
Белинский приятно улыбался — и мы, по требованию его, немедля приступали к делу… …Белинский привязывал к себе не только людей мыслящих, вполне понимавших его и разумно ему сочувствовавших, но и людей самых нехитрых, не имевших никакого понятия об отвлеченных предметах. Незадолго до этого к нему привязался некто князь Козловский, человек очень слабый духом, но геркулес по физической силе: он ломал кочерги, свертывал в трубку целковые и тому подобное… Князь Козловский ухаживал за Белинским во время пребывания своего в Петербурге, как нянька за ребенком, и всякий день на столе Белинского появлялись какие-нибудь сюрпризы: то окорок ветчины, то какая-нибудь необыкновенная колбаса, то бутылка бургонского.
Князь Козловский отправился потом в Крым вместе с князем А. Н. Голицыным, который и умер на его руках. Голицын завещал ему кое-какие вещи — и Козловский, возвратившись в Петербург, все их раздарил Белинскому и его друзьям. ….
После женитьбы своей Белинский редко выходил из дому; его болезнь, развиваясь постепенно, стала сильно тревожить его; он сознавал вполне безнадежность своего положения, как это видно из письма его, которое читатель найдет далее; строгость ценсуры по временам делалась невыносима, отношения его к г. Краевскому с каждым днем становились тяжелее… Г. Краевский сделал какую-то ничтожную прибавку к его плате после его женитьбы, все еще ссылаясь на свое стесненное положение и на долги, хотя в это время все его долги были уже выплачены им, что все мы очень хорошо знали…
— Боже мой, если бы я мог освободиться от этого человека, — говорил нам Белинский: — я был бы, мне кажется, счастливейшим смертным. Ходить мне к нему, любезничать, улыбаться в ту минуту, когда дрожишь от злобы и негодования, — это подлое лицемерие невыносимо для меня. В те минуты, когда я сижу с ним, я презираю самого себя; а между тем, что мне делать?.. где выход из этого положения?.. Если бы только вы могли вообразить, с каким ощущением я всякий раз иду к нему за своими собственными, трудовыми, в поте лица выработанными деньгами!
С г. Краевским Белинский и все мы виделись редко. Г. Краевский усиливал себя быть с нами любезным, но внутренне, вероятно, мало питал к нам расположения и должен был чувствовать неловкость в нашем присутствии, сознавая, что мы видим его насквозь. Еще лучше всех из нас он был с Боткиным, на которого иногда находили пароксизмы нежности даже и относительно г. Краевского. Г. Краевский всех нас в душе своей считал мальчишками, по крайней мере это презрительное слово, говорят, вырывалось у него в минуты гнева против нас…
И мы были действительно мальчишками, и первым мальчишкой из нас был Белинский. Не сознавая того, что г. Краевский держится одною только духовною силою его и его кружка, что без этой поддержки, без этой силы, он, даже при пособии своих друзей Галахова и Мельгунова (да к тому же Межевич перебежал от него в это время тайком к Булгарину), не мог бы продержаться более двух лет с своим журналом, — Белинский и все мы с чего-то воображали, наоборот, что мы зависим от г. Краевского, что нам нет без него спасения, и наперерыв друг перед другом, за ничтожную плату, а некоторые совсем бескорыстно, употребляли все богом данные им способности — для обогащения г. Краевского.
Лишенные всякого практического смысла, не находя в себе самих достаточной самостоятельности, мы создали себе кумир, украшали его своими приношениями и жертвами, кланялись ему, заискивали его внимания, даже робели перед ним (впоследствии я приведу довольно забавные факты робости некоторых из нас перед г. Краевским) и если осмеливались роптать на него, то исподтишка.
Как же винить кумира за то, что он умел ловко пользоваться положением, ему данным, что он эксплуатировал в свою пользу горячих, но неопытных юношей, которые, связав себя добровольно по рукам и по ногам, отдали себя в его полное распоряжение?
Все кумиры — и гораздо позначительнее — обыкновенно поступают так…
Если бы Белинский и все друзья его, выносившие "Отечественные записки" на своих плечах, в один прекрасный день вдруг одушевились энергией, в полном сознании своих сил пришли к г. Краевскому как власть имеющие и сказали бы ему:
"Милостивый государь! До сих пор мы, по нашей молодости и неопытности, подчинялись вашей грубой силе, которую мы сами же развили в вас нашим добровольным подчинением вам и отречением от собственной воли. Теперь мы сознали, что вы собственно ничего, что вы не имеете самостоятельной духовной силы, а держитесь на поприще журналистики только Белинским и его кружком. Силу, вам данную им, вы употребляли до сих пор исключительно только для своей личной выгоды, вы нас притесняли, эксплуатировали нами, приписывали себе наши труды и щеголяли, как известная птица, павлиньими перьями… Мы чувствуем теперь, что можем обойтись и без вас и начать жить самостоятельною жизнию… Вот вам ваши "Отечественные записки" — управляйтесь с ними, как хотите, и ищите новых жертв для вашей эксплуатации…" Что бы отвечал г. Краевский на такую геройскую, неожиданную выходку?
Он, как всякий человек в крайнем положении, вероятно, струхнул бы, стал бы клясться и божиться, что он никогда никого не думал притеснять, что он всегда считал Белинского своим спасителем, предлагал бы ему различные уступки и, в случае упорства Белинского, вероятно принял бы его в половинную долю, как это он сделал в наши дни с г. Дудышкиным.
Белинский, конечно, растрогался бы этим и согласился, не рассчитав того, что вся материальная часть журнала осталась бы все-таки на руках г. Краевского — и он мог, как человек ловкий и практический, выводить Белинскому к концу года какие угодно счеты. Всетаки положение Белинского при этом значительно улучшилось бы.
Но ни Белинскому и никому из нас не приходила такая дерзость в голову, да если бы и пришла кому-нибудь, то не могла бы осуществиться, потому что вообще в нас, русских людях, не только не было тогда, но и до сих пор нет ни малейшего единодушия, никакого esprit de corps, потому что мы до сих пор только герои на словах, а трусы на деле, потому что нам, в нашей апатии, легче подчиниться кому-то ни было и сносить по рутине эту подчиненность, чем вооружиться на минуту энергией для приобретения себе на целую жизнь независимости и самостоятельности.
Если бы Белинскому и пришла мысль открыто восстать против г. Краевского, то он наверно бы встретил противоречие в своих друзьях и не успел бы согласить их на свой подвиг…
Вот отчего разного рода Краевские торжествуют в сем мире и преспокойно загребают жар чужими руками, еще прикидываясь подчас либералами и толкуя о гуманизме!
ГЛАВА VIII
Белинский вне своего кружка. — Военный историограф. — Обед у Башуцкого и чтение его. — Обеды и вечера А. С. Комарова. — Лажечников и его неудачное искание места директора московских театров. — Смерть Воейкова и Полевого. — Отношения тогдашних литераторов к "Отечественным запискам". — Несколько слов о Губере.
Белинский редко и неохотно выходил из своего кружка, и то по усильным просьбам приглашавших его. Он изредка бывал у Одоевского, на вечерах у МихайловскогоДанилевского, у Башуцкого, иногда у Струговщикова, да в год раз посещал обыкновенно Гребенку, когда тот приезжал звать его на малороссийское сало и наливки. Здесь он встречался с литературными знаменитостями — с Кукольником и с другими… Но он не желал сближаться с ними. Кукольник смотрел на него искоса, с любопытством, с высока своего уже шатавшегося величия и замечал: "там у них (под этим Кукольник разумел г. Краевского), говорят, появился какой-то Белинский; он порет им объективную дичь, приправленную конкретностями, а они думают, что это высшая философия и слушают его развеся уши".
Белинский с своими старыми приятелями Надеждиным и Полевым не возобновлял сношений в Петербурге… На петербургских литераторов вообще он мало обращал внимания; он знал, что они не терпят его и боятся. Это, впрочем, было приятно его самолюбию. — "Этого семинариста (хотя Белинский вовсе не был семинаристом) раздражать нельзя, — говорил про Белинского один знаменитый военный историк: — с ним надо вести себя тонко и, напротив, стараться смягчать его".
Он искал случая познакомиться с Белинским и, познакомившись, тотчас пригласил его к себе на вечер.
Белинскому было это тяжело, но он не имел духу отказаться. Скрепя сердце он отправился на приглашение историка и, нехотя улыбаясь, обратился ко мне:
— Шутите со мной! я нынче, батюшка, к генералам на вечера езжу.
Вот что передал мне Белинский об этом вечере.
"Я, разумеется, входя уже на лестницу к нему, почувствовал робость, хоть я очень хорошо сознавал, что робеть перед ним было бы смешно и что перед ним собственно я бы не сробел, да мне пришло в голову, что у него дочь, да еще, кажется, фрейлина, родственницы разные — светские дамы… потом толпа лакеев в передней, которые так все и вытаращили на меня глаза… Я чувствовал, что я побледнел, когда лакей отворил передо мною дверь в залу.
Не успел я сделать шага вперед, как перед самым носом моим очутился его превосходительство с распростертыми объятиями…
— Я, говорит, не знаю, как и благодарить вас, Виссарион Григорьевич, за то, что вы удостоили меня посещением. Поверьте, что я глубоко ценю ваше внимание ко мне… — И пошел, и пошел…
Я сконфузился и пробормотал что-то. Он схватил меня за руку и потащил в гостиную, где сидело несколько не знакомых мне человек: оказалось, что это были какие-то фельетонисты и критики… Между ними сидела его дочь, прехорошенькая, лет семнадцати.
— Надя! Надя! — кричал он ей: — предчувствуешь ли ты, кого я веду за собой?
Надя вскочила со стула, подошла к нам и посмотрела на меня.
У меня так и забилось сердце. Я весь вспыхнул и, чувствуя мучительную неловкость, поклонился ей.
— Это моя дочь, рекомендую, — говорил генерал, — глубочайшая почитательница всех ваших сочинений (я был убежден, что она первый раз слышит мое имя и никогда не читала ни одной моей строчки, — от этого я пришел еще в большее смущение)…
— Ведь это Виссарион Григорьич Белинский, — продолжал он, обращаясь к дочери: — кланяйся ему да пониже, благодари его за честь, которую он нам сделал. Покажи ему, что мы умеем ценить таких людей, как он. Виссарион Григорьич наш первый современный критик.
Надя, кажется, улыбалась мне и кивала приветливо головкой, — хорошенько, впрочем, я не видел. В глазах у меня был туман, я совсем задыхался, кровь так и била мне в голову.
Наконец я уселся на стул и только хотел было вздохнуть полегче, как хозяин дома закричал дочери:
— Ну что ж ты… Подай Виссариону Григорьичу трубку, сама набей ее и закури…
— Нет… что это… помилуйте… не беспокойтесь, — пробормотал я, вскакивая со стула и едва держась на ногах…
"Но Надя выпорхнула из комнаты, как птица, и через минуту явилась передо мною с чубуком и с зажженной бумажкой…
"Я дрожащей рукой схватил чубук и начал тянуть изо всех сил, несмотря на то, что никогда не курю; но она держала зажженную бумажку над трубкой и отказаться от куренья я полагал невежливым.
"Я никогда не ужинаю, — ужин, вы знаете, вреден мне; а тут я должен был есть поневоле, потому что и сам он и Надя накладывали мне блюда. Вино для меня — яд, а я и вино принужден был пить, потому что он и Надя его протягивали ко мне свои руки и чокались с моим бокалом…
"И вино-то еще прескверное!.. Фу!"
Белинский отдувался.
"Я еще до сих пор не могу притти в себя от этого вечера…" — заключил он.
Когда Белинский ушел после ужина (это рассказывал мне впоследствии один из присутствовавших на этом вечере), — хозяин дома, в присутствии дочери, обратился к остальным гостям своим, допивавшим вино, и произнес, вздыхая:
— Вот, господа, каково мое положение (надо заметить, что к ночи генерал был всегда навеселе). Я должен принимать к себе, ласкать этого наглого крикуна, этого семинариста, который ни стать, ни сесть не умеет в порядочном доме, из одного только, чтоб он не обругал меня публично… Ведь, согласитесь, в моем чине… я генерал-лейтенант, с моим именем, с моими связями быть обруганным — это ведь невозможно перенести… Если бы не это, я и на порог своего дома не пустил бы его…
Генерал имел обыкновение отзываться таким образом о каждом своем госте тотчас по уходе его. Белинский узнал это впоследствии и, разумеется, уже более никогда не появлялся к нему, несмотря на все мольбы Данилевского и любезные угрозы прислать за ним свою Надю.
Белинский не только между такими генералами, но вообще в кругу людей мало знакомых ему, которых он изредка встречал у своих приятелей, терялся, робел, чувствовал себя неловким, скучал; но если разговор касался вопросов, задиравших его за живое, и ктонибудь из присутствовавших дотрогивался неловко до его убеждений, Белинский вспыхивал, разгорячался, выходил из себя и приводил в ужас своими резкими и крайними выходками тех, которые мало знали его…
Литературных вечеров и чтений он не терпел…
Однажды А. П. Башуцкий, с которым Белинский познакомился у меня, напал на него с убедительною просьбою, чтоб он выслушал несколько отрывков из его романа «Мещанин», уверяя, что он более всего дорожит его мнением и верует безусловно в его эстетический вкус.
В сущности едва ли это было правда. Башуцкий принадлежал к литераторам старой школы, со всеми с ними находился в приятельских отношениях, не исключая и Булгарина, и не мог питать расположения к воззрениям Белинского; но ему надобно было смягчить неумолимого критика, литературного бульдога, перед выходом своего романа.
Башуцкий пригласил Белинского, меня и Языкова обедать к себе. Белинский долго и упорно отговаривался недосугом, нездоровьем; но любезность Башуцкого и наши просьбы победили его.
Перед обедом я заехал за ним. Он одевался нехотя и ворчал на меня…
— А ну как он вздумает хватить весь роман? — спросил меня Белинский, когда мы остановились перед дверью, чтобы позвонить: — меня мороз подирает по коже при этой мысли…
Я успокоивал его, что это невозможно.
Обед был прекрасный. После обеда мы отправились в кабинет хозяина; он поместил нас на покойных креслах, кресло Белинского поставил против себя, достал огромную рукопись и после нескольких оговорок начал чтение с первой главы. Белинский взглянул на меня и на Языкова с ужасом.
Чтения самых прекрасных произведений после обеда, когда совершается пищеварение, особенно неудобны для авторов. Башуцкий не расчел этого. Мы с Языковым заснули на половине первой главы… Когда я проснулся и взглянул на часы, было уже девять часов.
— Извините меня, Александр Павлович, — перервал я автора, — я должен ехать, я дал слово… Мне очень жаль, что я лишаю себя удовольствия, — и т. д.
Белинский злобно взглянул на меня. Я уехал.
На другой день, зайдя к Белинскому, я застал его в самом мрачном расположении.
— Вы поступили со мною самым постыдным образом, — сказал он мне. — Знаете ли, что я до четырех часов должен был высидеть у Башуцкого, не вставая с места. Он прочел мне всю первую часть своего романа. Каково мне было, вы можете себе представить!.. Сегодня я болен, у меня грудь разболелась, в голове чорт знает что… Так не поступают приятели. Но уж в другой раз такой штуки вам не удастся сыграть со мной… Я дал себе клятву не поддаваться вперед на такие приглашения и не слушать вас ни в чем…
Белинский, однако, не выдерживал своей клятвы. Один из товарищей моих по пансиону, А. С. Комаров, родственник того А. А. Комарова, который почти принадлежал к нашему кружку, познакомившийся с Белинским через нас, беспрестанно надоедал ему своими приглашениями то на обед, то на вечер.
А. С. Комаров, считавший своею специальностию естественные науки, получал всевозможные иностранные журналы и книги литературные, политические и ученые, выучивал наизусть либеральные стишки и декламировал их на дебаркадерах железных дорог и на гуляньях, бегал по знакомым с политическими новостями, хвастал тем, что он все, что делается в Европе, узнает первый, сообщал в русские журналы разные ученые известия, перевирая их, приставал ко всем с своим либерализмом, вмешивался некстати во все разговоры политические, ученые и литературные, кормил плохими обедами и поил прескверным вином, клянясь, что это самое дорогое вино. В голове этого господина была страшная путаница; его пустота и легкомыслие превосходили все границы.
Он увивался около Белинского, ухаживал за ним, доставлял ему нужные книги, для того только, чтобы он терпел его и снисходительно принимал его приглашения. Это доставляло ему возможность хвастать потом, что он друг с Белинским и что Белинский без него обходиться не может.
Он завел у себя обеды по вторникам… Попробовав один обед, Белинский объявил Комарову наотрез, что он никогда обедать у него не будет, потому что у него провизия несвежая и вино прокислое, что он человек больной и желудок его не может переносить такой скверной пищи.
— Знаете ли, что у Языкова, — говорил он, — желудок переваривает все на свете, а после одного из ваших обедов он должен был приставлять себе пиявки к желудку.
Комаров всякий раз клялся, что в следующий вторник у него будет тончайший обед и самое дорогое вино от Рауля, и всякий раз был уличаем в хвастовстве.
От обедов его Белинский решительно отказался, но по вечерам он изредка приходил к нему, когда знал, что все мы должны собраться у него, по его настоятельным просьбам и мольбам, от которых мы не умели отделываться.
В один из таких вторников, часов в 9 вечера, я зашел к Комарову… Заспанный, старый и небритый лакей снял с меня шубу…
— Да есть ли у вас кто-нибудь? — спросил я лакея.
— Никого, кроме Белинского.
Я вошел в кабинет хозяина. Лампа ярко горела на столе, заваленном книгами и журналами. Белинский лежал на диване лицом к спинке и просматривал "Revue independante"; хозяин дома сидел у окна и печально глядел в него, хотя в окне зги не было видно. Тишина была мертвая.
— Что это значит? — спросил я.
Комаров завертелся и заболтал что-то. Белинский обернулся на мой голос…
— А! наконец-то! — произнес он: — вы, господа, пренесносные люди: вечно собираетесь по-аристократически в десятом часу, а я имел глупость притти сюда спозаранку… Вы удивляетесь, что застали нас в таком положении? Да помилуйте, он мне так надоел (и Белинский указал на хозяина дома), что я уж должен был просить его оставить меня в покое.
Только что я вошел, он не дал мне еще опомниться и как безумный бросился на меня и начал мне читать что-то из "Revue independante". — Я и без вас умею читать, сказал я ему, взял книгу и лег на диван, а он подсел ко мне и смотрит мне прямо в глаза, чего я терпеть не могу. Ну, я и попросил его оставить меня в покое…
Комаров заюлил и завертелся около нас и начал болтать какой-то вздор; между тем собрались наши приятели, и вечер прошел очень живо. Белинский не позволял вмешиваться хозяину дома в разговоры и ушел перед ужином, не внимая мольбам его остаться закусить чего-нибудь.
— Прощайте, господа, — сказал Белинский: — мне очень жаль вас, что вы добровольно хотите отравлять себя.
Комаров снова заюлил, и когда Белинский ушел, он произнес с насильственным смехом: "А Белинский большой чудак!" — и начал наливать нам в стаканы какое-то темносинее вино, уверяя, что это лучший лафит… ….
По мере того как Белинский возбуждал к себе все большую любовь и уважение нового поколения литературного и нелитературного, старое литературное поколение смотрело на него все с большим ожесточением и бессильною злобою. Один из всех старых литературных авторитетов — И. И. Лажечников искренно дорожил его мнением и каждый приезд свой в Петербург посещал его.
И. И. Лажечников принадлежит к тем живым, редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую наклонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением Одоевского, искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушием… Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностию и очень неловко входящий с нею в сделки. Он занимал довольно значительную административную должность; но служба никогда не везет таким людям, и Лажечников вышел в отставку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того чтобы увеличить свой пенсион, он принужден был в последнее время принять на себя должность ценсора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своею обязанностию и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсиона, он тотчас же оставил ценсорство и говорил, что это счастливый день в его жизни…
Благодушие Лажечникова часто доходит до детской доверчивости к людям, до трогательной наивности.
Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень почтенный, серьезный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал "Юрия Милославского" и "Рославлева".
— Кому же, — прибавил юморист, — как не вам, автору "Последнего Новика" и "Ледяного дома", принадлежит его место?..
— Да к кому же мне адресоваться? — спросил его Лажечников.
— Отправляйтесь прямо к директору канцелярии министра двора… Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен, что он примет вас отлично и все устроит вам с радостию… Ему только стоит сказать слово министру двора…
Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.
— Я по наивности принял это серьезно, — говорил мне Лажечников, — и отправился к директору.
"Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Я ждал директора с полчаса… Наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился наконец ко мне:
— Ваша фамилия? — спросил он меня.
— Лажечников.
— Вы автор "Ледяного дома"?
— Точно так, ваше превосходительство.
— Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?..
Мы вошли туда…
— Милости прошу, — сказал директор, — не угодно ли вам сесть?
И сам сел к своему столу.
— Что вам угодно? — спросил он.
Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня.
Кажется, я сделал величайшую глупость", подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина.
Когда я произнес это, я видел, что лицо его превосходительства подернулось иронией, пришел от этого в еще большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа…
— Как… я не дослышал… что такое? Какое место? — произнес директор, устремляя на меня резкий взгляд.
Я, проклиная внутренне свою доверчивость, повторил глухо: "место директора московских театров".
Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я ни дал в эту минуту, только бы не видать этой улыбки.
— Какое же вы имеете право претендовать на это место? — спросил он, — вы знаете ли, что это генеральское, очень важное место?
Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, вероятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторою литературною известностию, могу надеяться…
Но директор прервал меня с явною досадою…
— Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место вследствие того, что сочинял романы… Покойный Михайло Николаич был лично известен государю императору, — вот почему он был директором. На таком месте самое важное — это счетная часть, тут литература совсем не нужна: она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счетчики. На это место, вероятно, прочат человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах…
Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал неловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.
— Ничего, ничего, — проговорил он, — я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место…
Я не знаю, как я вышел от директора…
— Ну, нечего сказать, славную штуку сыграли вы со мной, — сказал я моему знакомому, посоветовавшему мне отправиться к директору, и передал ему, какой прием был сделан мне.
— Скажите! — отвечал он добродушно: — а я ведь, право, думал, что он, как литератор, примет вас, нашего первого романиста, с распростертыми объятиями и готов будет все сделать для вас. Вот как иногда ошибаешься в людях! Ну кто бы мог это предвидеть? Ах, как жаль, как жаль!.. Да я и представить себе не могу, кого же они назначат на это место? Я всетаки убежден, что оно, по всем правам, принадлежит вам".
Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, посоветовавшего ему итти к нему, сколько на самого себя, и сам подсмеивался над своею доверчивостию и наивностию… ….
Немногие даже из замечательных людей сберегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости. На таких старичков, благословляющих, а не клянущих новые поколения, смотреть легко и отрадно. Они одушевляют юность на подвиги и вселяют в нее ту веру, без которой мертвы дела.
Но зато ничего не может быть жалче и печальнее, когда видишь человека, разбитого жизнию, бессильного, пережившего самого себя, старающегося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему некогда по праву, человека, прикидывающегося молодцом, когда уже ноги дрожат и изменяют ему на каждом шагу, и с злобною завистью отрицающего действительную силу, проявляющуюся в новом поколении… Такое зрелище представлял, к сожалению, в последние годы своей жизни некогда сильный литературный боец, под влиянием которого воспиталось почти все наше поколение. Я говорю о Полевом.
Если бы он после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и смиренно трудиться с единственною целию поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым защитникам тех принципов, против которых он некогда ратовал, отъявленным негодяям, и — что всего хуже — с завистливою ненавистию отвернулся от нового поколения. Я редко бывал у Полевого, он знал мою дружбу с Белинским и потому был очень осторожен при мне, но, несмотря на это, не мог скрывать своего недоброжелательства к нему. Он не мог простить Белинскому того, что тот пользовался любовию и уважением молодежи в той же степени, если не более, какими пользовался некогда он… Ему хотелось показать, что Белинский приобрел значение не по праву, что он не имеет для критика достаточного образования, не владеет тактом и мерой, "хотя бесспорно отличается большою бойкостию пера"…
— Да и на нынешнюю молодежь-с, — прибавлял он, — угодить, ей-богу, не так трудно…
Она нетребовательна-с… Это не то, что молодежь нашего времени-с…
Я не спорил с Полевым. Это было бы напрасно. Полевой, кажется, успокоивал свое уязвленное, больное самолюбие такими невинными парадоксами до конца жизни.
Хотя он совершенно потерял в последние годы свое литературное значение и популярность, но смерть его всех на мгновение примирила с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевеиа, писавший «Парашей-Сибирячек» и другие тому подобные произведения, был забыт.
В простом деревянном гробе, выкрашенном желтою краскою (он завещал похоронить себя как можно проще), перед нами лежал прежний Полевой, тот энергический редактор "Московского телеграфа", которому мы были так много обязаны нашим развитием.
Полевого отпели в церкви Николы Морского. Церковь была набита битком. Все почти литераторы присутствовали на его похоронах. Гроб его студенты несли до кладбища на руках.
Полевой, впрочем, скоро после похорон был забыт, как забываются все люди, имеющие несчастие умереть еще заживо.
Перед этим уже многие литературные деятели прежнего времени, о которых упоминал я в 1-й части моих «Воспоминаний», окончили свое земное поприще… Умерли Свиньин и Воейков, к удовольствию г. Краевского. Их смерть сделала его собственником "Литературных прибавлений" и "Отечественных записок". Г. Краевский был счастлив на журнальные вакансии, как Скалозуб…
Воейков, говорят, за четверть часа до смерти так же хитрил и лицемерил, как всю жизнь. За ним ухаживала в последние минуты какая-то девушка. Он беспрестанно просил пить, и всякий раз, когда она подносила ему питье, он, щипал ее и схватывал за волосы.
Чтобы избежать этого, девушка поставила перед ним стакан на стол и уже не подходила близко к постели… Воейков начал стонать, кряхтеть, охать, жаловаться на свое беспомощное положение, клялся, что не может поворотить ни рукой, ни ногой, и слабым, умоляющим голосом обратился к девушке, прося, чтобы она Христа ради поднесла ему стакан к губам…
Но лишь только она исполнила его желание, он приподнялся с постели, снова с ожесточением схватил ее за волосы и упал, ослабевши от этого усилия, на постель.
Через четверть часа после этого он снова и сильнее прежнего начал стонать, охать и звать к себе девушку, говоря, что он умирает…
Она не поверила. Он прохрипел и остался недвижим. В этот раз это было уже не лицемерие, а действительная смерть; но девушка еще долго не решалась подойти к постели умершего, все думая, что Воейков притворяется умирающим…
После смерти Полевого, кое-как поддерживавшего "Сын отечества", в нашей журналистике осталось только два видных органа: "Библиотека для чтения" Сенковского, выдыхавшаяся и терявшая с каждым годом подписчиков, и "Отечественные записки" Белинского, успех которых возрастал с каждым годом… Все талантливые люди из нового поколения, появлявшиеся в Москве и Петербурге, присоединялись к "Отечественным запискам". Булгарин в своих субботних фельетонах тщетно употреблял всевозможные усилия, чтобы поддержать "Библиотеку для чтения" и убить "Отечественные записки", но он сам, не замечая того, с каждым годом утрачивал свой авторитет, потому что поколение, веровавшее в него, старело, теряло вес и сходило со сцены. Его протекции и рекомендации потеряли всякую силу. Г. Каменский выхлопотал дозволение возобновить журнал С. Н. Глинки "Русский вестник"; Булгарин принял г. Каменского и будущий его журнал под свою протекцию, кричал из всех сил: "подписывайтесь, подписывайтесь на "Русский вестник"… Я отвечаю, что журнал будет превосходный" и т. д. Но по выходе первой книжки "Русского вестника" журнал этот должен был прекратиться за неимением подписчиков.
Только одни мелкие, дряхлевшие петербургские литераторы, всю жизнь пробавлявшиеся рутиной и фразой, были добродушно убеждены в том, что царству Сенковского и Булгарина не будет конца и что куда же Белинскому тягаться с такими гениями!.. Из литературных авторитетов один Кукольник был открыто на стороне Сенковского и Булгарина; отживавшие литераторы-аристократы держали себя совершенно в стороне: они не терпели Сенковского, презирали Белинского, но, не имея своего органа, изредка, почувствовав желание видеть в печати свои стишки, поневоле отсылали их в "Отечественные записки", потому что имя г. Краевского, некогда красовавшееся рядом с их именами на обертке «Современника», было небезызвестно им, и к тому же собственно г. Краевский никогда не оскорблял их самолюбия. Иные из молодых петербургских литераторов, пользовавшиеся некоторым, довольно сомнительным, впрочем, успехом, колебались между "Библиотекой для чтения" и "Отечественными записками", не имея особенного влечения ни к одному из этих журналов. К числу таковых принадлежал Э. И. Губер, человек очень добрый и мягкий, владевший до некоторой степени стихотворным даром, но, к сожалению, имевший претензию на какую-то философию, полученную им в наследство от своего наставника.
Философия эта нисколько не служила к просветлению взгляда Губера на жизнь и искусство, а напротив, затемняла его голову и придавала ему мрачный характер, что-то таинственное, очень нравившееся, впрочем, дамам. Некоторые из них, принадлежащие к высшему кругу, приняли Губера под свое покровительство и под их влиянием наш философ вздумал писать фельетоны в "С.-Петербургских ведомостях", издававшихся тогда А. Н. Очкиным. Эти фельетоны, излагаемые весьма туманно, состояли из великосветских сплетен.
Они имели успех в своем маленьком кружку, очень волновали его, но в публике проходили совершенно, незамеченными…
Граф В. А. Соллогуб, лучший из наших беллетристов сороковых годов, вовсе не разделяя убеждений Белинского, печатал, однако, свои повести в "Отечественных записках", во-первых, по старому своему знакомству с г. Краевским, а во-вторых, потому что "Отечественные записки" приобретали все больший успех в публике; а известно, что молодые люди вообще, и в особенности светские, всегда увлекаются успехом, даже иногда и не сочувствуя ему.
ГЛАВА IX
Мое знакомство с графом Соллогубом. — Его литературные успехи. — Огарев и К. Булгаков. — Чтение у меня на даче «Медведя». — Граф Мих. Юр. Виельгорский. — Константин Булгаков. — Середы у графа Соллогуба. — А. П. Башуцкий и Булгаков. — Появление Ф. М. Достоевского. — Успех его "Бедных людей". — Увлечение Белинского. — Достоевский на вечере у Соллогуба. — Чтение «Нахлебника» Тургенева у князя Одоевского и "Свои люди — сочтемся" Островского у Соллогуба. — Впечатление, произведенное этими пиесами на великосветскую публику. — Дружеские вечера у А. Н. Струговщикова. — Брюллов и Кукольник на этих вечерах. — Закат Кукольника.
Я познакомился с гр. Соллогубом, когда он еще был дерптским студентом и приезжал на вакансии в Петербург.
Страсть к литературе развита была в нем тогда сильно, но он как будто стыдился обнаруживать ее.
Он говорил, что ему вздумалось набросать небольшой рассказ, что его Краевский взял у него, и спешил прибавить к этому, что он вовсе, впрочем, не намерен быть литератором, а так иногда пишет от нечего делать, от скуки.
Рассказ этот под названием «Сережа» был напечатан в "Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду" 1837 г. Он понравился очень многим, но вообще в публике был мало замечен.
В Соллогубе, после выхода из университета, очень резко бросалась в глаза смесь немецкого буршества с русскими барскими замашками и претензиями — странная смесь, вечно ставившая его в неловкое противоречие с самим собою. От этого он казался искусственным, натянутым и как бы постоянно недовольным собою. Все это еще увеличивалось в нем с летами, когда к этому недовольству присоединялись муки неудовлетворенного чиновничьего честолюбия, оскорбленного литературного самолюбия и, наконец, недостаток средств вести ту широкую и беспечную барскую жизнь, к которой он был приготовляем в детстве. Не способный ни к какой самостоятельной мысли, ни к какой серьезной деятельности, ни к какому выдержанному труду, смотря даже на труд несколько презрительно, свысока и по-барски, он с барскою небрежностию обращался с своим талантом, не заботился о его развитии и, несмотря на свои первые блестящие успехи в литературе, остался навсегда литературным дилетантом, хотя такая роль мало удовлетворяла его самолюбие. У него недостало воли остановиться на чем-нибудь, избрать себе какоенибудь определенное поприще, какую-нибудь специальность… Ему хотелось в одно и то же время достичь какой-нибудь важной административной должности, иметь значение при дворе, играть роль в большом свете и приобрести литературный авторитет, не употребляя для этого, впрочем, никаких усилий. Беспечно гоняясь за всем, он ни на одном из этих поприщей не приобрел никакого значения и остался немножко литератором, немножко придворным, немножко светским человеком и немножко чиновником. С горьким и ядовитым сознанием своей неудавшейся жизни, с тоскою и пустотою в душе, вследствие отсутствия всяких убеждений, не удовлетворяемый рутинными понятиями, в которых погрязал лениво, он неловко разыгрывал в свете роль литератора, а в литературе — светского человека. Но недовольство самим собою, искреннее сознание в своих недостатках и слабостях перед людьми, которых он уважал — все это показывало, что Соллогуб по натуре своей не принадлежал к тем дюжинным господам, которые с апатическим равнодушием легко и дешево примиряются с самими собою…
Успех его "Истории двух калош" был огромный и в литературе и в публике. Повесть эта читалась всеми нарасхват. Критика с увлечением приветствовала ее и начала смотреть на Соллогуба как на одну из надежд русской литературы. Белинский был от нее в восторге. Он с участием и любопытством расспрашивал меня об ее авторе.
"История двух калош" наделала столько шуму, что она читалась даже теми, которые никогда ничего не читали… по крайней мере по-русски; в большом свете с неделю только и говорили об этих «Калошах»… Соллогуб был в ходу. Эти «Калоши» раз только доставили ему небольшую неприятность. При разъезде с бала Д* он, вместе с толпою разъезжающихся дам и кавалеров, остановился на лестнице. В этой толпе был между прочим А* — господин очень бойкий и находчивый. Соллогуб, подсмеиваясь над ним, закричал с иронической торжественностию: "Карету, А — на!" А* посмотрел на него с улыбкою и закричал в свою очередь: "Калоши Соллогуба!.." Все невольно улыбнулись. Самолюбие Соллогуба (действительно не имевшего на этот раз кареты) было уязвлено, и он не мог скрыть своего смущения.
Поощренный успехом, Соллогуб с жаром принялся за другую повесть, и на следующий год в "Отечественных записках" появился его "Большой свет". Этот "Большой свет" в публике имел почти равный успех с "Историею двух калош", но в литературных кружках, которым он тоже очень понравился, его приняли уже гораздо хладнокровнее, чем "Историю двух калош"…
Белинский отдавал справедливость ловкости и мастерству изложения этой повести, упрекал ее за слабость мысли, за неудавшуюся концепцию, за характер Сафьева (в Сафьеве Соллогуб хотел изобразить Соболевского), на которого автор смотрел с некоторым благоговением, как на идеал. Один только Краевский, заранее всем прокричавший об этой повести как о небывалом еще явлении в нашей литературе, упорно отстаивал ее от всяких замечаний, повторяя одни и те же фразы… "Нет, что ни толкуйте, это превосходная вещь, превосходная, большой свет схвачен в ней мастерски, и какой язык-то! Нет, Соллогуб молодец, молодец. Я не ожидал от него этого".
Через несколько дней после этого Краевский, впрочем, уже отзывался о "Большом свете" словами Белинского.
"Концепции нет, — повторял он, — и что это за лицо Сафьев? Можно ли выставлять его как идеал?" и прочее.
После "Истории двух калош", "Большого света" и в особенности «Аптекарши», которая произвела фурор, Соллогуб сделался самым любимым и модным беллетристом и даже нашел некоторых (весьма, впрочем, слабых) подражателей. Все последующие произведения его, если и не имели такого успеха, как его три первые повести, то все-таки читались с жадностию.
Летом 1842 г. я жил на даче в Павловске вместе с Краевским, который лишился в этот год жены. Флигель дачи занимал Языков и Боткин, приехавший в Петербург. Лето это мы провели очень весело. У Языкова во флигеле гостил по нескольку дней Огарев, отправлявшийся за границу, Константин Булгаков, известный своими шалостями, артистическими талантами и остроумными выходками с великим князем Михаил Павловичем, и многие другие наши приятели. Гости не переводились в языковском флигеле.
С Огаревым мы познакомились через Искандера. Огарев очень привязался к Языкову.
Огарев принадлежал к тем мягким, кротким, созерцательным и вместе чувственным натурам, которых обыкновенно называют поэтическими. Такие натуры совершенно не способны к жизни практической, деятельной. Без постороннего влияния, оставленные самим себе, некоторые из них удовлетворяются отвлеченным миром фантазий, в который погружаются с каким-то апатическим наслаждением, и киснут в этих фантазиях, другие просто погрязают безвыходно в чувственных наслаждениях… Огарев с ранних лет дружески сошелся с Искандером, который не допустил его ни до того, ни до другого. Огарев развил в себе под его энергическим влиянием те убеждения, которые поддерживали его во всех переворотах его бурной жизни и осмыслили его существование.
Что-то необыкновенно симпатическое и задушевное было во всей его фигуре, в его медленных и тихих движениях, в его постоянно задумчивых глазах, в его тихом, едва слышном голосе, походившем более на шопот больного. Недаром Искандер, Грановский и многие из наших приятелей любили его с какою-то нежностью… Грусть никогда не покидала Огарева, даже в минуты самого шумного разгула. Старый, отживающий мир со всеми его нелепыми условиями и формами тяготил его, он не мог подчиниться ни одному из этих условий и с каким-то тайным наслаждением рвал те связи, которые прикрепляли его еще к этому миру. Он отпустил часть своих крестьян на волю, остальное еще довольно значительное состояние он проживал не только с сознательною беспечностию, но даже с каким-то чувством самодовольствия.
— Чтобы сделаться вполне человеком, — говорил он нам своим симпатическим шопотом, попивая, впрочем, шампанское, — я чувствую, что мне необходимо сделаться пролетарием.
И это была не фраза. Он говорил искренно, и на его грустных глазах дрожали слезы…
Огарев беспрестанно путался, спотыкался в жизни, предавался, как блудный сын, всем крайностям разгула, но, как блудный сын, он и в падении не утратил чистоты души своей и не изменил своим благородным убеждениям. Ни капли фразерства и лицемерства не было ни в его жизни, ни в его стихах.
Искренность и задушевность — их главные достоинства. Их можно, пожалуй, упрекнуть в монотонности, вялости, иногда в бессильной грусти, похожей на старческое хныканье, но уж никак не в искусственности и не во фразе…
Огарев и Языков не могли не сблизиться между собою; в них было что-то родственное по мягкости и кротости характеров и по отсутствию в обоих всякого практического такта.
Огарев и Языков просиживали иногда напролет целые ночи, тихо беседуя и сладко фантазируя за бутылкою вина… Один раз после бессонной ночи Огареву (в этот раз с ним не было Языкова) пришла фантазия отправиться в Невский монастырь на могилу своего отца…
И ему непременно захотелось взять с собою Языкова. Огарев отправился к нему в половине пятого часа утра и разбудил его… Языкова нимало не удивило, а, напротив, показалось очень натуральным предложение Огарева, и он тотчас же оделся и с великим удовольствием отправился с ним на кладбище.
Приезд Огарева, который провел в Павловске трое суток, оживил Языкова и заставил всех нас провести три бессонных ночи. Однажды к нам присоединился Соллогуб, живший в Царском селе. После окончания музыки в вокзале мы возвратились в языковский флигель, пили чай, заваривали жженку и просидели незаметно до 2 часов. В 2 часа мы отправились провожать Соллогуба. Соллогуб зазвал нас к себе. Мы влезли к нему в кабинет через окно, посидели у него с полчаса и отправились встречать утро в царскосельский сад и умываться к Молочнице… Домой мы вернулись часам к 8 и принялись завтракать. Такая безалаберная жизнь очень нравилась и Языкову и Огареву, но внутренний комфорт Огарева нарушался, если в наши ночные беседы и прогулки вмешивалось постороннее лицо… "Соллогуб, может быть, очень хороший человек, — говорил Огарев, — но бог с ним, он не наш, мне с такими господами неловко, я при них и говорить не умею"…
И действительно, при Соллогубе было неловко в прямом, бесцеремонном, дружеском кружке. Он тотчас нарушал его гармонию, внося, против своей воли, искусственность, ложь, ломанье, фатство, от которых он никак не мог отделаться и которые становились его второю натурою. Он желал ближе сойтись с многими из нашего кружка, но при отсутствии всякой простоты и искренности и при его смешных барских выходках и замашках — это было невозможно. Препятствий к такому сближению было с его, а не с нашей стороны, а он добродушно жаловался на нас и упрекал нас в том, что мы его дичимся и удаляемся от него.
Отсутствие простоты доходило в этом человеке до комического. Ему хотелось прочесть нам свою новую повесть, и, вместо того чтобы просто передать нам свое желание, он, встретив меня однажды в Павловском вокзале, завел со мною такую речь небрежным, вялым тоном, нехотя и отвлекаясь беспрестанно посторонними предметами:
— Не правда ли, что сочинять повести это ужасно глупое занятие? а? Как вы думаете об этом?
Примечания
1
(Соч. Белинского, том I, стр. 38)
(обратно)2
(стр. 57)
(обратно)3
(стр. 58)
(обратно)4
(Соч. Белинского, т. I, стр. 271)
(обратно)5
(см. Соч. Белинского, том 2, стр. 21)
(обратно)6
Эта вторая часть, как, вероятно, заметят читатели, еще более первой имеет отрывочный характер. Я печатаю только то, что нахожу возможным. Если бы тем из критиков, которые обратили внимание на мои "Литературные воспоминания", угодно было принять в соображение то, что это только выборки из воспоминаний, — они, вероятно, судили бы меня снисходительнее.
(обратно)




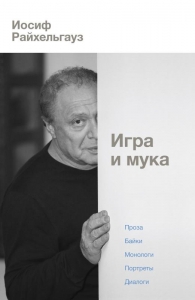
Комментарии к книге «Литературные воспоминания», Иван Иванович Панаев
Всего 0 комментариев