Об авторе
Раиса Ермолаевна Аронова, гвардии лейтенант, старший летчик 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). Родилась 10 февраля 1920 году в Саратове в семье рабочего-железнодорожника. Русская, член КПСС с 1942 года. Окончила среднюю школу, аэроклуб, два курса Саратовского института механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина. В 1940 году перевелась в Московский авиационный институт. В октябре 1941 года пошла в Красную Армию. В 1942 году окончила Энгельсскую военную авиационную школу пилотов.
С мая 1942 года до победы над Германией в Великой Отечественной войне сражалась в составе 4-й воздушной армии на Северо-Кавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусоком фронтах. Принимала участие в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме врага на территории Германии. Ранена 23 марта 1943 года. За боевые отличия награждена двумя орденами Красного Знамени (1943, 1945), орденами Отечественный воины 1-й степени (1944), Красной Звезды (1942), медалями «3а оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной воине 1941–1945 гг.».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Раисе Ермолаевне Ароновой присвоено 15 мая. 1946 года за 941 боевой вылет, нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество.
В послевоенные годы Р.Е. Аронова закончила Институт иностранных языков (1952). С 1961 майор Аронова — в запасе, жила и работала в Москве. Умерла 20 декабря 1982 года. Похоронена в Москве, на Кунцевском кладбище.
Источник: Неизвестные герои ( _id=11)
На полотняных крыльях
С шумом распахнув дверь в комнату общежития, я чуть ли не от порога бросила портфель на свою койку и вихрем закружилась по комнате. Ура! Свалила последний экзамен! Да не какой-нибудь, а сопромат. «Сопромат сдал — можно жениться», — гласила студенческая мудрость. Выходить замуж я не собиралась, но это ничуть не умаляло моей буйной радости. Жаль только, что не были дома девчат: сегодня суббота, они уже разъехались кто куда.
Я сбегала в магазин, купила пять порций мороженого (по одной на каждый сданный в эту сессию экзамен) и бутылку лимонада. Студенческий пир, хоть и в одиночку, получился отличный.
А вечером достала из тумбочки письмо, которое больше месяца лежало бел ответа. Ждало сегодняшнего дня. С конвертом о руках села на койку и задумалась.
Когда человеку двадцать лег, он редко заглядывает и свое прошлое. Но письмо заставляло оглянуться назад. Отдельные моменты из жизни последних лет разноцветными кусочками мозаики вставали перед глазами, образуя хоть и цельную, но довольно пеструю картину. Большую часть в ней занимал голубой цвет — небо. Правда, оно не везде было чистым — кое-где облака, а кое-где и темные тучи.
…Началось это еще в школе, в десятом классе. Рассказы об авиации, о прославленных летчиках как-то внезапно захватили воображение, я читала их, не переводя дыхания. Но о том, чтобы самой стать летчиком, даже и не помышляла. Мне казалось, что эти люди — чудо-богатыри, наделенные природой каким-то особым качеством, которого у меня нет. Мечтала быть то актрисой, то геологом, то астрономом. Однако по мере приближения выпускных экзаменов все чаще и чаще с завистью поглядывала на пролетавшие в небе самолеты. «А почему бы и мне?..» Сначала мысль показалась дерзкой. Но чем чаще я к ней возвращалась, тем менее фантастичной она выглядела. И вот в один прекрасный день поняла: не расстанусь со своей мечтой. Но как ее осуществить? Услышала, что самый верный путь в авиацию — через военное летное училище. Посчитала, что мне этот путь не заказан. Отправила письмо. «Не мыслю себе жизни без авиации», — откровенно говорилось в нем. С нетерпением ждала ответа. И он пришел: «Женщины в данное время в военные летные училища не принимаются». Надежды рухнули, мечта гибла…
После этого для меня, как для пушкинской Татьяны, «все были жребии равны» и, окончив десятилетку, отнесла документы в Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Почему туда? Да просто потому, что нужно было где-то учиться, а в этот институт поступало несколько моих одноклассников, пошла и я за компанию.
Но с первых же дней учебы в СИМСХ все мои огорчения и даже, кажется, разочарование в жизни как-то сами собой отошли на последний план. Кипучая, многогранная жизнь института просто не позволяла стоять от нее в стороне. Там было все ново, интересно. К тому же меня избрали комсоргом группы, появилась масса неотложных дел. Появились и новые друзья.
Однажды у входа в институт я увидела объявление, которое всколыхнуло в душе сокровенные думы: «Саратовский аэроклуб производит набор»… На другой день мое заявление лежало на столе начальника учебной части аэроклуба. А еще через два дня…
— Сделайте пятнадцать приседаний, — сказал врач. В быстром темпе выполнила упражнение.
— Ну-с, дайте-ка руку, проверим пульс.
Я чувствовала, как бешено бьется сердце. Это результат физической нагрузки, умноженной на опасение: вон уже забраковали нескольких парней, которые выглядели куда крепче и сильнее меня, худенькой бледнолицей девушки.
Врач приподнял очки на лоб, сердито глянул и сказал:
— Нет, дорогая, с таким пульсом не только летать, а даже думать об авиации не стоит. Как у воробья — сто сорок!
Он сделал красноречивый жест, означающий, что разговор окончен. Закусив губу, я вышла из кабинета.
Не раз получалось вот так у меня — не удавалось с первой попытки взять «высоту». Например, год назад, в школе, мне захотелось научиться метко стрелять. Но первый в жизни выстрел чуть не оказался и последним — пуля ударилась в пол (стрельба проходила в длинном коридоре школы), рикошетом отлетела к потолку, посыпалась штукатурка.
— Да… — протянул военрук, — неважно получилось.
Обидно и стыдно было до слез. «Все равно научусь стрелять», — упрямо сказала тогда себе.
Как-то вскоре объявили набор на курсы инструкторов стрелкового спорта при районном совете Осоавиахима. Я записалась. Мальчишки подшучивали: «Ну какой из тебя стрелок!» Подруги пожимали плечами: «Чудачка». А через три месяца на моей груди красовался значок «Ворошиловский стрелок». На районных стрелковых соревнованиях заняла первое место. В школе на уроках военного дела бой винтовки проверяли по моей стрельбе. Этим успехом я целиком была обязана своему инструктору Сергею Сергеевичу Баулину. Он сумел найти нужную «жилку», правильно нацелить мой глаз. В атом, очевидно, и заключается искусство учителя — помочь человеку найти себя.
… «Буду, милый доктор, думать об авиации, — мысленно возражала я врачу, возвращаясь с медкомиссии по тихим вечерним улицам Саратова. — И летать буду. Ну а пульс…»
Последующие две недели усиленно занималась гимнастикой, обливалась по утрам холодной водой, в институт и обратно ходила только пешком. И вот снова медкомиссия. Стою перед терапевтом. Спокойствие олимпийское. Вижу пишет: «Годна». От радости сердце опять заколотилось, «как у воробья». Но теперь не нужно было укрощать его. Бейся!
Учеба в институте, занятия в аэроклубе, в стрелковой секции, в хоровом кружке, гимнастика и, конечно же, институтские вечера, кино… Удивительно, как на все хватало времени? Молодость, говорят, вообще удивительная пора в жизни человека.
Наступила весна. И пришел долгожданный, волнующий момент — первый взлет… Яркое солнце, голубое небо, зеленая трава. Зеленый У-2 и десять курсантов в синих комбинезонах. Подходит инструктор Волков — молодой, среднего роста парень. Изучающе посмотрел на застывших по стойке «смирно» курсантов.
— Начнем?
Он прошелся вдоль строя и неожиданно для всех сказал:
— Я думаю, что мы будем настоящими мужчинами и уступим первый полет единственной в нашей группе девушке.
Уже отработанными движениями забираюсь в кабину. А в душе все поет: сейчас поднимусь в небо! Короткий разбег и самолет в воздухе. Я огляделась вокруг… Тихое ясное утро. Лучи солнца, казалось, пронизывали все вокруг, отчего становилось легко и весело. Лечу впервые в жизни! Впереди широкой серебряной лентой блестела Волга, а справа раскинулся родной город. Мне на мгновение показалось, что парю свободно, как птица, и стоит только взмахнуть крылом, как полечу вон туда, к заволжским степям… Но самолет круто развернулся и пошел на посадку. Управление было не в моих руках.
Я мало что поняла во время первого полета. Осталось только ощущение чего-то необычайного, свежего, радостного.
— Поздравляю с первым вылетом! — сказал инструктор, когда зарулили на линейку.
А пока мы летали, парни нашей группы нарвали где-то на краю аэродрома полевых цветов, и когда я вылезла из кабины, они преподнесли мне букет. От полноты чувств у меня затуманились глаза. Ребята дружным хором исполнили туш.
Подошел командир звена Ломакин.
— Ну, какое первое впечатление?
— Восхитительно! Теперь ни за что не расстанусь с небом!
После было много волнующих полетов — и первый самостоятельный, и захватывающие своей остротой «кувыркания» во время высшего пилотажа. Но тот, первый, все-таки ярче всех врезался в память.
…Потом в мою жизнь вошло новое знаменательное событие. Было это уже глубокой осенью 1939 года.
Актовый зал института переполнен. Студенты и преподаватели собрались сюда, чтобы выдвинуть кандидата в областной Совет депутатов трудящихся. Я сидела где-то в задних рядах со своими однокурсниками. На трибуну поднялся Василий Максимович Кузьмин, студент нашей группы. Он пришел на учебу не со школьной скамьи, а после большой работы в советских и партийных органах. Мы всегда внимательно прислушивались к его словам, нередко обращались за советами и разъяснениями по разным общественным и житейским вопросам.
— Предлагаю выдвинуть кандидатом в депутаты студентку Аронову, — сказал Максимыч.
Я не поверила своим ушам. «Хоть бы предупредил»… — первое, что пришло на ум. «Почему? За какие заслуги? Ведь я ничего не успела еще сделать в жизни, самая обыкновенная девчонка»…
— Расскажите свою биографию, — попросили меня.
Взошла на трибуну и растерялась, обнаружив, что биографии-то почти и нет. Она оказалась до обидного короткой.
Родилась в 1920 году, здесь же, в Саратове. В 1938 году окончила школу. В комсомоле с 1930 года. После окончания средней школы поступила в институт и в аэроклуб. Вот и все… пока.
Родители? Этот вопрос смутил меня. Что сказать об отце? У меня к нему были сложные, противоречивые чувства. Еще во время первой мировой войны он, безусый юнец, был разведчиком. Прославился своей отчаянной храбростью, получил несколько ранений и три Георгиевских креста. Я любила отца за его боевое прошлое. После он много лет работал на железнодорожном транспорте, считался отличным специалистом. Был бы и сейчас всеми уважаемым человеком, если бы не увлечение вином в последнее время.
В 1936 году неожиданно уехал неизвестно куда. В душе у меня жила и любовь и обида на него. Ведь детям всегда хочется гордиться своими родителями, особенно отцами. И я могла бы гордиться отцом, не случись вот такое… А мама? Она хорошая, как и все, наверно, мамы. У нее ласковые, добрые руки, хоть и в мозолях — много лет работала прачкой, потом на заводе. Немало горя хлебнула в своей жизни. Иногда, в минуты задушевной беседы, она говорила, поглаживая по моим жестким волосам: «Учись, дочка, для тебя сейчас это самое главное в жизни. Я вот осталась малограмотной. Трудно мне…» Она пошла на тяжелую, неженскую работу только для того, чтобы я могла учиться в институте.
Но разве обо всем этом нужно говорить на собрании? Вероятно, не следует. Поэтому коротко ответила:
— Отца у меня нет. Мама работает на вагоноремонтном заводе маляром.
…Прошла предвыборная кампания, прошли и выборы, начались мои депутатские будни. А мне все не давал покоя вопрос: почему именно меня институт выдвинул в депутаты? Так и не ответив на него сама, решила обратиться к Василию Максимовичу, «духовному отцу», как называла его про себя.
— Видишь ли, Рая, — немного подумав, сказал Максимыч, — в институте есть много хороших людей. Есть, наверно, и не менее достойные, как ты сама говоришь. Но это в основном люди уже зрелые, с определенным жизненным опытом. Я не хочу сказать, что такие не подходят в депутаты. Наоборот, от них, может быть, было бы больше полезной отдачи. Но нам нужно растить молодежь, учить ее не только в институтах, но и на работе в государственных органах. — Он пытливо взглянул на меня. — Но ты ведь не подкачаешь, а? — И, одобрительно подмигнув мне, улыбнулся.
— Откровенно говоря, Максимыч, не знаю. Безусловно, буду стараться, но ведь этого мало! Нужны знания, опыт.
— Старшие товарищи помогут.
Действительно, помогали. Сам Василий Максимович, секретарь комитета комсомола Саша Суслин, секретарь парткома Вадивасов. И все-таки времени не хватало.
С сожалением рассталась со стрелковым спортом, с некоторыми кружками. Но аэроклуб не оставляла. К тому времени я уже сдала госэкзамены, получила звание пилота. Но не могла же на этом остановиться и отойти от авиации! Она властно захватила меня в свои воздушные объятия, завладела всеми думами и мечтами о будущем. При аэроклубе организовывалось звено летчиков-спортсменов, и я с большой радостью согласилась войти в него. Опять начались теоретические занятия, опять зашагала по знакомой дорожке в аэроклуб, забегая теперь в облисполком но своим депутатским делам…
— Рая, а не думаешь ли ты вступать в партию? — спросил как-то Василий Максимович. Меня этот вопрос удивил.
— Максимыч, я, наверно, не имею никакого права…
— А мне кажется, что ты уже готова к вступлению. Я согласен дать рекомендацию.
— Но мне только девятнадцать лет!
— Разве молодость — препятствие для вступления в ряды коммунистов?
— Какую огромную ответственность возьму тогда на себя…
— Ты боишься ответственности?
— Нет, но… Максимыч, дай мне срок обдумать. Думала долго к много. Для верности решила обратиться за советом к самому близкому мне человеку — маме. Она внимательно выслушала, потом, задумчиво глядя на меня, сказала:
— А ведь ты уже совсем взрослая, дочка. Я и не заметила, как ты выросла. Уже летаешь на самолете, избрали депутатом. Завидная у тебя юность! Моя была совсем иной… Совет же мой тебе такой: раз предлагают умные люди, значит, так и надо. Василий Максимович плохому не научит.
— Мне казалось, мама, что для того, чтобы стать членом партии, нужно совершить что-нибудь значительное, делом доказать…
— Придет время, докажешь.
Примерно через месяц меня приняли кандидатом в члены партии. Я мчалась домой, как на крыльях.
— Мама, поздравь, меня приняли в партию! — выпалила я одним духом.
— Ну, поздравляю, поздравляю, — она обняла меня и поцеловала.
Пришла весна, а вместе с ней и непреодолимая тяга в небо. Пришли мучительные раздумья. Стоит ли дальше учиться в СПМСХ, если я не собираюсь стать механизатором сельского хозяйства? Без особого энтузиазма сдавала летнюю сессию в институте. Полеты в спортивном звене все не начинались. Наконец после нелегких размышлений я решилась. С трудом добилась перевода в Москву, в авиационный институт.
В августе зашла в комитет комсомола к секретарю Саше Суслину.
— Я с прощальным визитом, Саша.
— Знаю. Покидаешь, значит, пас, да?
— Очень жаль расставаться с институтом, с друзьями, с Саратовом, но…
— Но мечта победила, так?
— Так, Саша.
Ну что ж, желаю тебе успехов. Больших успехов. А н вот характеристику на всякий случай тебе заготовил.
— Спасибо. Расхвалил, наверно?
— Наоборот, кажется, слишком скупо рассказал о твоих достоинствах.
— Шутить… А мне что-то грустно.
— Расставание всегда немного грустно. Но ты пиши, когда будет уж очень туго. Знаю, — улыбнулся он, — если все пойдет хорошо, то и не вспомнить о своих провинциальных друзьях.
— Обязательно напишу!
…И вот я в Москве. Мне хотелось в первый же день осмотреть все ее достопримечательности. Но разве это возможно! Не меньше недели бегала я но музеям, выставкам, паркам и площадям Москвы, а поздним вечером, еле дотащилась до общежития, в изнеможении валилась на постель Утром просыпалась вместе с радио. Сквозь дрему слушала, как сладкий голос пел о том, что где-то далеко, за синим морем, стоит золотая скала, в скале есть дверца, а за ней — чудесная большая страна. Дверцу можно открыть только золотым волшебным ключом, но где он запрятан — никто не знает. Мне казалось, что я нашла тот заветный ключик.
С замиранием сердца вошла первый раз в Большой театр на спектакль «Лебединое озеро». Большой околдовал меня. В дальнейшем старалась хоть раз в месяц сходить туда, выкраивая из своего скудного бюджета несколько рублей для билета на галерку.
А бюджет был действительно скудный. Мама не могла оказывать серьезную помощь, и единственной статьей дохода была стипендия. Но вскоре и ее лишилась. Вышло постановление о том, что студентам, имеющим тройки, стипендию не выплачивать. У меня затесалась эта роковая оценка, и пришлось срочно искать работу. Вместе со своими подругами Галей Буйволовой и Женей Борак я оказалась в должности то ли лаборантки, то ли чертежницы в одной из лабораторий института.
Трудным был для меня тот учебный год. После занятий, едва успев наскоро пообедать (а иногда и без обеда), бежала на работу. Там садилась за чертежную доску или копировальный стол. Потом, вечером, делать свои чертежи никак не хотелось. Но когда поджимали сроки, приходилось сидеть до рассвета, иначе не допустят к экзаменам.
Иногда просто выбивалась из сил. Впадала в отчаяние. В один из таких моментов написала в Саратов Саше Суслину письмо. Говорила о том, что брошу ко всем чертям институт, уеду домой, что линия моей жизни пошла теперь книзу… А впрочем, вам, мол, на меня наплевать — я ведь не ваша студентка. Даже, мол, и не жду ответа на свое письмо.
Но ответ пришел.
«…Мне кажется, что ты писала письмо в сильно минорном настроении. Оно до предела откровенно, и в этом, пожалуй, его единственное достоинство.
… Итак, еще раз об авиации. Я все продумал и пришел к выводу — ни под каким видом уходить из МАИ нельзя. Знаю, что тебе сейчас очень трудно — и материально, и по другим причинам. Но, Рая, без борьбы сдаваться нельзя; До тех пор, пока не исчерпаешь все средства — уменье, волю, упорный характер, не уезжай из Москвы. Гони ко всем чертям упаднические настроения, тоску о Саратове. Пусть будет тяжело, но в этом-то и счастье — побеждать трудности. И ты можешь победить. Должна!
…У меня дела идут все так же, как и прежде…
Привет тебе от друзей… Жду твоих успехов.
Саша Суслин».
К письму была приложена коротенькая записочка.
«Здравствуй, Рая! Письмо Сашки к тебе я прочел. Он нрав — назад не оглядывайся, учебу не бросай — это будет роковой ошибкой. Я думаю, положение у тебя не такое уж плохое, как ты расписала.
Уверен, что выйдешь победителем из той борьбы, о которой пишет Сашка. Будешь писать друзьям, черкни и мне.
С приветом В. Кузьмин».
Когда я читала все это, мне было стыдно. Стыдно за свою минутную слабость, за то, что под впечатлением той минуты написала такое скверное письмо друзьям. Они в меня верили, а я вот при первом же серьезном жизненном испытании спасовала, захныкала: «Хочу домой, трудно»… Но как все-таки здорово, когда есть, умные друзья и в трудный момент могут оказать поддержку! С утроенной энергией и хорошим настроением засела за учебники и чертежи. «Ответ напишу после сессии, когда результаты будут видны в зачетке», — решила я, откладывая в тумбочку письмо.
И вот сегодня сдан последний экзамен. Теперь можно сообщить, что бой выиграла. Только голова какая-то тяжелая, ночь совсем не спала, — студентам часто не хватает одного дня перед экзаменом, пришлось ночь прихватить. Я привалилась на подушку.
«Завтра на вокзал за билетом нужно съездить, — строила планы, — Через неделю оформлю на работе отпуск, а потом… Здравствуй, Саратов! Здравствуй, мама! И да здравствует отдых на берегах Волги!»
«Письмо утром, на свежую голову»… — подумала, засыпая.
А наутро…
Война!
Это слово рванулось, из репродукторов, ринулось со страниц газет и набатным громом прокатилось по нашей стране, ломая мирную жизнь людей, их планы, надежды, мечты. Моя жизнь тоже надолго выбилась из студенческой колеи и зашагала по трудным военным дорогам.
С первых же дней войны юноши и девушки осаждали военкоматы Москвы, требуя немедленной отправки на фронт. С парнями еще разговаривали, а от девушек сердито отмахивались:
— Видите, что у нас творится? Идите и ждите. Будет нужно — вызовем повесткой.
То же самое ответили и мне, когда я пришла в Ленинградский райвоенкомат и сказала, что умею летать и хочу на фронт.
Вскоре по институту распространилась весть о том, что студентки поедут на трудфронт, недели на полторы-две. Я была связана работой, но на свой риск и страх, не испросив разрешения у начальства, включилась в число отъезжающих.
Вместо двух недель мы пробыли на земляных работах больше двух месяцев. За лето исколесили всю Орловскую и Брянскую области. В жару и непогоду, под дождем и палящим солнцем студентки Москвы рыли окопы, ячейки для дотов. Наша группа девушек из МАИ специализировалась на противотанковых рвах. Работали от восхода до заката солнца. Иногда приходилось стоять в ледяной грунтовой воде. Больше двадцати минут ноги не выдерживали, и мы выскакивали из рва с красными, как гусиные лапы, ногами. Поскольку я высокая ростом, то мне доставалась самая трудная работа — докапывать последние вершки и из двухметровой глубины выбрасывать лопатой тяжелую глину. Пальцы рук от беспрерывного напряжения огрубели, скрючились. Порой я с тревогой думала: как же буду чертить? Но чертить уже не пришлось, хотя пальцы вскоре стали опять гибкими.
Сводки о положении на фронтах доходили до нас с опозданием, да и получали мы их нерегулярно. Однако по отдельным фактам и явлениям все-таки улавливали общий ход войны. Понимали, что фронт откатывается на восток. Проезжали беженцы, гнали скот, проходили воинские части. Военные удивлялись, зачем мы здесь роем рвы. А мы удивлялись, почему они отступают.
Тревожно становилось на душе. И хотя мы еще мало знали, что несет с собой война, но постепенно нарастало смутное чувство опасности, какое, очевидно, охватывает человека во время приближения стихийного бедствия пожара, наводнения, эпидемии. Хотелось принять посильное участие в борьбе с этим бедствием.
Однажды утром наш руководитель вместо обычного задания на день сообщил: работы окончены, к ночи необходимо прибыть на станцию, до которой… пятьдесят километров!
— Должен сказать вам чистую правду, — медленно, как бы нехотя проговорил он, — фронт подошел очень близко, и если мы не успеем прийти на станцию к назначенному сроку, то рискуем остаться в окружении. Никаких средств передвижения у меня нет. Рассчитывайте на свои ноги.
Через четверть часа мы уже двинулись в путь. До полудня шли легко, компактной колонной. Потом некоторые стали отставать, темп движения снизился, колонна растянулась. Наступил вечер. Усталые, молчаливые, шагали мы по пыльной дороге, которой, казалось, не будет конца. Ноги налились свинцовой тяжестью, все тело ныло. Но опасность остаться в окружении подгоняла, придавала силы.
Моя подруга Галя Буйволова стала что-то прихрамывать. Пройдя еще километра два-три, она неожиданно села у дороги и сказала:
— Больше не могу. Иди, Рая, а я посижу…
— Ты с ума сошла, Галка? Оставить тебя одну в поле? Вставай, я помогу до станции осталось немного.
— Нет больше сил…
— Неправда, есть. Поднимайся. Дай подержу твой сверток. Ну, пошагали! сказала я как можно решительнее, хотя у самой минуту назад было такое же желание — сесть и не вставать.
В полном изнеможении, голодные, доплелись мы глубокой ночью до станции. Выпив у колодца по кружке холодной воды, вошли в указанное нам здание. Но помещение оказалось уже переполненным, негде было даже ногой ступить. Кто-то посоветовал подняться на чердак. Там тоже отдыхало несколько девушек. Едва мы с Галей улеглись, как страшный взрыв потряс землю. За ним последовал второй, третий, четвертый. Здание дрожало, перила скрипели, все кругом осветилось заревом пожара. Немецкие самолеты бомбили станцию. Чердак во время бомбежки — ненадежное убежище. Но усталость была, кажется, сильнее страха смерти — никто не сдвинулся с места…
Наутро был подан состав, и мы разместились в пассажирских вагонах. Поезд тронулся, колеса убаюкивающе застучали, и все заснули мертвым сном. В пути наш эшелон бомбили, но я ничего не слышала.
Оборванные, грязные, загорелые приехали мы в Москву уже в начале сентября. Москвичи приняли нас за беженцев, сокрушенно качали головами, когда мы длинной вереницей шли с вокзала, неслышно ступая босыми ногами по асфальту мостовой.
Начались занятия в институте, приступила я к работе и в лаборатории. Но теперь учеба не казалась самой главной целью жизни. Главное свершается сейчас там, на фронте. И я ломала голову, как бы попасть туда.
В октябре 1941 года известная летчица Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова приступила к формированию женской авиачасти. К зданию ЦК ВЛКСМ, где проходил спецнабор девушек-добровольцев, спешили летчицы из ГВФ и аэроклубов, студентки из МГУ и институтов, молодые работницы московских заводов и фабрик. Но чтобы попасть в эту часть, одного желания было мало. Отбор был строгим и всесторонним. Правда, умение управлять самолетом не для всех было обязательным: для летной части нужны и штурманы, и техники, и штабные-работники.
Много волнующих минут переживали девушки, прежде чем получали желанный ответ: «Зачислена».
С тревогой входила и я в кабинет товарища Розанцева, заместителя заведующего отделом кадров ЦК ВЛКСМ. После обычных вопросов: фамилия, год рождения, откуда прибыла — последовал вопрос о моей военной специальности. Я поспешила отрапортовать:
— Окончила аэроклуб, имею звание пилота. Окончила также курсы инструкторов стрелкового спорта.
— Ого, да тут, оказывается, совсем готовый боец! — пошутил Розанцев. Ну, а как же с учебой? Ведь ты уже наполовину авиационный инженер. Не жалко бросать?
Нет, я не жалела об этом. У меня, собственно, и не возникало такого вопроса. Мне казалось, что сейчас все должны взять в руки оружие и идти сражаться с врагом.
— Доучусь после войны. Сейчас не могу. Хочу защищать Родину.
Розанцев помолчал.
— Что ж, не имею оснований для отказа. Вношу в список. Завтра приходи сюда с вещами к шестнадцати часам.
На другой день все девушки, получившие путевки ЦК комсомола, шагали на сборный пункт в академию имени Жуковского. Вечером приступила к работе комиссия во главе с Мариной Михайловной Расковой.
Не скрою, я волновалась, ожидая встречи с прославленной летчицей. Ведь именно она своей яркой биографией зажгла во мне любовь к авиации. Я восхищалась ее рекордными перелетами, а после того как прочла ее «Записки штурмана», твердо решила связать свою жизнь с авиацией.
И вот сейчас увижу свою героиню, буду разговаривать с ней.
В этот момент вопрос о том, в какую группу меня зачислят — в летную или техническую, — отошел на второй план.
— Следующий!
Следующей была я.
Теперь не могу припомнить, находился ли кто еще в тот момент в комнате. Я видела только ее, сидящую за письменным столом. Свет из-под зеленого абажура настольной лампы неярко освещал хорошо знакомое по фотографиям лицо. Прямой пробор. Гладко зачесанные волосы собраны на затылке в узел. Тонкие черты слегка загорелого лица. Четкий разлет темных бровей. Чистый, высокий лоб. Красивые серые глаза. На гимнастерке — Золотая Звезда Героя.
Раскова приветливо улыбнулась и пригласила сесть рядом с ней. Она, конечно, видела мое смущение и деликатно старалась помочь справиться с ним. Марина Михайловна расспросила обо всем. Поинтересовалась, сколько часов я налетала в аэроклубе. Спросила, кем хочу быть.
— Только летчицей!
— Видишь ли, у тебя налет маловат — всего пятьдесят часов. А тут есть опытные летчицы, с солидным стажем. У них, разумеется, больше оснований… Предлагаю стать стрелком-бомбардиром.
Я не очень-то хорошо разбиралась тогда в летных военных профессиях.
— А летать буду?
— Непременно! Стрелок-бомбардир — это штурман с дополнительными обязанностями стрелка. Он же сбрасывает бомбы на цель.
Я охотно согласилась.
Поздно вечером девушки, сидя на койках, делились впечатлениями. Я разговорилась со своей соседкой Катей Доспановой, казашкой. Она тоже была зачислена в штурманскую группу — у нас за плечами аэроклуб. Веселая, жизнерадостная, хохотушка, как назвали бы ее в другое время. Но сейчас чувствовалось, что обстановка заставляла ее сдерживать свои порывы. Она была студенткой второго курса Московского медицинского института.
— Ну разве можно теперь сидеть на студенческой скамье? — говорила она, блестя черными, с восточным разрезом глазами. — Я была счастлива, когда узнала, что можно пойти добровольно на фронт. И стала вдвойне счастлива, когда оказалась в авиачасти Расковой. На редкость обаятельная женщина! Вы, наверное, тоже такого мнения?
— Безусловно! Мне думается, Раскова из числа тех немногих людей, о которых не бывает двух мнений.
— Смотрите, какая красивая девушка, — кивнув в сторону летчиц, сидевших в уголке обособленной группкой, шепнула Катя.
Действительно, Лиля Тормосина притягивала взгляд своей броской красотой. На вид ей было не больше двадцати. Светлые волнистые волосы, голубые глаза, нежный румянец… Голос, движения ее были мягкими, женственными.
— А вон студентки университета, — продолжала шептать Катя, — Ирина Ракобольская, Женя Руднева и Руфа Гашева. Я познакомилась с ними вчера в ЦК комсомола. А вон та — высокая, голубоглазая, с римским профилем, — Женя Жигуленко…
Я удивлялась, как это она успела уже со многими познакомиться. Позже поняла, что знать всех, все и обо всем — неотъемлемая черта Катиного характера.
На следующий день мы получали военное обмундирование. Вот где смеху было! Нам выдали все мужское, вплоть до белья. Многим форменная одежда оказалась явно не по росту, девушки выглядели в ней неловкими, смешными. Особенно большие огорчения доставили сапоги, которые почти все были 40-43-го размера.
— Просто не представляю, как будем ходить в таких скороходах, сокрушалась Катя Доспанова (она носила туфельки тридцать третьего размера).
Руфа Гашева сидела на кровати и переставляла пуговицы на брюках. Женя Руднева прокалывала дополнительные дырки в ремне. Все трудились до самого ужина, стараясь по возможности подогнать форму по своей фигуре.
Среди прочих вещей нам выдали снаряжение, состоящее из всяких ремней и кобуры для пистолета. Я не знала, куда девать эту кобуру — оружия-то еще не было. Прошел слух, что приказано надеть все снаряжение. Приказ есть приказ, и ему необходимо повиноваться. Нацепила я пустую кобуру и пошла на ужин. В большой столовой, кроме нашей части, питались и мужчины-летчики, прибывшие сюда на формирование. И вот в новом обмундировании, которое еще не облеглось и стояло дыбом, в сапогах с железными подковами, громко цокающими по каменному полу, и с пустой кобурой на боку пришлось пройти сквозь строй любопытных и насмешливых мужских глаз. Ох, эта кобура!.. Даже уши горели от смущения.
Пережитое волнение не уменьшило, однако, моего аппетита. Дело в том, что буквально за день до ухода в часть, я, следуя призыву вступать в ряды доноров, с готовностью стала им, и сейчас мой организм в спешном порядке восстанавливал потерю крови. Для меня было мало обычной порции, попросила вторую. Подруги с удивлением смотрели на меня. В общем, в тот вечер я привлекла к своей персоне немало любопытных взглядов.
Рано утром 16 октября мы солдатским строем двинулись на станцию железной дороги грузиться в эшелон, который должен доставить нас к месту назначения — на учебу. Куда — в тот момент нам еще не было известно. О том, что мы едем по направлению к моему родному Саратову, я узнала уже в пути.
Тревожно было в те дни в Москве. В начале октября немцы перешли в наступление на центральном направлении, и на подступах к столице развернулось ожесточенное сражение. Москва переживала опасный момент. Тяжело было расставаться с ней. Но мы твердо верили, что вскоре, овладев нужными знаниями, встанем на защиту своей Родины.
От Москвы до Энгельса, небольшого городка на Волге, езды поездом не больше суток Мы же прибыли туда лишь через неделю: подолгу стояли, пропуская бесконечные военные эшелоны.
Серым октябрьским утром, уже по-зимнему холодным и снежным, подъезжали мы к Волге. Вот она, моя родная, хороню знакомая с раннего детства красавица Волга! Подруги поздравляли меня: я увидела родные края.
Приказ № 1, объявленный сразу же, как только мы вышли из теплушек, гласил: сегодня всем посетить гарнизонную парикмахерскую и подстричься «под мальчика». Короткая стрижка и в самом деле сделала нас похожими на мальчишек.
Началась нелегкая курсантская жизнь. Десять уроков в день и два часа строевой подготовки. А у штурманов еще час занятий «морзянкой». Мы поднимались раньше всех и. стараясь не шаркать сапогами, до завтрака шли в учебный корпус, где тренировались на телеграфном ключе. Спать приходилось не больше пяти-шести часов и сутки. Но не беда! До сна ли теперь, когда мы жили одной мечтой — побыстрее на фронт!
Подготавливая нас к суровой фронтовой жизни, Марина Михайловна Раскова не раз поднимала ночью всю часть по тревоге. За две-три минуты нужно было одеться и встать в строй. Раскова проходила вдоль шеренг, осматривала, аккуратно ли застегнуты шинели, хорошо ли затянут ремень, на ту ли ногу надеты сапоги. Обычно на этом вся «тревога» заканчивалась, и мы отправлялись досыпать. Но зоркой глаз Расковой подметил, что некоторые девушки надевали шинели прямо на белье, а сапоги — на босу ногу. И вот однажды после одной такой тревоги вместо команды «Разойдись!» мы услышали:
— На аэродром шагом март!
— А я без портянок! — в отчаянии прошептала Катя Доспанова.
— А я брюки не надела, — слышу позади себя чей-то голос.
На улице мороз, ветер. Пришлось некоторым попрыгать, шутка ли! Зато после этого случая все одевались по тревоге как положено.
Январь был на исходе. Всему летному составу давно выдали зимнее обмундирование вплоть до меховых масок на лицо. Одетые в эту добротную, но довольно громоздкую одежду, многие девушки стали похожи на медвежат. Штурманы, кроме того, обзавелись еще специальным снаряжением, необходимым в полете. Полностью одетого в свои доспехи штурмана можно было принять за шамана. На тонком ремешке, перекинутом через плечо, болтается планшет, в который вложены карта, бортжурнал и навигационная линейка. К поясу на бечевке привязан металлический ветрочет, напоминающий развернутый веер. Отдельно на ниточках висят карандаш и резинка. К перекинутому через шею ремешку прикреплены большие меховые краги.
Мы со дня на день ждали начала тренировочных полетов. И вот 25 января они, наконец, начались. Огромный ТБ-3 стоял на заснеженном аэродроме, готовый принять на борт всю штурманскую группу. Те девушки, которые еще никогда не поднимались в воздух, с удивлением и даже с некоторой робостью осматривали махину, на которой им предстояло совершить первый в жизни полет.
Взбираемся по трапу и одна за другой исчезаем во вместительном брюхе великана.
— Да, войти-то мы вошли, а вот как выйдем из этого чрева? — замечает Женя Руднева, намекая на то, что для кое-кого знакомство с воздушной стихией может окончиться не совсем благополучно.
Два часа возил нас летчик по маршруту. Некоторые после этого полета вылезали с бледными лицами и помутневшими глазами.
— Ничего, привыкнем, натренируемся, — бодрились они.
И в самом деле, вскоре девушки справились с воздушной болезнью.
У меня тоже сохранилось одно неприятное воспоминание, правда, несколько иного рода. Как ни странно, но неудачи мне почему-то лучше запоминаются, чем удачные моменты жизни. Может быть, это и хорошо?
Я должна была лететь на восстановление детальной ориентировки на самолете Р-5 с мужчиной-инструктором. Это значило: летчик пролетит по незнакомому мне треугольному маршруту и в конце пути в определенный момент попросит меня отметить на карте точку нашего местонахождения. Чтобы найти эту точку, штурману в полете нужно было проделать большую работу: с помощью прицела и ветрочета измерить силу и направление ветра, определить угол сноса, на навигационной линейке рассчитать путевую скорость. Кроме того, необходимо было отмечать время, прокладывать линию пути на карте. В общем, дел хватало.
Неудачи начались еще на земле. Взбираясь в кабину, я машинально сняла с правой руки неуклюжую меховую крагу, ухватилась за металлический обод турели и тотчас, словно ужаленная, отдернула руку: на турели остались примерзшие кусочки кожи. Боль, конечно, страшная. Но что поделаешь? Задание выполнять надо!
Мы взлетели. От беспрерывных поворотов головы меховая маска то и дело съезжала набок и закрывала глаза. Пришлось се снять. Возня с маской отняла какое-то время, и я не успела измерить ветер на первом участке пути: летчик уже взял другой курс. Только было приступила к измерению ветра, уткнувшись в окуляр прицела, как услышала:
— Эй, штурман, я обморозил щеку. Сейчас буду растирать и не смогу точно держать курс.
А раз так, значит и я не смогу точно измерить ветер. Но все-таки старалась. Все мое внимание было сосредоточено теперь на торчавшей из пола кабины длинной трубе прицела. Летчик же том временем, увлекшись растиранием обмороженной щеки, видимо, проскочил второй поворотный пункт. Он забеспокоился, стал смотреть то вправо, то влево.
— Штурман, где мы находимся?
Но откуда мне было знать это, если я все время до тошноты смотрела в проклятую трубу прицела, а не на местность?
Потеряв всякую надежду на восстановление ориентировки, летчик решил выйти на линейный ориентир — Волгу. Между прочим, ориентироваться зимой в заволжских степях не так-то просто: селения там редки, лесов нет, гор и шоссейных дорог — тоже. Все покрыто белым покрывалом. Единственный крупный ориентир — Волга. Но и ее не сразу заметишь, так как берега в иных местах почти неразличимы.
Теперь мы смотрели в четыре глаза. Все свои вычисления я прекратила. Наконец подошли к Волге.
— Волга, Волга! — кричу летчику.
— И сам вижу, что Волга, — пробурчал он. Я не привезла, разумеется, никаких расчетов и подала проверяющему почти чистый бортжурнал. Но меня не ругали, когда увидели мою окровавленную руку и белую щеку. Я даже и не знала, что обморозилась.
Подобные неприятные случаи были не у меня одной. Но временные неудачи и огорчения не смущали нас, не гасили боевого духа. Из классов — на аэродром, с аэродрома — на полигон, с полигона — опять в классы… Мы двигались вперед такими темпами, что гарнизонное начальство откровенно высказывало свое удивление и даже восхищение. Еще бы! За три месяца мы успели усвоить уже половину трехгодичной программы обучения.
— Думается мне, что девушкам нужно дать небольшую разрядку, — высказала как-то Раскова мысль на совещании командного состава части. — Давайте подготовим концерт самодеятельности. Талантов у нас много, наверное, найдется.
Это предложение было встречено в «низах» с большим энтузиазмом. Работа закипела. Программа оказалась обширной и разнообразной: хор, пляски, сольное пенис, художественное чтение, акробатические номера, гимнастические упражнения.
— Полина, а ты с чем будешь выступать? — спросила я свою соседку по койке Полину Гельман, отправляясь на репетицию хора.
— Я буду зрителем. Такая категория людей тоже необходима. Боюсь, что их окажется меньше, чем артистов.
Однако Полина напрасно опасалась. Посмотреть нашу самодеятельность пришел почти весь гарнизон. Публика шумно аплодировала после каждого номера.
В общем, концерт прошел с большим успехом, и он долго еще потом был главной темой разговоров в гарнизоне.
А на другой день — опять учеба, полеты, полеты…
Пять тридцать утра.
— Подъем! — негромко объявляет дежурная по части, появляясь и комнате штурманов, и включает свет.
Как по взмаху дирижерской палочки, вся комната приходит в движение. Надев наскоро брюки и сапоги, спешим в умывальник. Нужно двигаться быстро, но бесшумно — все еще спят.
Через десять минут потихоньку выходим во двор, строимся и быстрым шагом направляемся в учебный корпус, где нас ждут радист и длинные столы с телеграфными ключами и наушниками.
Сегодня у нашего преподавателя очень хорошее настроение, и он выстукивает на ключе забавные, смешные фразы. По классу то и дело проносится легкий смех. Вдруг преподаватель переходит на бешеный темп. Ну, такую скорость могут принять немногие! Но я креплюсь, записываю. Точки и тире моментально переводятся и уме в буквы, из букв слагаются слова, смысл которых сначала и не доходит до сознания.
«Пришел приказ о создании полка легких ночных бомбардировщиков. Кто понял меня, может быть свободным и без шума покинуть класс».
Поднимаются несколько девушек и молча уходят с загадочными улыбками. Остальные с удивлением наблюдают эту немую сцену.
Радостная весть взбудоражила всю часть.
— Значит, скоро на фронт! — приободрились мы, и каждая втайне надеялась, что будет зачислена в этот полк.
8 февраля майор Раскова объявила состав полка. Командир — Евдокия Давыдовна Бершанская, комиссар — Евдокия Яковлевна Рачкевич. Штаб, эскадрильи, звенья — все как положено в авиационном полку. С радостью услышала я свою фамилию: «Штурман звена — Аронова». В нашем звене — Дуся Носаль с Полиной Гельман и Полина Белкина с Катей Доспановой. Вполне подходящие девчата!
— Плохо только, что на все звено одна светлая голова, — шутили мы.
— Хорошо, что она на плечах командира, — в тон отвечала командир нашего звена Катя Пискарева, легким движением руки приглаживая свои золотистые волосы.
Итак, из женской авиачасти выделилась первая боевая единица. Вскоре создали еще два полка — истребительный и скоростных бомбардировщиков. Командование последним было возложено на Марину Михайловну Раскову, но после ее безвременной гибели командиром полка стал майор Марков. В дальнейшем, в силу тех или иных причин эти полки были «разбавлены» мужчинами, главным образом техниками, и только наш до самого конца войны сохранил свою первоначальную однородность.
Вскоре прибыли и самолеты — маленькие, легкокрылые, тихоходные ПО-2. Начались тренировочные полеты как днем, так и ночью. Летали по маршруту, на полигон для бомбометания, летали отдельными экипажами и звеньями.
Ночные полеты… Кто близко не знаком с авиацией, тот едва ли представляет себе, что такое эти полеты. Земли нет; ночь одела ее в густой мрак. Горизонта нет: ночь старательно затушевала его. Нужна особая сноровка, особое чутье, чтобы по отдельным сгусткам темноты, неясным штрихам, белесым пятнам определить свое местонахождение. Иногда случайный огонек может сказать очень многое и послужить спасительным маяком среди океана тьмы.
Мы учились видеть ночью. Не сразу далась эта наука. Но, в конце концов, после упорных тренировок и этот рубеж был взят. Правда, не все перешагнули через него.
…В ту памятную трагическую ночь мне выпало дежурить по части. Почти весь летный состав ушел на аэродром. Задача на этот раз стояла сложная: полет по маршруту звеном с заходом на полигон для бомбометания.
Было очень темно и ветрено. Внезапно повалил снег. Летчики знают, как опасно попасть в снегопад, тем более на ПО-2, у которого нет почти никаких приборов для слепого полета. Летчики знают, что значит потеря пространственного положения: пилот перестает представлять себе, как идет самолет. Хуже того, возникают обманные ощущения: например, начинает казаться, что создался правый крен, пилот старается вывести самолет из крена, отдает ручку влево. На самом же деле был не правый, а левый крен, и летчик только усугубил положение. В результате самолет идет по спирали к земле.
Иногда эти ложные ощущения настолько сильны, что летчик перестает верить показаниям приборов. Потеря пространственного положения — самое страшное, что может случиться с летчиком в воздухе.
Именно это и произошло с тремя нашими экипажами. Сильный снегопад скрыл землю и небо, все замелькало перед глазами, закружилось в снежном вихре. Мигающие сквозь плотную пелену снега огоньки на земле стали казаться далекими звездами, а настоящие звезды превратились в огоньки на дороге… Да ото и не звезды и не огоньки, а просто блестят от мороза снежинки. Но где же земля? Где?!.
Перед рассветом позвонили с аэродрома:
— Произошла катастрофа. Подготовьте комнату, где можно будет положить тела погибших.
Их было четверо: Лиля Тормосина со штурманом Надей Комогорцевой и Аня Малахова с Мариной Виноградовой. Чудом уцелели Ира Себрова с Руфой Гашевой. Самолет врезался в землю, но они выбрались из-под обломков почти невредимыми.
Лиля Тормосина… Даже смерть не смогла обезобразить ее лицо: оно по-прежнему было красивым. Только жаркий румянец сбежал со щек. Золотистый локон выбился из-под шлема и мягким кольцом лежал на белом лбу.
Всего несколько часов назад Лиля, собираясь в полет, шутила с Надей Комогорцевой:
— Штурман, даю тебе конфету, только попади, пожалуйста, сегодня на полигоне хоть в один фонарь! А если погасишь все три, то дам еще две конфеты,
Напевая свою любимую арию «Потерял я Эвридику», она ушла. Навсегда…
На другой день мы прощались с погибшими подругами. В гарнизонном клубе звучали траурные мелодии. Неслышно менялся почетный караул. Здесь собрались все девушки авиачасти. Пришли и мужчины-летчики. Когда наша часть прибыла в этот гарнизон, многие из них посматривали на нас со снисходительной улыбкой, как на взбалмошных девчонок. Теперь они, кажется, поняли, что не ради шутки мы надели летную форму, и что жизнь с нами тоже не шутит. Теперь они — мы чувствовали это — молча приняли нас в свою семью и скорбили вместе с нами. Девушки были глубоко опечалены гибелью подруг, но не напуганы. Стало ясно, что нужно еще больше, еще настойчивее тренироваться, отшлифовывать до совершенства каждую деталь ночного полета.
Вылет на фронт, намеченный на 1 апреля 1942 года, был отложен. Жизнь опять вошла в жесткие учебные рамки.
Вскоре наш полк переселился в отдельную большую казарму. Ведь у нас, «ночников», режим был совершенно иной, чем у дневных летчиков: после ночных полетов мы до обеда спали, а потом начинались занятия. Но если на следующую ночь полеты не намечались, «отбой» все равно давали в 22.00, как положено по общему распорядку. А спать не хотелось. Лежишь, бывало, и думаешь, думаешь. Иногда потихоньку разговариваешь с соседкой.
Как-то в такую бессонную ночь я услышала неподалеку от себя:
— Руфа, ты спишь?
— Нет. Пауза.
— Скажи, Руфа, ты не жалеешь, что добровольно пошла в авиачасть?
Разговаривали шепотом, но я сразу узнала Иру Себрову и Руфу Гашеву экипаж, счастливо уцелевший во время недавней ночной катастрофы. Вопрос летчицы был не случайным: у Руфы, которая до войны не имела никакого понятия об авиации, могли, конечно, после той ночи возникнуть сомнения, опасения, разочарование.
— Нет, не жалею, — слышу спокойный ответ. Опять пауза.
— А почему ты вообще пошла в армию? — вопрос Иры.
— А ты почему?
— Со мной-то ясно. Меня учили летать не для забавы.
— Так ты по обязанности пошла или по совести? Нехорошо, конечно, подслушивать чужие разговоры, но в тот момент я забыла о приличиях и подняла голову, освободив другое ухо.
— Наш аэроклуб, в котором я работала инструктором-летчиком, собирался уже эвакуироваться из Москвы, когда я узнала о спецнаборе в часть Расковой, — Ира говорила не спеша, будто размышляя вслух. — Стою как-то ночью на старте, вижу недалеко от Москвы зарево. Вспышки разрывов. Это фронт. Даже не верилось, что он так близко подошел… — Ира замолчала. Переменила позу, коротко вздохнула. — В ту ночь подумала: там люди защищают мой родной город — Москву. А я собираюсь эвакуироваться с аэроклубом. Мне стало стыдно перед собой. Решила: уйду на фронт. На душе стало сразу спокойнее.
Ночь, тишина располагали к задушевному разговору. Днем, пожалуй, Ира не стала бы говорить так откровенно.
Руфа подвинулась на самый край кровати, подперла голову рукой.
— Я мечтала после университета стать преподавателем и уехать на Крайний Север, — зашептала она. — Училась прилежно. Жила на одну стипендию, как большинство студентов. Но не унывала: впереди интересная, большая жизнь! И вдруг война… Сижу на лекции, а в голове совсем другое. Вот, думаю, я слушаю сейчас про теорию вероятности, а кто-то воюет, кто-то умирает… Значит, кто-то отдает жизнь для того, чтобы я сейчас изучала разные теории. Какая нелепость! И для чего мне все науки, если…
Вошла дежурная по части. Разговор прекратился.
…У каждой из нас была своя мечта. Да и можно ли идти по жизни без мечты? Тогда это не жизнь, а просто существование. Одна хотела стать врачом и работать над проблемой продления жизни человека, другая считала, что самая лучшая профессия на земле — учитель, третья… Словом, каждая настойчиво, горячо, как и подобает молодым, стремилась к своей мечте.
А что сталось бы с этой мечтой, кем бы стали мы сами, если бы немецкий фашизм победил? Быть на положении людей второго сорта, служить дешевой рабочей силой для завоевателей, жить в своей стране и не быть хозяином своей судьбы — разве можно с этим примириться?
Неважно, что были одни простенькие туфли и одно пальто на все времена года, что на завтрак и ужин — студенческий чай (кипяток без заварки) и черный хлеб, а на обед — жидкие щи в институтской столовой. Эти временные, кок мы считали, трудности не могли заслонить от нас главное. Безусловно, хотелось иметь красивое платье, модную шубку, хотелось сладко поесть. Однако все это лишь желания, свойственные всем девушкам во все времена, а не мечта. Наряды, лакомства украшают жизнь, но не составляют ее смысла.
Мы не спешили к восемнадцати-двадцати годам познать все радости бытия, и, думается, это к лучшему. Ведь именно от такой поспешности раньше срока появляется седина в душе. А преждевременное старение души — тяжелая и не всегда излечимая болезнь. Даже после выздоровления остаются заметные рубцы, порой на всю жизнь.
Спешили мы, пожалуй, лишь в одном: побыстрее приобрести знания, поскорее научиться приносить пользу обществу. Как все взрослые люди.
К двадцати годам каждая из нас уже хорошо знала вкус хлеба, купленного на собственные деньги. А какой чудесной была булочка с кремом в день получения стипендии или зарплаты! Теперь таких не поешь: они кажутся далеко не такими вкусными.
За послевоенные годы мы постепенно узнали и ужины в ресторанах, и модные туфли на «шпильках», и удобные квартиры. Однако и сейчас не считаем, что главное в жизни — хорошо покушать и модно одеться. Приятно, конечно, но… это опять-таки не мечты, а только желания. Мечты другие. Впрочем, эго уже особый разговор.
Наконец пришел долгожданный приказ, и тотчас все завертелось. Хлопали двери, стучала в штабе пишущая машинка, в штурманской комнате запахло клеем и свежими картами: мы, штурманы, готовили маршрут полета на фронт.
— Не забыть бы завтра прихватить лопату, — шутит кто-то, — а то, говорят, придется самим рыть землянки.
— Зачем нам землянка? Можно и под крылом самолета прожить.
— А зимой?
— Ты что, собираешься еще одну зиму воевать?
— А ты думаешь, что с прибытием нашего полка на фронт немцы начнут стремительно отступать?
Так, перебрасываясь веселыми шутками и репликами, мы с большим подъемом готовились к тому моменту, раде которого провели в этом гарнизоне семь месяцев.
Утром 23 мая весь летный состав полка выстроился на аэродроме. Даются последние указания, сверяются часы, на карты наносятся последние штрихи.
Начальник гарнизона полковник Багаев произносит короткую напутственную речь:
— Сегодня впервые с нашего аэродрома уходит на фронт женский полк. Вы летите не на грозных машинах, а на учебных самолетах. Да и сами-то вы на вид тоже не слишком грозные. Но я уверен, что и на легкокрылых машинах вы сможете наносить тяжелые удары по врагу. Уверен, что наш полк будет одним из лучших на фронте. Пусть летит с вами мое отцовское пожелание: удачи вам и боевой славы!
Мы чувствовали себя именинницами, настроение было приподнятое, но всё же подумалось, что насчет «лучших» и «боевой славы» полковник преувеличил. Наши планы были поскромнее.
Раздается команда:
— По самолетам!
Над аэродромом разносится гул, в котором тонут последние слова провожающих. А их много. Здесь все начальство школы, наши учителя и инструкторы, многие летчики гарнизона. Здесь, конечно, и наши подруги, которые остаются в Энгельсе для дальнейшей учебы.
Флагманский самолет выруливает для взлета. В нем командир полка Бершанская, а в кабине штурмана — Раскова. Она будет вести нас, своих первых питомцев, до самого места назначения.
Самолеты летели на небольшой высоте плотным, красивым строем. Летчицы отлично научились чувствовать локоть товарища в воздухе.
День был солнечный, ни одно облачко не пятнало голубизны неба.
— Катя, — говорю летчице, — посмотри, какие яркие краски на земле! Вон зеленая рощица, вот белые домики. А сколько сирени в садах! Нам бы букетик…
— За какие заслуги? Когда с фронта будем лететь, тогда можно и о цветах подумать, — ответила Катя Пискарева.
Что ж, она права. Но пышные кусты сирени надолго приковали мой взгляд.
«Когда с фронта будем лететь…» Наверное, это будет не скоро. Враг сильный и опытный. Уже почти год, как идет война, а конца не видно. Вот и мы летим ей навстречу. Так, на фронте, идет тяжелое сражение. Многие погибают… А готова ли я отдать свою жизнь?.. Отдать? Кому, врагу? О, нет! Нас учили бороться и побеждать. Во всяком случае, дешево жизнь не отдам. Обиднее всего погибнуть какой-нибудь нелепой, глупой смертью… Однако что это я — о смерти? Я хочу жить, хочу дожить до победы! И она придет. Обязательно!
— Рая, сколько мы летим? — прервала мои размышления Пискарева.
— Два тридцать. Скоро посадка. Сели на небольшом лугу. Здесь будем ночевать. Самолет, на котором штурманом летела Женя Жигуленко, ближе всех оказался к жилым домам, и, едва Женя выпрыгнула из кабины, к ней подбежал босоногий мальчуган и преподнес огромный букет сирени. Женины голубые глаза так и засияли. В порыве чувства она звонко поцеловало мальчишку в розовую, хотя и сомнительной чистоты щеку.
— Видишь, Катя, нас уже встречают мужчины с букетами, — кивнула я в сторону Жени, с завистью глядя на красивую махровую сирень, — а ты говоришь: «Когда с фронта…»
— Парень что-то напутал.
На другой день в 8.30 аэродром уже гудел. Наши камуфлированные самолеты, слегка покачивая крыльями на неровностях почвы, выруливали на взлетную полосу. В точно назначенное время два десятка машин поднялись в воздух и взяли курс на Сталинград.
Солнце стояло и зените. Город-труженик усердно дымил заводскими и фабричными трубами. Вплотную придвинувшись к широкой, могучей реке, он, казалось, с наслаждением пьет ее прохладную, живительную влагу. Знал ли он тогда, что скоро эта вода закипит от взрывов бомб, снарядов и по ночам в ней будут отражаться не огни мирной жизни, а зарева пожаров? Слышал ли он, как в грохоте войны шла к ному трудная боевая слава?
Большой стационарный аэродром встретил нас тучами пыли от множества садившихся и взлетавших самолетов. Новому человеку трудно было сориентироваться в рабочей сутолоке незнакомого аэродрома, но Марина Михайловна Раскова быстро протолкнула наш полк на заправку.
Не прошло и часа, как мы опять были и воздухе, взяв курс на Морозовскую.
Все шло нормально, но, когда до посадки осталось минут десять, в наших рядах произошло небольшое замешательство; неожиданно в воздухе появились истребители.
— Катя, смотри, нас сопровождают! — говорю летчице.
— Ты приглядись получше, свои ли?
Истребители заходили то справа, то слева, проносясь иногда очень близко от нас. Удалось рассмотреть на них красные звезды.
— Свои, — заверила я.
Однако некоторые экипажи, помня предупреждение о том, что в прифронтовой полосе но исключена возможность встречи с самолетами противника, приняли эти истребители за вражеские и начали от них шарахаться в стороны. Четкий строй в эскадрильях нарушился, наши ряды дрогнули. Летчики-истребители, довольные произведенным эффектом, а может быть, удивленные таким оборотом дела, отошли на почтительное расстояние, а потом вообще скрылись из виду.
Несмотря на это маленькое приключение, полк подошел к Морозовской в полном порядке: к моменту посадки слишком впечатлительные экипажи все же заняли свои моста в строю.
— Эй, слабонервные, — шутили над ними на земле, — вы что, не можете отличить звезды от свастики?
«Слабонервные» бормотали что-то в свое оправдание.
Недалеко от Краснодона есть небольшой поселок Труд Горняка. Это был конечный пункт нашего перелета. Там для нас начинался фронт.
В поселок нас привел из Морозовской штурман дивизии майор Ничепуренко. Летели на бреющем, как и положено самолетам ПО-2 на фронте. Мне очень понравился такой полет: в нем остро чувствуешь скорость, внимания едва хватает, чтобы наблюдать сразу и за расстоянием до земли, и за возможными препятствиями впереди, за курсом, временем, характерными ориентирами, воздухом, — нет ли самолетов противника, — за впереди идущим самолетом, ведомыми самолетами. И обо всем этом необходимо сообщать летчице.
БАО (батальон аэродромного обслуживания) все подготовил к нашему прибытию. В хатах стояли кровати с белоснежными простынями, в саду, под деревьями, — накрытые чистыми салфетками столы. Как это не похоже на картины, которые мы рисовали в своем воображении, когда думали о фронте!
— А где же землянки? — удивлялись мы, — Какой же это фронт? Настоящий санаторий!
Накануне нашего прибытия генерал Устинов из штаба армии позвонил командиру 218-й авиадивизии Дмитрию Дмитриевичу Попову:
— Принимай полк ночных бомбардировщиков!
— Новый полк дают! — прикрыв рукой трубку, обрадованно шепнул командир комиссару дивизии А. С. Горбунову.
— Это женский полк на ПО-2, - продолжал генерал. Лицо Попова вытянулось.
— А нельзя ли, товарищ генерал, оставить этот полк непосредственно в подчинении армии?
— Ничего, не огорчайся, — засмеялся генерал, — полк хороший. Его привела Раскова.
Попов медленно положил трубку.
— Дожили с тобой, комиссар!.. Дают каких-то девчонок, да еще на ПО-2.
Разочарование командира дивизии было вполне естественным. Мировая военная история еще не знала авиационного полка, состоящего целиком из женщин.
На другой день командир и комиссар дивизии прибыли к нам. Они познакомились с личным составом, состоянием материальной части, с летной подготовкой и настроением людей. После этих своеобразных смотрин у нас сложилось впечатление, что командир дивизии далеко не в восторге от полученного пополнения. За какую, мол, провинность наградил меня бог этим полком! Он удалился с непроницаемым, каменным лицом.
Мы были потревожены и огорчены. Так рвались на фронт и так недружелюбно нас встретили!
Комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич, «мамочка», как ласково называли мы ее между собой, подбадривала нас:
— Не вешать носы, девчата! Мы должны на деле доказать, что можем сражаться за Родину не хуже мужчин.
Командование дивизии сочло необходимым дать нам дополнительные тренировки: полеты в лучах прожекторов, посадка при минимальном числе стартовых огней, отыскание своего аэродрома в условиях строгой светомаскировки. Недели две ушло на выполнение этой дополнительной программы. Но все имеет свое начало и спои конец. 12 июня из дивизии пришел приказ: ночью командиру полка и командирам эскадрилий вылететь на боевое задание.
Вечером весь летный состав был на старте. Три самолета стояли с подвешенными бомбами.
— Сегодня мы открываем боевой счет полка, — сказала комиссар Рачкевич. — Наши командиры уходят в первый боевой вылет. Завтра полетит на задание весь полк. Принимая присягу, мы поклялись сражаться, не жалея сил и самой жизни, до полной победы над врагом. Я уверена, что никто из нас не отступит от этой клятвы. Счастливого вам пути! — обращается она уже к вылетающим.
Первым поднимается в воздух самолет командира полка. Потом с интервалом в пять минут взлетают комэски: Амосова со штурманом Розановой и Ольховская с Тарасовой.
— Ушли… — тихо произносит кто-то.
Больше часа проходит в томительном ожидании. Не слышно ли смеха, ни громкого говора.
Но вот настороженное ухо улавливает слабый гул мотора.
— Летит! — радостно вырывается у многих. Через несколько минут Бершанская уже докладывает командиру дивизии:
— Товарищ полковник, задание выполнено! Попов улыбается, двумя руками берет и энергично трясет руку Бершанской.
— Поздравляю с первым боевым вылетом!
Мы все стоим тут же, наши лица сияют. Начало положено!
Некоторое время спустя пришел самолет Амосовой. Она тоже успешно выполнила задание.
Третьего самолета не было. А когда прошли все сроки, когда по самым оптимистическим расчетам горючее в самолете Ольховской должно было кончиться, мы поняли, что случилась бода. И все равно до рассвета никто не ушел с аэродрома. Сердце не хотело соглашаться с жестокими доводами разума.
Первая боевая потеря… Мы знали: Жертвы на войне неизбежны, но так неожиданно, в первую же боевую ночь… Нет, судьба не баловала нас.
Что же случилось с Любой Ольховской и Верой Тарасовой? При каких обстоятельствах они погибли?
Почти двадцать три года мы ничего не знали. В начале 1965 года до командира полка дошло письмо, с которым жители поселка Софьино-Бродского обратились в редакцию газеты «Правда». В письме сообщалось, что примерно и середине июня 1942 года ночью они слышали в стороне города Снежного разрывы бомб, а потом видели стрельбу по самолету. Утром около поселка нашли сбитый самолет ПО-2. В передней кабине сидела, склонив голову на борт, красивая темно-русая девушка в летном комбинезоне. Во второй кабине находилась другая девушка — лицо круглое, чуть вздернутый нос. Обе были мертвы. Немцы, забрав документы девушек, бросили их. Жители поселка тайком похоронили летчиц. Теперь, когда страна готовилась отметить 20-летие победы над фашистской Германией, они решили выяснить имена погибших.
Не было никакого сомнения, что речь шла о Любе Ольховской и Вере Тарасовой. Эта весть, хотя и нерадостная, но очень важная для нас, быстро облетела всех однополчан. Комиссар Евдокия Яковлевна Рачкевич стала собираться в дорогу — кому, как не матери, нашей доброй «мамочке», ехать на могилу дочерей?
8 мая 1965 года при огромном стечении народа состоялись похороны. Прах погибших летчиц перенесли из безымянной могилы на городскую площадь Снежного. Среди множества венков, возложенных на их новую могилу, был венок от однополчан.
— Мы помним о вас, наши боевые подруги, — сказала от имени всех нас Евдокия Яковлевна. — Теперь на душе хоть по-прежнему печально, но спокойно: вы умерли, как герои.
— Мы тоже помним о вас и в своих делах будем достойными вас, — дала обещание юная пионерка, салютуя погибшим героиням.
Мой первый боевой вылет не оставил у меня особенно яркого впечатления: все проходило почти как на полигоне. Противник ничем себя не обнаружил — ни прожекторов, ни шквала огня и даже ни единого выстрела. В душе я была немного разочарована.
В течение нескольких последующих ночей боевые вылеты были похожи на первый — противник не обращал на наш самолет никакого внимания.
— Катя, знаешь, просто неудобно становится докладывать одно и то же: «Обстрелу не подвергались», — сказала я как-то Пискаревой.
— Ну, а что же делать?
— Мне даже порой кажется, что Ракобольская, выслушивая доклад, как-то подозрительно смотрит и, может быть, думает: «А были ли они над целью?»
— Ты слишком мнительная.
— Но ведь по другим стреляют!
— Значит, для нас еще пули не отлиты.
Настала ночь, когда мы с Катей Пискаревой полетели в тринадцатый боевой вылет. Я не верила в дурную славу «чертовой дюжины», так как, по моим наблюдениям, она всегда приносила мне удачу. Катя была об этом числе другого мнения.
— Ну, Раек, сегодня готовься к бою, — не то шутя, не то серьезно сказала она перед вылетом.
— Не бойся, Катюша, сегодня мне наверняка повезет, — серьезно ответила я, приложив ладонь к левому карману гимнастерки.
Пискарева поняла; всего час назад она поздравила меня с получением партбилета.
Хотя я вступила в кандидаты партии еще весной 1940 года, но за последние два года обстоятельства у меня складывались так, что я не могла оформить вступление в члены. Вначале, и связи с переводом в МАИ, возникли формальные препятствия — коммунистам института нужно было знать меня не менее года, чтобы дать рекомендацию. Но не прошло и года, как началась война. Я ушла в армию. В это время я уже сама поставила себе барьер морального порядка: «Подам заявление не раньше, чем после первого боевого вылета».
Впрочем, наверное, не я одна давала себе такую клятву. Наш полк вылетел на фронт почти весь комсомольским, и только с началом боевой работы парторганизация полка стала быстро расти.
Леля Евполова, техник нашего самолета, старательно и долго опробовала мотор перед вылетом. Провожая нас на старт, она помахала рукой и звонко прокричала:
— Ни пуха ни пера!
Летим уже с полчаса. В темном небе спокойно мерцают звезды. Густой ночной воздух прохладной струей бьет в лицо. Я всматриваюсь в черноту под самолетом. Похоже, идем верно.
— Через пять минут будем над Миусом, — сообщаю летчице.
По реке Миус проходила линия фронта. Река — ориентир надежный, различимый даже в самую темную ночь, ее не проскочишь. Вот она выделяется серой ниточкой на общем мутно-черном фоне земли. Вспышек выстрелов не видно, и с трудом верится, что здесь, по берегу, проходит передний край.
— Пересекаем линию фронта.
Катя кивает: «Поняла!»
Почти моментально все меняется: и воздух стая мутнее, и вроде гарью запахло, а от земли потянуло холодом — нечто подобное ощущаешь всякий раз, когда оказываешься над территорией противника.
Цель в десяти километрах от линии фронта. Начинаю отсчитывать долгие, тягучие минуты.
— Ложись на боевой курс, — говорю наконец летчице. Она удивительно точно выдерживает курс, высоту.
— Бросаю!
Самолет сразу делает ощутимый рывок вверх: четыре бомбы отделились от плоскостей. Несколько мгновений — и под нами рвануло. Цель накрыта.
— Теперь домой! Курс восемьдесят пять градусов, — с облегчением говорю я.
И тут… Что это, обстрел? Вокруг самолета густым бисером замелькали разноцветные огненные точки. Послышались зловещие хлопки зениток, появились шапки черного дыма. Я завертелась в кабине, ища выхода из огненной ловушки, в которую мы так неожиданно попали. В шутку говорят, что голова у штурмана должна свободно вращаться на триста шестьдесят градусов. Моя в тот момент вращалась, наверное, на все семьсот двадцать.
— Отворачивай вправо! Круче, круче! — тороплю Пискареву.
Но едва самолет повернул вправо, как перед мотором вспыхнул целый веер трассирующих пуль. Немцы давали нам первый предметный урок с использованием всех зенитных средств. На какое-то мгновение я растерялась: куда же теперь выводить самолет? Кругом все бахало, ухало, блестело, сверкало… А что, если уйти вниз?
— Катенька, попробуй…
Не успела я договорить, как самолет резко накренился и со свистом понесся к земле. Мы потеряли метров четыреста высоты, но положение не улучшилось. Огонь вокруг нас бушевал с прежней силой.
— Пойдем прямо курсом девяносто, может быть, так быстрее вырвемся, предложила я в отчаянии.
И Пискарева повела самолет на восток. Прямо через шквал зенитного огня… Я замерла и ждала: сейчас мы либо взорвемся, либо загоримся — ведь невозможно пройти через сплошную огненную стену…
Лезть напролом сквозь ураганный огонь и выйти живыми и даже невредимыми — такое счастье выпадает на войне не часто.
— Вот видишь, мне всегда везет с чертовой дюжиной, — напомнила я Кате, когда мы пересекли линию фронта и ко мне возвратился дар речи.
— Я бы не сказала, что нам очень повезло, но на худой конец и так неплохо.
На аэродроме нас уже ждали. Леля Евполова очень волновалась.
— Все в порядке?
Беглый осмотр показал, что самолет получил десятка два мелких пробоин, но серьезных повреждений не было.
— Вот теперь могу сказать; все в порядке, — заключила Катя Пискарева.
Мы пошли на КП. Командир полка внимательно выслушала наш подробный доклад. А потом все трое — Бершанская, Рачкевич и начальник штаба Ракобольская — поздравили нас с настоящим боевым крещением и с благополучным возвращением.
В ту ночь мы с Катей Пискаревой сделали еще три полета. И, как во все предшествующие ночи, — опять ни одного выстрела по самолету. Но я больше не сетовала на судьбу; мы получили достаточно полное представление о зенитном огне.
Положение на нашем фронте становилось тревожным. Потерпев поражение под Москвой, враг направил главный удар на юг, прорвал оборону советских войск и перешел в наступление.
В трудных условиях приходилось нашему полку накапливать боевой опыт. Частые перелеты, смена аэродромов (за один июль 1942 года — восемь раз), беспрестанное изменение линии фронта. Мы учились воевать, отступая. И все-таки женский полк быстро встал на равную ногу с другими полками дивизии. Даже в самые короткие летние ночи каждый экипаж успевал делать по четыре-пять боевых вылетов.
Дважды полку приходилось ночью сниматься по тревоге и уклоняться из-под танкового удара. Последние самолеты взлетали, когда вражеские машины подходили к аэродрому. Особенно неприятное воспоминание осталось у меня от второго случая.
Мы с Катей Пискаревой пришли с задания, и я, как делали многие штурманы, еще на рулежке закричала:
— Вооруженцы, бомбы!
Но подошла командир полка и отрывисто проговорила:
— Немцы подходят к аэродрому. Немедленно летите в пункт Н. Его на ваших картах нет. Он километрах в пятнадцати за обрезом карты. Курс сто двадцать. Аронова, с тобой в кабине полетит инженер Стрелкова. Все ясно?
— Ясно, товарищ майор!
Ко мне в кабину забирается Надежда Александровна Стрелкова — женщина солидной комплекции, — я любезно уступаю ей место, а сама устраиваюсь на ручке сиденья: железном прутике толщиной в палец. Моя голова возвышается теперь над защитным плексигласовым козырьком кабины и предоставлена всем встречным ветрам. Ладно, не до комфорта!
Вскоре после взлета начался дождь. Жесткие струи хлестали мне в лицо, по очкам бежала вода, я не видела ни земли, ни карты, ни приборов. Поэтому, когда минут через 30–40 мы вышли из полосы дождя, я совершенно не представляла, где мы летим.
Начало светать. Катя поворачивается, смотрит вопрошающе. Я неопределенно машу рукой вперед — лети, мол, дальше. Проходит еще немного времени. Рассвело. Но на душе у меня темная ночь. Катя опять смотрит на меня. Я делаю вид, что не понимаю ее взгляда.
— Где летим? — кричит она.
— Не имею понятия…
Мои слова — как гром среди ясного неба. Как?! Больше часа летели неизвестно куда? Может быть, к немцам? При нынешней неясной обстановке… А горючее уже на исходе!
Летчица принимает решение: сесть около хуторка и выяснить обстановку. Приземляемся на лугу, Катя не выключает мотор, а я с пистолетом в руке (за спиной) иду к стоящему неподалеку человеку. Его седая борода обрадовала меня — не немец! Быстро уточняю все вопросы.
— Немцев здесь нет, дочка, — говорит дед, — а деревня Н. в двадцати верстах вон в ту сторону!
Прикидываю в уме курс и, поблагодарив, бегу к самолету.
Летим минут пятнадцать с дедушкиным курсом. Должен уже показаться этот злосчастный пункт Н., а его все нет. Пискарева поворачивает ко мне злое лицо, тычет пальцем в бензиномер — стрелка у нуля. Я растерянно развожу руками… Навстречу ползет огромная грозовая туча. Пролетаем почти бреющим над каким-то поселком, на окраине замечаем самолет-истребитель со звездами.
— Сядем здесь, — говорит Катя.
«Ну, будет мне сейчас разнос!..» — совсем упав духом, полагаю я. Несмотря на смягчающие обстоятельства, вина лежит в первую очередь на штурмане. Так безнадежно потерять ориентировку!
К нам подходит летчик-потребитель. Катя обращается:
— Товарищ лейтенант, скажите… Но вдруг оборвала на полуслове и радостно воскликнула:
— Миша!!
— Катя?!
Это был ее знакомый по аэроклубу.
Я облегченно вздохнула…
Через полчаса грозовая туча прошла стороной, и мы, распрощавшись с истребителем, взлетели. Оказывается, наш пункт был рядом.
Я долго переживала из-за этого случая, пока окончательно не убедилась, что этот прискорбный факт не подорвал моего штурманского авторитета в глазах Кати Пискаревой.
Каждый раз, покидая еще не обжитый аэродром и перелетая неизменным юго-восточным курсом на другую площадку, мы думали: «Ну, это, наверное, последний шаг назад. Доколе же отступать?» Однако пришлось сменить еще не один аэродром, прежде чем полк надолго остановился в станице Ассиновской. За нами в сорока километрах стоял город нефти Грозный. А там недалеко уже и Каспийское море. Дальше ехать было некуда…
Большая и богатая станица Ассиновская широко раскинулась в предгорьях Северного Кавказа, на берегу быстрой реки Ассы, притоку Сунжи, впадавшей в Терек. Под аэродром мы приспособили небольшую площадку перед огромным колхозным садом, в котором привольно разместились наши маленькие самолеты.
Линия фронта начала стабилизироваться: в районе Моздока она проходила по Тереку, около Прохладной поворачивала на юг и упиралась в Главный Кавказский хребет.
Кавказ… Воображение воскрешало в памяти картины, песни, стихи, воспевавшие красоту этого края. Но я не помнила, чтобы в них говорилось о том, как изменчива и коварна кавказская погода, как сложно и опасно летать над горами ночью, как трудно отыскать свой аэродром, когда его внезапно закрыло облаками или туманом. Все это приходилось познавать на практике, на собственном, порой горьком опыте.
Над нашим аэродромом иногда проходили немецкие самолеты. Они бомбили Грозный. Однажды бомбы попали в нефтехранилища, и на земле возник пожар огромной силы. Высоко в небо поднялся черный столб дыма. Он расползался, поднимался все выше и вскоре застлал почти весь горизонт на востоке. Подгоняемая ветром, черная стена медленно надвигалась на аэродром.
В ту ночь мы бомбили вражеские позиции с возгласами: «За Грозный!» Из самолета, едва успевшего приземлиться, слышался требовательный голос; «Бомбы!» И девушки-вооруженцы не заставляли себя ждать. Пока самолет заправляли бензином и штурман бежала на КП с докладом, они за несколько коротких минут успевали снарядить самолет.
Мы с Катей Пискаревой только что возвратились со второго боевого вылета. К самолету подошла Стрелкова, инженер по вооружению, и, видя, что мы спешим, скороговоркой зачастила:
— Аронова, возьми в кабину десяток немецких «зажигалок». Они небольшие, по килограмму всего. Перед тем как бросить бомбочку за борт, сними вот этот колпачок с носика. Поняла?
— Поняла, давайте ваши «зажигалки».
Я кое-как сложила бомбочки на пол кабины, а Стрелкова побежала к другому самолету. Трофейные «зажигалки», или «электронки», были новинкой, и она спешила объяснить всем штурманам, как с ними обращаться.
Бензозаправщик что-то замешкался и не подъезжал к нашему самолету. Я решила воспользоваться свободными минутами, чтобы устроить «зажигалки» в кабине поудобнее. «Чего они будут мешаться у меня под ногами? Положу-ка их на сиденье, — подумала я. — Десять штук. Перед тем как бросить за борт, снять колпачок… Сколько же лишнего времени придется кружиться над целью? Сниму колпачки сейчас, а потом буду бросать сразу по три-четыре штуки».
Сказано — сделано. Поснимала колпачки, уложила оголенные бомбы на сиденье и, довольная, уселась на них.
Когда мы вернулись домой, первой, кто подошел к самолету, была Стрелкова. Она поинтересовалась, как я справилась с «зажигалками» и какой от них был эффект. Не без некоторой гордости я рассказала ей о своей рационализации.
— Боже мой!.. — Она всплеснула руками. — Это просто чудо, что вы остались живы! Ведь ты оголила чувствительные мембраны, и достаточно было слабого удара, даже нажима, чтобы бомба загорелась под тобой! Как же ты не сообразила?!
— Как-то не подумала о технике безопасности… — в растерянности пробормотала я, а у самой холодный пот выступил на лбу, когда представила себе, как взрываются подо мной бомбы, как весь самолет охватывает пламя.
К утру черная стена дыма дошла до нашего аэродрома. С последнего боевого вылета мы возвращались в сплошном дыму. Меня поташнивало, порой даже туманилось сознание, С огромным трудом отыскали свой аэродром. Катю тоже мутило, гарь въедалась в слезившиеся глаза, летчица почти ничего не видела. Сажала самолет вслепую. Когда мы пришли на КП с докладом, все в немом удивлении уставились на нас: наши лица были черны от копоти.
На другую ночь, несмотря на неустойчивую погоду, полк должен был летать по максимуму, то есть сделать возможно больше боевых вылетов: наземные войска крайне нуждались в поддержке авиации.
Свинцовые тучи заволокли весь горизонт на северо-западе. Чудовищными глыбами наплывали они одна за другой, беспрерывно меняя свои очертания. С наступлением темноты небо стало еще более страшным. Нагромождения туч приобрели угрожающий вид. Вспыхивающие время от времени ракеты придавали им что-то зловещее.
— Только мрачная фантазия демона могла сотворить такую ночь, — сказала я Кате в полете.
— Это верно, — согласилась она, зябко пожимая плечами.
Цель нашли не сразу. Для достоверности подсветили САБом — светящейся авиабомбой. Потом сбросили фугасные и пошли домой. Вражеские прожекторы и зенитки почему-то молчали. А мне хотелось, чтобы они ожили сейчас! Среди такого гнетущего мрака даже огонь противника, казалось, принес бы некоторое облегчение.
Слева медленно, но неумолимо надвигалась иссиня-черная лава. Справа едва различимой во мраке стеной высились горы. В узком пространстве между этими двумя громадами летел наш хрупкий самолетик, стараясь изо всех своих слабеньких сил поскорее добраться до аэродрома.
Тучи приобрели фантастические очертания, как в кошмарном сне. В глазах у меня все странным образом перевернулось: стало казаться, что самолет неестественно накренился, что мы летим не по прямой, а лезем вверх, заваливаясь на левое крыло.
«Чепуха какая-то». Я тряхнула головой и посмотрела на приборы. Они показывали правильный режим горизонтального полета. Но стоило мне бросить взгляд влево, на уродливо изогнутую тучу, как снова возникало ощущение неправильного положения самолета, и мне становилось жутко.
«Лучше не смотреть в ту сторону», — решила я. Но как всегда бывает в подобных случаях, мой взгляд, точно магнитом, притягивало именно влево.
— Закрою глаза, не буду никуда смотреть, — прошептала я.
— Что ты там лепечешь? — спросила Катя.
— Пискарь, я боюсь смотреть вон на ту кривую тучу: она все переворачивает у меня в голове!
— Что это с тобой?
— Не знаю, мне страшно… Голова кружится…
Как я поняла позже, то были признаки потери пространственного положения. К счастью, такое со мной больше никогда не повторялось.
К утру грозовые тучи ушли далеко за горизонт, в прозрачном воздухе разлилось спокойствие. Мы возвращались из последнего, шестого полета. На земле еще лежал темный покров ночи, а в небо уже чувствовалось приближение рассвета. На востоке стало сипе, потом синева начала как бы подниматься ввысь, уступая место более светлым тонам. И вдруг все преобразилось: первые лучи солнца заскользили но вершинам гор, снеговая шапка Казбека вспыхнула бело-розовым светом. Мне показалось, что в воздухе зазвучала музыка величественная, бодрая. Ночь быстро уходила, занималось ясное солнечное утро. Как зачарованная смотрела я на победное наступление света, на прекрасную картину рассвета в горах Кавказа.
— Как красива наша земля! — услышала я голос летчицы.
— Знаешь, Катя, ведь сколько уже раз встречали мы рассвет в горах, но сегодня я по особенному любуюсь им!
По какой-то ассоциации мне припомнился рассвет после выпускного вечера и школе. Я шла среди веселых подруг и с удивлением, к которому чуть примешивалась легкая грусть, спрашивала себя: «Неужели я перешагнула тот рубеж, за которым у людей кончается беспечная пора детства и начинается зрелая юность?» На востоке, из-за Волги, поднималось солнце — могучее, яркое. Начинался новый день. Начинался и день моей жизни. Кто-то из подруг воскликнул тогда; «Девочки, мне хочется верить, что наша жизнь будет такой же светлой, как сегодняшнее утро!»
Теперь подумалось: нет, жизнь не может быть сплошным светлым праздником. А чтобы ощутить, как прекрасен свет, нужно пройти через тьму. Как сегодня.
Хотя мы и летали одиночными экипажами, но взаимовыручка, стремление помочь подруге в беде прочно укоренились в нашей боевой жизни. В огромном ночном небе, в цепких лучах прожекторов, под обстрелом зениток мы не чувствовали себя одинокими. Знали, что где-то рядом идет свой самолет и в трудную минуту окажет помощь.
Однажды экипаж Распоповой — Радчиковой, подходя к цели, увидел, как прожекторы схватили ПО-2 и вражеские зенитчики открыли по нему яростный огонь. Самолет безуспешно пытался вырваться из огненного плена.
— Леля, ведь это Санфирова с Гашевой! — закричала Распопова штурману. Они вылетали перед нами!
— Скорее на помощь!
Бомбы полетели на прожектор. Самолет Санфировой ушел в темноту. Но теперь под обстрелом оказался самолет-спаситель. Пробит бензобак, ранены обе девушки. Мотор замолчал. Задыхаясь от паров бензина, летчица Распопова направила самолет в Терек. «Лучше погибнуть в реке, чем попасть в руки к фашистам». Но смертельно раненный ПО-2 честно выполнил свой последний воинский долг: перенес девушек через воды бурного Терека и бережно опустил на своем берегу. Прошло две недели, и они слова вылетели на задание.
Командир и комиссар дивизии частенько заезжали к нам, чутко и тактично прослушивая пульс полка. В меру бранили. В меру хвалили. Опытным глазом подмечали все: плохо замаскированный самолет, удачную карикатуру в боевом листке, темные круги у нас под глазами от бессонных летных ночей, ловкие движения девушек-вооруженцев при подвеске пятидесяти — и стокилограммовых бомб, веселую песню, книгу в руках.
Как-то раз комиссар дивизии приехал к нам поздно вечером. Погода была нелетная, и он удивился, увидев, что все самолеты находятся на старте.
Горбунов оставил свою машину на обочине, а сам направился к крайнему самолету. Приподнялся на трап. Летчица и штурман слали, склонив головы на борт кабины. Подошел к другому самолету, к третьему — везде та же картина. Горбунов пошел на КП.
— Бершанская, ты знаешь, что твои летчицы превратились в спящих красавиц?
— Как это понять, товарищ комиссар дивизии?
— Да так, спят, сидя в самолетах. Будь я злым волшебником или диверсантом, умертвил бы их всех без малейшего шума и скрылся бы так же незаметно, как появился.
— У нас было подряд несколько напряженных боевых ночей, девушки очень устали.
— Нужно быть бдительными, выставлять в таких случаях охрану. А то ведь действительно вас можно перебить, как цыплят.
— Учтем, товарищ бригадный комиссар, — .заверила Бершанская.
— Но почему бы не отправить всех спать домой?
— А вдруг облачность поднимется? Пока приедем на аэродром, потеряем не меньше часа.
— Ишь, какие хитрые!
Горбунов присел около столика. Помолчали.
— Молодцы твои девчата, — заговорил он тепло, задушевно — Прошло только три месяца, как ваш полк прибыл на фронт, а он уже выходит в первые ряды дивизии. О ваших боевых делах пишут в газетах, хорошо отзывается о вас пехота. Но самое показательное — вас знает и ненавидит враг.
Командир полка удивилась:
— Неужели мы стали такими популярными?
— Мне недавно рассказывал один пехотный командир, он присутствовал на допросе пленного немца. Этот пленный показал что ночные бомбардировщики причиняют им много неприятностей. Главное, не дают спать по ночам, изматывают физически и морально. А однажды, говорит, произошел такой случай. — Комиссар улыбнулся. — Только они истопили баню чтобы помыться перед сном, как прилетел «руссфанер» сбросил бомбы, и от бани осталось одно мокрое место.
Бершанская рассмеялась.
— Пленный уверенно заявил, — продолжал комиссар, — что это сделали «ночные ведьмы».
— Кто-о?
— Вы, «ночные ведьмы». Так вас прозвали фрицы.
— Лестное прозвище, нечего сказать!
— Так это ведь только для меня вы спящие красавицы, а для врага, оказывается, ведьмы!
С наступлением осени погода становилась все изменчивее и капризнее. То вдруг навалится невесть откуда мощная кучевая облачность, то с гор ползет по ущельям плотный туман. Нередко случалось и так: над аэродромом чистое небо, мерцают яркие мохнатые звезды, а подходишь к цели — все безнадежно закрыто тучами. Приходилось возвращаться. Садиться же с бомбами далеко не безопасно. Тогда стали высылать сначала один самолет — на разводку погоды. Но и это было не очень удобно: жди, когда он вернется!
Инженер по оборудованию Илюшина предложила поставить на какой-нибудь самолет рацию, чтобы сведения о погоде получать прямо из района цели. Выбор пал на наш самолет. В спешном порядке я прошла однодневные «курсы» радистов, и в первую же боевую ночь мы с Пискаревой вылетели в почетной роли разведчиков погоды.
Полная луна освещала неярким светом горы и долины. Кое-где по ущельям лежал туман. Слева впереди, над зубцами Главного Кавказского хребта, возвышался Казбек, покрытый вечными снегами. Погода, кажется, была приличной.
Перед самой линией фронта я включила рацию и, волнуясь, передала, что можно выпускать самолеты на задание.
— Пересекаем линию фронта, — закончила я свою передачу.
Тут ожили вражеские зенитки и отвлекли меня от радио. Я забыла выключить тумблер передатчика. Теперь все, что бы я ни произнесла, было слышно на старте. Если бы я знала это!
Под нами еле приметно вьется горная дорога. На ней мелькнул огонек и тут же погас. «Ага, ясно! Опасно, голубчики, ехать в горах без освещения? Вот мы вам сейчас подсветим!..»
Прокатился гул взрыва от наших бомб. Тут же, как по команде, с разных сторон включились четыре прожектора и начали прощупывать небо. Вот их кинжальные лучи все ближе, ближе… Спохватились зенитки и открыли неточную пальбу. Мы уже порядочно отошли от цели, как вдруг один прожектор мазнул лучом по хвосту самолета. К нему метнулись остальные.
— Нет уж, опоздали, за хвост вы нас не удержите! — торжествующе проговорила я и высунула язык.
— А ты еще плюнь на них, как над Моздоком, — посоветовала Катя.
— Какая наблюдательная, даже затылком видишь!
Действительно, был такой случай над Моздоком. Только мы отбомбились, как вдруг под нами вспыхнул прожектор. Он, будто на шпагу, наколол наш самолет на свой луч. «Вот отличный момент разбомбить его!» — подумала я. Но бомб у нас больше не было. Тогда я высунулась по пояс за борт и с досады плюнула, как мне показалось, прямо на зеркало прожектора. Он почему-то в тот же момент погас.
— Ай да штурман у меня! — восхитилась Катя. — Плюнула — и прожектора как не бывало!
Об этом случае она и напомнила мне сейчас. Мы благополучно прошли линию фронта. У меня было отличное настроение. Погода хорошая, бомбометание удачное, от прожекторов ушли — чего же больше может желать штурман?
— Пискарь, хочешь я тебе спою?
— Давай!
В это время на старте у приемника собралось несколько человек и с интересом слушали мой репортаж. Ведь я так и не выключила передатчик!
— Послушаем, как она поет, — пододвигаясь к приемнику, сказала начштаба Ракобольская. Я спела Кате песенку.
— А какой забавный анекдот рассказала мне сегодня Дуся Носаль! — беспечно бросала я в эфир.
Катя рассмеялась, прослушав довольно пикантный анекдот. На старте, около приемника, как я потом узнала, стоял хохот.
— Вот болтушки! — усмехнулась командир полка.
— Любопытно, у них всегда такая художественная самодеятельность в воздухе? — удивленно спрашивала «мамочка» — комиссар Рачкевич.
Свою оплошность я заметила лишь тогда, когда мы подошли к аэродрому.
— Ты должна обязательно спеть что-нибудь на нашем праздничном концерте 7 ноября, — сказала мне на КП Рачкевич. — У тебя, право, неплохо получается.
Я переминалась с ноги на ногу…
Евдокия Яковлевна Рачкевич до войны окончила Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. У нее был богатый жизненный опыт и большое, доброе сердце. Чуткая, заботливая, она быстро нашла дорогу и к нашим сердцам. «Деточка», — зачастую обращалась комиссар к кому-либо из нас, пренебрегая уставными требованиями. Вначале мы между собой добродушно подшучивали над таким неуставным обращением, но в душе каждая была рада этому слову: в суровой фронтовой обстановке нам так не хватало материнской теплоты и ласки.
Евдокия Яковлевна внимательно следила не только за боевой работой девушек. Немало сил и времени отдавала она и бытовым делам, а их было много.
Ходили слухи, что как-то в дивизии она вела приблизительно такой разговор с одним из штабных работников.
— Моим девушкам нужно хорошенько помыться.
— Ну и пусть моются на здоровье, — согласился офицер, который имел весьма косвенное отношение к санитарной службе.
— А где? Бани нет.
— Сейчас можно в реке искупаться. Еще тепло.
— А вы знаете, какое там дно?
— Нет… А что?
— И я не знаю. Поэтому очень прошу вас искупаться первым и проверить глубину.
— Я?! — удивился такому обороту ее собеседник.
— Вы же мужчина!
Чтобы не вызывать никаких сомнений, ему пришлось лезть в воду.
Только после такой разведки нам было разрешено купаться.
Туманы и облачность все чаще заставляли нас сидеть на аэродроме в томительном ожидании хоть малейшего просвета. В такие ночи мы любили, собравшись в кружок, петь песни. Песня всегда была нашим верным спутником на фронтовых дорогах. Ну и что ж, что война? Разве мы перестали быть людьми? Мы любили жизнь, воевали ради жизни, а жизнь без песни — что пища без соли.
Сегодня опять нелетная погода. Но метеослужба обещала прояснение. Мы собрались у самолета Дуси Носаль — черноглазой энергичной украинки, одной из лучших летчиц полка. Кто сидит, кто лежит на пожелтевшей примятой траве. Над ночным полем льется задумчивая, немного грустная русская «Рябинушка». Потом поем полюбившуюся нам «Летят утки».
— Доспаньчик, спой какую-нибудь казахскую песню, — просит Ира Себрова.
— Что вы, девчонки, у меня и голоса-то нет, — отнекивается Катя Доспанова.
— Спой, светик, не стыдись. У Утесова вон тоже нет голоса, а как поет! — шутит Полина Белкина, ее летчица.
— Ну, коли командир экипажа приказывает, придется петь.
И Катя Доспанова приятным голоском исполняет мелодичную казахскую песню. Все шумно аплодируют.
— Дуся, теперь твоя очередь!
Носаль тихо запевает:
«Дывлюсь я на небо та и думку гадаю…»
Дусю Носаль нельзя было назвать ни красавицей, ни дурнушкой. Все в ней выглядело довольно обычным. Среднего роста, темноволосая, с бледноватым лицом, она не производила с первого взгляда особого впечатления. Не совсем обычными, пожалуй, были только глаза. Дусины глаза редко бывали веселыми. Даже когда она смеялась, ее глаза часто оставались серьезными. В них постоянно проглядывали затаенные думы, напряженная мысль. Острый блеск их говорил о большой внутренней силе.
Дуся любила песни, особенно украинские, которые пела с чувством, задушевно. Живо представлялось то, о чем она поет: зеленый гай, широкий Днепр, яркие ленты в косах девушки. С чисто украинским юмором Дуся умела иногда пошутить остроумно, но не зло над какой-нибудь оплошностью подруги.
Летала Носаль очень хорошо: грамотно, чисто, смело. И с какой-то непонятной жадностью. По числу боевых вылетов она занимала одно из первых мест.
— Куда ты торопишься? — спрашивала я ее иногда.
— Под Запорожье, в село Бурчай. Хочется сказать землякам после войны: я сделала тысячу боевых вылетов.
— Куда хватила! И почему именно тысячу?
— Так… — уклонялась она.
Мы с ней были близкими подругами. Из рассказов Дуси я знала, что до войны она работала учительницей в начальных классах и одновременно занималась в аэроклубе в Николаеве. Окончив аэроклуб, стала инструктором-летчиком.
У Дуси был муж, Грицко, как она его называла. Как-то в минуту откровенности она рассказала необычную историю своего замужества. Ее прочили в жены одному парню, с которым дружила с детских лет, и Дуся привыкла к мысли, что им суждено и дальше идти вместе по жизни. Родители уже готовились к свадьбе. Но вот однажды в клуб на вечер пришел летчик, и, как говорила Дуся, они полюбили друг друга с первого взгляда. Через неделю молодые супруги выходили из загса.
Когда Дуся рассказывала о своей «дополковой» жизни, она всегда вспоминала что-нибудь светлое, радостное, веселое. Но один раз открыла передо мной и трагическую страницу.
Война застала их с мужем в Бресте. Григорий в первые же часы улетел на боевое задание, а Дусе помог эвакуироваться к ее отцу, под Запорожье: она ждала ребенка. Но сын появился раньше, чем Дуся доехала до родного села, А через сутки они оба лежали под обломками роддома, в который попала немецкая бомба. Дусю в бессознательном состоянии нашли среди развалин. Ребенок был мертв…
Много увидела она слез, страданий, смертей. По дороге к отцовскому дому попала под жестокий огонь фашистских стервятников, из всех женщин, которые сидели с ней вместе в машине, в живых осталась только она одна — судьба еще раз отвела от нее руку смерти.
— Почему ты мне раньше никогда не говорила об этом? — потрясенная ее рассказом, спросила я.
— Нелегко вспоминать…
Вот тогда я поняла, почему Дуся Носаль хочет сделать не меньше тысячи вылетов и почему при заходе на боевой курс всякий раз просит штурмана «хорошенько прицелиться».
Мария Ивановна Рунт, парторг полка, воспользовавшись небольшой передышкой в боевой работе — вторые сутки над нами висела низкая облачность и моросил дождь, — назначила партийное собрание. И вдруг перед самым собранием в полк приехал командующий воздушной армией генерал Вершинин. Приехал без предварительного уведомления.
— Хотел застать вас врасплох, — пошутил он, — да вот, оказывается, не вышло — вы уже в сборе.
Сначала девушки чувствовали себя при нем как-то неловко, но две-три реплики командующего создали атмосферу непринужденности, и собрание пошло своим обычным порядком — деловые выступления, жаркие споры.
Первым вопросом был прием в партию. Рунт огласила заявление летчицы Себровой.
— Расскажи коротко о себе, — предложила парторг. Ира подошла к столу. Всю свою довоенную биографию она уложила в две-три фразы: работала слесарем, училась в аэроклубе, потом стала инструктором-летчиком в том же аэроклубе. На фронт пошла добровольно.
— Вот и все.
— Скажи-ка, Себрова, не твой ли портрет был помещен на днях во фронтовой газете? — спросил командующий.
— Да, вместе со штурманом Наташей Меклин…
— Это за какие же заслуги? — допытывался Вершинин.
— Мы недавно склад горючего разбомбили, — смущаясь от всеобщего внимания, ответила Ира.
На собрании обсуждались тактические проблемы и вопрос об эффективности бомбометания.
В первые месяцы войны противник никак не мог понять, что за самолет у русских: встанет над целью, будто на якорь, и капает, капает бомбочками. Ни зенитки, ни прожекторы не были рассчитаны на такой «тихоход», и ПО-2 благополучно ускользал от них. Но потом враг раскусил секрет. Нашим техникам приходилось все чаще и чаще латать дыры. Нужно было менять тактику.
Начали практиковать полет парами. Первый самолет подходит к цели, отвлекает на себя огонь, а второй экипаж в это время спокойно и без помех бьет по основному объекту. Первый же сбрасывает бомбы на прожекторные и зенитные установки.
Но не всегда можно было лететь парой. Тогда прибегали к такой хитрости. Подходишь к цели на гораздо большей высоте, чем нужно для бомбометания. Убираешь газ, самолет бесшумно планирует, так же бесшумно уходит от цели. Только отойдя на более или менее безопасное расстояние, прибавляешь обороты мотору. Этот тактический прием очень полюбился всему летному составу и справедливо считался одним из самых надежных и эффективных.
Когда собрание подходило к концу, командующий попросил разрешения сказать несколько слов. Все притихли.
— Сейчас ругать будет, — шепнула мне Дуся Носаль.
— Вы самые красивые девушки в мире, — начал Вершинин.
По рядам пронесся легкий гул.
— Да-да, не удивляйтесь! Красота зависит не от того, сколько помады и пудры на лице. Кстати говоря, мне очень приятно отметить, что ни на одной из вас я не вижу этого камуфляжа. Человек красив своими делами, целью своей жизни. А вы участвуете сейчас в большом, благородном деле — в изгнании фашистов с нашей земли. Все вы пошли на фронт добровольно, по велению ваших горячих сердец, по зову комсомольской совести. Вы считаете — и совершенно правильно, — что судьба нашей Родины — это ваша судьба, и поэтому в тяжелый и грозный для Родины час вы без колебаний встали с оружием в руках на ее защиту. В этом и есть ваша красота. И не беда, что некоторые курносые носы облупились от ветра и солнца, что на голове нет локонов. После войны все будет, как прежде. Мой призыв к вам — повышайте еще больше свое мастерство, ибо чем точнее и крепче будем бить по врагу, тем ближе час нашей победы!
Слова командующего глубоко взволновали нас, побудили посмотреть на себя со стороны, полнее осмыслить то, что мы делаем. Мы даже вроде бы поднялись в собственных глазах…
Ночи становились все длиннее. Экипажам удавалось делать по шесть-восемь боевых вылетов. Нас теперь и погода перестала сдерживать. Летали при облачности, терпеливо выискивая «окна» и «форточки», в которые можно было бы нырнуть, чтобы увидеть цель и точно отбомбиться. Затаив дыхание, опускались в туман, когда он неожиданно закрывал аэродром, пока мы ходили на задание. Мы уже хорошо изучили рельеф своего района, и наши фанерные самолетики по-деловому шныряли между горами Сунженского и Терского хребтов, по ущельям, вдоль русел горных рек.
За полгода напряженной боевой работы наша маломощная техника поизносилась, и по всем законам инженерного дела некоторым самолетам нужно было отправляться в авиационные мастерские. Первыми улетели Ира Себрова с Наташей Меклин и Леля Санфирова с Руфой Гашевой. Улететь на ремонт — это значит просидеть в мастерских не меньше месяца. Девушки возвратились на новеньких, отливавших свежим лаком самолетах через десять дней. Коллектив ПАМа — передвижных авиационных мастерских — с большим вниманием и любовью отнесся к выполнению первого заказа женского полка. Но не только коллективная любовь помогла быстрому ремонту самолетов. Я поняла это, когда мы с Катей Пискаревой тоже прилетели в ПАМ и я передала технику Саше Хоменко привет от Иры Себровой. «А парень-то, видать, очень ждал!» — отметила я про себя, наблюдая, с каким волнением он закуривает.
Мы тоже не много пробыли в мастерских, но на обратном пути судьба приготовила нам большие неприятности: вынужденная посадка, авария — у меня подбит глаз и сотрясение мозга… Пришлось надолго задержаться в Грозном.
Полк тем временем покинул обжитую станицу Ассиновскую. После блестящей победы советских войск на Волге создались благоприятные условия для наступления на нашем фронте. В начале января Северо-Кавказский фронт догнал фашистов с такой скоростью, что полк едва успевал перебазироваться с одного аэродрома на другой. Несмотря на очень плохую погоду — туманы, снегопады, метели, — боевая работа ночных бомбардировщиков не прекращалась, и они, как пчелы, жалили стремительно отступавших немцев.
Мы с Катей догнали свой полк уже в Джерелиевской, кубанская станица буквально утопала в раскисшем жирном черноземе.
— Ну, Дуся, рассказывай, какие новости, — с нетерпением тормошила я Дусю Носаль на аэродроме.
— Подожди, дай сначала посмотрю на тебя. У нас прошел слух, что ты лишилась глаза!
— Пыталась, но, как видишь, безуспешно.
— Слава богу! А я так переживала! Ведь штурман без глаза, да еще без левого, — уже не штурман. Ему часто и двух мало, правда?
— Ты скажи, у нас все в порядке? Все живы, здоровы?
— Все нормально. Да! Ведь вы, наверное, еще не знаете, что мы гвардейцы?!
— Неужели? Вот здорово! Дай расцелую тебя за такую новость!
На аэродроме царило необычное для дневного времени оживление. Одни самолеты садились, другие взлетали.
— Дуся, что это наши стрекозы разлетались?
— А! Это тоже новость для вас… — Она щурилась от весеннего солнца. Понимаете, мы тут как на необитаемом острове. Дороги до того раскисли, что к нам ни одна машина не может проохать. А бензин кончился. Вот мы и возим горючее на самолетах. Не прекращать же из-за распутицы боевую работу!
— Ишь, какие азартные стали! Что значит гвардейцы!
— А как же! В грязь лицом не ударим, хотя грязищи здесь по колено, засмеялась Дуся. — Ну, пока, до вечера, я спешу на вылет. Рая, моя постель в левом углу на нарах. Можешь на ней отдохнуть.
Мы с Катей изрядно проголодались и решили зайти в столовую. В мисках подали какую-то жидкую кашу.
— Что это? — спрашиваем.
— Кукуруза.
— А еще что-нибудь есть?
— Ничего. Третий день кормим одной кукурузой. Дороги развезло, подвоза продуктов нет.
— Вообще-то есть можно, только бы подсолить немного, — попробовав, сказала Катя.
— Соли тоже нет.
В эскадрилье нас встретили шумными возгласами, шутками по поводу моего сотрясения мозга. Мы критическим взглядом обвели жилище. На нарах вместо матрацев лежали сухие кукурузные листья.
— Везде кукуруза, — вздохнула Катя.
— Да, она из «вещи в себе» превратилась в «вещь для всех», — пошутила штурман Полина Гельман, бывшая студентка истфака МГУ, вспомнив кантовскую теорию непознаваемости мира.
— Вам тоже придется познать эту хлебную культуру, — улыбаясь, проговорила Наташа Меклин, затягивая на себе потуже ремень.
— Мы уже познали. Только что из столовой. Перед вечером, еще задолго до наступления темноты, все боевые экипажи вышли на аэродром. Нужно было вытащить самолеты со стоянок на старт — дело далеко не легкое. Шасси глубоко увязали в липком черноземе. Вязли, конечно, и ноги в кирзовых сапогах. В мирное время никому бы и в голову не пришло летать с такой грязищи, но шла война, и нам нужно было летать.
Наш самолет безнадежно застрял на полпути. Мы с техником Лелей Евполовой стоим и вытираем пот со лба. Катя сидит в кабине, смотрит по сторонам: кого бы пригласить на помощь?
— Эй, дяденька, подсоби.
«Дяденька», боец из БАО, молча подходит.
— Становись под крыло! — командует летчица. Я лезу под другое крыло, Евполова идет к хвосту.
— Взяли, дружно! Эй, ухнем!..
Катя дает полный газ, я упираюсь руками в колени, а спиной подпираю крыло. Напрягаясь изо всех сил, стараюсь помочь самолету вытащить колеса из грязи. Леля держит хвост, чтобы самолет не скапотировал.
Мы ползли до старта не меньше полчаса. Авиация — это не только полеты в небе, но и труд на земле.
А в воздухе у меня начались новые неприятности. Температура ночью резко понизилась, и ноги, насквозь промокшие, начали мерзнуть. Стараясь разогреть их, я энергично притопывала по полу кабины.
— Чего ты там топаешь? — сердито спрашивает Катя.
— Греюсь. Ноги окоченели. Портянки смерзлись.
— Сочувствую, — уже другим тоном говорит летчица. Наша цель — переправа у хутора «Красный Октябрь» — затерялась среди бескрайних полей Кубани. Ориентироваться было очень сложно. Местами еще лежал снег, местами блестела талая вода, которую можно было легко принять за один из многочисленных притоков Кубани. Земля выглядела пестрой, как лоскутное одеяло.
Далеко впереди вспыхнула светлая точка — это кто-то из наших экипажей уже подвесил САБ над целью.
— Видишь, Катя, вон наши девчонки начали работать.
Мы зашли на цель по всем правилам бомбометания. Вдруг буквально перед самым нашим носом пронесся самолет, и тут же на переправе вспыхнул взрыв бомбы. Через секунду и наши бомбы легли рядом. Не успели мы отойти от цели, как там рванули еще две.
— Вот лупят! — восхищенно воскликнула я. — Прямо без передышки!
— По-гвардейски!
Зенитки открыли торопливый, нервный огонь. Они били наугад, так как в это время над целью одновременно находилось не меньше четырех самолетов и врагу трудно было по звуку определить точное направление: жужжало кругом.
Всю ночь ухали бомбы на переправе. К утру она перестала существовать.
В Джерелиевской полк простоял недолго. Наши войска упорно теснили оккупантов с кубанской земли, и в начале марта мы перелетели в Пашковскую, под Краснодар.
Как-то, возвращаясь ранним утром с полетов, командир полка шла вместе с летчицами по станице.
— Здравствуйте, Евдокия Давыдовна! — с глубоким уважением произнесла встречная пожилая женщина, поравнявшись с Бершанской. — С благополучным возвращением вас!
— Здравствуйте, дорогая Мария Петровна! — приветливо поздоровалась командир полка. — Как видите, я не одна вернулась.
— Слышали мы, слышали о вас, — внимательно рассматривая летчиц, сказала женщина.
И неожиданно вдруг добавила тихо, с легким поклоном:
— Спасибо, родные!
Мы были тронуты словами этой женщины. И одновременно горды нашим командиром полка. Все в полку знали, что Евдокия Давыдовна Бершанская до войны жила здесь, в Пашковской, была членом Пашковского райисполкома и депутатом Краснодарского городского Совета. Отлично работала командиром звена авиаотряда ГВФ. Была награждена орденом «Знак Почета». И вот теперь депутат Бершанская вернулась в родной край вместе с армией-освободительницей.
Вскоре и Пашковская оказалась слишком далеко от линии фронта. Мы начали работать с «подскока» — площадки, расположенной в сорока километрах к западу от Краснодара, около станицы Ивановской.
Возвращаясь на рассвете на базу, мы шли завтракать, а потом спать. Спустя полчаса приходили в столовую летчики-истребители. Их рабочий день только начинался. Но вскоре мы заметили, что парни стали приходить на завтрак слишком рано, вместе с нами. Сначала мы недоумевали, потом решили, что они хотят познакомиться с нами. Но оказалось, причина была не только в этом.
Как известно, на фронте летчикам после напряженных боевых вылетов давали по сто граммов водки. Нам тоже давали, правда, не водку, а сухое столовое вино. Мы пили его, чтобы покрепче уснуть часа на три-четыре и не слышать всех неизбежных аэродромных шумов.
Однажды, придя в столовую, мы увидели, что в стаканах вместо вина налита бурая, резко пахнущая жидкость.
— Фу, какая гадость! — понюхав и лизнув языком, сказала одна из летчиц.
Девушки осторожно подносили к губам стаканы в, убеждаясь, что это действительно гадость, с отвращением отставляли.
— Что это такое?
— Коньяк, — ответила официантка. О коньяке мы знали только понаслышке. Пришел повар и объяснил, извиняясь, что на складе ничего другого сейчас нет.
Когда мы встали из-за стола, коньяк остался нетронутым.
Эта новость быстро облетела всех летчиков-истребителей. На другое утро они пришли завтракать как раз тогда, когда мы допивали чай. Коньяк, конечно, опять стоял нетронутым. Истребители быстро его «реализовали» и потом с аппетитом поели. Но недолго они «кормились» возле нас. Слух об этом дошел до начальства, и поступила команда: «Коньяк летчицам не выдавать!» Парней очень огорчило такое распоряжение.
Нас с Пискаревой считали в полку «везучим» экипажем. Даже из самых сложных переплетов мы выходили невредимыми и с небольшим числом пробоин в самолете. Мы и сами, кажется, уверовали в свое «везенье» и летали иногда безрассудно смело.
Но вот на Кубани летное счастье стало нам изменять. Да и не мудрено. Оборонительная «Голубая линия» противника, протянувшаяся от Новороссийска до Темрюка, была до предела насыщена средствами ПВО. О, эта линия совсем не была голубой! Она была огненной. Как некое мифическое чудовище изрыгала она на нас тонны смертоносного металла, беспрерывно шарила в ночном небе фантастическими щупальцами прожекторов, жадно выискивая себе жертвы.
Каждый раз, как только самолет перелетал линию фронта, поднималась такая свистопляска огня и света, что приходилось удивляться, как это мы протискивались сквозь такую плотную огненную преграду. Все чаще и чаще возвращались с задания с рваными плоскостями и с неуемной дрожью в коленях.
В летной книжке каждого летчика есть так называемый «листок происшествий». 17 марта 1943 года адъютант эскадрильи записала нам с Катей Пискаревой следующее:
«16.3.43 при выполнении боевого задания экипаж был обстрелян зенитной артиллерией противника. Самолет требует ремонта».
Произошло это вот как.
Всю ночь мы с Катей летали на бомбежку, а под утро получили задание разбрасывать листовки. Нашему экипажу, между прочим, довольно часто поручали агитировать немцев. Но многие штурманы, в том числе и я, не очень-то любили такие задания. Загрузят пачками всю кабину и вот маешься над целью — каждую пачку нужно развязать, а потом уж бросать за борт. А тут еще иногда нож, которым разрезаешь бечевки, выпадет из рук. Шаришь, шаришь по полу кабины. Не найдешь, плюнешь и разгрызаешь бечевки зубами.
Когда мы с Пискаревой летели с листовками, то не залезали на большую высоту. У меня почему-то было такое мнение, что немцы не должны по нас стрелять — ведь мы идем к ним с мирными намерениями.
С таким настроением летели и в тот раз. Без особых помех пересекли линию фронта. Вот и наша цель. Начинаю засучив рукава работать. Одна пачка, вторая… пятая… десятая. Ух, наконец-то все!
— Катюша, пошли, разбросала, — с облегчением сообщаю летчице.
— Молодец, сегодня быстро справилась.
Катя берет обратный курс. Я уже мысленно представляю себе, как будем сейчас докладывать комиссару полка Евдокии Яковлевне Рачкевич о том, что «листовки разбросаны в заданном районе», как она пожмет нам руки и скажет: «Молодцы, деточки».
Вдруг (как ни ждешь, но это почти всегда бывает «вдруг») впереди разорвался зенитный снаряд, потом справа, слева… Настоящий махровый букет вспышек. А мы — в средине. Высота небольшая, силуэт самолета видно с земли, поэтому-то нас так быстро и схватили в горячие тиски. Не успели мы опомниться, как обшивка на крыльях затрещала во многих местах. Били нас не долго, но очень метко.
Когда на рассвете пришли на аэродром, сели и посмотрели со стороны на свою машину, то ужаснулись — как долетели? Перкаль на плоскостях висела клочьями, хвост разодран, из мотора текло масло. Вид у самолета был как у воробья, только что вышедшего из жестокой драки.
— Ну, что, доагитировались? — спросила подошедшая техник Леля Евполова.
Мы с Катей опустили головы.
Ровно через десять дней в моей летной книжке опять появилась запись: «Боевое повреждение, штурман ранен, самолет требует ремонта». Да и мне самой требовался основательный ремонт…
Случилось это над станицей Киевской. Там стоял очень «липкий» прожектор, который нужно было уничтожить. Уже на боевом курсе в вас вцепились с десяток прожекторов, в том числе и наш «подопечный». Остервенело набросились зенитки. И тут меня толкнуло в бедро чем-то острым, горячим. Я охнула от боли и ткнулась головой в приборную доску. Но в следующее же мгновение опять смотрела в прицел. Вот в правой плоскости блеснуло яркое зеркало. Рывок — и бомбы полетели вниз. Одним лучом стало меньше. Но остальные, как щупальца гигантского спрута, цепко держат наш истерзанный самолет в своих слепящих объятиях. Зенитки неистовствуют…
Утром в санчасти БАО хирург сделал мне операцию. Сначала он извлек из раны клочья от мехового комбинезона, брюк и на здоровенной своей ладони поднес вое эти мокрые лохмотья к моему лицу.
— Вот, отдашь начхозу. В обмундировании теперь нехватка, — пошутил он.
Но мне было не до шуток, противная тошнота подступила к горлу. Хирург начал вытаскивать осколки зенитного снаряда. Их было много. Когда он особенно глубоко залезал в рану, мне хотелось кричать, но я не осмеливалась: рядом, за фанерной перегородкой находилась мужская палата.
— Очень больно, — почти шепотом говорю хирургу.
— Врешь! — рявкнул он так, что я уж и рта больше не раскрывала, только еще крепче вцепилась в руку нашему полковому врачу Ольге Жуковской. Потом она показывала мне, какие следы остались на ее руке от моих пальцев.
А в то время за дверью стояла, оказывается, Евдокия Яковлевна Рачкевич, «мамочка», и, наблюдая сквозь щелку за операцией, потихоньку плакала…
На другой день в санитарном самолете меня отправили в госпиталь в Ессентуки. Рана ныла, голова горела, время от времени я впадала в забытье. В уме почему-то назойливо вертелись слова: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?»
— Ну, нет! — спорила я с автором этих строк. — Хотя моя жизнь и является в некотором смысле случайным даром, но не скажу, что он напрасный. Мы еще повоюем!..
Опытные врачи и молодой организм справились с тяжелой травмой, и уже через две недели я могла, опираясь на палку, пройти от своей койки до соседней. На ней лежала штурман из нашего полка Катя Доспанова. Ее привезли недавно в госпиталь в тяжелейшем состоянии — переломы ног, сотрясение мозга, серьезные повреждения внутренних органов,
Уже потом, из ее рассказов и от наших девушек, прилетавших иногда в Ессентуки, я узнала о катастрофе, происшедшей в полку в апреле.
В то время вражеские самолеты стали очень часто проходить по ночам над нашим аэродромом. Наверное, они что-то пронюхали. В целях маскировки командир полка приказала свести до минимума световые сигналы, запретила пользоваться АНО (аэронавигационные огни). Это, конечно, очень осложняло посадку. Но такая крайняя мера была продиктована необходимостью уберечь полк от бомбежек.
Случилось так, что два самолета пришли одновременно с задания и при заходе на посадку столкнулись в воздухе. На одном была Юля Пашкова с Катей Доспановой, на другом — Полина Макогон с Лидой Свистуновой. Катя помнила только, как внезапно раздался треск я самолет начал падать… Очнулась она на земле под обломками. Кругом тишина. Катя хотела крикнуть, позвать на помощь, но из груди вырвался лишь стон. Сознание опять затуманилось. Но где-то в уголке мозга билась мысль: нужно дать о себе знать! Неимоверным усилием воли Кате удалось вытащить из кобуры пистолет, но, сделав несколько движений, она опять потеряла сознание.
Юле Пашковой, тоже полуживой, истекающей кровью, все же удалось несколько раз выстрелить. Вскоре к месту катастрофы подъехала санитарная машина. Макогон и Свистунова были мертвы. Доспанову и Пашкову доставили в полевей госпиталь.
Юля умерла на операционном столе. У Кати тоже не было никаких признаков жизни, и ее положили в мертвецкую рядом с подругой. Потом случайно заметили, что она не покрывается мертвенной бледностью. Срочно приняли все меры к спасению этой маленькой девушки, почти девочки, и — о чудо! — ее ресницы дрогнули, она приоткрыла глаза.
Несколько ночей и дней врачи боролись за ее жизнь. У Кати начиналась как будто гангрена, встал вопрос об ампутации ног. Но главный хирург госпиталя сказал:
— Нет, не могу я лишить ног эту девочку! Они так пригодятся ей, если она сумеет выжить!
И Катя сумела. Она буквально воскресла из мертвых. В Ессентуки ее привезли всю закованную в гипс.
— Ого! В нашем полку прибыло! — Я пыталась шутить.
Но Кате было не до шуток.
Через некоторое время рентген показал, что сращение у нее идет неправильно. Ломали гипс, правили кости… Бедная Катюша! На ее долю выпало столько страданий…
Однако воля к жизни победила. Месяца через три Катя Доспанова вернулась в полк и вскоре стала опять летать на боевые задания.
Однажды в госпиталь прилетела Катя Пискарева. Я могла уже передвигаться без палочки, и мы вышли во двор. Было начало мая, южное солнце грело землю, зеленела трава, цвела сирень.
— Скоро ты поправишься? — спросила Катя. — Мне уже надоело летать с чужими штурманами.
— Да вот рана никак не заживает.
— Смотри-ка, что я тебе привезла! Катя порылась у себя в планшете и достала небольшой сверточек.
— Вот, бери, это твое.
В свертке оказались новенький гвардейский значок и погоны младшего лейтенанта.
— Спасибо! — Я поцеловала Катю. — Ну, рассказывай, как там в полку.
Катя сообщила, что несколько штурманов — Женя Жигуленко, Наташа Меклин, Нина Ульяненко — начали переучиваться на летчиц. Моя собеседница и не подозревала, наверное, как встревожило меня это сообщение. Стать летчицей было моей мечтой. И вот теперь представляется удобный случай осуществить мечту, а я торчу в госпитале. Какое невезенье! Завтра же буду просить главврача, чтобы выписал. Ведь я совсем здорова, даже прибавлять в весе начала. «Если не выпишет — объявлю голодовку».
— Что еще нового?
Катя посерьезнела, опустила голову. Стало ясно, что в полку несчастье. Может быть, погиб кто-то из моих близких подруг?
— Кто, Катя? — в упор спросила я ее.
— Ты только… не плачь, Рая. Не хотела тебе говорить сейчас, но не могу умолчать. Все равно узнаешь, не от меня, так от других. Погибла Дуся Носаль.
— Дуся?!.
Боль, горе, отчаяние — все прокричало в одном этом слове. Нет, слез не было. Сердце окаменело.
— Летели с Кашириной на Новороссийск, — продолжала Катя. — Обстрелял вражеский самолет. Осколком в висок… Штурман привела сама и посадила… Фотография Грицко была забрызгана кровью… — доносились до меня слова Кати.
«Да, Грицко. У нее в кабине на приборной доске была прикреплена его фотография, — всплыло в памяти. — Она очень любила мужа».
Когда Катя Пискарева кончила свой печальный рассказ, я тихо сказала:
— Если и нам с тобой суждено погибнуть в этой войне, то пусть будет так, как у Дуси, — при выполнении задания, в кабине своего самолета.
Вскоре Дусе Носаль посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Она была первой в нашем полку, кто удостоился этой высшей награды. Штурмана Иру Каширину наградили за подвиг орденом Красного Знамени.
А я через несколько дней со скандалом вырвалась из госпиталя и на попутных машинах помчалась в полк. Без отрыва от боевой работы начала переучиваться на летчика-ночника.
Враг яростно сопротивлялся на своем последнем укрепленном рубеже на Кубани, мертвой хваткой держался за пресловутую «Голубую линию». Она щетинилась против нас великим множеством прожекторов, огрызалась разноголосым лаем зениток.
Потери в полку участились. Погибли Полина Белкина и Тамара Фролова. Загорелся над целью самолет моего командира эскадрильи Дины Никулиной с Лелей Радчиковой. И только находчивость, изумительное хладнокровие позволили тяжело раненной летчице удачным маневром сбить пламя и, едва перетянув через линию фронта, посадить обгоревшую машину прямо на дорогу.
Трагической страницей вошла в историю полка ночь с 31 июля на 1 августа 1943 года. За какие-нибудь полчаса сгорели сразу четыре экипажа. И без единого выстрела с земли. Вот как это произошло.
Наши легкие ночные бомбардировщики, очевидно, сильно досадили врагу, и он решил бросить против ПО-2 ночных истребителей. Была разработала коварная тактика: прожекторы ловят наш самолет, а истребитель подходит к нему на короткую дистанцию и расстреливает в упор.
В ту ночь сгорела Галя Докутович.
Никому не дано знать, о чем думает, что переживает человек в свои последние мгновения. Полагают, что в этот момент перед его глазами проходит вся жизнь. Что ж, может быть.
Может быть, уже объятая пламенем, Галя и вспомнила родной Гомель, школу, аэроклуб, первый взлет в небо и первый прыжок с парашютом. Может быть, пожалела о том, что на ней теперь не было парашюта. Промелькнули, может быть, в памяти три студенческих года в МАИ. Но самолет из фанеры и полотна горит быстро, как порох…
Я помню Галю с первых дней формирования нашей авиачасти — высокую, смуглолицую, с густым румянцем и темными бархатными глазами. Сразу подумалось: умная девушка, но уж очень сдержанная.
Во время учебы в Энгельсе ее назначили старшиной штурманской группы. Старшина была требовательной до педантизма ко всем, в том числе к себе и к своей подруге Полине Гельман, с которой они дружили еще в школе, с четвертого класса. Галя была отличным штурманом, но в полку оказалась в должности адъютанта. Только Полина Гельман знала, что пережила Галя из-за этого назначения: ведь ей страстно хотелось летать! Позже, когда полк начал боевую работу на фронте, Галя добилась разрешения летать на задания.
Потом с ней случилось несчастье. Ночью в перерыве между вылетами она прилегла в сторонке отдохнуть. Спешившая на старт машина-бензозаправщик наехала на лежавшую в траве девушку. У Гали оказался сломанным позвоночник.
Но семь месяцев в тыловом госпитале не сломили ее волю, не погасили мечту о небе. Ради этой мечты она впервые в жизни пошла на обман: убедила медицинскую комиссию, что совершенно здорова, проделав перед врачами несколько сложных гимнастических упражнений. Одному богу известно, чего это ей стоило.
Докутович вернулась в полк с отпускным удостоверением — врачи все-таки предписали ей отдохнуть полгода. Но бумажка так и осталась лежать в кармане. Никому, кроме Полины, да и то под большим секретом, Галя не показала ее.
Докутович упросила начальника штаба Ирину Ракобольскую выполнить обещание, которое та дала ей перед отправкой в госпиталь. Когда Галя без кровинки в лице лежала на носилках, Ракобольская и не думала, конечно, что Докутович вернется к летной работе. Она сомневалась даже, вернется ли Галя к жизни. И поэтому на настойчивую просьбу Гали: «Дайте мне слово, что, когда вернусь в полк, буду не адъютантом, а штурманом», — Ракобольская ответила: «Даю».
Теперь пришлось сдержать это слово. Галя стала летать.
Каждый боевой вылет приносил ей радость и страдание. Утром после рабочей ночи Галя не могла заснуть из-за ноющей боли в позвоночнике. Но она ничем не выдавала себя. Ее подруга лишь по выражению глаз определяла, как Гале трудно.
— Пойду и доложу о тебе командиру, — не выдержала как-то Полина.
— Ты не посмеешь! — Галя гневно блеснула глазами. И Полина, конечно, не посмела лишить подругу самой большой для нее радости.
Когда теперь говорят о подвигах, мне часто вспоминается Галя Докутович.
Подвиг… Как много вобрало в себя это слово! Бывает так, что у человека в какой-то момент его жизни под влиянием сложившихся обстоятельств вдруг поднимается непреодолимо великое чувство долга; это чувство ведет его иногда на верную гибель ради высокой, благородной цели. Так было, например, у Гастелло, Матросова. А иногда про человека говорят: вся жизнь его была подвигом. Это, пожалуй, самый трудный подвиг. Но чаще всего подвиг складывается из многих поступков человека в течение какого-то периода его жизни. Каждый поступок сам по себе, может быть, и не столь уж велик, но вкупе с другими, ему подобными, позволяет говорить о подвиге. В качестве примера можно назвать имя, известное всему миру: Маресьев.
Как слагался подвиг Настоящего Человека? Его сбили — он сумел выжить. Лишился ног — сумел побороть отчаяние. Потом встал на протезы. Мог бы пойти на них в пенсионный отдел, и никто не осудил бы его за это. Но мечта снова летать, сражаться привела его на аэродром. Мечта дерзкая, почти несбыточная, однако, как сказал поэт Кайсын Кулиев, «…о невозможном если не мечтать, то вряд ли и возможное свершится!..»
Не всякий на месте Маресьева убедил бы командира в том, что может летать на истребителе. А он убедил. И вот опять в воздухе, опять идет на боевое задание. Мог бы слетать разок-другой — и хватит. Он уже пришел к подвигу. Но в том-то и дело, что человек, совершая подвиг, никогда но думает и даже не догадывается об этом! Иначе, вероятно, это уже не было бы подвигом.
Не всегда подвиг венчается Золотой Звездой Героя. Думается, однако, что светлая память в сердцах людей — награда не меньшая.
Галя Докутович не успела сделать еще чего-то, чтобы в наградном листе было написано: «Достойна присвоения звания Героя Советского Союза». Она успела только отдать свою жизнь за Родину. Совсем короткую жизнь — двадцать три года. А ведь некоторые за всю свою долгую жизнь так и не успевают хоть что-нибудь дать Родине. Они успевают только взять.
Полк нуждался в пополнении летного состава. Штурманов начали готовить из своей среды — из техников и вооруженцев. Летчицы, в основном инструкторы аэроклубов, прибывали из разных мест. Командующий воздушной армией беседовал почти с каждой вновь прибывшей летчицей.
Когда Лера Рыльская робко вошла в кабинет Вершинина и представилась, он строго спросил:
— Почему такой неряшливый вид?
— Я прямо с поезда… — в смущении глядя на свой помятый костюм, пролепетала девушка.
Командующий спрашивал не только о том, где и сколько летала Рыльская. Его интересовали и многие другие стороны ее биографии. Задавал вдруг такие вопросы, от которых девушку бросало в жар:
— Куришь? Пьешь?
— Н-н-ет… — заикаясь, ответила Рыльская. «Господи, неужели я похожа на пьющую?» — с ужасом подумала Лера.
— Ну, это я так, на всякий случай спросил. Не обижайся.
В конце беседы командующий предупредил:
— Смотри, веди себя достойно. Не наложи каким-нибудь опрометчивым поступком пятно на боевую славу полка.
И уже вслед уходившей летчице бросил:
— А костюмчик-то приведи в порядок. Неловко себя почувствуешь, если в таком виде явишься в полк. Там девушки аккуратные.
…Рая Юшина, белокурая симпатичная летчица, давно рвалась на фронт, но, когда ей предложили поехать в женский полк, заколебалась: «Целый полк женщин? Вот уж где шуму-то, наверное…»
— Не сомневайтесь, полк отличный, — заверили ее.
И все-таки Юшина ехала с неспокойным сердцем.
«Может быть, они там просто играют в войну?»
А она хотела воевать по-настоящему.
Рая Юшина в мае 1940 года окончила Херсонскую школу и была направлена на работу в Минский аэроклуб. За год успела сдать три группы. Перед самой войной заболела плевритом, попала в больницу. 22 июня на Минск обрушились бомбы. Развалины, пожары…
Город эвакуировался. Голова у Раи горела, ноги дрожали от слабости, но нужно было уходить. Рая надела летный комбинезон, вышла на магистраль. Там шли толпы измученных беженцев. Солнце пекло немилосердно. Отшагав несколько километров, Рая потеряла сознание. Пришла в себя от тряски в кузове машины. Смотрит — летят три бомбардировщика. Строчат по дороге, расстреливают идущих людей. В горячке на полном ходу Рая выскочила из кузова. Сломала ногу. А машина тут же загорелась.
Уж не помнит, кто ее подобрал, как оказалась в могилевском госпитале. Госпиталь забит ранеными, стоны, невыносимо тяжелый воздух. Раину ногу туго забинтовали: «Пока так…»
Могилев тоже бомбили. В один из налетов Рая выползла во двор, под дерево. Подошли два летчика. У них легкие ранения — осколки в спине. Готовились к перебазировке в Тамбов. «Поедем с нами?» — предложили. Раздобыли для Ран костыли и ночью автобусом поехали на вокзал.
Поезд несколько раз обстреливали в пути. Люди метались в вагонах от одной стены к другой…
В Тамбове Раю взяла в себе на попечение жена одного полковника. Внимательно и заботливо ухаживала за ней. Нога срасталась нормально.
Месяца через два Юшина пошла, прихрамывая, в военкомат. Назначили на работу в аэроклуб. Летала, выпустила две группы. Но — опять болезнь, плеврит. Летная комиссия отстранила от работы.
Весной 1943 года приехала в свою Каширу. Мысль о фронте давно не давала покоя, но Рая понимала, что пока не окрепнет здоровье, пользы от нее там не будет. Предложили работу комсоргом в МТС. Согласилась. Потом направили на большой завод, заместителем комсорга.
Здоровье немного укрепилось, и Рая Юшина решила пробиваться на фронт. Когда в ЦК комсомола выслушали ее просьбу и узнали, что она летчица, направили в 46-й гвардейский.
Юшина прибыла в полк утром 1 августа, как раз после той ночи, когда у нас сгорели над целью восемь девушек. Начальник штаба Ирина Ракобольская направила Раю в эскадрилью Санфировой. Скромная, немного застенчивая «новенькая» летчица входила в помещение эскадрильи с известным предубеждением. Что она ожидала там увидеть? Во всяком случае, совсем не то, что увидела — шесть подряд свернутых постелей.
— Сегодня не вернулись с задания, — тихо пояснила адъютант.
«Нет, здесь не играют в войну…»
В сентябре «Голубая линия» была прорвана, советские войска перешли в решительное наступление. Двинулся вперед и наш полк. В первых числах октября мы оказались в Курчанской.
Когда-то красивая кубанская станица была обезображена и испоганена врагом. Почти все дома разрушены, деревья либо сожжены, либо порублены, кругом следы опустошительной, злой силы. Нас предупредили, чтобы мы были крайне осторожны и ходили только по указанным дорожкам: вся земля густо начинена минами. Минеры до нашего прилета сумели расчистить только часть площадки, предназначенной для аэродрома. За один день они извлекли более трех тысяч мин! Кругом пестрели деревянные дощечки с грозным предупреждением: «Заминировано!» Говорили, что в станице обнаружено много мин-сюрпризов и мин замедленного действия с часовым механизмом. «Голубая линия» продолжала огрызаться.
Для меня станица Курчанская была памятна тем, что над ней в первый же свой боевой вылет в качестве летчика я попала в прожекторы. Этого момента я ждала с тревогой, наслушавшись много рассказов о том, что летчик в лучах может потерять пространственное положение.
Когда зловещий голубоватый луч осветил мой самолет, я по старой штурманской привычке попыталась было глянуть вниз, чтобы определить, в какую сторону уходить. Твердый голос Лиды Лошмановой призвал меня к порядку:
— Рая, смотри только на приборы.
Я подавила в себе сомнение в силах молодого штурмана (Лида Лошманова начала летать сравнительно недавно), приказала себе: «Спокойнее, не суетись!» — и стала послушно выполнять ее команды. Подключилось еще несколько прожекторов, начался обстрел. Мне стало ясно, что плавными, аккуратными разворотами не вырваться из огня. Убрала газ, дала левую ногу резко, до отказа, ручку — вправо до борта, и мы со свистом понеслись к земле. Излюбленный прием Кати Пискаревой помог мне: потеряв в одно мгновение метров четыреста высоты, мы провалились в спасительную тьму.
На другой день по прибытии полка в Курчанскую произошел забавный случай.
Наша столовая разместилась в большой полуразрушенной хате, часть которой приспособили под кухню. Настало время обеда, мы уселись за столами.
В течение вот уже двух месяцев нас обслуживал один и тот же батальон, где поваром работал совсем молодой паренек Толя, до фанатизма влюбленный в свою профессию. Обычно перед обедом он входил в столовую и, смущаясь и краснея, объявлял меню. Еще ни разу не случалось, чтобы он задержался.
Но сегодня повар долго не появлялся.
— Девочки, что с Толей? Почему он не кормит нас? Наиболее нетерпеливые решили заглянуть на кухню.
— Не входите сюда! — Толя замахал руками. — Здесь кругом мины!
Он стоял в отдалении от котлов и с опаской поглядывал под плиту, на которой вовсю кипел борщ и уже подгорали котлеты.
Летчицы удивленно переглянулись и тихонько закрыли дверь.
— Девчонки, наш повар, кажется, того… — повертев указательным пальцем около виска, сообщила одна из них.
— Что такое? Что случилось? — наперебой расспрашивали все.
— Загляните сами…
Мы приоткрыли дверь на кухню. Повар сидел в углу на табурете, обхватив голову руками. Очень похоже было на то, что он с минуты на минуту ждал взрыва.
— Толя, что с тобой?
— Ой, девочки, под плитой мины тикают, — взволнованно заговорил Толя. Боюсь подойти к котлам, а у меня все пригорает…
Очевидно, только чувство профессиональной гордости не позволяло ему покинуть это страшное место.
— Где такают? — спрашиваем.
— Вон там, под левым углом плиты…
Мы подошли, прислушались: и правда, что-то тикает!
Тотчас же было решено: немедленно привести минера, а пока всем покинуть кухню, в том числе и повару.
Пришел минер и нашел под плитой… будильник. Кто-то подшутил над поваром.
В результате этой истории мы остались без обеда: пока бегали за минером, борщ почти весь выкипел, а котлеты начисто сгорели, наполнив хату густым, едким смрадом. Пришлось довольствоваться куском хлеба и стаканом компота.
Долго обсуждали происшествие, теряясь в догадках относительно автора шутки. Некоторые уверяли, будто это дело рук летчицы Жени Жигуленко, которая была мастером на разные выдумки и совсем недавно проиграла повару пари. Все еще помнили, как дня три тому назад на ужин подали вкусные блинчики и Жека как ее все называли — в полушутливой форме высказала повару недовольство тем, что порции слишком малы.
— Я могла бы съесть таких блинчиков не меньше двух десятков!
— Не съедите, — с застенчивой улыбкой возразил Толя.
— Пари? — Жека вызывающе протянула руку.
— Хорошо.
Она не доела два блинчика. Пари было проиграно. И вот теперь некоторые были склонны думать, что подсунутый под плиту будильник — реванш за поражение в споре. Но это были только догадки, а доказательств — никаких.
Так мы и не узнали, кто подшутил над поваром…
Скоро весь Таманский полуостров был очищен от фашистов. Наш полк тоже вложил в это свою лепту. 9 октября мы узнали, что полку присвоено наименование «Таманский».
— А я боялась, что будем «Чушкинскими»! — смеялась Катя Доспапова. Ведь последние ночи мы летали на косу Чушку!
По случаю торжественного события Толя приготовил праздничный обед, потом нас порадовала маленьким концертом разъездная труппа оперетты. «Братики-бочаровцы» — летчики полка майора Бочарова, с которыми мы дружили, сбросили нам с самолета букеты цветов.
А с наступлением сумерек мы, как обычно, направились на аэродром. Рядом со мной с задумчивым видом шагала Ира Себрова.
— Ты что притихла? — Я заглянула ей в глаза.
Ира посмотрела на меня мягким, глубоким взглядом.
— Думала сейчас: дорого мы заплатили за то, чтобы называться таманцами. Четырнадцать девушек погибли здесь, на этой проклятой «Голубой линии».
Да, не стало Дуси Носаль, Гали Докутович, Полины Белкиной, Иры Кашириной… Сегодня днем на построении полка комиссар Рачкевич в короткой речи назвала имена лучших. Нашла она хорошие, добрые слова для погибших. Когда упомянула Дусю, сердце мое сжалось…
— Помнишь, Ира, как Дуся Носаль однажды сказала будто бы в шутку: «Если погибну, не грустите обо мне, а пойте песни. Особенно мою любимую: «Дывлюсь я на небо»».
И пока шли до самолетов, мы пели вполголоса эту песню.
Хорошо, что на свете есть песни!..
В двадцатых числах октября волк перебазировался в Пересыпь. Оттуда нам предстояло летать через Керченский пролив в Крым, который находился в руках оккупантов.
Пересыпь — небольшой рыбачий поселок на берегу Азовского моря. Похожие один на другой домики выстроились вдоль дороги, идущей из Темрюка в Тамань. Наша эскадрилья поселилась в самом крайнем, ближайшем к аэродрому. Три комнатки. Две хозяйка с готовностью уступила нам, а в третьей устроилась сама с семьей.
Милая, добрая Домна Илларионовна! Она стала матерью не только для двух своих взрослых дочерей-рыбачек и двух сынишек, но и для нас, летчиц. Ее заботливые, не знающие отдыха руки старались создать нам как можно больше удобств. И всегда незаметно, зачастую украдкой от нас. Придем утром с полетов усталые, с одним-единственным желанием — скорее лечь спать. Глядим в комнатах уже прибрано, в чистых сенцах стоят ведра с водой для умывания, а на большой сковороде аппетитно дымится жареный судак.
— Покушайте, девочки, уж больно хорошую сулу выловили мои рыбачки. Такая жирная!
Хотя мы и позавтракали в своей столовой, но кусочек-другой вкусной азовской рыбы, только что выбранной из сетей, можно съесть. Иной раз и в столовую не идешь, а прямо к «артельной сковороде» Домны Илларионовны.
Как бы рано мы ни вернулись с полетов, двое хозяйских мальчишек всегда встречали нас на пороге. Мы подозревали, что они пересчитывают нас. Удостоверившись, что все вернулись, Андрейка — старший, лет двенадцати, усаживался в уголок и следил за летчицами внимательными, с грустинкой глазами. Может быть, он тоже мечтал стать летчиком, да вот нога… Подорвался на немецкой мине, и у него теперь нет одной ступни.
А шестилетний Витька всегда в это время крутился возле летчиц, жадно слушая рассказы о том, как прошла боевая ночь. Он был в курсе всех событий. Знал, что Иру Себрову подбили недавно над Керчью и она чуть не попала черту в зубы. Что иногда по ночам там, в Крыму, бывает очень жарко (это в конце осени-то!). Что часто над проливом моторы чихают и кашляют. Что нередко кто-нибудь из девушек летит обратно на одном крыле, а один раз Наташа Меклин даже на решете прилетела. Витька знал, что летчицы возят в Крым бомбы и сбрасывают их точнехонько на головы фашистов. Но вот однажды он услышал: «Бросали мешки» — и пристал с расспросами: «Какие мешки? Почему? Кому?» Пришлось объяснять ему. А дело было вот в чем.
Бурной ночью 1 ноября 1943 года наши войска высадились десантом южнее Керчи, в районе поселка Эльтиген. Но обстановка сложилась так, что десант оказался отрезанным от Большой земли. Пробовали снабжать десантников с помощью ИЛов, однако вскоре пришлось от них отказаться: из-за большой скорости штурмовиков грузы часто попадали к противнику. Вот тогда-то и пригодились тихоходные ПО-2.
…Ночь. Темная южная осенняя ночь. Низкая облачность, чуть моросит мелкий дождь. Под крылом самолета бесшумно делают свое дело вооруженцы прикрепляют мешки, которые мы должны отвезти на тот берег, нашим десантникам.
Мой штурман Полина Гельман сидит в кабине молча, задумчиво постукивая пальцами по борту самолета. Ей предстоит сейчас трудная работа: в густом мраке, не видя ни одного хоть сколько-нибудь заметного ориентира, даже не различая, где небо, а где земля, провести самолет над Керченским проливом и вывести на Эльтиген. И там точно сбросить мешки.
— Готово! — сообщают вооруженцы,
Выруливаем на старт. Подходит командир полка и дает последние указания. Взлетаем.
Темно как в преисподней! Будто взяли с десяток ненастных ночей и сгустили их в одну — мрачную до жути.
Летим над проливом. Пилотирую только по приборам: горизонт не просматривается. Море внизу угадывается лишь чутьем. Высота — двести метров, но даже и на такой высоте самолет все время цепляется за нижнюю кромку облачности.
— По моим расчетам через пять минут нужно снижаться, — слышу голос штурмана.
Впереди что-то засветилось. Это наша цель — костер. Он разложен во дворе школы, куда нам нужно сбросить груз. Убираю газ, разворачиваюсь и иду на снижение. Высота — сто метров, семьдесят, пятьдесят… Вдруг откуда-то сзади резанула пулеметная очередь. Пунктир трассирующих пуль прошел над нашими головами.
— Это наземный пулемет стреляет, — бесстрастным голосом сообщает Полина.
Будто мы застрахованы от его пуль! Мельком бросаю взгляд на высотомер. Ого! Стрелка упала ниже пятидесяти метров! Костер под нами. «Нужно сбрасывать груз», — подумала я. Штурманские навыки крепко сидели во мне. Полина, как бы угадывая мои мысли, сбрасывает мешки.
Не успели развернуться, как под крылом снова море. А вот и немецкие катера. Они молчат, не стреляют, словно присматриваются и чего-то ждут. Мы тоже молчим, стрелять-то нам не из чего: на самолете нет никакого вооружения. Расходимся мирно.
Но в следующий полет с катеров уже вели огонь по низко идущим от Эльтигена самолетам. Командованию пришлось выделить несколько экипажей для бомбежки катеров. После этого их активность значительно понизилась.
На другую ночь опять полеты на Эльтиген. Погода улучшилась, даже луна стала временами проглядывать сквозь облака. Я сидела в самолете и ждала, когда подойдут вооруженцы подвешивать груз.
— Аронова, к командиру полка! — услышала вдруг чей-то звонкий голос.
Интересно, зачем я понадобилась Бершанской?
— Вот что, — сказала она, когда я пришла на КП, — тебе сейчас подвесят мешок с почтой. Задача — сбросить его как можно аккуратней во двор школы. Сама знаешь, какой это ценный груз и что он значит для десантников. При полете через пролив будьте осторожны. Смотрите, чтобы почта попала точно по назначению. Вопросы есть?
— Все ясно, товарищ майор!
Легкий мешок подвешен. Выруливаем на старт. Прошу разрешения на взлет.
— Подожди-и, не взлета-ай! — Кто-то несется к самолету. — Не выпускайте их! Вот бандероль, нужно доставить в Эльтиген!
Ну что ж, можно и бандероль прихватить. Я уже начинаю входить в роль почтальона.
Приятно везти почту. Сколько радости доставим мы сейчас десантникам!
Вот и школа. Приглушив мотор, снижаюсь.
— Ну, штурман, покажи свое мастерство, сбрось почту прямо на крыльцо! шучу я.
— Снизься немного, — просит штурман. Для этого пришлось сделать еще один заход.
— Так держи курс! — слышу по переговорному аппарату. — Бросаю!
И в этот момент раздался оглушительный треск. Гирлянда из разноцветных пуль перекинулась дугой над самолетом.
— Фу ты, черт, напугал-то как… — пробормотала я и стала уходить в море.
— Рая, я забыла сбросить бандероль… — сообщает вдруг штурман виноватым голосом.
Еще сюрприз! Но ничего не поделаешь, придется возвращаться. Неприятно, что и говорить. Я уже устала крутиться над пятачком эльтигенской земли, быть мишенью для врага — ведь на такой высоте можно, как говорится, и палкой сбить наш самолет.
Но все обошлось благополучно. Беру курс на Тамань.
— Оглянись-ка назад, — опять говорит штурман. Идущий за нами ПО-2, казалось, попал в густой рой огненных пчел — красных, зеленых, оранжевых. Такой бешеный огонь открыли по нему с немецких катеров. А мы ничем не можем помочь товарищу. Остается, стиснув зубы, идти своим курсом. Но вот и под нами, словно вынырнув из морской пучины, появился катер и резанул пулеметной очередью. От неожиданности я шарахнулась влево, в сторону Керчи. А оттуда прямо в лоб ударил луч прожектора.
На Эльтиген полк летал много ночей. Десантники стали для нас близкими, дорогими людьми. Они знали, конечно, из кого состояли экипажи наших ПО-2. Сверху, с ночного неба, вместе с продуктами и патронами к ним частенько неслись звонкие девичьи голоса.
— Полундра! Бросаю картошку!
— Держись, хлопцы!
— Молодцы, ребята!
Странно, наверное, было слышать закаленным бойцам, героям Эльтигена, эти «небесные» голоса.
Не могу устоять перед искушением, чтобы не привести несколько строк из книги В. Ф. Гладкова «Десант на Эльтиген»:
«…Громкоговорители из вражеских окопов кричали: «Вы обречены на голодную смерть… Вы в блокаде… приходите завтракать… никто вам не поможет».
Нам помогли «ночные ведьмы».
Пусть не рассердятся на меня летчицы из 46-го гвардейского Таманского орденов Красного Знамени и Суворова ночного легкобомбардировочного авиаполка за то, что я вспомнил, как их прозвали фрицы… Немцев они бесили. Для нас, десантников в Эльтигене, они были самыми дорогими родными сестрами. В ноябре они нас спасли от смерти… Мы стали получать с Большой земли, пусть в ограниченном количестве, но все, что нужно: боеприпасы, продукты питания, медикаменты, одежду. Прекрасный пример взаимодействия и взаимовыручки в бою! А то, что рука, оказывавшая помощь, была девичья… ну, каждый фронтовик понимает, что это означало для нас…»
«Девушки-летчицы доставляли нам не только патроны и воблу. Иногда в белый прямоугольник колхозного двора падал с самолета мешок в адрес полевой почты 11316.
Письма… В дни ноябрьской блокады они были для нас дороже хлеба».
«Ночные ведьмы»…
Вот Женя Жигуленко — высокая, светловолосая, с красивыми чертами лица, обладательница приятного голоса и едва заметных веснушек. Или Наташа Меклин, наша полковая поэтесса, тоненькая, похожая благодаря короткой стрижке на мальчика-подростка. Или Таня Макарова, певунья и балагурка, любившая дополнять свой строгий военный костюм какой-нибудь чисто женской деталью либо маленькой брошью, бог знает где добытой, либо живым цветком в петлице, либо лентой в волосах.
Нет, наши девушки, какую ни возьми, не были похожи на ведьм. Тем приятнее знать, что фашисты так окрестили нас. Значит, здорово мы им насолили!
Позже, когда почти весь Крым был освобожден, у меня произошла одна довольно интересная встреча. Я ехала на попутном грузовике в штаб дивизии. По дороге подсел плечистый старшина со свежим шрамом на щеке. Посмотрев на мои авиационные погоны, спросил:
— А вы случайно не из того женского полка, который летал в Эльтиген?
— Из того самого.
— А вы случайно не та летчица, которая тюкнула моего дружка мешком с сухарями и так его напугала, что он долго потом заикался?
Я поняла, что передо мной бывалый солдат с Малой земли. Разговорились. Он рассказал мне, с каким нетерпением и надеждой ждали они каждую ночь наши самолеты, с какой любовью говорили о нас десантники.
— Небось страшно было летать? У нас хлопцы между собой так рассуждали: мы, мол, хоть на Малой, но все-таки на земле, где чувствуешь локоть товарища, где можно укрыться от обстрела за высотку, спрятаться в траншею. А вот она, бедняжка, болтается одна в небе у всех на виду, и все, кому не лень, в нее стреляют. А куда она спрячется? За фанеру, что ли?
Машина остановилась. Моему попутчику нужно было сходить. Он с чувством пожал мне руку и попросил передать «огромаднейшую благодарность» всем летчицам женского полка.
— А от кого?
Но грузовик рванул вперед, и я не расслышала фамилии.
Однажды Андрейка и Витька, «принимая» нас после полетов, пришли в смятение — не хватало одной летчицы, Ани Дудиной. Витька осторожно, но с явной тревогой спрашивает:
— А где Анка?
— Она, Витя, на Чушке сидит, — говорит Ира Себрова, — у нее над проливом отвалилась половина мотора и упала в море. Еле дотянула до берега.
Витька поражен. Вот это здорово! Отвалилась половина мотора — и все-таки села! Сегодня для него герой дня, конечно, Аня Дудина.
Когда Дудина вернулась, Витька обнаружил, что у нее поседели три маленьких волоска на щеке, на родинке.
— Анка! — воскликнул он. — Ты же седая стала!
— Хорошо, Витька, что только этим отделалась. А на другое утро не пришла вместе со всеми с аэродрома Ира Себрова. Мы не знали еще, почему она не вернулась с задания, и на сердце лежал тяжелый камень. Витька по нашим лицам сразу заподозрил несчастье. С кем?
Этот немой вопрос мы с болью читали в его взгляде.
— Не смотри, Витя, на меня такими глазами, — едва сдерживая слезы, проговорила наконец Наташа Меклин, близкая подруга Себровой. — Ира не вернулась с задания…
Мальчишка сник, опустил голову и тихо отошел. Забившись в темный угол за плитой, долго не вылезал оттуда.
Мы молча разделись и легли спать.
Внезапно я проснулась от неистового крика Витьки:
— Ира пришла!! Ира пришла!!
Приоткрыв дверь, я увидела в комнате хозяйки живую, невредимую Иру. На шее у нее висел Витька.
— Тише ты, Витька, девчат разбудишь, — успокаивала его Ира.
— Он уже разбудил нас!
Все повскакали с коек и бросились к Себровой.
— Что там у тебя случилось, рассказывай! Опять подбили?
— Ой, дайте отдышаться! — опускаясь на стул, проговорила Ира. — Пить хочется.
Витька пулей выскочил в сенцы и принес большую кружку студеной воды. Все молча смотрели, как Ира жадно пила воду. Потом она сняла шлем, расстегнула широкий кожаный ремень, на котором висел пистолет, и осторожно передала все это в Витькины руки. Тот со счастливой улыбкой обхватил такие драгоценные для каждого мальчишки вещи и уселся возле Иры прямо на пол.
— У нас отказал мотор. Его нам попортили при обстреле над целью, начала рассказывать Себрова. — В общем, мы еле перетянули линию фронта, сели на передовой. Когда я утром посмотрела, где мы сели, у меня шлем на голове поднялся. Кругом воронки, надолбы, траншеи. А совсем рядом подбитый немецкий танк.
— Ты залезала в него? — Витька вскидывает глаза на Иру.
— Нет, только заглянула мельком внутрь… Уму непостижимо, как Ира упустила такую возможность! Вот бы ему, Витьке…
— А как ты через пролив переправлялась? — опять Витькин вопрос.
— На катере. Везли раненых пехотинцев, ну и нас прихватили. Но едва катер отплыл от берега, как налетели два «мессера» и начали обстреливать…
— Страшно было? — Серые Витькины глаза становятся круглыми, большими.
— А как ты думаешь? Конечно.
Витька знает по своему опыту, что это очень страшно. Когда немцы наступали здесь, он вместе со всей семьей сидел в небольшой щели, вырытой на огороде, и с ужасом слушал, как бахали орудия, визжали мины, ухали бомбы. А когда немецкий самолет пролетал низко-низко и стрелял по дороге, по домам и огородам, Витька прятал голову у матери на коленях, внутри у него все дрожало и холодело от ужаса. Мать тихо гладила его по голове и шептала: «Не бойся, сынку, не бойся… Он сейчас улетит…»
Осень на Таманском полуострове — хуже не придумать. Дожди, ветры, туманы. А настроение у летчиц обычно было по погоде. Небо чистое — на душе светло. Погода плохая — и настроение паршивое.
Теперь все чаще приходилось возвращаться с аэродрома, сделав за ночь всего лишь по одному вылету, а то и вообще попусту просидев в кабине самолета в ожидании малейшего просвета.
Как-то после одной из таких неудачных ночей в минорном настроении я пошла побродить по берегу. Морской простор, мерный шум прибоя действовали на мои нервы как бальзам.
Иду. Не спеша отмеряю шаг за шагом. Шуршит песок под сапогами. Пролетела чайка. Накануне море сильно волновалось и выбросило на берег много всякой всячины: обломки досок, какое-то тряпье, морскую траву. Но… что это? Нога?! Да, женская нога, оторванная чуть выше колена. Я отпрянула. Мне еще ни разу не приходилось видеть валяющиеся вот так отдельные части человеческого тела. Потом подошла поближе. Задумалась. Кто же была та женщина? При каких трагических обстоятельствах потеряла ногу? Жива ли, или ее тело море тоже выбросило где-нибудь на берег?
Война… Проклятая война!.. Сколько она унесла человеческих жизней и сколько еще возьмет? Я чувствовала, как во мне закипала злоба. Злоба на тех, по чьей вине работает адская машина, перемалывая тысячи человеческих жизней, до чьей вине нашу землю рвут снаряды и бомбы, по чьей вине потерял ногу Андрейка.
Моего минорного настроения как не бывало. Я уже знала, что сегодняшней ночью буду летать напористо, со злостью.
В ту ночь я летала с Лидой Целовальниковой. Это моя землячка, из Саратова. Миниатюрная девушка, со звонким голосом и красивыми губами. Вначале она была старшиной эскадрильи, потом переучилась на штурмана.
У нас в полку была своя «академия». Некоторые техники и вооруженцы переучивались на штурманов, штурманы — на летчиков. Учиться всегда нужно, тем более на войне.
По ту сторону Керченского пролива наши войска удерживали в то время лишь небольшой плацдарм. Там, недалеко от поселка Жуковка, была площадка, элементарно оборудованная на случай вынужденных посадок наших самолетов. Однако находиться на ней было далеко не безопасно: противник беспощадно долбил этот клочок земли.
В полночь мы с Лидой взлетели в третий раз на задание.
— Рая, ты что-то низковато сегодня летаешь, — сказала штурман, когда мы перелетели пролив.
— А зачем высоко забираться? Там холоднее.
Я держала малую высоту, конечно, не потому, что внизу было теплее. Просто мотор не вытягивал. Шут его знает, что с ним случилось! На земле ревел, как зверь, а в воздухе не тянул. Но поскольку у меня было злое настроение, то я летала и никому на мотор не жаловалась.
Вот и цель. Мы бросаем бомбы, немцы стреляют. Такой «обмен» в порядке вещей. Только вот мотор начал барахлить, чихать, будто дым от снарядов защекотал в его цилиндрах.
«Трах-тах-тах!»
У меня заныло под ложечкой. «Ну, потяни еще немного, — умоляла я. Хоть через линию фронта перетяни!»
Больше самой смерти нас всегда страшила вероятность попасть живьем в руки фашистов. Плен? Нет, лучше воспользоваться пистолетом! Но ведь может случиться и так, что не сможешь или не успеешь… Поэтому: «Тяни, тяни, родной… Хоть на одном цилиндре, хоть на последней капле бензина!» Я мечусь в кабине, хватаюсь за разные секторы, краники.
— Перетянем? — спрашивает штурман.
— Трудно сказать…
За нами, как хвост кометы, несется огненный росчерк — из патрубков снопом летят искры. Мотор бьется, точно в агонии.
Перетянули! Теперь бы до запасной площадки… Но мне даже неудобно просить мотор об этом. Получается, как в сказке о рыбаке и рыбке.
И мотор и мы идем на последнем дыхании.
— Лида, дай ракету, пусть нам подсветят с запасной площадки, — прошу штурмана.
В ответ на наш сигнал «Иду на вынужденную» впереди еле заметно загорелись два огонька. Туда! Во что бы то ни стало спасти машину!
Я знала, что заход на этот, с позволения сказать, аэродром нужно делать с курсом 270 градусов, и только 270. «Значит, придется садиться с попутным ветром. Сегодня дым от разрывов бомб тянулся строго на запад», — мелькает в голове.
Идем на посадку. Убираю остатки газа. Самолет опускается ниже гор. Ух, темнотища какая! И тут вижу, что мы промазываем: заветные огоньки промелькнули под левой плоскостью, а земли еще нет. Сильный попутный ветер. Нужно уходить на второй круг. Но понимает ли эту необходимость мотор? Осторожно даю газ. Выхлопы из патрубков, как выстрелы. Сердце замирает от страха. Мы несемся прямо в лоб огромной черной глыбе — горе…
Едва не касаясь крылом и колесами земли, все-таки сделали еще один заход. И все-таки сели.
Утром чуть свет штурман уехала в полк, а я осталась ждать, когда отремонтируют мотор. Во второй половине дня уже можно было лететь домой. Признаться, меня это очень озадачило: ведь днем-то через пролив нужно идти на бреющем, а я боялась воды. Не могу объяснить почему, но полеты над водой были для меня страшнее зенитного огня. У каждого свои слабости, своя ахиллесова пята! Одна наша храбрая летчица, например, каждый раз теряла сознание от уколов, другие боялись пауков, третьи — мышей.
Кстати сказать, в Пересыпи было очень много мышей, и нам приходилось вести с ними настоящую войну, так как они портили самолеты: прогрызали перкаль, грызли деревянные части и даже электропровода. Залезали они и в наше меховое летное обмундирование. Наденешь комбинезон, и вдруг в рукаве или где-то у пояса начинает что-то шевелиться. Пронзительный вскрик на самой высокой ноте. Подруги спешат на помощь. Серенькая полевая мышь, испуганная не меньше хозяйки комбинезона, опрометью бросается наутек.
Не смогла я заставить себя приблизиться к воде меньше чем на двести метров. И только над косой Чушкой снизилась до бреющего. Иду и удивляюсь: почему меня не сбили? Ведь надо мной пролетали немецкие истребители, для которых ПО-2 — заманчивая мишень.
Впрочем, не всегда охота за беззащитным ПО-2 кончалась для немцев удачно. Рассказывали, что однажды, когда связной самолет пересекал пролив, на него напал «мессер». Немецкий летчик не сразу открыл огонь по своей жертве — захотел сначала поглумиться над ней. Сдвинул фонарь и на общепонятном языке жестов спросил у пилота ПО-2: сколько дать по нему очередей — одну, две? Наш летчик предложил третий вариант — выстрелил из пистолета в немца, когда тот на большой скорости проносился мимо. Вражеский самолет клюнул носом и рухнул вниз. Море в одно мгновенье поглотило самоуверенного аса.
Иногда на Пересыпь обрушивались шквальные ветры. Скорость ветра доходила до ста километров в час. Тогда в полку объявлялась штормовая тревога, и все бежали на аэродром крепить машины. Ветер валил с ног, яростно швырял в лицо колючий песок, обрывал веревки, которыми привязывали плоскости к ввинченным в землю огромным штопорам.
Однажды такой шквал налетел во время боевой работы. Мы со штурманом еще в Крыму почувствовали, что в воздухе происходит что-то неладное: нас сильно понесло к Азовскому морю. Пришлось взять угол упреждения? градусов сорок пять. Когда же пришли домой, то увидели, что старт изменен и заходить на посадку следует поперек площадки, со стороны Азовского моря, — случай совершенно небывалый.
Захожу на посадку. Но чем ниже мы спускаемся, тем заметнее нас сносит в море. И вот, когда после четвертого разворота я по привычке убрала газ, мы со штурманом с ужасом обнаружили, что самолет не приближается к старту, а наоборот, удаляется от него. Нас несло в открытое море. Скорость ветра была больше скорости самолета!
Даю полный газ, ручку управления со всей силой отжимаю от себя. Самолет дрожит от напряжения, но сто двадцать лошадиных сил никак не могут побороть чудовищную силу ветра. Висим над морем. Взмокли лоб и спина, онемели от усталости руки и ноги. Нам казалось, что мы провисели над водой всю ночь. Наконец замечаем, что огни старта начинают приближаться…
Едва коснулись земной тверди, как тут же крепкие руки девушек-техников и вооруженцев ухватили наш самолет, чтобы не дать ему перевернуться; на земле бушевал настоящий ураган.
Часто на Таманский полуостров наползала седые, коварные туманы. Причем они ползли иногда вопреки всем предсказаниям метеослужбы.
А метеослужба в БАО была представлена молодым курносым пареньком, который на удивленье рьяно относился к своим обязанностям. Летчицы прозвали его «окклюзией»: он слишком часто употреблял это слово.
Обычно бывало так: вечером на аэродроме после постановки экипажам задачи метеоролог коротко сообщал прогноз погоды на ночь. Откровенно говоря, мы не очень-то верили этим прогнозам. «Полетим — увидим», — думали про себя.
В одну из ночей экипажи, возвращавшиеся с задания, начали докладывать, что с юга надвигается туман. Метеоролог с жаром доказывал, что этого не может быть.
Прилетел еще один экипаж — Зои Парфеновой.
— Товарищ майор, — докладывает она Бершанской, — с юга идет туман.
— Откуда он взялся? — воскликнул метеоролог. — У меня все данные нанесены на карте. Смотрите, вот теплый фронт, вот холодный, а там проходит фронт окклюзии…
— Товарищ майор, разрешите, я слетаю с ним. Пусть сам увидит, где окклюзия, — сказала Парфенова.
— Ну что ж, вези его, покажи, где ты там нашла туман. Прекратить на время выпуск самолетов?
Парфенова пригласила паренька занять вторую кабину и взлетела.
Вернулась она только утром, когда взошло солнце.
Как потом мы узнали от Парфеновой, она сначала полетела на юг. Там действительно был туман. Затем по просьбе пассажира повернула к Керченскому проливу — посмотреть, какая там погода. Тоже туман. Когда же вернулась домой, то и аэродрома уже не было видно.
— Где теперь садиться? — обратилась летчица к обескураженному пассажиру.
Тот только руками развел.
Километрах в пятнадцати от аэродрома находилась небольшая «лысинка» приподнятая местность, пока еще не закрытая туманом. Там и приземлилась Зоя Парфенова со своим примолкшим пассажиром, немало пережившим во время опасного ночного вояжа.
Больше метеоролог никогда с нами не спорил.
Как-то утром штаб дивизии приказал в срочном порядке выделить несколько экипажей для выполнения спецзадания: прошедшей ночью разыгрался сильный шторм, и два наших десантных катера, у которых вышло из строя управление, унесло в открытое море. Нужно было их найти.
Участок вероятного дрейфа катеров был разбит на секторы. Каждому экипажу — свой. Нужно было пройти «змейкой» на малой высоте и обшарить весь сектор.
Вскоре мы с Полиной были у своего самолета. Погода отвратительная: низкая облачность, плохая видимость. Воздух насыщен мельчайшей водяной пылью, которая мешала смотреть, дышать, забиралась под меховой комбинезон, пронизывала все тело. Собственно, именно потому, что видимость была плохой, и поставили эту задачу нам, авиации, так как посылать для розыска корабль при такой погоде не было никакого смысла.
Взлетели. Дошли до своего сектора. Беру курс «М» и веду самолет в открытое море. Прошло минут пять. Оглянулась назад — берега не видно. Кругом серая, гнетущая муть, а под нами рябая поверхность моря.
Когда под крылом самолета летчик видит горы, лес, воду, то есть местность, совершенно непригодную на случай вынужденной посадки, он начинает с напряжением прислушиваться к работе мотора. И нередко в такие минуты ему кажется, что мотор барахлит, — ухо улавливает какие-то посторонние шумы, нечеткий ритм, постукивание. Я чутко вслушивалась в гул мотора. Ничего подозрительного — работает ровно, мягко. Это немного подбодрило меня, и я стала внимательно рассматривать поверхность моря. Пустынно вокруг. Ни одной темной точки, которую можно было бы принять за судно.
— Пора разворачиваться, — говорит штурман.
С удовольствием меняю курс, иду к далекому, родному берегу.
Стараясь обнаружить в море какой-нибудь подозрительный предмет, мы с Полиной проглядели все глаза, но, кроме белесых гребешков волн, ничего не видели.
Вот и берег. Нужно разворачиваться и опять уходить в море. Глубоко вздохнув, будто перед прыжком в воду, опять беру курс на север.
Уже около трех часов рыскаем мы туда-сюда, но все безрезультатно. Настроение у меня было неважное: к не покидавшему ни на минуту чувству страха перед водой прибавилась досада из-за безуспешности поиска. Правда, кроме нас, в розыске участвуют еще шесть экипажей, но очень хотелось самой по возвращении доложить: «Судно обнаружено в квадрате таком-то».
— Прошло десять минут, кругом по-прежнему пусто, — докладывает штурман.
В этот момент я бросила взгляд на манометр масла и похолодела: стрелка стояла на нуле. Давно ли она так стоит и как шла к нулю — резко или плавно, — я не знала, так как сегодня почему-то мало обращала внимание на этот прибор. В голове пронеслась мысль: либо вышел из строя манометр, либо испортилась маслосистема, В последнем случае с минуты на минуту нужно было ожидать, что мотор заклинит, и тогда… тогда мы пойдем на дно к рыбам.
Круто разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов.
— Случилось что-нибудь? — спрашивает Полина.
— Давление масла на нуле.
Она молчит: знает, чем это грозит.
Если бы можно было сейчас подключить наши сердца к маслосистеме мотора, то давление там поднялось бы гораздо выше нормы. Но увы! Сердца учащенно бьются, кровь стучит в висках, а стрелка манометра все равно на нуле.
Штурман продолжает обшаривать глазами поверхность моря. Я тоже умоляю судьбу свести нас с затерявшимся катером, ведь теперь он нам, пожалуй, нужнее, чем мы ему: если упадем в море, у нас будут хоть какие-то шансы на спасение — все-таки рядом люди.
Летчики иногда говорят: «Долетел на самолюбии». На чем мы долетели тогда, трудно сказать, только после у меня несколько дней болели челюсти, до того крепко сжимала зубы.
Прямо с ходу посадила самолет, зарулила на стоянку, выключила мотор да так и осталась сидеть, уставившись злым взглядом на манометр.
— У вас приборы все в порядке? — услышала тоненький голосок Верочки Бондаренко, мастера по приборам.
Более неподходящего момента она не могла выбрать для такого вопроса! Но даже и сейчас я не смогла бы обидеть ее каким-нибудь резким словом — уж такая она была, ваша Верочка!
Бондаренко сильно напоминала мне артистку Янину Жеймо. Маленькая, с круглым миловидным лицом, открытым взглядом больших серых глаз, глядевших немного удивленно, она была порой похожа на ребенка. В полку все любили ее. Но, конечно, не за красивые глаза, а за золотые руки. Она отлично знала свое дело, работала без устали и без отказа. Иной раз придешь с задания с взбудораженными нервами, с пробоинами в самолете, кричишь и на техников, почему не заправляют горючим, и на вооруженцев, почему так долго не подвешивают бомбы, а как только услышишь звонкий, голосок Верочки: «У вас с приборами все в порядке?» — сразу смягчаешься и уже безо всякого раздражения, весело отвечаешь: «Все нормально, Верочка!
На этот раз я не могла ей так ответить.
— Верочка, сними манометр и швырни его подальше… в море. Из-за него я, наверное, седая стала.
В редкие минуты раздумья, вспоминая довоенное прошлое, заглядывая в будущее и сравнивая то и другое с настоящим, я ловила себя иногда на мысли о том, что сейчас, пожалуй, переживаю самую лучшую пору своей жизни. Мысль на первый взгляд нелепая, абсурдная. Как? Ведь война приносит людям бедствия, великое горе, смерть, а мне, выходит, она дарит лучшие годы? Все это так — и не так.
Мое сердце не каменное, оно сжималось при виде руин и пожарищ, свежих холмиков у дороги, при звуках прощальных залпов над могилами подруг. Оно горело ненавистью, когда я узнавала о злодеяниях врага, об ужасах жизни в фашистской неволе. И в то же время во мне жила постоянная, глубокая радость. Радость оттого, что участвую в борьбе, что нахожусь на переднем крае этой борьбы и, главное, что у меня нашлись силы и способности для этой борьбы. Было радостно сознавать, что могу сдавать экзамены не только в институте, но и здесь, на фронте. Ведь каждый полет являлся не только маленьким вкладом в общее дело, но и большой личной победой. Либо в коротком, но жестоком единоборстве с вражескими зенитчиками, либо в борьбе со стихийными силами природы, либо это победа над своими слабостями. Случалось, демон-искуситель шептал на ухо: «Видишь, там, впереди, самолет погибает в зенитном огне. Через несколько минут то же будет с тобой. Куда же ты лезешь на верную смерть?» Как было не радоваться потом, что в такие минуты голос совести и долга оказывался сильнее этого шепота!
Победы всегда приносят человеку счастье и радость. И чем труднее они достаются, тем полнее потом радость. А на войне победы даются нелегко!
8 апреля, накануне наступления нашей Отдельной Приморской армии в Крыму, полк получил задачу: бомбить войска и технику противника на дороге Керчь — Багерово.
— Сегодня посмотрим «Керчь на экране», — проговорила с серьезным видом мой штурман Полина Гельман, когда мы шли от КП к самолету. — Зениток и прожекторов в этом районе, ой, как много!
«Керчь на экране» — так летчицы стали называть полеты на Керчь после того, как просмотрели фильм «Концерт на экране» (передвижная кинобудка как-то заехала в наш полк и прокрутила эту картину).
За первые два полета мы досыта насмотрелись на «экран». Сейчас наш самолет снаряжали для следующего вылета. Полина пошла докладывать, а я сидела в кабине и, стараясь отвлечься от волнений, только что пережитых над целью, напевала потихоньку: «Дывлюсь я на небо та и думку гадаю…»
Подошла штурман полка Женя Руднева.
— Как сегодня над целью? Какой ветер?
— Сносит влево, зенитки бьют вверх, а прожекторы мечутся во все стороны, — ответила ей в шутку.
— Ясно. Сейчас полечу проверю, насколько точна твоя информация. — И Женя улыбнулась своей обычной милой и спокойной улыбкой.
— С кем ты летишь?
— С Пашей Прокопьевой.
— Смотри, будь внимательнее. Она молодая летчица, а сегодня обстановка очень сложная.
Руднева вылетела перед нами за три минуты.
Бывшая студентка механико-математическою факультета МГУ, Женя вначале летала рядовым штурманом, потом ее назначили штурманом эскадрильи, и вот уже около года она штурман полка. Не хотела — приказали. Но в боевой работе она не отставала от рядовых штурманов и почти каждую ночь летала на задания.
Рудневу любили в полку. Большая умница, с мягким, уравновешенным характером, всегда спокойная, приветливая. Ее внешность как бы дополняла характер: мягкие, светлые волосы, большие голубые глаза, оттененные густыми, длинными ресницами, нежное, белое лицо с легким румянцем. Походка несколько неподходящая для военной формы, которая сидела на ней мешковато. Эта девушка никак не вписывалась в суровый пейзаж войны. Ее мечтательный взгляд часто был обращен к звездам: она любила астрономию. Женя знала наизусть много сказок, стихов, мастерски читала Горького.
«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни…» — с каким восторгом слушали мы ее!
…Наш самолет подходил к цели. Там по кому-то стреляли из эрликонов: самолет серебристой птичкой бился в луче прожектора. И вдруг вместо самолета появился огненный шар. В первое мгновение мы не разобрали, что произошло. Но когда от пылающего шара начали разлетаться в стороны разноцветные ракеты, все стало ясно.
— Самолет горит! На борту рвутся ракеты! — в волнении закричала я Полине.
— Наш… Неужели Женя?!
Горящий самолет быстро падал. Еще секунда, другая, потом взрыв на земле — и все погасло.
Весть о гибели Жени Рудневой потрясла весь полк. Не верилось, что среди нас нет больше этой нежной голубоглазой девушки, нашего милого философа и мечтателя.
Незадолго до гибели Женя записала в дневнике:
«А ведь жить так хочется, родная,
и в огне так хочется любить!»
Близкие подруги Жени знали, что недавно к ней пришла настоящая, большая любовь. Сквозь строки ее дневника проступало обаяние первого девичьего чувства.
«До ужина прочла всего «Демона», — писала она. — На душе было грустно и тепло… «И будешь ты царицей мира»… Зачем мне целый мир, о дьявол? Мне нужен один человек, но чтобы он был «самый мой». Тогда и мир будет наш.
Два дня назад Женя читала нам на старте отрывки из «Витязя в тигровой шкуре». И теперь, когда ее не стало, особый смысл приобрели для нас слова Руставели: «Надо жить во имя жизни, за живущих жизнь отдать!»
Женя отдала свою жизнь за живущих. Но она не умерла. Герой Советского Союза Евгения Руднева живет второй, бессмертной жизнью.
Живая сила и техника всей крымской группировки фашистов скопилась в районе Севастополя. Немцы понимали, что у них нет надежды закрепиться на крымской земле, и начали массовую эвакуацию по морю и по воздуху. Наша авиация днем и ночью била по аэродромам и причалам противника, не давая ему уйти безнаказанно из Крыма.
Женский полк принимал активное участие в этом завершающем ударе. Переняв опыт у летчиков-ночников 2-й гвардейской Сталинградской дивизии, в состав которой мы тогда временно входили, девушки начали брать увеличенную бомбовую нагружу — по триста и даже четыреста килограммов.
Мотор на нашем самолете просился в капитальный ремонт, но не время было сидеть в мастерских: в эти напряженные дни каждый самолет был на учете. Не желая отставать от подруг, мы со штурманом попросили и нам подвесить триста килограммов.
— Смотрите, надорветесь, — предупредила старший техник эскадрильи Таня Алексеева, — мотор у вас слабый.
Мы и сами знали, что слабый, но нельзя же плестись в хвосте!
Взлетели как будто нормально. Хуже дело пошло с набором высоты. Вот уже недалеко горы, а мы набрали всего пятьсот метров. На такой высоте через них не перепрыгнешь!
— Твое решение, штурман, — предлагаю высказаться Полине.
— Попробуем покрутиться перед горами, может и наскребем еще немного.
Мотор пыхтит, надрывается. Бедняга! Извини, что на старости лет заставляем тебя выполнять непосильную работу. Ничего не поделаешь — война.
Как ни крутились, высоты почти не прибавилось. Наша цепь — Балаклава лежит по ту сторону Крымских гор. В этом месте они не высокие, но для нас сейчас неприступны.
— Вот положеньице, — ворчу я, — и на цель не пройти и назад нельзя: с таким грузом садиться рискованно.
Полина вдруг вспомнила: вчера, возвращаясь домой уже на рассвете и боясь быть замеченными на фоне светлеющего неба, мы летели не напрямую через горы, — а, снизившись, свернули немного в сторону, к глубокой седловине. Что, если найти ее сейчас и прошмыгнуть по ней?
То, что легко удалось утром, оказалось очень трудным ночью. Еле-еле нашли эту седловину и, вспомнив всех святых, начали опасный перевал…
Когда горы остались позади, а перед нами открылась широкая панорама морского берега и обычная в районе цели картина — «березовая роща» из прожекторов, зенитный огонь, — мы так обрадовались, словно прилетели к тете в гости, а не на занятую врагом Балаклаву. Мы оказались, конечно, ниже всех наших самолетов. Кто-то сверху сбросил САБ, и он загорелся прямо над нами. Снизу открыли сильный огонь — немцы не жалели теперь снарядов: не с собой же их увозить! Но мы все-таки добрались до своей цели и сбросили на вражеский аэродром все триста килограммов бомб. Кажется, вместе с нами и самолет сказал: «Ух!» — и сразу полез вверх.
— Ну как? — с тревогой спросили Таня Алексеева и техник нашего самолета Катя Бройко, когда мы наконец вернулись с задания.
— Двести, — говорю.
— Что «двести»?
— Двести килограммов можно вешать. Больше нельзя.
В последние, решающие дни боев за Севастополь крымское небо было до предела забито самолетами. Советская авиация, безраздельно господствовавшая в воздухе, висела над противником днем и ночью. В это время впервые вошли в практику массированные ночные удары. Вверху, на высоте 3–4 тысяч метров, тяжелые бомбардировщики, а внизу — мы, легкие, тихоходные ПО-2. Поскольку насыщенность ночного неба самолетами была очень большой, то во избежание столкновений, мы зачастую ходили с огнями АНО, выключая их только в районе цели. А кое-кто мигал огнями даже над целью.
Противовоздушная оборона противника была настолько сильной, что наши летчицы с полным основанием говорили: «Севастополь — это Керчь в квадрате». Ничего подобного ни до ни после Севастополя я не видела. И только приходится удивляться, как наш полк в этот период не понес ни одной потери. Очевидно, «Голубая линия» и Керчь научили нас многому.
Наступило 9 мая, день, когда в Севастополе не осталось ни одного вражеского солдата. Город-герой взметнул в небо победный салют.
Ровно месяц прошел с того момента, как мы впервые ступили на крымскую землю. И вот уже расстаемся с ней. Мы неплохо здесь воевали. Об этом говорил боевой орден на гвардейском знамени полка.
Огромные лесные массивы, болота. Похожие одна на другую деревеньки. Белоруссия.
Мы принялись за изучение района. С жильем было очень туго — на весь полк только одна землянка. Но погода стояла теплая, и наша эскадрилья с удовольствием разместилась в лесу в шалашах. Пользуясь отсутствием строгого надзора полкового начальства, мы ходили в трусиках. Загорели до черноты. По вечерам разводили дымные костры, спасаясь от злющих комаров. Называли себя индейцами, а шалаши — вигвамами.
И вот первое боевое задание. Летчицы и штурманы тесным кругом сидят на полянке около командира полка. Приготовились отметить на карте точку, куда нужно сбрасывать бомбы.
— Сегодня мы будем шуметь, — начала майор Бершанская.
Наши головы разом поднялись от планшетов. Бершанская улыбнулась.
— Да, шуметь в самом прямом смысле слова. Ночью наши танковые части будут подтягиваться к переднему краю для решительного наступления. Гулом своих моторов мы должны заглушить грохот двигающихся танков. Противник не должен знать о готовящемся прорыве.
Всю ночь наши самолеты жужжали над передним краем. Во время заправки горючим летчицы весело перебрасывались короткими фразами.
— Как дела? — кричит с соседнего самолета Ира Себрова.
— Шумим, братец, шумим! — отвечаю ей. Утром позвонили к нам в штаб:
— Здорово, гвардейцы, шумели! Наши танки свалились на фашистов, как снег на голову!
Белорусская земля не баловала нас хорошими аэродромами. Кстати, мы никогда и не стояли на стационарных аэродромах, а всегда летали с естественных площадок, которые находили сами и приспосабливали для работы. Не все сходило гладко. Под Новоельней мы, как говорится, влипли на наспех выбранной площадке. Песок. Взлетать с бомбами невозможно. А задание выполнять надо! Тем не менее вышли из положения: несколько человек держала самолет за плоскости, летчица давала полный газ. Мотор ревел, набирая мощность. Команда: «Пошел!» — все отбегали, самолет рвался с места и, взметнув позади себя клубы песка, взлетал.
Здесь, в Белоруссии, в полку возникла хорошая традиция: перед началом особо трудной боевой ночи на старт выносили наше гвардейское знамя. Освобожденное от чехла, оно тихо шелестело на легком ветерке около командного столика. Придешь с докладом, посмотришь на него, и на душе становится спокойно и тепло. А потом в полете перед глазами блестят золотые буквы на красном шелке: «46-й гвардейский…»
И еще одна хорошая традиция зародилась у нас в те дни. Если не было боевой работы, то на вечернем построении мы всем полком исполняли Гимн Советского Союза. Голоса у девчат были хорошие, и гимн звучал мощно и красиво. Обычно это происходило на открытом воздухе, и местные жители толпой стояли в сторонке и с удовольствием слушали нас. «Славься, Отечество наше свободное!» — далеко летело над полями плесами Белоруссии.
Началось стремительное наступление наших войск. Мы перелетели на площадку, которая находилась всего в шести километрах от линии фронта. Так близко к передовой полк еще никогда не стоял. Это было сделано в расчете на дальнейшее отступление немцев.
Перебазирование не обошлось без происшествий. Некоторые самолеты попались на глаза немецким истребителям и прилетели с пробоинами. Особенно сильно пострадала машина Клавы Серебряковой, и ее штурман Лида Демешова была серьезно ранена в руку.
Едва мы успели разгрузиться, как послышалась ежевечерняя команда:
— Боевые экипажи, за получением задачи! Ставя задачу, майор Бершанская обратила наше внимание на изменение места и режима работы наших приводных маяков.
— Ближайший к нам маяк, — сказала она, — в восьми километрах строго на север. Через каждые пять минут он будет делать лучом три оборота и затем три покачивания на запад. Прошу также учесть, что ввиду близости линия фронта светомаскировка на старте будет особо тщательной. Другие полки дивизии находятся…
Минут через двадцать мы с Полиной Гельман взлетали. Ночь темная, видимость никудышная. На цель все же вышли хорошо. Отбомбились, пошли домой. Но прямо с маршрута выйти на аэродром не удалось.
Вдали заработал световой маяк.
— Давай к нему, а оттуда уже домой, — предложила Полина.
— Пожалуй, — согласилась я, — нам ведь не так часто приходится пользоваться услугами светомаяков. Подошли. Взяли курс на юг.
— Через пять минут будем на аэродроме, — уверенно проговорила Полина.
Пять минут прошли, но, как ни таращили мы глаза, никаких признаков аэродрома под нами не было. Что за оказия? Подошли еще раз к маяку, опять взяли южный курс. Ни одного огонька!
— Вот как замаскировались, что и свои не найдут, — говорю штурману. Вдруг слышу:
— Смотри, вон стартовые огни!
— Что-то не похожи на наши, — усомнилась я.
— Значит, это «братский» аэродром. Пойдем туда. Сколько можно кружиться?
— Не возражаю.
Сели. Это действительно был бочаровский аэродром. И там уже находились три наших экипажа: тоже не нашли свой дом.
— Слава богу, хоть не мы одни заблудились, — шепнула мне Поля.
Нам подвесили бомбы, и мы опять полетели на задание. Но в ту ночь нас словно заколдовали. При возвращении от цели повторилась та же история, что и в первый вылет: опять несколько раз начинали «танцевать» от маяка, но все напрасно — наш аэродром как сквозь землю провалился!
— Что за чертовщина! — выругалась я. — Где же нам садиться?
— Не пойму что-то… Ведь от маяка до аэродрома рукой подать, — в растерянности бормотала штурман.
Мы до того закружились, что, откровенно говоря, я стала сомневаться, на своей ли территории находимся.
Но вот впереди слева обозначились три огонька. Они были точь-в-точь такими, как у «братиков». Не раздумывая, я направилась к ним. Мне было больше невмоготу вертеться в заколдованном круге.
Штурман молчала. Очевидно, она была согласна с моим решением.
Сели. Зарулили. Мне даже не хотелось вылезать из кабины и идти на КП с докладом. Неприятно все-таки признаваться в том, что опять не нашли свой старт.
К самолету подошел мужчина и молча влез на трап, намереваясь, очевидно, что-то спросить у меня.
— А мы опять к вам! — улыбаясь, проговорила я бодрым голосом.
— Райка, — дернув меня за рукав, в испуге зашептала Полина, — Разве ты не поняла, что мы не у бочаровцев?
— То есть как это «опять к вам»? — с удивлением спросил мужчина. — К нам сегодня никто не прилетал из женского полка. Так, так… «А мы опять к вам!»… Ясно! Значит, вы где-то уже побывали в гостях? Значит, вы уже долго блуждаете по ночному небу?
— Дядечка, — стараясь все обернуть в шутку, умоляющим голосом заговорила я, — дайте нам немного бензина, и теперь мы определенно долетим до своего дома!
— Ну, нет! Я вас не выпущу. «Ах, попалась, птичка, стой!» — И уже сердито добавил: — Чего доброго, вы еще к немцам по ошибке сядете и тоже скажете: «А мы опять к вам!» Нет уж, сидите до рассвета, а я позвоню сейчас Бершанской, чтобы не волновалась. Утром, при ясном солнышке, перелетите к своим.
Так и не выпустил.
Мы с Полиной были в крайнем недоумении: почему никак не могли выйти к своему аэродрому от светового маяка?
Наше недоумение рассеялось, когда прилетели утром домой. Оказывается, нам в полк передали неправильные координаты маяка, они расходились с действительными на шестьдесят градусов.
А фронт быстро двигался все дальше на запад, оставляя позади себя много не ликвидированных до конца «котелков» с гитлеровцами. Одни из них разбредались по лесам, другие, напротив, выходили из лесов и сдавались в плен партиями и поодиночке. Обстановка была сложной, даже тревожной, но настроение было отличное: мы идем на запад!
…Нещадно палит июльское солнце. В небе ни облачка. Над аэродромом дрожит горячее марево, в зыбких волнах которого далекие предметы приобретают причудливые формы. В поисках хоть какой-нибудь тени мы со штурманом Полиной Гельман залезли под крыло самолета. Сняли с себя гимнастерки и сапоги. Эти кирзовые сапоги, большие, тяжелые, были нам ненавистны. Да и надевать их нужно было с портянками, иначе они болтались и натирали ноги.
Прошедшую ночь полк не работал: фронт ушел далеко вперед, и нам не хватало радиуса действия. Сегодня мы готовились к перебазированию. Маршрут на карте уже проложен, ждали только команду на взлет.
Лежа на спине под крылом самолета, я от нечего делать рассматривала его боевые рубцы — аккуратно заклеенные пробоины от пуль и осколков снарядов. Сколько их! Я даже удивилась.
— Бройко, почему это так много заплаток у нас на крыльях? — спросила я своего техника, которая что-то делала в кабинах.
— Как раз столько, сколько вы привозили дыр, Я не ковыряла их нарочно, — ответила острая на язык Катя Бройко.
Мне не хотелось больше заговаривать: жара.
— Знаешь, Райка, о чем я подумала сейчас? — нарушила молчание Полина.
— Не догадываюсь.
— Наш экипаж мог бы служить примером единства противоположностей.
Поля любила иногда пофилософствовать,
— Давай, выкладывай свои доказательства.
— Вот смотри, — она лукаво улыбнулась, — ты высокая, я маленькая, у тебя глаза черные, у меня — голубые, ты смуглолицая, я бледнолицая.
— О моя бледнолицая сестра! Твои рассуждения столь оригинальны, что мне тоже захотелось испытать свои силы в умении раскрывать истины. Слушай, я продолжаю: ты спокойная, выдержанная, разум у тебя преобладает над эмоциями…
— А ты беспокойная, невыдержанная, эмоции всегда лезут наперед. Согласна?
— Пусть будет так. Продолжаю. Я непосредственная, неглупая, не…
— Э, так не пойдет! Это нечестная игра.
— Один-ноль в мою пользу, идет? Да, а в чем же у нас единство, по-твоему?
— Мы составляем один экипаж.
— Справедливо. Счет — один-один.
Вдруг на аэродроме возникает заметное оживление. Кое-кто начинает запускать моторы. Мимо нас пробегает посыльная из штаба и на ходу передает распоряжение командира полка готовиться к вылету.
Мы с Полиной вскакиваем, одеваемся и залезаем в кабины. Я умышленно не надеваю сапог: ногам так хочется отдохнуть от них!
— Катя, брось мои сапоги в гаргрот, — прошу техника, с наслаждением притопывая босыми ногами по полу кабины.
— Вот узнает Бершанская, она тебе задаст, — ворчит Поля. — Чего придумала!
Мы вырулили на старт. Командир полка поднялась ко мне на трап. Я поспешно убрала босые ноги с педалей.
— Деревня Новосады, на Немане, знаешь. Будешь садиться прямо на улицу. Там принимает майор Амосова. Повнимательнее, — закончила она своей обычной фразой и разрешила взлетать.
Между прочим, при выборе площадок наш полк всегда тяготел к воде. То ли это была речка, то ли озеро. В теплую погоду мы все свободное время проводили у воды: купались, стирали, загорали. Женщинам присуще стремление к опрятности, чистоте. У нас же, летчиц, это стремление исходило еще и из чисто профессиональных, так сказать, соображений. Ведь каждая понимала, что любой боевой вылет мог оказаться последним в ее жизни. Не хочу сказать, что мы летали с чувством фатальной обреченности на смерть. Вовсе нет! Но мы хорошо знали, что иной раз и шальная пуля бывает роковой. Поэтому у нас существовал неписаный закон: летишь на боевое задание — надень все свежее, пришей чистый подворотничок к гимнастерке. В конце концов это стало для нас одним из элементов подготовки к боевой работе.
Как только наши самолеты начали слетаться в Новосады, все население — в основном женщины и дети — высыпало на улицу. К их радости от встречи с советскими людьми, с воинами прибавилось откровенное удивление, когда они увидели, что из самолетов выпрыгивают девушки.
Не успела я зарулить на указанное заместителем командира полка Амосовой место, как наш самолет облепил народ.
«Э-э!.. — растерялась я. — Как же теперь вылезать-то? Ведь босая! Еще подумают, что у нас для армии сапог не хватает».
— Полиночка, — шепчу штурману, — достань, пожалуйста; мои сапоги, а то…
Полина смотрит на меня с укоризной. «Добаловалась?» — читаю в ее взгляде. Но разве могла я предположить, что нас встретит столько народу?
Посыпались вопросы, на которые мы едва успевали отвечать. Ведь мы были первыми представителями Советской Армии, которых увидели жители этой деревни после трех лет оккупации.
Несколько поодаль от всех сиротливо стоял мальчик лет девяти. Невольно обращали на себя внимание его грустные, не по-детски серьезные глаза.
— Как тебя зовут? — желая вызвать мальчика на разговор, спросила я.
— Дима, — опустив голову, тихо ответил он.
— А где твои мать и отец?
— Нэма их. Батьку убили, а мамку с сестренкой угнали в неметчину.
У меня больно сжалось сердце. А когда мальчишка поднял на меня глаза, я почувствовала, как твердый комок подкатывает к горлу: в этих ясных детских глазах было столько затаенной недетской тоски!
Чтобы хоть чем-нибудь порадовать беднягу, я взяла его за руку и подвела к самолету.
— Хочешь залезть в кабину?
Он посмотрел на меня с недоверием.
— Я не шучу, полезай. Давай подсажу. Вот так! А ну-ка, надень мой шлем. Теперь ты настоящий летчик? Беря управление в свои руки.
Каким восторгом засияли глаза мальчишки! Он осторожно покрутил ручкой, с удивлением наблюдая, как маленькие крылышки, элероны, послушно машут в такт его движениям. Собравшиеся у самолета сверстники Димы смотрели на него с явной завистью. Но я умышленно не предложила им тоже посидеть в кабине: пусть Дима хоть в этом окажется счастливее их!
На прощание мы подарили ему карандаш с золотыми буквами «Пионер» и плитку шоколада из своего НЗ. Лицо мальчика просветлело улыбкой.
— Спасибо!
Мы с Полиной были рады, что подарили этому ребенку с нелегкой судьбой несколько светлых минут.
После знойного, душного дня к ночи разразилась гроза. О полетах, конечно, нечего было и думать. Мы на вое лады проклинали «небесную канцелярию».
По словам местных жителей, еще вчера в близлежащих лесах бродило много немцев, и нам приказали не отходить от самолетов, спать по очереди, быть начеку.
Я сидела в самолете одна. (Полину назначили дежурной по части.) Где там спать! Небо почти беспрерывно грохотало, ослепительно яркие молнии кромсали ночную тьму, озаряя на миг причудливым светом какие-то странные предметы, которых днем, кажется, вовсе и не было: необычной формы куст, будто это плащ-накидка на присевшем человеке; край поломанной изгороди — почему она так неестественно наклонилась?; огромный лопух, похожий на немецкую каску; угол хаты, из-за которого торчало что-то подозрительное, может быть ствол автомата.
Из-за раскатов грома и шума дождя нельзя было распознать шорохи, которые, казалось, возникали то тут, то там. В голову лезла всякая чепуха, вспоминались разные страшные истории, и я чувствовала, как мной начинает овладевать страх перед темнотой, памятный мне с детских лет. И ведь что удивительно — в воздухе у меня никогда не возникало этого глупого страха, а вот на земле иногда становилось жутко от мрака ночи.
К утру гроза утихла, и я, устроившись поудобнее в кабине, крепко заснула, измученная ночными переживаниями.
Между прочим, за время пребывания на фронте мы, летчицы, научились отлично спать, сидя в кабине самолета. Мне даже казалось, что я сплю лучше именно в сидячем положении, особенно если положить под голову, на борт кабины, что-нибудь мягкое.
Мы ухитрялись спать даже в воздухе. Когда я была штурманом, моя летчица Катя Пискарева частенько на обратном пути от цели говорила:
— Бери управление, Рая, а я немного отдохну.
Я с удовольствием забирала бразды правления в свои руки, а Катя засыпала коротким, чутким сном. Однажды, увидев, что она склонила голову и притихла — явно спит! — я решила подшутить над ней. Недалеко от нашего аэродрома стоял приводной прожектор, и я взяла курс прямо на него. Выждав, когда прожектор включится, направила самолет в луч и с веселым озорством ожидала, как же будет вести себя Катя. Она мгновенно проснулась, схватила управление и начала энергично маневрировать, полагая, что нас поймал вражеский прожектор. Смех так и душил меня. Вдруг Катя резко бросила самолет в сторону вниз, применив свой излюбленный прием — скольжение на крыло. Я не выдержала и рассмеялась. Катя вздрогнула, но тут же до нее все «дошло». Она тоже засмеялась и перестала маневрировать.
Случалось и так, что летчица и штурман засыпали вместе. Такое происходило обычно на рассвете, когда смертельно хотелось спать. В подобные мгновенья — а это действительно были мгновения — самолет, почуяв свободу, задирал нос и норовил свалиться на крыло, будто и ему тоже хотелось прилечь отдохнуть. Но какой-то нервный центр в мозгу начинал бить тревогу, и руки сами хватались за управление.
Солнце стояло высоко в небе, когда начальник штаба Ракобольская, проходя по стоянкам самолетов, бросила мне:
— Аронова, иди в штаб, там есть для тебя задание. В штабе у окна стояли Бершанская, Рачкевич и командир батальона аэродромного обслуживания.
— Сейчас тебе со штурманом придется выполнить необычное задание, сказала командир полка. — Нужно выручить бойцов из БАО. Они пошли в лес вон в тот, за рекой, — чтобы взять в плен группу немецких солдат и офицеров. Но немцев там оказалось очень много, и получилась обратная картина: наши бойцы сами как бы попали в окружение. Твоя задача: поднимешься в воздух и пройдешь над лесом. Когда увидите наших бойцов, сделайте им знак, чтобы отходили в сторону реки, а штурман пулеметным огнем прикроет их отход. Ясно?
— Ясно, товарищ майор!
— Тогда идите быстрее, выруливайте.
Вот и лес под нами. Идем на бреющем, чуть ли не касаясь верхушек деревьев: иначе бойцов в лесу не увидишь. Проходим над продолговатой поляной. В западной ее части замечаем группку людей. Они машут пилотками. Наши! Веду самолет вдоль поляны, а Полина показывает рукой в сторону реки. Этот маневр повторяем. Нас, кажется, поняли — бойцы начинают уходить через лес к реке. И вдруг обнаруживаем какое-то движение на противоположной стороне поляны. Да это немцы! Ого, сколько их! Опять иду вдоль поляны, а штурман открывает огонь из пулемета. Немцы шарахнулись в глубь леса. Вижу, как несколько человек плотно прижались к деревьям. Вдруг мимо моего уха что-то просвистело и от стойки центроплана отлетела щепка.
— Смотри-ка, стреляют! — с удивлением говорю штурману.
— А что ж, по-твоему, должны они делать? Кричать «ура!» и в воздух чепчики бросать? — острит Полина.
Продолжаем утюжить воздух. Вражеские пули время от времени жужжат вокруг. Мы зорко следим за продвижением наших бойцов. Вот они уже вышли из леса и во весь дух бегут к реке. Немцы не стремятся их преследовать: наш пулеметный огонь убедительно говорит им, что этого делать нельзя. Наконец видим: бойцы сели в лодку и поплыли.
Операция закончилась. Мы пошли на посадку.
— Поздравляю вас с успешным дневным боевым вылетом! — пожала нам руки командир полка.
— Служим Советскому Союзу! — как положено по уставу ответили мы со штурманом.
Отгремели жаркие летние бои в Белоруссии. У нас в планшетах лежала карта Польши. Пролетая над западной границей Советского Союза, мы с Полиной Гельман троекратно прокричали «ура!». Война ушла с нашей земли. Но фашизм не уничтожен. И мы, легкокрылая гвардия, должны помочь нашей армии-освободительнице довести войну до победного конца.
Сколько еще будем платить мы за эту долгожданную победу? Смерть опять забрела в наш полк и унесла две жизни.
В одну из августовских ночей экипаж Тани Макаровой и Веры Белик возвращался с задания из района Остроленки. Они уже перелетели линию фронта, когда черным коршуном свалился на них вражеский истребитель и резанул пушечным огнем. В небе вспыхнул яркий факел.
— Смотри и запомни: вот так горят самолеты! — с болью сказала я штурману Ане Волосюк, которую вывозила в ее первый ознакомительный боевой вылет.
Штурман-новичок оторвала взгляд от огромной пробоины в нижней плоскости нашего самолета,
— Это кто же? Неужели?.. Они вылетали впереди нас.
Я понимала, какое смятение творилось в ее душе. Ведь по первоначальному плану Волосюк должна была лететь с Макаровой, но Таня и Вера, две неразлучные подруги, попросили не разбивать их экипаж в ту ночь.
Обгоревшие тела девушек привезли в полк. Их опознали только по орденам. А на другой день рядом с нашим домом в поместье Курово появилась свежая могила.
Не вернулись подруги с войны. Их прах покоится теперь в польской земле, на кладбище советских воинов в городе Остроленка. Но их посмертная слава вернулась на Родину. В Керчи есть большое, светлое здание, у входа надпись: «Школа № 17 имени Героя Советского Союза Веры Белик». А в Москве одна из улиц названа именем Героя Советского Союза Тани Макаровой.
После этой тяжелой потери мы стали брать в полет парашюты. Не очень-то охотно согласились летчицы с нововведением. Парашют сковывал движения, к утру от лямок ныли плечи и спина. Да и лишние килограммы нашему маломощному самолету были совсем ни к чему. Но участившиеся случаи нападения вражеских истребителей заставили нас подружиться с белым куполом.
Осень в том году в Польше была неустойчивая. Теплая, солнечная погода сменялась затяжным ненастьем. Но мы не бездельничали. Наши «теоретики» комсорг полка Саша Хорошилова, штурман эскадрильи Саша Акимова и парторг эскадрильи штурман Полина Гельман — устраивали конференции и диспуты по истории и философии. Спорили иногда до хрипоты. Любители вышивать с поразительным терпением сидели над «болгарским крестом». А полковые литераторы и художники уединялись куда-то и готовили очередной номер стенгазеты и любимого всеми «Крокодила».
И все же нудные осенние дожди навевали грусть и тоску по России. Это было новое, совершенно не изведанное до сих пор чувство. И хотя мы находились в дружественной нам стране, все-таки это была не своя земля. Все не такое, как на Родине: и поля, и леса, и небо. Пусть они будут даже красивее наших, но сердце не теплеет от чужой красоты. Письма из дома еще больше усиливали тоску. Мама писала, что у нас золотая осень, что она ездила в Заволжье на уборку урожая. Мама… Какая она стала? Говорит, что поседела. Нелегко, наверное, матерям, когда их дети воюют на фронте.
Только здесь, вдали от Родины и матери, я по-настоящему прочувствовала, что значат для человека эти два слова. «Большое видится на расстояньи…» А ведь я жила в своем, близком мне коллективе — что, если бы оказалась одна? Да не на время — на всю жизнь?
Легко понять несчастье людей, которые в силу тех или иных обстоятельств остаются за пределами Отчизны и уж никогда не вернутся в родные края. Трудно понять тех, кто добровольно расстается с Родиной, покидает ее навсегда ради призрачного счастья. Совсем невозможно понять того, кто предает и продает Родину. Ведь даже те, которые заплатили ему за предательство, всегда будут презирать его. Жить презренным, проклятым Родиной — неужели возможно?
Однажды вечером, когда налитые дождем облака висели совсем низко над землей, всех удивила команда:
— Боевые экипажи, на аэродром!
— Что будем делать-то? — спрашивала по дороге Ира Себрова.
— На себе таскать бомбы до передовой и швырять их в противника! отвечал кто-то в шутку.
Летный состав выстроился по экипажам. Заместитель командира полка коротко ввела в курс дела:
— Нужно во что бы то ни стало сделать несколько боевых вылетов и поразить цель в пункте Н. Погода совершенно не летная, при такой облачности я никому не могу приказать лететь на задание. Но его нужно обязательно выполнить. — Амосова помолчала немного и закончила: — Кто согласен лететь добровольно, прошу сделать шаг вперед.
Чтобы сделать этот шаг, нужна была не только смелость. Необходимо было в первую очередь мастерство, большой опыт полетов ночью, в сложных метеорологических условиях. Почти все шагнули вперед. Остались стоять только две-три девушки, еще малоопытные, недавно прибывшие в наш полк. Для них шаг вперед был бы неуместным бахвальством.
До линии фронта мы с Полиной шли под нижней кромкой облачности. Проверили ветер и угол сноса, вычислили путевую скорость. За Наревом вошли в облака. Нам нужно было набрать хотя бы метров триста высоты, чтобы не пострадать от осколков своих бомб.
Нас окутала мутная сырость. Я не спускала глаз с приборов: слепой полет. Минуты — как часы. Наконец услышала:
— Бросаю!
Самолет слегка качнуло. Аккуратно разворачиваюсь. Облака озаряются вспышкой, доносится близкий разрыв бомб. Меня мучает сомнение: точно ли под нами цель? Не выдерживаю, вываливаюсь из облачности: она!
— Чистейшее женское любопытство, — ворчит штурман.
Поднимается стрельба, мы поспешно прячемся в облака.
Эта ночь у всех экипажей прошла удачно. В уже солидном багаже боевого опыта полка прибавилась еще одна золотая крупица.
При нашей воздушной армии существовал дом отдыха, иди санаторий, как громко именовали его врачи. Здесь летчики могли на некоторое время отвлечься от боевой работы, отоспаться и, если нужно, подлечиться. В декабре я приехала сюда с разукрашенной волдырями физиономией: заболела крапивной лихорадкой. Выходить «в свет» с таким лицом стеснялась, поэтому сидела все время в своей комнате и читала.
Как-то вечером в дверь вежливо постучали. Вошел Миша Пляц, известный всему нашему полку штурман из «братского» полка майора Бочарова.
— А я узнал от девушек, что ты не пошла в кино. Решил заглянуть. Скучно, думаю, одной-то. Читаешь?
— «Войну и мир» перечитываю.
— Актуальная книга… А что, по-твоему, делает сейчас Гашева? неожиданно повернул разговор Миша.
— Не знаю, — я пожала плечами, — или летает, или спит.
Миша поговорил о том о сем. «А Пляц сегодня что-то не такой, как всегда», — отметила я. Весельчак и балагур, «мастер художественного слова» с трудом поддерживал разговор. И вдруг опять спросил:
— А как ты думаешь, что сейчас делает Гашева? «Скучает по Руфине», поняла я наконец. Тайна Мишиного сердца уже давно была известна всем девушкам нашего полка. Но не успела я сказать что-нибудь в ответ, как он вдруг заговорил о своей семье. Он заметно волновался.
— У меня сестра и пять братьев, — рассказывал Миша, — трое из них тоже служат в авиации, воюют сейчас на разных фронтах.
Думала ли я, что один из этих авиаторов, Леонид, станет моим мужем! Родители Миши вместе с его сестрой и двумя другими братьями оказались на оккупированной территории. И вот недавно, когда освободили Белоруссию, Михаилу удалось побывать дома, в родной деревне Озерцы.
— Старший брат… Фашисты расстреляли его за связь с партизанами.
Миша подошел к окну, закурил. Заглянул в черноту ветреной, ненастной декабрьской ночи. Голая ветка тревожно била в оконное стекло, по которому сползали скупые струйки то ли дождя, то ли мокрого снега. Потом поднял голову и долго смотрел на лохматые тучи, надвигавшиеся беспрерывной чередой с запада. Он явно был во власти неосознанного, тревожного беспокойства и, будто одолеваемый тяжелым предчувствием, в который уже раз спросил:
— А все-таки что, по-твоему, сейчас делает Гашева?
Штурман Руфа Гашева стояла на плоскости горящего самолета. Она приготовилась к прыжку с парашютом. Пламя жадно подбиралось к ее ногам. Летчица Оля Санфирова выбралась на другое крыло.
— Ну, пошли!
Торопливое пожатие рук, и обе девушки полетели в бездонную, черную пропасть.
В ту ночь они бомбили станцию Носельск, севернее Варшавы. Попали в жестокий зенитный огонь. С трудом вырвались из цепких лап прожекторов. И когда, казалось, опасность была уже позади, Руфа вдруг увидела, что по правому крылу бегут зловещие язычки пламени. Летчица пыталась энергичным скольжением сбить пламя, но оно разгоралось все сильнее и сильнее.
«Хоть бы дотянуть до линии фронта», — с надеждой думали девушки.
А пламя переметнулось уже на верхнюю плоскость, подбиралось к кабинам…
Наши бойцы на переднем крае видели, как с территории противника летел пылающий самолет. Вот он над линией фронта. Вот под ним забелели два парашюта. Они опустились на нейтральной полосе. Самолет, рассыпаясь на части, рухнул по ту сторону реки Нарев.
Нейтральная полоса, «ничейная земля», была сплошь заминирована. Едва Руфа проползла несколько метров, как под руки попалось что-то твердое. «Похоже на мину», — с тревогой подумала она. Осторожно поползла дальше. Опять мина. Потом еще и еще. Зубы начали выстукивать мелкую дрожь — то ли от ожидания взрыва мины, то ли от холода: ноги были босые, унты свалились во время падения с парашютом. Послышались шаги. «Если сейчас услышу немецкую речь, буду стрелять…» В кого — в себя или противника — Руфа не успела додумать.
— Ищите здесь, она где-нибудь недалеко. «Свои, свои!» — чуть не закричала от радости Руфина. Она поднялась, пошатываясь, сделала было несколько шагов, но наткнулась на колючую проволоку и упала. Чьи-то сильные руки подхватили ее и бережно понесли вперед.
— Не надо, я сама…
Солдат, который ее нес, снял с себя сапоги, надел их на мокрые, холодные ноги девушки и, поддерживая, повел на КП.
— А где Леля? Где моя летчица? — встрепенулась
Руфа.
— На минах подорвалась… — тихо ответил солдат. Нервы у Руфы и так были напряжены до предела. Это же неосторожное сообщение оказалось той чрезмерной нагрузкой, выдержать которую Руфа уже не могла. Ее привели на КП в состоянии глубокого нервного шока.
— Товарищ генерал, — доложил солдат, — мы нашли эту летчицу на поле противотанковых мин. Ее подруга оказалась в пятистах метрах севернее, на противопехотных минах. Погибла.
Генерал посмотрел на сидящую перед ним маленькую девушку. Руки безжизненно опущены, сухие серые глаза смотрят в одну точку, зубы крепко сжаты.
— Стакан спирта, — приказал генерал. Медсестра подала.
— Пей! — и он почти насильно влил Руфине в рот полстакана обжигающей жидкости. — Пей, девчонка! — прикрикнул он.
Генерал понимал, что из шока девушку может вывести только какой-нибудь резкий, внезапный толчок извне. Грубый окрик и спирт подействовали, Руфа вздрогнула» обвела всех осмысленным взглядом. И вдруг обильные, крупные слезы покатились по ее щекам.
…Гроб с телом Оли Санфировой увезли в Гродно, там и состоялись похороны. Скромный обелиск с красной пятиконечной звездой отметил место, где покоится прах отважной юной летчицы.
Слава Героя Советского Союза пришла к ней уже после гибели.
Это была последняя жертва нашего полка войне.
Бывали на фронте знакомства и встречи, о которых и сейчас легко, охотно вспоминается. Чудом сохранилось несколько писем. Вот, например, одно из них.
«Здравствуй, Рая!
Позавчера прилетела ваша комэска.
Был выложен «крест», но села машина.
Это было уже вечерней порой.
Прилетела к нам в ПАМ Никулина Дина,
Старый знакомый и новый Герой.
Приятно было получить твое письмо. Дело даже не только и не столько в том, что получено письмо, сколько в том, что мне теперь известно, что к 14–00 5.1.45 года ты была жива-здорова.
Радостно знать, что, как прежде, удача Ходит с тобой по тропе боевой…Новый год у нас тоже хорошо отметили. Было весело. Но тем скучнее показался следующий день — опять все то же. Тебе, Рая, этого не понять. Я много бы отдал за то, чтобы поменяться с тобой местами (хотя вряд ли ты согласилась бы), чтобы испытать себя, чтобы почувствовать по-настоящему цену жизни, цветам, морю — всему хорошему и радостному, что украшает дорогу человека.
Ты читаешь и, наверное, улыбаешься: «Вот распелся!» Это просто минута такая нашла.
Завтра Никулина полетит обратно. Полетит к тебе и это письмо вместе с отремонтированными часами. Извини, что долго держали.
Удачи я тебе желать не буду: о какой удаче может быть разговор у человека, который шестнадцать раз в ночь бывает наедине со смертью? Удачей для тебя, как и для всех нас, будет день нашей победы. А он уже близок! Пусть же судьба сбережет тебя до этого дня, раз ты сама не хочешь себя беречь.
Крепко жму руку (увы, на расстоянии 200 км!)».
В этом письме упоминается цифра шестнадцать. Да, была такая ночь (с 20 на 21 декабря 1944 года), когда экипажи сделали по четырнадцать-восемнадцать боевых вылетов. Рекордная ночь!
Шестнадцать взлетов с бомбами, шестнадцать посадок. Шестнадцать кругов над стреляющими дулами вражеских зениток и пулеметов. Тридцать два пролета над линией фронта. Тяжелая арифметика! Даже для длинной зимней ночи.
Не помню уже, что и как мы тогда бомбили. Однако и сейчас помню, какая адская усталость сковала все тело утром. Вылезала из кабины с трудом. Ноги, руки, спина — чужие, деревянные. Даже сон не освежил. Голова гудела, как колокол, и было такое ощущение, будто все время идешь по кругу.
На то письмо мне захотелось тогда ответить стихами. Бывает такое желание у человека, даже если он и не поэт. И даже на войне. Написала много, но в памяти сохранилось несколько четверостиший:
О цветах ли думать в небе грозном, Когда воздух порохом набит? Иль о море, что во мгле морозной Черной глубиной меня страшит? Злобно лают в десять ртов зенитки, Самолет в лучах. Ну как тут быть? Жизнь, как говорят, висит на нитке… Вот тогда чертовски жажду жить! Вот тогда, до боли стиснув зубы, Вырываясь из кольца огня, Закусив от ярой злости губы, Я шепчу упорно про себя: «Ну, шалишь, — шепчу я в темь ночную, Обращаясь к смерти, к ста смертям, Жизнь свою, хотя и небольшую, Я, клянусь, без боя не отдам! Буду драться. Ты меня ведь знаешь. Сколько раз встречались по ночам В тесном небе! Врешь, не запугаешь… Убирайся ты ко всем чертям! Ты меня не раз уже пугала, Хохоча во весь свой рот пустой, Ты грозила, пулями плевала, Даже раз царапнула косой. Ты шипела, усмехаясь мерзко: «Догоню, живой тебе не быть!» Я ж в ответ всегда бросала дерзко; «Не боюсь! Хочу — и буду жить!»В смысле мастерства эти стихи, вероятно, не выдержат критики. Но главная мысль и настроение переданы, по-моему, точно. Бороться! Без такого настроения летать на войне нельзя: собьют в два счета.
Самое страшное в опасных ситуациях — поддаться страху. Это не просто игра слов, а истина, проверенная на большом личном опыте.
Подходишь, например, к сильно защищенной цели. Знаешь, что сейчас начнется пальба. Ведь противнику все равно, на чем ты летишь — хоть на палочке. Он одинаково стреляет как по бронированному истребителю, так и по фанерному ПО-2. Каждый мускул, каждый нерв — туго сжатая пружина. Вот оно, началось! Вспыхнули прожекторы, ударили зенитки, застрочили пулеметы. И вся эта масса огня и света устремляется к твоему самолету. Тугие пружины нервов резко распрямляются, освобождается огромная энергия. Четко заработал мозг, руки и ноги быстро передают его указания на рули самолета. Раз-два! Раз-два! Поворот, скольжение, боевой разворот… Все работает четко, слаженно. Смотришь — уже и вышла из опасного положения. Пусть теперь дрожат колени, наверное, это просто следствие пережитого напряжения.
Но если подходишь к цели с липким страхом в душе и с дрожью в коленях не бывать удаче! Внутри нет заряда анергии, скованный мозг отдает ошибочные распоряжения, руки и ноги — как ватные, самолет нехотя подчиняется тебе. В таких случаях спасает только неточный прицел врага. После и колени не дрожат — они уже отдрожали свое.
Что же помогает нервам сжиматься в тугую пружину? Сила воли. А воля закаляется в борьбе. Значит — бороться!
Новый, 1945 год начался новыми успехами. Линия фронта, установившаяся по реке Нарев, была прорвана, войска 2-го Белорусского опять пошли в наступление.
В конце января наш полк впервые ступил на землю врага.
Восточная Пруссия. Богатые поместья. Мычат коровы на скотных дворах. Бродят свиньи, домашняя птица. Безлюдно. По всему видно, что хозяева бежали поспешно. До последнего момента сидели в своих помещичьих гнездах, на что-то надеялись.
Мы обосновались в местечке, где еще недавно жили отставные прусские генералы. На свои средства генералы содержали здесь школу фашистских разведчиц и диверсанток. Теперь в этом здании разместился полк советских летчиц. Вот ведь ирония судьбы!
Заместитель командира полка майор Амосова шла с кем-то из наших техников, присматривая подходящее помещение для техсостава. Заглянула в один дом: просторная комната, очевидно столовая. Первое, что бросилось в глаза, большой портрет генерала на противоположной стене. Посредине комнаты — стол. А за столом… Амосова вздрогнула: за столом, спиной к ней, сидел, склонившись, сам генерал в полной парадной форме!
— Руки вверх! — Она схватилась за пистолет. Генерал шевельнулся, медленно поднял голову и тяжело встал со стула. Рук не поднимал. Амосова держала палец на спуске. «Почему не поднимает? Наверное, в руках оружие… Стрелять?..»
— Руки вверх! — повторила Амосова.
— Товарищ майор, цэ ж я, Петро, чи вы меня не признали? — заговорил «генерал», поворачивая к ней испуганное лицо.
От неожиданности Амосова чуть не нажала спуск. Это был один из работников БАО.
— Что за маскарад? — сердито спросила она, дрожащими руками засовывая пистолет в кобуру. Чуть ведь не убила своего человека!
«Свой человек» объяснял сконфуженно:
— Заглянул в хату. Дывлюсь — висит на стуле вот эта одежка. Ай, думаю, бедный генерал, так тикал, что не успел пиджачок надеть. Потом подумал: дай-ка примерю, может, и мне к лицу будет генеральская форма? Тесновата трошки, видите… Присел я к столу, попробовал наливочки и задремал. Дюже притомился сегодня за день…
Теперь мы летали бомбить «бурги», «вердены» и «гардты». Это было куда легче, чем сбрасывать бомбы на переправы у Раздорской, у Могилева, на Керчь или Новороссийск.
А в воздухе уже пахло весной.
8 марта 1945 года. В красиво убранном зале городского театра небольшого прусского городка Тухоля разместился весь наш полк. Мы с нетерпением ожидаем приезда командующего фронтом маршала Рокоссовского, который вручит летчицам Золотые Звезды Героев.
Вот он входит в сопровождении генералов и, несколько смущенный бурными аплодисментами, проходит через зал.
Начинается вручение наград.
— Старший лейтенант Себрова!
Ира подходит к столу твердым шагом. На груди у нее блестит много орденов и медалей.
— Ба! — шутливо восклицает маршал. — Да тебе уже и некуда больше вешать награды!
Летчица Ирина Себрова держала в нашем полку своеобразный рекорд по количеству боевых вылетов — у нее их больше, чем у всех: к моменту вручения ей Золотой Звезды — девятьсот пятьдесят, а к концу войны — тысяча восемь!
— Старший лейтенант Гашева!
Волнуясь, Руфа идет по ковровой дорожке. Она тоже своего рода рекордсменка: ни у кого не было столько «неудачных» полетов, сколько у этой смелой маленькой девчонки. Она вылезала из-под обломков самолета в училище на Волге, падала за линией фронта на Кубани, горела в небе Польши…
Вызывают Наташу Меклин. Легким шагом идет наш юный знаменосец, автор полкового «Гвардейского марша», немного покачиваясь с непривычки на каблучках.
На удивление спокойно подходит за наградой наша милая Жигули, порывистая, неугомонная Женя Жигуленко.
После вручения наград состоялся банкет. Поднимая бокал, маршал Рокоссовский сказал:
— Слыхал я легенду о вашем полку. Думал, что сказка. Теперь убедился, что быль. Слыхал также, что вы не принимаете в полк мужчин. Правильно! У вас и без них хорошо идут дела. Пью за девичий полк!
Легенда о нашем полку дошла и до французских летчиков, которые сражались на советско-германском фронте в составе добровольческого авиационного полка «Нормандия — Неман». Вот что написал в своих воспоминаниях военный летчик Франсуа де Жоффр:
«…Русские летчицы, или «ночные колдуньи», как их называют немцы, вылетают на задания каждый вечер и постоянно напоминают о себе. Подполковник Бершанская, тридцатилетняя женщина, командует полком этих прелестных «колдуний», которые летают на легких ночных бомбардировщиках, предназначенных для действий ночью. В Севастополе, Минске, Варшаве, Гданьске — повсюду, где бы они ни появлялись, их отвага вызывала восхищение всех летчиков-мужчин».
Весна, по мнению многих, — самая лучшая пора года. Тает снег, бегут ручьи. Природа пробуждается от долгого зимнего сна. Яркое солнце, первая зелень. Тепло, Для нас же весна означала новые заботы, новые трудности. Как работать с раскисшего аэродрома? Земля оттаяла, набухла — ни взлететь, ни сесть. И вот придумали — деревянный настил. В дело пошли заборы, изгороди, сараи. Получилась короткая, узкая дорожка. Здесь и взлетная, и посадочная полоса.
Самое большое неудобство состояло в том, что на ней нельзя было изменять старт при изменении направления ветра. Тут уж летчицы должны были показать свое мастерство. Точность приземления требовалась идеальная, иначе ткнешься носом в грязь и перевернешься на лопатки. Придешь с задания, рассчитываешь и так и эдак, еле усядешься. И ведь ни одного случая не было, чтобы кто-нибудь сполз с «танцплощадки», как мы ее называли в шутку.
В начале апреля 1945 года полк перебазировался в пункт З. и расположился на его западной окраине. Аэродромом нам стала служить не очень-то просторная, уже подсохшая полянка с небольшой рощицей в юго-западном ее углу. Рощу мы использовали в качестве естественной маскировки для самолетов, которые разместили под зазеленевшими ветками высоких, раскидистых деревьев. Однако площадка оказалась тесноватой для всего полка, и в напряженные ночи одна эскадрилья улетала на «подскок» ровное поле на полпути к линии фронта.
Сегодня очередь нашей эскадрильи работать с «подскока». Мы перелетели туда, как обычно, еще засветло. Летчицам нравилось работать с «подскока», когда непроизводительное время полета над своей территорией сокращалось почти вдвое и поэтому можно было сделать гораздо больше боевых вылетов, чем с основного аэродрома. А ради этого мы готовы были работать хоть прямо с передовой.
С самого начала боевой деятельности попка у нас родилось негласное соревнование под лозунгом «Кто больше и лучше». Но это был никак не азарт, а самое настоящее, здоровое, как говорится, соревнование, продиктованное стремлением, во-первых, нанести как можно больший урон противнику и, во-вторых, держаться в первых рядах. Думается, в желании человека быть первым нет ничего предосудительного, тем более на войне. Ведь это совсем иное, чем быть первым, скажем, на спортивных соревнованиях. Не всякий может, допустим, быстро бегать. Но на войне неумение быть первым может иной раз истолковываться как нежелание. А что такое для нас, летчиц, нежелание летать как можно больше на боевые задания? Ведь так, чего доброго, могут и в трусости заподозрить? Нет уж, лучше прослыть тщеславным, чем трусом?
Итак, наша эскадрилья работала с «подскока». До полуночи успели сделать по пять боевых вылетов. Рассчитывали до утра сделать еще столько же. Однако…
— Полина, ты видишь землю? — опросила я штурмана.
— Нет… Почти нет.
— И я тоже.
А высота — всего триста метров. Густая дымка начала уплотняться, превращаться в настоящий туман. Майор Амосова прекратила полеты.
— Аронова, лети домой, спроси Бершанскую, может ли она принять нас сейчас: не очень-то приятно сидеть в поле до позднего утра. Да побыстрей возвращайся. Буду ждать.
До «дома» было километров двадцать.
— Смотри, здесь погода лучше, — оказала я штурману, когда мы пролетели минут пять.
— Ага, — односложно ответила та сонным голосом. Но каково же было наше удивление, когда, подлетая к аэродрому, мы увидели резкую грань белого, как снег, тумана! Будто кто-то взял и бросил на городок и на аэродром огромный тюк ваты, из которой торчал лишь тонкий шпиль «кирхи».
— Вот тебе и на!.. — пробормотала я. — Аэродром-то тю-тю, закрыт!
— Летим быстрей обратно, а то и там закроет, — предложила Полина.
К великому огорчению, мы скоро убедились, что так оно и есть: пока мы летали туда-сюда, «подскок» тоже закрыло.
— Где же теперь садиться? — чуть ли не в один голос воскликнули мы.
Легко представить, в каком трудном положении оказались мы из-за каприза погоды. Обе точки, на которых могли бы благополучно сесть, закрыло туманом. Он был пока что местного характера, пятнами, но с минуты на минуту превратится в сплошной и тогда…
— Пойдем опять домой и попытаемся все-таки как-нибудь сесть. Ведь там есть посадочный прожектор, — решила я.
На аэродроме нас услышали и дали луч. На поверхности тумана появилось еле заметное светлое пятно.
— Ну, как говорится, господи благослови. Ныряем!
Самолет погрузился в молочно-белую массу. Такого плотного тумана мне никогда еще не приходилось встречать. Свет от прожектора не только не помогал, а, казалось, еще больше осложнял положение. Туман сделался белее, но видимости — никакой! Даже крыльев не видно: залепило все. В мучительном ожидании тянутся секунды… Земля, земля, куда же ты пропала? Будто и нет земного притяжения!.. Летим — не дышим. Вот под левым крылом промелькнуло пятно прожектора. Именно здесь, при правильном расчете, самолет должен коснуться колесами земли.
Но разве можно в тумане точно рассчитать заход? Идем с промазом. Сколько под нами высоты — метр, полтора, два? Тайна, покрытая туманом. Какими долгими бывают иногда секунды!
Ух, наконец-то достали землю! Как приятно чувствовать под собой почву! Но в следующее же мгновение мы увидели, что впереди из тумана на нас быстро надвигается что-то огромное, темное. Роща! Сердце екнуло от предчувствия неминуемой аварии: у самолета скорость еще большая, и едва ли удастся погасить ее за оставшиеся считанные метры. В отчаянии даю резко, до отказа, левую ногу, выключаю зажигание и жду, даже глаза закрыла, вся сжалась: сейчас мы завалимся на крыло или стукнемся о дерево…
Самолет, очертив крутой полукруг, остановился около раскидистого дерева, кончики веток которого коснулись крыла, как бы приветствуя наше возвращение из столь опасного полета. Из-под винта мотнулась в сторону какая-то тень.
Мы с Полиной выпрыгнули из кабин и в приступе распиравшей грудь радости стали отплясывать какой-то дикий танец. Возможно, мы были бы немного сдержаннее, если бы знали, что в эту минуту на нас с изумлением смотрит старый охранник из БАО, стороживший в ту ночь самолеты. Это он еле успел отскочить от вращающегося винта и теперь стоял поодаль, изумленно глядя на двух очумевших девчонок.
Наконец мы его заметили, подбежали, схватили за руки и закружились с ним вместе.
— Ой, девочки, пустите меня! — взмолился старичок. Заливаясь смехом, мы отпустили его, усадили на землю и в изнеможении плюхнулись рядом.
— Зачем так шибко бегать? Зачем так близко летать? — еле отдышавшись, произнес охранник.
Мы опять разразились смехом. Ну как растолковать ему, что мы сейчас избежали огромной, может быть, смертельной опасности? Как объяснить, что такое посадка в тумане? И какие подобрать слова, чтобы рассказать, как напрягается каждый нерв, когда самолет мчится навстречу своей гибели, а летчик почти бессилен предотвратить катастрофу?
— Полина, разъясни ему, зачем мы «близко летали», а я пойду доложу командиру полка, что у нас все в порядке. Она, наверное, волнуется сейчас. Я рассказала Бершанской, почему и как мы садились. Не умолчала и про то, как напугали охранника, — А я тоже испугалась, когда вы пронеслись над прожектором и направились прямо на рощу, — призналась она. — Думала, что наломаете дров. Ну, теперь ты знаешь, что такое посадка в тумане? В другой раз будешь садиться точнее! — пошутила майор.
— Я бы хотела, чтобы «другого раза» у меня не было.
Четвертый год войны был на исходе. Мы многое повидали, многому научились, многое поняли. Даже, кажется, внешне заметно изменились — свежий воздух, физический труд, постоянная борьба с опасностями сделали свое дело.
Изменились и наши представления о войне. Раньше, в сорок первом, я мыслила примерно так: каждая пуля и бомба непременно летят в цель, каждый человек по ту сторону фронта — враг, а по эту — друг. Теперь на опыте убедилась, что и вражеские и наши пули не всегда достигают цели. Узнала, что враг может находиться здесь, по эту сторону фронта, а друзья есть и за линией фронта. Не все немцы — фашисты.
Но вот одна мысль еще больше утвердилась за эти годы, подкрепилась множеством наглядных примеров: война — это чудовищная жестокость. Борьба с фашизмом требует огромных усилий. Твои силы будут не лишними. Не жалей их, не жалей себя в такое время, чтобы потом не выглядеть жалким в глазах других.
Идут последние дни, может быть, последние часы воины…
В ночь с 4 на 5 мая полку было приказано бомбить скопление войск противника в районе Свинемюнде, на берегу Балтийского моря. Погода была неустойчивая, видимость плохая. «Муть», как говорили летчицы в таких случаях. До цели было добрых восемьдесят километров.
— Полина, — завожу я в воздухе разговор, — сегодня я подсчитала свои боевые вылеты — девятьсот шестьдесят. А у тебя сколько?
— На сотню меньше.
— Как ты думаешь, дотянем до тысячи?
— Ну, я-то определенно не дотяну, да и ты едва ли. Вдруг я уловила подозрительный шум в моторе. Вскоре прибавился еще и скрежет.
— Что с мотором? — не выдержав, спросила Полина.
— Я уже давно прислушиваюсь. Что-то случилось.
А до цели еще далеко… Нетрудно понять наше самочувствие в тот момент. Куда деваться, если сейчас откажет мотор? Под крыльями бомбы. Ночь. Садиться ночью с бомбами вне аэродрома — почти самоубийство. Сбросить бомбы на территорию, занятую нашими войсками, — преступление.
— Кажется, с таким скрипом мы не дотянем до цели, — вслух размышляет Полина.
— Да, придется возвращаться,
Разворачиваюсь, беру обратный курс. Мотор гремит, свистит, шипит… За эти долгие минуты, когда мы летели на тарахтящем, как разбитая телега, моторе, у нас прибавилось, наверное, немало седых волос.
Уже при подходе к аэродрому в моторе вдруг что-то хрястнуло, и он сразу умолк. Наступила тревожная тишина; Дотянем ли? Высота катастрофически падает: самолет тяжелый, с бомбами. Я включила огни АНО, штурман дала красную ракету: приближается опасность! Прямо с ходу идем на посадку. Лямки парашюта уже на всякий случай отстегнуты. Очки подняты на лоб. Только бы не плюхнуться перед аэродромом, где ямы и кустарники, Мобилизую все свое умение, «щупаю» землю глазами и колесами… Наконец, еле ощутимый толчок, и машина покаталась по посадочной полосе.
Как только самолет остановился, мы выскочили из кабин и подбежали к мотору. От пяти цилиндров осталось только три, из двух отверстий торчали поршни.
— Да… — протянула Поля, — ну и повезло же нам! Что было бы, если бы цилиндры отвалились на несколько минут раньше?
— Это был бы, наверное, наш последний полет. В тот момент мы, конечно, и не подозревали, что это был действительно наш последний вылет на боевое задание. В течение трех последующих ночей полк заданий не получал, а вечером 8 мая мы узнали, что война окончена…
Окончена первая часть моей книги.
Хочу назвать две-три итоговых цифры: за три года пребывания на фронте полк сделал около двадцати четырех тысяч боевых вылетов, сбросил три миллиона килограммов бомб. Все девушки были награждены орденами и медалями двадцать три получили звание Героя Советского Союза.
Это славный итог. А наша фронтовая дружба, проверенная и закаленная в огне войны, крепко спаяла нас на всю жизнь. Ежегодно 2 мая и 8 ноября мы встречаемся в сквере против Большого театра в Москве: так договорились на последнем партийном собрании полка. Но эти встречи — лишь праздничная сторона нашей дружбы. Мы часто видимся в «рабочей обстановке», советом и делом помогаем друг другу в трудные минуты жизни.
Когда мы встречаемся с Руфой Гашевой, нередко в нашей беседе звучат слова: «А помнишь?..» Увлекаясь, начинаем вспоминать различные эпизоды из фронтовой жизни. Наши мужья, братья-авиаторы Михаил и Леонид Пляц, шутят в таких случаях:
— «Ночные ведьмочки» опять полетели на задание!
Повторение пройденного (Дневник)
В машине было два шофера, два летчика, два штурмана, два переводчика… А вообще-то нас было трое: за рулем сидел мой муж, Леонид Степанович Пляц, летчик полярной авиации, а позади — Руфа и я. Воскресным июльским утром наша серая, подновленная «Волга» охотно взяла старт с Ленинского проспекта столицы и, взмахнув дымным шлейфом, помчала нас в отдаленное, но незабываемое прошлое — в годы войны.
На нашей дорожной карте начерчены две ломаные линии: красная и синяя. Вдоль красной мы летели в 1942–1945 годах. Вдоль синей едем сейчас, в 1964 году.
Мысль о поездке по боевому пути полка зародилась еще год назад и с тех пор не покидала нас ни на один день. Мы сразу же и всерьез «заболели» этой мечтой. Да и кто из бывших фронтовиков не мечтал проехать по боевому пути своей части, побывать в местах, с которыми связано так много сложных и немеркнущих воспоминаний?
Начали строить планы относительно маршрута поездки, сроков. Прикидывали, когда лучше взять отпуск. Занялись сбором адресов однополчанок, которые могут оказаться на нашем пути.
Серьезным препятствием — как это ни странно звучит — оказались наши дети (четверо: от 5 до 16 лет). Мы хорошо понимали, что брать их с собой в такое длительное путешествие нельзя — ведь, по предварительным подсчетам, нам предстояло проехать тысяч десять километров. А куда же их девать? Этот вопрос долго висел в воздухе, почти до самого отъезда. Но в конце концов все было счастливо улажено — распределили их по своим родственникам.
Самым подводящим временем для отъезда мы считали середину июля. Во всяком случае, в конце августа нам нужно было вернуться домой, чтобы подготовить детей к новому учебному году.
Леонид чуть было не поломал все наши планы и мечты — в апреле улетел на три месяца переучиваться на ИЛ-18. А он ведь водитель номер один в нашем экипаже! (Мои права шофера-любителя — так, на всякий случай. Практики очень мало.) В начале июля положение стало тревожным — срок окончания учебы грозился оттянуться до августа. Мы с Руфиной приуныли: поездка оказывалась под угрозой срыва. Но неожиданно для нас, да и для себя, Леонид закончил переучивание в середине июля.
У нас состоялось нечто вроде расширенного заседания с участием «постороннего» — мужа Руфы. Михаил очень завидовал нам и жалел, что его отпуск запланирован на октябрь. Ведь боевые пути женского полка и полка майора Бочарова, в котором Миша служил штурманом, шли всегда рядом. Не зря мы называли их «братиками». Этот «братский» союз был закреплен после войны многими счастливыми браками, в том числе и браком между нашими командирами полков.
На «заседании» утвердили окончательный маршрут. Главным диктатором в этом вопросе были сроки — необходимо было уложиться в 33 дня. Второй фактор, который влиял на выбор маршрута, — наличие проходимых дорог. Мы отправлялись в путешествие не на самолете, а машине нужен асфальт.
Выезд назначили на 20 июля.
Начались торопливые сборы. Как всегда бывает перед отъездом, навалилась куча дел, имеющих и не имеющих отношения к поездке, десятки мелочей требовали внимания и отнимали время, которого и без того не хватало.
Наконец вечером 19 июля в багажник машины были уложены чемодан, раскладушка, спальные мешки, паяльная лампа — на ней собирались готовить пищу в дороге. Попутно замечу, что мы совсем не думали останавливаться обязательно в кемпингах или гостиницах. Предполагалось, что чаще всего придется ночевать там, где застанет темнота, и усталость.
Не планировалось никаких массовых мероприятий, вроде организованных встреч с населением, выступлений на собраниях и прочее. Время, жесткие сроки не позволяли и думать об этом. Да, откровенно говоря, мы не любители таких вещей. Не брали с собой и никаких официальных рекомендаций, писем или путевок. Мы ехали, что называется, «частным образом». Единственным официальным «документом», кроме паспортов, была у нас книга «Герои ни войны», где собраны очерки и рассказы о всех 78 женщинах Героях Советского Союза, живых и погибших. Между прочим, эта книга оказывала нам не раз добрую услугу в поездке.
46-й гвардейский Таманский авиационный полк оставался до конца своего существования единственным чисто женским полком. Впрочем, какие там женщины! Девчонками ушли мы на фронт. Сейчас мы люди уже зрелого возраста. Но когда встречаемся 2 мая и 8 ноября в сквере Большого театра в Москве (регулярно, каждый год), то чувствуем себя, как и 20 лет назад, девчонками. И обращаемся друг к другу не иначе, как «Девчонки, а помните?», «Девочки, слушайте телеграмму!».
Вам, девчонкам, моим подругам военных лет, я и посвящаю свой рассказ.
Предоставляю теперь слово дневнику, который вела в дороге.
20 июля
Тихое солнечное утро. Город отдыхает. А для нас сегодняшнее воскресенье — начало трудного, необычного пробега: Москва — фронтовые дороги — Москва.
С понятным волнением садимся с Леонидом в машину и едем на Ленинский проспект к Руфе, к третьему участнику «путешествия в юность», как назвали эту поездку.
Вышли нас проводить муж Руфы и Полина Гельман — она живет в этом же доме. Михаил — в форме полковника, чисто выбрит, наутюжен и в шикарных новых ботинках. Полина в праздничном платье, с Золотой Звездой. Они ведут себя так, будто провожают нас по меньшей мере на Луну.
— Ишь, как припарадились, — говорю.
Про себя же поблагодарила их за такое внимание к нашему отъезду — ведь это первая серьезная попытка проехать по боевому пути женского авиаполка.
— Смотри, Леша, вези их поосторожнее, — наказывает Полина, — доставь в целости сюда же. Они должны потом рассказать много интересного своим однополчанкам.
— Привези обратно мою жену из юности, — шутит Миша, обращаясь к брату, — а то что я буду делать-то с двумя детьми!
— Все будет в порядке, — заверяет Леонид.
— Ну, ни пуха ни пера! Счастливого пути! — говорят провожающие.
Они, как и мы, волнуются.
Обнялись. Потом пять рук соединились в одно крепкое, долгое пожатие. Торжественная минута перед отъездом в наше общее прошлое.
Хлопнули дверцы машины.
— Тронулись!..
Вскоре промелькнула юго-западная окраина столицы и последний московский светофор проводил нас зеленым глазом.
Записываю отправные данные: время старта — 9.35, километраж на счетчике машины 74402 (каким-то он будет на финише?).
— Итак, друзья, — говорит Руфа, — теперь можем скомандовать: «Время, назад!»
Леша настраивает приемник на интересную волну. В эфире — пестрое море музыки. А я уже устойчиво настроена на 41-й год. И мне кажется, что сейчас вот-вот должна зазвучать песня, которой провожала нас Москва 16 октября 1941 года:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, Идет война народная, Священная война!Тот день был самым тревожным, самым напряженным для москвичей. Но в нас жила твердая уверенность, что Москва останется Москвой.
…Мы, солдаты, длинной колонной, нестройным шагом идем на станцию Окружной железной дороги, в первых рядах шагают рослые девушки из ГВФ и аэроклубов. На них неплохо сидит военная форма, они четко отбивают шаг армейскими сапогами. В средине колонны идут студентки. У Ирины Ракобольской, студентки МГУ, сосредоточенный вид. Она сказала дома, что уходит в армию преподавателем физики — хотелось, чтобы не волновались за нее. А теперь думает, хорошо ли поступила, скрыв правду?
Ведь она скоро будет летать штурманом на боевом самолете. Ракобольская еще не знает, конечно, что ее назначат начальником штаба полка и на ее возражение майор Раскова строго ответит: «Приказы не обсуждаются, а выполняются». С победной улыбкой идут рядом Женя Жигуленко и Катя Тимченко из дирижаблестроительного института. Они только вчера «утрясли» с самой Расковой вопрос о зачислении их в авиачасть и сейчас еще не могут опомниться от радости. Где-то в конце колонны, путаясь в длинной шинели, усердно шагает крохотный солдат с большим рюкзаком на спине, на котором химическим карандашом крупно написано: «Хорошилова». Это подруга по пединституту позаботилась о том, чтобы не затерялся рюкзак, а вместе с ним и сама хозяйка. Когда прибыли в город Энгельс, то почти вся авиачасть уже знала фамилию этой маленькой девчушки. «Вон Хорошилова пошла!» — слышала Саша за спиной. Она сначала никак не могла взять в толк, чему обязана такой известности. Потом ей разъяснили — надпись на рюкзаке.
— Когда мы шли на станцию, то хотелось петь от счастья и от гордости, говорю Руфе.
— Да, мы гордились тем, что нам доверили защищать Родину.
Хотя ремесло воина не женское дело, но надвигалась большая беда, решался вопрос — быть или не быть нам свободными гражданами свободной страны. И перед лицом такой беспощадной дилеммы мужчины и женщины оказались равными.
Родина, свобода, жизнь — все это были для нас равнозначные понятия. Подсознательно, скорее сердцем, чем умом, угадывалось, что если человек лишается первых двух благ, то теряет смысл и сама жизнь.
Шли на фронт добровольно. Да разве дочь будет ждать зова матери, когда и так видно, что мать в опасности?
Примешивалась, правда, тут и романтика. Чуть-чуть, самую малость. Это неизбежно. Романтика с молодостью всегда идут вместе. А некоторых счастливчиков она не покидает до самой старости.
— В сорок первом-то мы не с таким комфортом ехали, как сейчас, произносит медленно Руфа. — В теплушках, с двухэтажными нарами.
— Я так обрадовалась, когда узнала уже в дороге, что едем в Энгельс, около моего Саратова.
— Тогда мы добирались дней десять. А сейчас?
— Завтра будем в Саратове, — обещает водитель.
— У нас в штурманском вагоне всегда шумно было, — продолжает вспоминать Руфа. — Много пели, шутили. Студенты — народ неугомонный.
— На какой-то станции Женя Жигуленко раздобыла два огромных кочана капусты и пригласила: «Братцы-кролики, угощайтесь!»
— Нам ведь в дороге давали в основном селедку да хлеб. Хотелось что-нибудь на десерт.
— Для студентов и селедка — благодать. Мы не роптали на начальство.
Майор Раскова часто заглядывала в наш вагон. Она всегда была свежей, аккуратной, энергичной. Ее авторитет, личный пример и просто личное обаяние во многом способствовали укреплению дисциплины и порядка в нашей еще разношерстной воинской части.
Рассказы Марины Михайловны о дальних перелетах мы, будущие штурманы, слушали как завороженные. И если раньше при чтении ее книги интересовала больше приключенческая сторона, то теперь память схватывала и откладывала в свои тайники уже чисто практические и профессиональные детали — на фронте пригодится!
— По вечерам, когда смеркалось, звучали лирические песни. Особенно хорошо пела Валя Ступина…
— А Женя Руднева рассказывала сказки… Клубок воспоминаний постепенно разматывается. Леша слушает, не вступает в разговор. Он понимает, что мы сейчас мыслями в «теплушке», среди своих подруг, которые незримо будут ехать с нами по дорогам военных лет.
Остановились на привал в березовой роще, изумительно светлой, нарядной. Тоненькие стройные березки веселым хороводом столпились на пригорке, у самой дороги. Расстелили скатерть-самобранку. Пообедали. Прислонившись к стволу, Руфа долгим взглядом смотрит на трепещущие кроны деревьев.
— Чем-то они напоминают наших девчат, — тихо говорит она, — Вот эта, высокая, похожа на Таню Макарову — видишь, какие у нее подвижные ветви и симпатичная улыбка?
— А та вон — на Лилю Тормосину. Так и светится радостью.
— Хорошо бы проехать сейчас всем полком!..
— Мечтатели, прошу занять места в кабине, — приглашает Леша. — «Машина времени» отправляется дальше.
— Это хорошо сказано: «машина времени», — подмечает Руфа. — Так и будем теперь называть нашу «Волгу».
Через некоторое время в пути мы опять переключаемся на сорок первый год:
— А ты помнишь?..
Так и ехали до вечера параллельно прошлому. Еще засветло выбрали стоянку для ночлега. Место отличное — молодые сосенки, чистая зеленая трава, сухо. Я и Руфа легли спать в машине, а Леша — на раскладушке под сосной. Руфина было удивилась — как, в лесу, одни? Мы заверили ее, что это совершенно безопасно — знаем по многолетнему личному опыту.
21 июля
Поднялись вместе с солнцем и в 6.20 покинули первый ночной лагерь.
Дорога позволяет идти спокойно на скорости 100 км/час. Радуют глаз широкие поля, зеленые луга, перелески. Хороша земля рязанская! Проезжаем много населенных пунктов, которые не обозначены на нашей карте выпуска 1955 года.
— Нужно бы карту-то посовременнее достать, — замечает Руфа. — Не учли, что за десять лет столько везде понастроили!
— Упрек, собственно, в адрес твоего мужа, это он снабдил нас таким старьем, — отвечаем ей.
— Картам трудно сейчас угнаться, — как бы оправдывая Михаила, говорит Руфа. — Строят поразительно много и быстро.
Что верно, то верно.
— Вот вы ехали больше недели, говорите. И чем же занимались? спрашивает Леша.
— Спали в основном. Раскова нам говорила: «Отдыхайте. Впереди — очень напряженная учеба. А пока читайте понемногу уставы, знакомьтесь с правилами армейской жизни».
— Для меня эти уставы вначале были — темный лес. Хуже высшей математики, — признается Руфина.
— Скучноватая у вас эта часть пути: спали, ели селедку, учили уставы. И никаких приключений.
— Один раз случилось небольшое происшествие — какая-то летчица вывалилась из вагона на ходу поезда, пришлось останавливать эшелон. Подобрали.
— Удивляюсь, как Раскова справлялась с такими новобранцами? — дожимает плечами Леша.
— Она не одна руководила, — поясняем мы. — У нее были хорошие помощники, кадровые офицеры-женщины: Казаринова, Ломако, Рачкевич и другие.
Евдокия Яковлевна Рачкевич каждый день появлялась у нас в вагоне. Задушевно, как-то совсем по-домашнему, беседовала с девушками, спрашивала о здоровье, сообщала сводки о положении на фронтах. Утешительного в тех сводках было мало. Но в ее словах, — нет, скорее в интонации голоса, всегда звучали такие нотки, которые утверждали в нас уверенность в победном исходе. А это было так необходимо в те тяжелые дни!
Все станции, которые мы проезжали, были забиты эшелонами. Среди множества вагонов и платформ, пробивавшихся на восток, взгляд искал и находил составы, спешившие к Москве. Там стояли орудия, машины, тапки. Из теплушек выглядывали бойцы в добротных овчинных полушубках. Может быть, то были самые первые части сибиряков, которые перебрасывались с Дальнего Востока. Только через много лет я узнала, что такому маневру во многом способствовала работа славного советского разведчика Рихарда Зорге: «Японское правительство решило не выступать против СССР». Это коротенькое, но верное донесение помогло нашей Ставке свободнее маневрировать резервами.
Отдельные личности не могут, понятно, влиять существенным образом на общий ход истории. Но иногда (а может, чаще, чем мы думаем) деятельность даже одного человека оказывает заметное влияние на положение дел в стране в тот или иной момент истории. Рихарда Зорге я считаю одним из таких людей.
…Мы будто плывем по широкой реке. Прихотливое течение то приблизит нас к берегу прошлого, то задержит у пристани современности.
Подъезжаем к границе Саратовской области. Здесь уж не встретишь таких лесов, как в Подмосковье. Поатому, когда на пути встал шумящей стеной сосновый заповедник, мы не удержались от соблазна отдохнуть в тени деревьев хоть полчасика. На опушке оказалось на удивленье много спелой земляники, наелись досыта.
Потом в дороге Руфа что-то рассказывала из времен первых месяцев войны. Кажется, про налеты на Москву, про борьбу с «зажигалками».
— Да ты не слушаешь! — уличила она меня.
— Понимаешь, Руфинка, очень волнуюсь. Сейчас увижу Саратов, свою родину. Давно там не была. Есть какая-то магическая сила в слове «родина». Она, эта сила, входит в человека, очевидно, при рождении, растет вместе с ним, питаясь соками родной земли. Она всегда живет рядом с могучим инстинктом жизни. Разум человеческий может только укрепить эту силу, облагородить, но подавить ее не властен. Как не властен он над биением сердца.
Багряный диск солнца коснулся горизонта. Километров через пятнадцать должен показаться город. И — удивительное дело! — все вокруг приобретает для меня какие-то особые, теплые оттенки. Дорога стала будто ровнее. Появились знакомые с детства запахи трав. Узнаю очертания холмов…
— Вот и твой Саратов! — сказал Леша, когда въехали на возвышенность и город открылся весь сразу.
Он лежал будто в огромной неглубокой чаше, отчеркнутой с одной стороны светлой каймой Волги.
Сердце сладко сжалось. Как волнительны эти первые минуты свидания с родными местами! Встреча приятна вдвойне тем, что меня привели сюда теперь прошлые фронтовые дороги.
Издали, с холма, я не заметила почти никаких изменений. А вот когда въезжали в город, то увидела, что он сильно разросся. Шагнул далеко за прежние окраины новостройками, заводами.
Едем по широкому шоссе. С удовольствием смотрю на новые светлые дома, легкие корпуса какого-то предприятия, зеленый сквер с клумбами цветов, на бесшумно мчащийся троллейбус. Лицо города молодое, красивое.
22 июля
Остановились у моей хорошей знакомой Елены Павловны Горшковой.
Еще в самом начале войны ее муж, офицер, погиб в боях под Киевом, а она с маленькой дочкой успела эвакуироваться. Доехала до Саратова, поселилась у моей мамы. Думала, что не надолго, но чем-то понравился ей город, и она так и осталась в нем. С мамой они жили дружно, Светланка была как бы их общей дочерью. Внезапная смерть мамы в 1951 году очень сблизила меня с Еленой Павловной, и с тех пор мы с ней как родственницы.
В Саратове мы намерены пробыть три дня. Нужно повидаться со своими однополчанами, побывать в аэроклубе, в областном музее. И обязательно съездить в Энгельс.
Сегодня с утра идет дождь. Решили, не теряя времени, отправиться в областной музей — для такого мероприятия дождь не препятствие.
Женская авиачасть № 122 выехала из Москвы не полностью укомплектованной, а в дальнейшем пополнение осуществлялось в основном за счет саратовских девушек-добровольцев. В нашем полку воевали многие мои землячки — Ира Дрягина, Лида Демешова, Тамара Фролова, Лида Целовальникова, Ольга Клюева и другие. Естественно, что в музее нас прежде всего и больше всего интересовал материал, посвященный женщинам — участницам Великой Отечественной войны.
Уголок, отведенный этой теме, выглядел скромно.
— Не вижу здесь фотографий некоторых однополчанок-саратовцев, замечает Руфа.
— Мы уж не раз просили-просили у них — молчат! — вздыхает экскурсовод.
— Не хотят, наверно, попадать в музейные экспонаты, — смеется Леша.
На стенде привлекает внимание портрет летчицы Валерии Хомяковой. Милое, симпатичное лицо. Вот такой она была и в жизни, я хорошо ее помню по Энгельсу. Валерия москвичка, но сражалась в небе Саратова. 24 сентября 1942 года в ночном бою Валерия Хомякова обила немецкий бомбардировщик Ю-88, который шел бомбить железнодорожный мост через Волгу. За подвиг ее наградили орденом Красного Знамени. Но смерть, наверное, как и люди, тоже обращает внимание в первую очередь на красивых, хороших людей. 5 октября того же года Валерия Хомякова погибла при ночном вылете на патрулирование. Обстоятельства гибели до сих пор остались не совсем ясными, насколько мне известно.
Прошлись по другим залам. В музее много интересного, но чувствуется, что помещение маловато. Тесно здесь такому обилию экспонатов.
Наш визит был, разумеется, полной неожиданностью для сотрудников музея. Но вскоре фактор внезапности потерял для нас преимущество: нас радушно пригласили на беседу в небольшую комнатку. Там я узнала, между прочим, что на меня в музее заведено целое «дело». В папке оказались такие документы и фотографии, которых и у меня самой нет.
— Нельзя ли кое-что взять? — попросила я.
— К сожалению, нет. Но можем сделать копии. В обмен на такую любезность я пообещала выслать что-нибудь из своего личного «архива».
— В общем, сделка состоялась, — пошутили мы. Из музея поехали в аэроклуб. Тут фактор внезапности сработал не в нашу пользу.
— Все теперь живут на аэродроме, — сообщил нам сторож. — Сюда заглядывают редко. Сейчас горячая пора — полеты.
Мне никак не хотелось сразу же уходить из клуба. Ведь именно здесь, в этих стенах, я познавала основы авиации. Вот в ту дверь вошла тогда, в сентябре 1938 года, и, робея, подала заявление с просьбой зачислить в летную группу. А вот из этой двери вышла через год с удостоверением пилота. В той комнате был самолетный класс, где впервые, как большое откровение, увидела крыло в разрезе…
— Может, вы зайдете в «комнату славы»? — предложил сторож.
Комната оправдывает свое название. Здесь рассказывается о славных делах и подвигах воспитанников аэроклуба. Подошли к широкой, почти во всю стену, фотовитрин» Героев Советского Союза, которые получали путевку в небо в Саратовском аэроклубе. В центре, на почетном месте — Юрий Гагарин. Улыбается своей неотразимой, «гагаринской» улыбкой, которая покорила весь мир. Как не гордиться клубу таким воспитанником — первый человек, поднявшийся в космос!
Галерея портретов довольно большая — 25 человек. Нелегким путем пришли эти парни в комнату славы своего аэроклуба. А некоторые погибли со славой. Вот Виктор Рахов. В 1939 году участвовал в боях на Халхин-Голе, сбил семь японских самолетов. В воздушном бою был смертельно ранен, но сумел привести самолет на свой аэродром.
Посадил и скончался. Василий Рогожин сражался с первых дней Великой Отечественной войны, сбил семнадцать самолетов противника. Погиб при обороне Киева, устремившись в неравный бой с врагом. Иван Поляков преградил своей жизнью путь немецкому бомбардировщику — когда кончились боеприпасы, пошел на таран.
«Но мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед», — припомнились строки Николая Тихонова. У героев этот последний шаг — в бессмертие. И не будь таких шагов, не было бы и взлетов в космос.
Вечером, несмотря на проливной дождь, отправились к Лиде Демешовой. Не ломать же планы из-за капризов погоды! Тем более что Лида ждала нас. Приехала туда и Ольга Клюева — тоже, как и Лида, из бывших штурманов. Засиделись допоздна. Расспросам и рассказам не было конца. И было много «а помнишь?..»
Ольга Клюева работает инженером. Она все такая же, как и раньше, немного флегматичная, острит с самым серьезным видом, говорит без всякой дипломатии. За последние годы несколько раз была за границей.
— Поездить, посмотреть — это полезно, — говорит она. — Но мне потом мой Саратов становится милее во сто раз.
Во время беседы я обратила внимание на то, что у Лиды левая рука менее подвижна, чем правая. Поймав мой пристальный взгляд, Лида пояснила:
— Ранило меня в Белоруссии, помнишь? Сухожилие повредило…
— Это тогда, днем, при перелете на новую площадку?
— Вот, вот… Мы летели с Клавой Серебряковой. Курс лежал вдоль Минского шоссе. И вот, где-то в середине маршрута на нас свалился «фоккер», дал очередь и ушел в сторону солнца. Изрешетил весь гаргрот, а мне в руку осколок попал. Мы сразу изменили курс и сели на полянке. За нами летел самолет из другого полка, и его тоже клюнул фашист. Поджег. Так больно было смотреть на гибель товарищей… Когда мы прилетели в полк и начали выгружать из гаргрота вещи, то они оказались все посеченные. Пострадала и Клавина мандолина. Клава так переживала! «Лучше бы, — говорит, — ранило меня, чем мандолину.). Вот с тех пор левая рука у меня почти бессильна.
— А как же ты дергала потом за шарики бомбосбрасывателей?
— Правой.
— Это ж неудобно — правой рукой с левого борта!
— А что делать? Меня могли бы отстранить от полетов, если бы призналась.
И вот так многие у нас — скрывали свои недуги из-за опасения, как бы не отстранили от полетов.
Лида и Ольга много расспрашивали нас об однополчанках, которые живут в Москве. Интересовались, как будет организована «большая встреча» всего полка в будущем, юбилейном 1965 году.
— Мы обязательно приедем. Хочется повидаться с девчонками.
— Какие же мы теперь девчонки? — смеемся.
— Возраст определяется не годами, а насколько сам себя чувствуешь, говорит Ольга. — Когда же я встречаюсь с однополчанками, то, ей-богу, чувствую себя девчонкой.
— Значит, почаще нужно встречаться!
23 июля
Утром поехали на кладбище, на могилу моей мамы. Порывистый ветер нагонял рябь на лужицах после вчерашнего дождя. По небу в смятении бежали кучевые облака. Деревья шумели. Погода была под стать моему душевному состоянию.
Тяжело бывать на могиле матери, хотя со дня смерти прошло уже тринадцать лет. Горечь и боль утраты возобновляются с прежней силой, когда подходишь к надгробью. Положили цветы к небольшому белому памятнику. Сели на скамеечке. Здесь, в густой заросли деревьев, было тихо.
…Рано ты, родная, ушла из жизни.
Что такое мать, мы осознаем полностью только, наверное, тогда, когда теряем ее навсегда. А до этого трагического момента, кажется, и не замечаем всех благ, которые она нам дает. Дает так много, что человечество всегда в неоплатном долгу перед Матерью. Но в отличие от всех кредиторов мира Мать никогда не требует возврата долга.
…Почему, когда человеку трудно, то он вслух или мысленно произносит волшебное слово «мама»? Очевидно, потому, что с младенческих лет знает мать всегда придет на помощь, К месту или нет, припомнился один случай, о котором рассказывала мне Руфа еще на фронте. Однажды она, как штурман эскадрильи, полетела в контрольный полет с новой летчицей. Всю дорогу до цели мучились — не могли слышать друг друга. Потом, уже на земле, выяснилось, что в резиновый шланг переговорного аппарата попал какой-то шарик. Но вот над целью их поймали прожекторы. И тут же Руфа ясно услышала по аппарату:
«Мама!» Этот невольный вскрик летчицы, впервые попавшей в жуткий слепящий луч, прорвался сквозь препятствие. Не все, понятно, кричали над целью «мама!». Но мысленно я не раз обращалась к матери в трудные минуты, потому что знала — это придаст мне силы и твердости.
Вспомнился мой приезд после войны на несколько дней домой. Мы сидели с мамой вечером вдвоем за столом, пили чай. И вдруг она сказала: «Спой мне, дочка, песню «Мама». Удивилась я тогда — ни разу в жизни она не просила меня петь. Сначала робко, но потом, взволнованная ее вниманием, я пела. Мама слушала и плакала. Наверное, от счастья…
Возвратились домой уже часа в два.
— Каковы дальнейшие планы? — поинтересовался Леша.
— Мне что-то никуда больше не хочется ехать сегодня, — призналась я. Посидим дома, тем более вечером обещали зайти мои довоенные подруги.
Приход гостей поднял мое настроение. Это был своеобразный вечер вопросов и ответов. Спрашивали друг друга о семье, о детях, вспоминали прошлые шалости, делились планами на будущее. Подруги интересовались, какое впечатление произвел на меня Саратов.
— Ты видела, какой Дворец спорта на Дегтярной площади отгрохали? А набережную-то смотрела? А сколько понастроено на бывших дачных остановках, заметила? — с гордостью за свой город спрашивали они.
Проговорили почти до полночи.
24 июля
Из аэроклуба мне сообщили, что приглашают сегодня к 12 часам на аэродром, встретиться с курсантами. Мы намеревались с утра поехать в Энгельс, но теперь придется изменить план.
…Перед аэродромом воспоминания нахлынули как-то все сразу. И первый взлет в небо, и самостоятельный полет, и первый прыжок с парашютом. Но не с самолета, а сначала нужно было прыгнуть с вышки… Когда я подошла к краю площадки и глянула вниз, у меня закружилась голова. И вышка будто закачалась. Ноги намертво прилипли к полу. Земля была далеко и страшно близко. Казалось, что купол парашюта еще не успеет наполниться воздухом, как я уже грохнусь о землю. «Не буду прыгать», — и отступила назад. Но тут же представила насмешливые взгляды парней, которыми они встретят меня там, внизу: «Струсила!» Это слово грубо толкнуло в спину, и я, зажмурив глаза, чуть ли не в обморочном состоянии, упала в захватывающую дух пустоту.
А с самолета прыгала легко, даже с удовольствием. Вспомнила своего инструктора Волкова, серьезного не по годам парня. Ребята нашей группы потихоньку между собой посмеивались, что он не умел ругаться. Иной инструктор нет-нет да и «обложит» бестолкового курсанта, а наш только скажет: «Куда же ты смотришь, курицын сын?»
После моего контрольного полета с членом государственной экзаменационной комиссии, инструктор, поздравляя меня, сказал: «Уверен, что это не последний полет в твоей жизни». Много их было потом, очень много… Наверно, с легкой руки моего первого инструктора.
На аэродроме теперь растут деревья, появились строения. А в ту довоенную пору, когда я училась летать, здесь было голое поле.
В садике собралось много курсантов. Невольно бросилось в глаза, что парни рослые, крепкие. И почти нет девушек.
Я рассказала о нашем полку, о своих подругах летчицах, живых и погибших. Коротко описала боевой путь полка. Специально подчеркнула:
— К концу войны ветераны полка имели на своем счету по 800-1000 боевых вылетов.
Это вызвало гул удивления.
Смотрела я на внимательные лица парней и думала: понимают ли они, что значит одному летчику сделать тысячу боевых вылетов? Ведь это тысяча схваток с жестоким, расчетливым врагом, тысяча поединков со смертью!.. Даже самой иногда не верится, что мы, девчонки, смогли вынести такое неимоверное напряжение в боевой работе. Видимо, моральные силы оказались гораздо выше сил физических.
В заключение сообщила, что вместе со своей подругой, однополчанкой, едем сейчас по боевому пути полка. Раздавались возгласы: «Счастливого пути! Напишите об этой поездке! Приезжайте к нам еще!»
Поблагодарила. Пообещала.
На обратном пути заехали в институт механизации сельского хозяйства. Кстати, этот визит я уже заранее наметила.
Два года, проведенные в стенах института, вспоминаю всегда с удовольствием и благодарностью. И пусть из меня не получился механизатор, но если можно сказать, что из меня подучился в свое время летчик, то и в этом случае я многим обязана коллективу института и особенно тем старшим товарищам, которым в силу своего служебного и общественного положения приходилось «управлять» мною. Хорошо, что они не укрощали во мне страсть к авиации, а, наоборот, одобряли и помогали сочетать учебу в институте с полетами в аэроклубе. Я приходила сюда как в родной дом. И сейчас вошла как своя. Мне все здесь знакомо. Я знаю, что в институте работают несколько моих прежних друзей. Но встретиться не пришлось — все в отпуске. Да я а не рассчитывала почти на встречу. Было очень приятно просто заглянуть сюда.
Во второй половине дня мы с Руфой поехали в Энгельс. Леша остался готовить машину — завтра выезжаем.
Город Энгельс — исходная точка на нашей карте, откуда мы ушли на фронт. Там полгода упорной учебы. Там похоронены четыре подруги. Мы ехали к ним на могилу.
Переправились через Волгу на маленьком пароходике. Несколько таких речных трамвайчиков регулярно курсируют между двумя городами. Недалеко от пристани высятся фермы большого строящегося моста.
А Волга-то как разлилась! Плотина Волгоградской ГЭС заметно подняла уровень воды у Саратова. Островов совсем нет, только кое-где они обозначаются верхушками деревьев, едва выглядывающими из воды. Ширь необъятная, простор беспредельный. До чего ж ты хороша, моя Волга! Много мне доводилось видеть рек, но такой, как ты, не встречала.
Отправляясь в Энгельс, мы немало беспокоились — найдем ли могилу девушек? У ворот кладбища встретили несколько женщин, и они указали путь это недалеко от входа.
…Высокий серебристый памятник. На мраморной доске в овалах под плексигласом — четыре портрета. Под каждым написано: Виноградова Маша, Малахова Аня, Тормосина Лиля, Комогорцева Надя. Юные, улыбающиеся лица… Одна только Надя смотрит серьезно, в упор, будто спрашивает: «Помните ли вы о нас?»
Да, помним. И привезли вам от однополчан низкий поклон. Полк, в котором вы начали войну, пронес свое гвардейское знамя до великого Дня Победы. Скорбим, что вам не пришлось дожить до него. Но среди многих тысяч бомб, которые мы сбрасывали на фашистов, были и ваши — не раз восклицали над целью: «За Надю! За Лилю! За боевых подруг!»
— А ведь и мой портрет мог бы тут быть, — тихо сказала Руфа.
Конечно, она не могла не подумать об этом сейчас. В ту недобрую мартовскую ночь Ира Себрова и Руфа Гашева, «всем смертям назло», остались живы, хотя их самолет разбился в щепки.
— Скажи, Руфинка, неужели вы не получили никаких серьезных травм, как тогда уверяли?
— Получили… В момент удара мы потеряли сознание. Потом у меня внутри что-то долго ныло, трудно было дышать, а у Иры голова болела. Но мы боялись, как бы нас ле отчислили по состоянию здоровья, и бодрились, уверяли, что у нас все в порядке.
От подошедшей женщины узнали, что за могилой заботливо ухаживают пионеры. А в День Победы ко всем погибшим летчикам приходят с оркестром, возлагают венки.
Мы освежили цветы на могиле. Потом, перед уходом, как в почетном карауле застыли на минуту у памятника. Не легки эти минуты…
Молча отшагали километра два по шпалам железной дороги — напрямик к военному городку, где мы жили во время учебы.
Военной школы там, оказывается, давно нет. На территории бывшего гарнизона все заметно изменилось: много новых домов, вдоль дорожек растут высокие деревья. Но мы безошибочно взяли направление к зданию клуба, в одном крыле которого размещалась наша авиачасть.
Тихо, будто боясь вспугнуть что-то, подошли к входной двери с тыловой стороны большого двухэтажного здания. Это была дверь в наше общежитие.
— Такая же!
— Даже покрашена в тот же цвет.
Осторожно потрогали ручку. Замкнуто.
— Дверь в прошлое закрыта…
Но сердце так стучит, что память не выдержала, распахнула свои двери. Воспоминания гурьбой, обгоняя друг друга, выбежали вот на эту площадку. Здесь мы каждое утро делали зарядку. Как не хотелось иногда покидать теплую постель и выходить затемно на мороз! По нескольку раз проходили мы через эту дверь — в учебный корпус, на полигон, на полеты. Шли всегда строем. Только строем. Раскова не допускала одиночных хождений по гарнизону. Так-то оно спокойнее было для нее. И лучше для нас.
Шагать в ногу и держать равнение мы научились быстро. А если еще песню запеть, так совсем идти легко.
— Дисциплинированное тело положительно влияет на работу мозга, — наставительно говорил нам преподаватель по строевой подготовке.
Думается, он был прав. Немалую роль в умопомрачительном темпе нашей учебы сыграла военная дисциплина. Но главным ускорителем являлось безудержное стремление на фронт. Мы так боялись, что не успеем повоевать! Но войны хватило на нас с лихвой.
— Руфа, какое у тебя самое яркое воспоминание из всей нашей жизни здесь? — спрашиваю подругу. Она подумала и коротко ответила:
— Присяга.
— И я так считаю.
Тот день видится отчетливо, во всех деталях. Так оно, вероятно, и должно быть. Не может, не имеет права человек забывать своих клятв. Тем более клятву Родине. Она дается раз в жизни и на всю жизнь.
Это было 7 ноября 1941 года.
Враги хвастались, что уже видят в бинокли Москву, Кремль. В то утро они имели возможность в таком случае наблюдать парад на Красной площади. Но не фашистских войск, как обещал им Гитлер, а наших, советских, Буденный на коне принимал парад, объезжал войска, Многие воины, проходившие мимо Мавзолея вождя, направлялись с площади прямо в бой. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» звучали им вслед напутственные слова Сталина.
А мы, находясь далеко от Москвы, на берегах Волги, в этот день принимали присягу. В большом, по-праздничному украшенном заде, вдоль трех стен замерли шеренги девушек в летной военной форме. У четвертой стены стол, покрытый красной скатертью. За столом — командование части во главе с майором Расковой. Поочередно выходим из строя и в полнейшей тишине четко звучит: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Красной Армии, торжественно клянусь…» От волнения голос звенит, по спине пробегает мороз.«…Не щадя сил и самой жизни сражаться до полной победы над врагом».
Клятвенное обещание скрепляется подписью под текстом присяги.
Потом Марина Михайловна Раскова поздравила нас. Она всегда говорила хорошо, ее слова шли от души и поэтому легко проникали в наши сердца. Мне особенно запомнилась одна фраза: «Учитесь упорно, настойчиво, — говорила она, — экзамен будете сдавать на доле боя».
С чистой совестью можно сказать теперь, что экзамен тот мы выдержали.
— А еще мне запомнился день, когда в буран бежали к самолетам держать их, чтобы не перевернулись, — продолжаю вспоминать.
— Направление держали по компасу, света белого не видно было…
— Вон с того поля улетали на фронт…
Обогнули правое крыло здания и с центрального входа вошли в клуб. Надеялись увидеть там стенд или хоть несколько фотографий, рассказывающих о том, что в этом доме в 1941–1942 годах находилась женская авиачасть, что девушки воевали на фронтах Великой Отечественной войны и сделали то-то и то-то. Но ничего нет. Немало удивленные, поднялись в кабинет заведующего клубом и откровенно высказали свое мнение. Кажется, излишне горячились. Заведующий немного смущенный нашим неожиданным визитом, объяснил, что находится на этой должности всего два месяца, что учреждение, которое здесь было раньше, переехало со всем своим хозяйством.
— Но как раз сегодня у нас будет совещание, на котором собираемся поговорить о наших конкретных задачах в деле воспитания молодежи, — сказал он.
— Вот вам и карты в руки, как говорится. Покажите, как учились здесь девушки, как потом воевали.
Сообщили адреса, где можно достать материалы. Заведующий клубом заверил, что обязательно воспользуется нашим советом.
Уходили уже в другом настроении. Немного остыли. Приехали домой усталые, но удовлетворенные. Мы осуществили сегодня самое главное, из-за чего остановились здесь, — побывали в Энгельсе.
Когда открыли калитку, то нам сразу бросилась в глаза блестящая никелированная улыбка «Волги».
— Машина в полной боевой готовности, — доложил Леша.
26 июля
Весь вчерашний день прошел в пути. Не доезжая 70 километров до Волгограда, остановились в поле на ночной отдых.
Сегодня намереваемся немного задержаться в Волгограде — нельзя проехать такой город без остановки. Говорят, что он сейчас очень красив.
После чашки горячего чая тронулись в путь.
— Когда мы летели на фронт, садились для заправки горючим где-то севернее города, — вспоминаю я. — Аэродром был очень пыльный. Можно было даже на солнце смотреть.
— Я сегодня во сне видела, будто лечу совсем близко от солнца, его хоть руками бери, — говорит Руфа. — Поймала я солнце, а оно вдруг как засигналит!
— Это ты во сне за руль схватилась, — смеемся над Руфой.
Ночью она спит головой прямо под рулем. Иногда задевает за сигнал, и тогда машина дает громкие позывные в ночи.
Потянулись линии высоковольтных передач. Чувствуется, что приближается мощная ГЭС. Вскоре подъезжаем к «городским воротам». На серых постаментах башни танков с пушками и надпись:
«СЛАВА ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДА!
Здесь, не жалея жизни, героически сражались за Родину бойцы Волжской военной флотилии, танкисты, саперы и части войск НКВД Сталинградского гарнизона. Август 1942 года».
Эта надпись как бы говорит каждому въезжающему: «Вспомни 1942 год. Вспомни, как стоял насмерть город-герой».
Сердце с готовностью откликается на этот призыв. На просторной красивой площади около Тракторного завода Леша неожиданно затормозил, съехал к бровке. Указывает на стрелу с надписью: «На плотину».
— Быть в Волгограде и не взглянуть на Волжскую ГЭС — этого мы потом никогда себе не простим, — решительно заявляет он.
Дело в том, что в силу ограниченного времени мы планировали побывать только на Мамаевом кургане и нигде больше. Сейчас же, подумав немного, решаем:
— Поехали!
Вот она, Волжская ГЭС имени XXII съезда партии. Самая мощная в Европе. Гигантское сооружение! Достойное великой реки, славного города и нашего времени.
Едем по плотине. Здесь стоят какие-то непонятные для нас огромные высокие агрегаты, окрашенные в желтый и красный цвета. Проходит линия железной дороги. Умышленно едем тихо-тихо, так как надпись предупреждает, что останавливаться на плотине не разрешается, а ведь хочется все рассмотреть! Проезжаем над одним из шлюзов, через который в этот момент проходит пароход «Эльтон». С интересом наблюдаем за его шлюзованием. Очень заметна разница в уровнях воды в реке. Да и сама Волга разная. Ниже плотины — песчаными островами и отмелями разделяется на несколько рукавов, а выше — необъятное Волжское водохранилище. Сколько мощи хранится под этой спокойной гладью? Эх, уже конец… Машина поворачивает обратно, на правый берег. Бросаем последний восхищенный взгляд на ГЭС.
— Какая махина! — восторгается Руфина. С трудом верится, что плотину создали человеческие руки.
Только бы не случилось так, чтобы другие руки — в мире есть такие! — в одно мгновенье уничтожили бы это творение.
— Теперь на Мамаев курган! — командует сам себе водитель.
Курган видно издалека. Вот мы на вершине.
Там идут большие строительные работы — возводится левый комплекс архитектурных и скульптурных сооружений. На самой вершине воздвигается колоссальная статуя женщины, символизирующая Родину.
Чуть пониже — из огромной серой гранитной глыбы высечена Скорбящая мать: женщина в платке склонила голову, на руках — полуобнаженное тело убитого воина, его лицо прикрыто краем знамени. Мы остановились перед этой скульптурой пораженные. Глядя на нее, подумалось: поистине нет в мире большей скорби, чем скорбь матери над убитым сыном… Гранитная Мать не плакала. А мы, две живые матери, стояли перед ней с полными слез глазами. «Люди! — хотелось крикнуть во весь голос. — Не надо больше войн! Пусть все матери мира со счастливой улыбкой обнимают своих детей, а не склоняются над ними в скорбном молчании. Дайте мир и радость нашей планете!»
Заехали к дому Павлова. Теперь это обыкновенный жилой дом в четыре этажа.
Напротив, через дорогу, стоит здание, от которого на нас сразу пахнуло дымом военных лет: полуразрушенная четырехэтажная мельница. Пустые глазницы окон, закопченные огнем пожара кирпичные стены, на которых и сейчас ясно видны многочисленные следы от осколков снарядов. Это здание — единственное во всем городе, оставленное как наглядное пособие к слову «война».
— В этом городе славно воевали наши товарищи по оружию, летчики 2-й гвардейской Сталинградской дивизии, — рассматривая мрачный остов здания, говорит Руфа. — Ты помнишь, в Крыму нам потом пришлось некоторое время работать в составе этой дивизии?
Помню, конечно. Слышала много похвального и прямо-таки невероятного о работе ночных бомбардировщиков ПО-2 в период битвы за город. Им приходилось бомбить отдельные улицы, дома и даже, говорили, забрасывать гранаты в окна зданий. За самоотверженную, эффективную работу дивизии было присвоено звание гвардейской.
Между прочим, командир этой дивизии, генерал-майор Кузнецов, очень неохотно брал тогда к себе «девчачий» полк. Боялся, наверное, что мы потянем их вниз по показателям. Но потом, когда Крым был освобожден и нас отзывали опять в 4-ю воздушную армию, он просил: «Оставьте мне 46-й!» Понял, что мы тоже не зря назывались гвардейцами.
Трижды видела я этот город, и каждый раз он был иным. В мае 1942 года смотрела на него с самолета, когда летела на фронт. Город пестрым многогранником лежал на волжском берегу. Кварталы, улицы, площади, дороги все как у многих больших городов. Он жил нормальной трудовой жизнью. Через год мне довелось взглянуть на него снова, тоже с высоты полета. Я была потрясена — города не существовало. Будто здесь недавно произошло землетрясение. Груды битого кирпича, кое-где торчащие из развалил трубы, ощетинившиеся железные прутья арматуры. А в районе Тракторного — огромное кладбище машин, танков. Мертвый, искореженный металл…
И вот сегодня посмотрела на него в третий раз. Город возродился заново, и еще более прекрасный. Это чудо. Жаль только, что нельзя сотворить такое же чудо с людьми, которые погибли здесь в войну.
Нам не хотелось уезжать из города, где не осмотрели еще много достопримечательных мест. Но мы приехали сюда не на экскурсию. У нас другая цель, другая дорога. Мы только у начала боевого пути полка. Впереди — еще вся война!..
При выезде из Волгограда напоминаем курс водителю:
— На Краснодон!
Этот город известен сейчас всему миру. Но в мае 1942 года, когда наш полк прилетел туда, он был неприметным районным городком Донбасса, а будущие молодогвардейцы — обыкновенными мальчишками и девчонками. В трех километрах от Краснодона находился еще менее приметный поселок Труд Горняка. У нас на карте он подчеркнут теперь жирной красной линией и около него стоит буква «Ф» — фронт.
К вечеру добрались до Калача. Погрузились на паром и вот плывем по Дону на «Волге». Солнце уже зашло, но еще совсем светло. От реки веет прохладой. Приятно на воде после жаркого дня!
27 июля
Вчера долго не могли выбрать место для стоянки — голая степь. Ехали до 11 часов вечера по ухабистой проселочной дороге. Наконец в поле зрения фар попало одинокое раскидистое дерево. Съехали. Кругом высокая, жесткая трава. Кое-как поужинали и легли спать все трое в машине. Нам у переправы один шофер сказал, что здесь в степи много змей. Мы с Руфой побоялись, как бы наш бессменный водитель не пострадал от них, и уговорили его лечь с нами в машине. Он нехотя согласился.
— Вы полагаете, что ночевка между двух женщин для меня менее опасна, чем укус змеи? — ворчал он, залезая в свой спальный мешок.
Всю ночь в ветвях дерева кто-то шелестел. Мне казалось — змеи. Утром увидели, что ночевали под дикой яблоней. Вверху обнаружили гнездо. Значит, это птица волновалась.
Петляем по степным дорогам. А их так много! И ни на одной нет указателя. Один раз даже немного заблудились — местность совершенно безориентирная.
— Едут два штурмана и заблудились, — съязвил Леша.
— Попробуй-ка, разберись в таком лабиринте! На карте эти дороги не обозначены, — оправдывались мы.
Зной невыносимый. Уборка хлеба в полном разгаре. К элеватору, как к главному штабу уборочной кампании, протянулось много нитей-дорог, по которым непрерывным потоком катит хлеб. Шоферы носятся, как дьяволы, поднимая страшенную пыль. На их лицах — смуглых, потных — сверкают только белки глаз да зубы. При встрече с нами они озорно блестят улыбкой. Некоторые, видя, что поднятая ими пыль густым облаком накрывает нашу машину, бросают сочувственные, извиняющиеся взгляды: понимаю, мол, что неприятно, но я очень спешу — идет большой хлеб!
Ориентируемся в основном но солнцу. А солнце встало на работу рано! Оно будто сознает, какая ответственность лежит на нем сейчас, во время уборочной, и щедро льет на землю горячий поток лучей. Грешно, конечно, роптать на такую щедрость, но мы зароптали, когда пришлось ставить машину на домкрат среди голой степи, на горушке — вышел из строя подшипник у переднего колеса. Работали над заменой около часа. Впрочем, кто как работал, видно из следующих слов письма Руфы к Михаилу:
«Леша трудился, Рая давала указания, а я была не при деле. Тем не менее умудрилась измазаться в грязном масле. Потом мне стало худо от жары — сердце сжало и не отпускает. Я выпила лекарство, но, видать, переборщила…»
Вот в этот-то момент Руфина переменилась в лице и тихо попросила:
— Леша, можно я сяду в машину?
Я с тревогой наблюдала за ней. Руфа редко жалуется на сердце, но случается все-таки, что оно самым неприятным образом напоминает о себе война не прошла для нас бесследно.
Сегодня проехали несколько новых пунктов, которых на нашей карте нет. Например, поселок Новоугольный. На самом деле это хороший молодой городок кирпичные двухэтажные дома, широкие улицы, обсаженные деревьями, городская публика. Мы уже не удивляемся теперь, когда на пути возникает поселок или город, не обозначенный на карте. Уяснили — это закономерно.
Сейчас расположились на берегу Северного Донца, около Белой Калитвы. Тихий теплый вечер. После несносной дневной жары и пыли с превеликим удовольствием залезли в реку, вымыли машину, помылись сами. На ужин варится картошка и компот из диких яблок. Комаров, как ни странно, у реки очень мало. Значит, спать будем хорошо.
28 июля
Краснодон — широкий одноэтажный город. В сорок втором он был гораздо меньше. Очевидно, все близлежащие поселки теперь влились в него.
Мы быстро отыскали дорогу к музею «Молодая гвардия» — мыслимо ли не заглянуть туда? Продолговатое белое здание, довольно вместительное. Рядом специальная стоянка для автомашин. Это верный признак того, что сюда часто приезжают экскурсии.
В музее несколько залов. В первом рассказывается о революционном прошлом города, о старых большевиках, которые делали революцию, устанавливали Советскую власть на местах. В другом зале показана довоенная жизнь молодогвардейцев, их школьные годы. Экспонируются дневники, тетради, рукоделие, модели, стихи, одежда.
Зал членов штаба организации. На стене — большие портреты Ивана Земнухова, Ули Громовой, Любы Шевцовой, Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Василия Левашова, Виктора Третьякевича, Ивана Туркенича. В живых остался только один — Василий Левашов. А Иван Туркевич, хоть и пережил краснодонскую трагедию, но, участвуя потом в боях в составе Советской Армии, умер в городе Жешове от тяжелого ранения.
Дальше — самое драматичное: гибель членов «Молодой гвардии»…
«В ночь на 16 января 1943 года свыше сорока участников-молодогвардейцев, частью уже мертвых, а частью живых, были брошены в шурф шахты № 5», — читаем фотокопию газетного сообщения. Похороны состоялись 1 марта 1943 года, после прихода Советской Армии. Совсем немного не дожили… Многочисленные фотографии рассказывают о последних почестях героям.
Переходя из зала в зал, мы словно заново перечитываем страницы фадеевского романа.
Много лет спустя выявили имена предателей. Они получили по заслугам. Вспоминаются слова Юлиуса Фучика: «Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых». Не забыто!
В последних залах погибшие будто воскресают, чтобы вечно жить с живыми. Их именами названы шахты, пионерские отряды, бригады, улицы. Они зачислены почетными членами рабочих коллективов, и на их имя открыт лицевой счет. Много славных дел совершается в честь молодогвардейцев. Здесь громко звучит мажорный аккорд к краснодонской «Оптимистической трагедии».
Оставив короткую запись в книге отзывов музея, направляемся к месту гибели молодогвардейцев.
В Краснодоне каждый укажет путь к той старой шахте. Это почти на окраине города. Около горы пустой породы стоит высокий серо-зеленый обелиск. На всех четырех сторонах укреплены темно-красные мраморные доски, на них золотом написаны имена погибших. В конце добавлено: «и семь неопознанных»… Вокруг обелиска садик, обнесенный оградой. Эти деревья посажены руками теперешних комсомольцев Краснодона.
Шумит листва, рассказывает людям легенду о «Молодой гвардии»… Здесь оборвался героический путь славных краснодонских патриотов.
Теперь мы отправимся туда, где начался боевой путь нашего полка.
— Скажите, пожалуйста, как проехать в Труд Горняка? — спрашиваем встречную жительницу.
Мы не представляли себе ясно, где находится поселок по отношению к Краснодону. Смутно припомнилось — как будто на север. И точно, не ошиблись!
29 июля
Ночевали в поле, не доезжая 90 километров до Ростова.
Сейчас сидим в Ростове на станции техобслуживания. Леша пытается добыть какую-то деталь для машины. Необходимо также сделать профилактический осмотр. Стоит адская жарища, негде укрыться от палящих лучей. Мы с Руфой приютились на скамеечке около конторы в скупой тени. Попытаюсь теперь закончить рассказ о вчерашнем дне.
Труд Горняка нашли легко. Правда, поселок разросся почти до неузнаваемости. Около проходит новая асфальтированная дорога, ее в сорок втором и в помине не было Она обросла разными постройками — кафе, магазинами, павильонами.
Мы еще в Москве порешили, что в каждом населенном пункте, где стоял полк и куда будем заезжать, следует искать встречи с теми, кто жил там во время войны. Они могут поделиться воспоминаниями, рассказать о своих прежних впечатлениях о девушках-летчицах.
Наугад постучали тихонько в калитку одного дома. Волнуемся — ведь это первый стук в наше фронтовое прошлое. Залаяла собака. Вышел седой высокий старик. Одной ноги нет. Он вроде как испугался, когда мы заговорили о сорок втором годе. Отвечал не очень-то охотно, с опаской.
— Ничего не знаю, не допытывался, кто здесь стоял на аэродроме, отговаривался дед.
Но мало-помалу мы кое-что вытянули из него. Да, он хорошо помнит, как летом 1942 года здесь были летчицы. Что командир Раскова была полная, солидная. Это он перепутал, конечно, с нашим комиссаром — Евдокией Яковлевной Рачкевич. Она действительно была полноватая, наша заботливая «мамочка», как мы ее до сих пор называем между собой. А Раскова не была «солидной». Как сейчас вижу Марину Михайловну во время последнего разговора с нами, перед отлетом обратно в Энгельс. Смысл ее слов был такой: «Я уверена, что вы будете хорошо воевать. Знаю, что рветесь в бой. Запомните: бывают такие моменты, когда сила твоей любви к Родине измеряется силой ненависти к ее врагам. Я заверила командование, что девушки в боевой работе не отстанут от мужчин. Желаю вам стать гвардейцами!» Она говорит и слегка волнуется. На щеках румянец, глаза блестят. Такой Раскова и осталась в моем сердце — красивая, энергичная, с открытой душевной улыбкой. Разве мы знали тогда, что видим ее в последний раз! Тяжелая весть о гибели дошла до нас зимой. Марина Михайловна Раскова погибла 12 января 1943 года при выполнении служебных обязанностей.
— Очень мы удивились, когда увидели девушек-летчиц целый полк, вспоминал дед. — И все такие шустрые, бойкие. Не раз ходили тайком посмотреть на вас, — признался он.
Удивился не только ты, дед, но и полковник Попов, командир авиадивизии, в которую мы прибыли. Я писала уже, что известие о таком пополнении прямо-таки ошарашило его. Еще бы! Время тяжелое, немцы готовят новое наступление здесь, на Южном фронте, а тут девчонок целый полк подсунули!
С Дмитрием Дмитриевичем Поповым я сейчас часто встречаюсь — мы в одной парторганизации при Центральном доме авиации и космонавтики. Мне давно хотелось поговорить с ним о годах войны, услышать из его уст рассказ о том, какое впечатление произвело тогда на него наше прибытие. Как-то представился удобный случай. Дмитрий Дмитриевич охотно начал вспоминать.
— Какой командир на фронте не радовался, когда ему сообщали, что его соединение пополняется целой боевой частью? Однако радость моя мгновенно исчезла, когда мне пояснили, что это женский полк на ПО-2. Откровенно говоря, я был обескуражен и глубоко разочарован.
Дмитрий Дмитриевич сделал жест, который означал: не взыщите, мол, за такую откровенность.
— Не помню, что нас с комиссаром задержало, только прилетели мы в ваш полк на следующее утро. Сразу бросились в глаза неумело замаскированные самолеты, расположившиеся кое-где любители позагорать, излишнее хождение и езда по аэродрому, который находился, кстати говоря, на основном маршруте полетов самолетов противника. В общем, какая-то детская беспечность. Все это было похоже на аэродром глубокого тыла, а не на фронтовой аэродром и создавало неблагоприятное впечатление.
— Мы это сразу почувствовали тогда!
— Да… Был такой грех, хотел я отказаться от вас. Но вскоре мои опасения отпали. Я убедился, что полк укомплектован умело и достаточно хорошо подготовлен к ночным полетам. Увидел, что у вас здоровый, дружный коллектив. Меня обрадовало, что все вы добровольцы и горите желанием немедленно лететь на боевые задания. Но, к сожалению, в вашей подготовке были найдены пробелы. Например, вы не имели никакого понятия о полетах в прожекторах. Пришлось потренировать вас немного в луче.
— Потом-то мы поняли, как это было необходимо.
— Теперь дело прошлое, и я могу открыть один секрет. Была у нас и вторая программа, неписаная, о которой не знал не только летный состав, но и командование полка. Мы решили посылать вас сначала на малоактивные участки фронта, где почти не было зенитного противодействия, чтобы приучить к обстрелу постепенно.
— Так вот почему, оказывается, прилетая с первых боевых вылетов, мы с летчицей не могли доложить, что подвергались обстрелу! А нам по глупости так хотелось этого.
— Уж не ваши ли слова подслушал я однажды на старте? Помню, в одну из первых боевых ночей я оказался невольным свидетелем разговора между девушками-летчицами. Они только что вернулись с боевого задания и делились впечатлениями. У некоторых возбужденно блестели глаза. И вдруг одна девушка заявила с каким-то чувством разочарования, что выполнять задания не так уж сложно и что «на такой войне даже не поседеешь». Нам с комиссаром пришлось потом провести соответствующее разъяснение на общем собрании полка, подчеркнуть, что войны легкой не бывает и что каждый боевой вылет, независимо от степени трудности и обстановки, чреват различными осложнениями и даже гибелью экипажа. Пример тому — гибель Ольховской с Тарасовой.
— Я хорошо помню то собрание. И ваши слова о том, что с огнем шутить нельзя, что риск, храбрость, смелость должны быть разумными.
— Интересно, в полетах вы всегда помнили об этом?
— К сожалению, нет. Память-то девичья была еще.
…В Труде Горняка на месте фронтового аэродрома теперь построена новая шахта и ЦОФ — центральная обогатительная фабрика.
— А жили вы вон в той школе, — указал дед на небольшое здание.
Но там находился, по-моему, только технический состав.
Направились к школе. Она каким-то чудом уцелела после тех жестоких боев, которые разыгрались здесь в начале 1943 года. Нам рассказала о них Акулина Сергеевна Будкова. Ее дом почти напротив школы. Женщина сидела на лавочке, читала газету. Завязался разговор о военных годах.
— Когда паши уже освобождали город, бои шли здесь сильные, — вспоминала она. — Такая стрельба была! Мы все время в погребах сидели… Сколько же тут народу полегло!
Акулина Сергеевна разволновалась, на глазах и в голосе дрожали слезы.
— Это было зимой, — продолжала она, — а весной, как только снег немного стаял, мы собрали убитых наших бойцов и похоронили вон там, около школы, в братской могиле. Теперь на том месте памятник, видите?
Почти в каждом поселке, где прошла война, стоят подобные памятники.
Акулина Сергеевна помнила, конечно, о нашем полку.
— Вы все больше по ночам летали. Гудят, бывало, всю ночь в небе самолеты. А на крыльях у них огоньки — красный и зеленый. Мы поражались: такие молоденькие девушки и не боятся летать ночью! Долго ли потом воевали?
Руфа коротко рассказала о том, какой боевой путь прошел полк. Наша собеседница аж руками всплеснула, когда услышала, что мы дошли до Берлина и что каждая летчица сделала по многу сотен боевых вылетов. Вспомнили, что именно здесь, в Труде Горняка, понесли первую боевую утрату.
— Господи, да как же? А мы и не знали… А командир-то ваша жива ли?
— Жива, жива! Она в Москве, ведет большую общественную работу в Комитете ветеранов войны и в Комитете советских женщин. И по-прежнему на ней лежит много забот о своих бывших подчиненных — ведь мы и сейчас живем дружно.
— Недавно отмечали ее юбилей — Евдокии Давыдовне исполнилось пятьдесят лет.
— Вот как годы-то бегут!.. Узнали наш поселок?
— Едва. Так много нового!
— Все после войны ведь построено.
Выезжали из Труда Горняка с чувством большого удовлетворения. Мы побывали там, откуда начался наш фронтовой, настоящий боевой путь. И даже то, что на месте нашего аэродрома выросла теперь шахта и ЦОФ, нас нисколько не огорчило. Новые дома, в которых мы живем в Москве, выстроены тоже на месте пустырей.
— Наконец-то начали воевать, а то все на фронт ехали, — сказала я Руфе.
— Не очень радуйся. Сейчас нам придется отступать до станицы Ассиновской.
— Теперь это не так горько и обидно, как в сорок втором.
— Штурманы, прошу сообщить курс! — потребовал водитель.
— На Ростов!
30 июля
В 13.00 выехали из Ростова.
Нужно до конца отчитаться за прошедший день.
Просидели вчера на станции техобслуживания до половины третьего, но бестолку — так и не достали необходимую деталь для машины. Пообедали в рабочей столовой и поехали в кемпинг. Устроились в просторной палатке, помылись под горячим душем (какое наслаждение!), надели свежие платья — в общем, приняли вполне культурный вид.
— Теперь поедем в гости!
В Ростове живут несколько наших однополчанок. Двух из них мы решили обязательно навестить в этот вечер: Катю Бройко, моего бывшего техника самолета, и Дину Никулину, командира эскадрильи.
Оказалось, что Катя живет недалеко от кемпинга. Наш приезд был полной неожиданностью для нее.
— Дина, а как твои старые раны, беспокоят? — спрашивает Руфа.
— Иногда, перед ненастьем. Это даже удобно — я всегда наперед знаю, какая будет погода.
И сразу же переменила разговор. Не хочет вспоминать о том страшном полете. Думает, что отделается шуткой. Нет, дорогой мой командир, не получится. Я сама тогда расскажу.
Июль 1943 года. Станица Ивановская на Кубани. Оттуда наш полк уже долгое время летал на бомбежку «Голубой линии».
Командир эскадрильи Дина Никулина со штурманом Лелей Радчиковой приближались к цели. Приглушив мотор, начали планировать — хотелось бесшумно подойти к объекту и спокойно прицелиться. Вот бомбы отделились от плоскостей. Дина разворачивается, осторожно дает газ. Приготовилась к неизбежному. Сейчас начнется!.. Так и есть: через секунду вспыхнула дуэль скоротечная, жестокая. Теперь, без бомб, можно свободнее маневрировать. Трудно… Прицел врага становится все точнее. Но ведь не впервые попадает Дина в такой переплет! Она бросает машину то вправо, то влево, стараясь оторваться от липких лучей прожекторов. Разорвана плоскость, разворочен борт самолета. Вдруг словно горячим гвоздем пропороло ногу. Как бы ища причину, Дина бросила взгляд вправо. То, что увидела, заставило на мгновенье забыть о боли — по плоскости бежали рыжие светлячки!
— Дина, я ранена… — тихо сообщает штурман. И в этот момент в лицо ударяет резкий запах бензина. «Пробит бензобак!» — обожгла догадка. Сколько сразу навалилось бед! Другой бы растерялся, но Дина Никулина не из таких. Самолет, подчиняясь воле летчицы, входит в глубокое скольжение, сыплется вниз — только так можно сбить пламя. Счет идет на секунды… Стоп! Больше снижаться нельзя. Взгляд на плоскость — огоньки погасли! Вздох облегчения. Обстрел прекратился, прожекторы выключились. Очевидно, посчитали, что самолет сбит.
— Леля, как чувствуешь себя? Куда ранена? — спрашивает Дина.
Молчание. Никулина поворачивается, видит: голова штурмана неловко лежит на боргу, глаза закрыты. «Неужели убита?» — ужаснулась она. В лицо опять бьют едкие пары бензина. Раненая нога не подчиняется. В ушах появился шум и звон. «Наверное, от потери крови», — догадывается Дина. Перед глазами замелькали огненные мушки. А линия фронта уже близко! «Скорее, скорее, пока у меня и у мотора есть силы»… Последние капли бензина вытекли, мотор замолчал. Но наземная перестрелка уже позади! Впереди — дорога, по ней идут две машины с приглушенными фарами. Никулина сажает самолет прямо на дорогу. Наши бойцы выпрыгивают из машин, бегут к самолету: «Девушки?!»
Через полчаса врачи обрабатывали раны летчиц. С трудом вывели Лелю Радчикову из шокового состояния.
Дина причисляет этот полет к «неудачным» — пришлось на некоторое время выйти из строя, лежать в госпитале. Но среди 774 боевых вылетов, которые она совершила за время войны, было, конечно, и много удачных.
…Луна заглянула к нам в палатку через открытую дверь. Осветила оживленные лица моих подруг. «Как будто мы опять в полку, сидим ночью на старте», — подумалось в этот момент. На старте в часы затишья в боевой работе мы обычно пели.
— Давайте споем, а? — сказала я осторожно. Предложение никому не показалось странным.
— Запевай, Дина! — просит Катя.
Никулина всегда была первым участником нашей интересной полковой самодеятельности. Хорошо исполняла лирические, народные песни, недурно танцевала вальс-чечетку. Легко, свободно Дина запела вполголоса приятным меццо-сопрано:
Теплый ветер веет, развезло дороги, И на Южном фронте оттепель опять…Мы дружно вступили:
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге… Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.Сегодня к одиннадцати часам Дина и Катя пришли к нам сказать до свиданья и пожелать счастливого пути. Мы сфотографировались, потом побросали кое-как своп вещи в машину — ростовское солнце уже невыносимо пекло — и, распрощавшись с подругами, выехали из города по направлению к Ольгинской.
— Руфа, что тебе запомнилось об этой станице? — опрашиваю в пути.
— Очень мало. Мы ведь недолго в ней стояли — отступали тогда… Жили в длинном коровнике, который в шутку называли гостиницей «Крылатая корова».
— Мне не забыть полеты из Ольгинской. Ходили на задание под Таганрог, на Миус. Вся земля между Ростовом и Таганрогом горела. В Ростове полыхали пожары. Кажется, именно в те ночи я до конца осознала, какое страшное бедствие обрушилось на нашу страну.
— Нелегко нам было тогда, при отступлении…
В станице Ольгинской на улицах — ни души. Будто все живое вымерло от палящего зноя.
Подошли к дому — второму от края со стороны бывшего нашего аэродрома.
Вышла Мария Федоровна Шевцова. Мы представились и разговорились.
— Тут ведь в то время стояли и мужчины-летчики, — вспоминает она, целый полк. Помолчав немного, добавила:
— Двух летчиков похоронили здесь. Немецкий самолет напал…
Помню, как шли за машиной на кладбище. Уже вечерело. Лил дождь. Машина то и дело застревала в грязи. Мы вытаскивали ее и опять шли. Долго, будто через всю Россию.
По лицу женщины пробежала тень. Она вздохнула и, глядя куда-то вдаль, с глубокой печалью сказала:
— Много в ту пору погибло людей. Не дай-то бог еще раз пережить такие лихие времена… А вы из того девичьего полка, значит? — стряхнув с себя тяжелые воспоминания, спрашивает Мария Федоровна.
Мы рассказали вкратце о том, где и как воевал полк. Мать и подошедший сын Николай слушали внимательно и, кажется, с удивлением. Они с интересом просмотрели книгу «Героини войны», портреты наших девушек.
— Где бы такую достать? — перелистывая страницы, поинтересовался Николай. — Хорошая, видать.
Эх, жаль, что взяли с собой один-единственный экземпляр. Как было бы кстати подарить сейчас книгу! Не додумали.
— Вышлем из Москвы, — пообещали.
Уже на трассе спохватились, что не записали точного адреса Шевцовых. Непростительная рассеянность.
— Это от жары. Ничего, не расстраивайтесь, уточним через поссовет, успокаивает нас Леша.
Около девяти вечера съехали в посадки. Готовимся ко сну. Очень устали за сегодняшний день — ночью-то почти не спали, а с утра задыхаемся от жары.
— Девочки, что-то вы приуныли, — замечает Леша.
— Притомились малость, — нехотя отвечает Руфа, залезая в спальный мешок.
Заканчиваю писать. Спать, спать…
31 июля
Чудесное, свежее утро. Мы хорошо выспались и чувствуем себя превосходно. Готовы в бодром настроении и с новыми силами продолжать наш нелегкий путь. Сегодня по плану — найти хутор Воровской. У нас на карте он не обозначен — маловат хуторок для такого масштаба. Перед нашим отъездом из Москвы Ира Себрова — она теперь моя соседка по дому — показала на карте изгиб Кубани и сказала: «Я. отлично помню, что Воровской здесь». Но как к нему добраться, какие дороги ведут туда? Ира помнила этот хутор с птичьего полета, так сказать, а мы-то сейчас на машине едем.
Проезжаем Кропоткин. Здесь нужно съезжать с трассы. По какой улице? Съездов много! Обращаемся за помощью к милиционеру:
— Скажите, пожалуйста, как проехать на хутор Воровской?
— Не знаю. Тут их много всяких хуторов, — получаем короткий ответ.
В растерянности стоим на перекрестке.
Кто-то из шоферов подсказал, что это, может быть, тот, на который нужно ехать через Кавказскую.
Поехали. Трясемся, как и перед Ольгинской, по пыльной неровной дороге. Она капризно петляет, пересекается с другими, такими же проселочными дорогами, ставя нас иногда в тупик — куда сворачивать? Наконец справа увидели широкую пойму Кубани. Чувствую, что едем правильно. Вот дорога пошла прямо по-над обрывом. Потом поворот и… неужели наш Воровской?
У обочины стоит старая женщина с длинной вязанкой хвороста. Спрашиваем, что за поселок впереди.
— А это Воровской, — говорит она, делая ударение на первом слоге.
Сердце так и подскочило.
«Волга» двинулась дальше. Просто не верится, что мы опять в Воровском! Потихоньку едем вдоль длинного ряда домов, где когда-то стояли наши самолеты — хвостами прямо в палисадники.
И тут откуда-то с глубокого дна моей памяти всплыли один за другим и замелькали кадры из ленты прошлых дней.
…Вот мы прилетели в Воровской. Жительницы ведрами тащат нам прямо к самолетам абрикосы — спелые, сладкие. Я наслаждаюсь. Никогда еще ела абрикосы доотвала. Женщины довольны, что угощение пришлось по вкусу.
…Сижу на свернутых самолетных чехлах, одна. Солнце уже клонится к закату, а моей летчицы, Кати Пискаревой, все нет. Она с самого утра улетела по спецзаданию. Хочется верить, что с ней ничего не случилось, но тревога гложет, как червь, — уж очень часты случаи нападения вражеских истребителей на наши беззащитные ПО-2.
…А это кто в кадре? Что-то темно, ночь наверно. Опять мое лицо? Но почему сижу в передней кабине — я же пока еще штурман? Ах, да! Катя так и не прилетела, задержали в дивизии, а полк снимается по тревоге — вражеские танки подходят к аэродрому. Мне поручили перегнать другой самолет — его некому поднять в воздух. И чего волнуюсь? Ведь мой полет в качестве летчика не состоится! В самый последний момент на связном самолете привезли одну нашу летчицу — она осталась «безлошадной», немец поджег ее самолет. И вот я опять во второй кабине вместе с Таней Алексеевой, старшим техником эскадрильи.
Взлетели…
…Следующий кадр не документальный, кажется. Своими глазами не видела, знаю эту историю только по рассказам действующих лиц. Двое идут по степи: инженер полка Софья Ивановна Озеркова и техник самолета. Ира Каширина. Они идут по территории, уже занятой врагом. В ту ночь, когда полк снялся по тревоге, они выезжали на последней машине. Вскоре произошла поломка Озеркова и Каширина вернулись в полк через месяц. В гражданских платьях с чужого плеча, измученные физически и духовно…
Медленно едем по хутору. Тихо, людей не видно — наверное, все на полевых работах. У одного из домов замечаем двух пожилых женщин, сидят на лавочке в тени деревьев. Знакомимся.
— Помним, помним, были у нас в войну летчицы, — говорит одна, полная, с добродушным лицом и мягкими, неторопливыми движениями — Евдокия Филипповна Ермакова. — Как начнете, бывало, выруливать, так пыль столбами вокруг, улыбаясь, рассказывает она. — Аэродром-то ваш был прямо вот тут, на этом поле. А здесь, где три деревца, школа была, помните? Ее разрушили немцы во время отступления.
— У меня стояли две летчицы, — говорит другая, Чепелева Анна Ивановна. — Общежития-то у вас не было, спали прямо под самолетами, а девушкам и помыться и постирать надо. Летчицы нас все консервами угощали, а мы их — молоком да медом.
— В ту ночь, когда вы от нас улетали, один самолет вон там горел, указывает Евдокия Филипповна на восточную часть хутора.
— Это мы сами подожгли неисправный самолет, чтобы он не достался немцам, — поясняет Руфа.
— Вскоре, как вы улетели, приехали немцы на мотоциклах. А утром прошла их целая колонна.
Мы с Руфиной переглянулись. Значит, вовремя поднялись тогда в воздух.
К машине подошла большая стая гусей. Они все, как один, вытянули шеи в сторону «Волги» и разглядывали ее с таким видом, будто хотели сказать: «Гм, московская машина? Любопытно! Такое здесь очень редко увидишь!» Леша схватил этот момент объективом фотоаппарата.
Мы, как уже повелось, рассказали женщинам о нашем полку — где и как воевали, с какими результатами пришли к концу войны. Показали фотографии наших летчиц в книге. Женщины качали головами, восхищались, приговаривая: «Ну и молодцы!»
— А много ли у вас погибло? — спрашивает Евдокия Филипповна.
— Тридцать три человека, — тихо отвечает Руфа. Женщины пригорюнились, вздохнули.
— Молоденькие вы были тогда, — продолжает неторопливо Евдокия Филипповна. — Я все удивлялась, неужели им не страшно летать? Стреляли по вас…
— На войне всегда стреляют, — говорим. — Ну, а как вы здесь поживаете теперь?
— Ничего, потихоньку. Урожай в этом году хороший.
Да, мы видели, урожай богатый… Давно заросли воронки от взрывов бомб, и там, где зияли свежеразвороченные глубокие раны земли, шумит теперь спелым колосом пшеница. Вспомнилось, как кто-то из летчиц пошутил однажды: «Вот расковыряли мы землю своими бомбами, а после войны дадут нам в руки лопаты и заставят заравнивать». Время само заравняло следы войны на полях. Только вот в сердце остался неизгладимый след.
Приятно было услышать, что собеседницы с радостью расскажут односельчанам о нашем приезде, о нашем полку, о «тех дивчинах, что в сорок втором здесь летали».
Мария Филипповна напоила нас холодной водой из колодца — и сегодня такая жарища! — мы распрощались как старые, добрые знакомые и тронулись в обратный путь.
Опять тридцать километров по пыльной неровной дороге. Но теперь ехать легче! Мы нашли Воровской. Освежили воспоминания о пребывании в этом тихом кубанском хуторке. Они слились воедино с новыми впечатлениями и приобрели ясные, конкретные формы. Будто потускневшую от времени картину промыли живой водой, и вот она опять засверкала свежими, яркими красками.
Часа в два дня выехали у Кропоткина на трассу.
— Куда теперь по вашему плану? — спрашивает Леша.
— В Эльхотово!
Руфа смотрит в карту, уточняет маршрут:
— Через Пятигорск.
Было совсем темно, когда мы въехали в Пятигорск. Устроились в кемпинге, в палатке. Сейчас 23 часа. Ночь холодная, и мы наверняка продрогнем под тонкими байковыми одеялами. Делаю последние записи в дневнике.
Завтра в Эльхотово… Стараюсь представить себе, какое оно.
Осетинский поселок у самых гор. Наш аэродром прилепился на склоне горы. Самолетам подкладывали под колеса колодки, иначе они катились вниз. Население очень гостеприимное, доброжелательное. Угощали нас несолеными лепешками из кукурузной муки и очень соленой брынзой.
В Эльхотово полк пробыл недолго, всего дня три-четыре, но мне оно хорошо запомнилось. Наверно, потому, что впервые увидела настоящие горы. Это был уже Кавказ. Горы, покрытые зеленым лесом, стояли высокой стеной, и казалось, что на наших маломощных самолетах их не «перетянешь». Горы манили к себе и пугали…
Потом мы бомбили вражеские эшелоны по дороге к Эльхотову.
1 августа
В Пятигорске задержались до трех часов дня. Все пытались отремонтировать машину.
Сейчас стоим около строящегося павильона автобусной остановки в Эпьхотове. Накрапывает дождь, порывистый ветер, холодновато.
— Как, узнаёте места? — этот вопрос со стороны нашего водителя стал уже традиционным.
Еще бы не узнать! Хотя поселок стал другим, но горы-то не изменились. Вот они, совершенно такие же, какими мы их видели два десятка лет назад. Вон там, на склоне, стояли наши самолеты — и услужливое воображение тотчас же расставило их. Взгляд направо, к Тереку, и возглас:
— Руфа, здесь мы купались и стирали после перелета!
— Ага. Мы были почему-то очень пыльные, грязные, когда прилетели в Эльхотово.
— Кубанскую землю несли на себе.
Оглядываемся — с кем же побеседовать? Что-то никого не видно. Но вот из-за павильона выходит женщина с тремя детьми — черноголовые мальчишки мал мала меньше. Блестящими, как маслины, глазами они с нескрываемым любопытством смотрят на машину и на нас. Разговорились. Женщина живет в Эльхотове восемь лет. От старожилов знает, что во время войны, когда враг рвался к Кавказу, все жители ушли из поселка в лес, в горы.
— Остались только очень старые и больные люди, которые не могли идти, рассказывала она, — фашисты расстреляли их всех до одного.
И в этот момент, будто озаренный внезапной вспышкой молнии, перед моими глазами отчетливо встал образ седого, как лунь, осетина. Он сидел на лавочке около своего дома, тяжело опершись на палку. Мы, летчицы, оживленной гурьбой прошли мимо него. Я почему-то невольно оглянулась и поймала глубокий задумчивый взгляд старика… Так неужели враги стреляли и в него потом? Будто иглой кольнуло в сердце…
— Бой здесь шел жестокий, — продолжала женщина. — Немцы стремились проникнуть в Эльхотовские ворота, к Военно-Грузинской дороге. Почти все дома в поселке были разрушены. Сейчас все заново выстроили.
— Дорога тоже новая. Ее не было тогда, — говорим.
— Еще во время войны ее начали строить немцы. А после пленные уже закончили. Часть поселка пришлось перенести на другую сторону дороги, ближе к горам. Вот и мы с мужем строимся, вон наш дом, самый первый у гор.
Старший сын нашей новой знакомой, парнишка лет семи, что-то сказал матери на родном языке.
— Он спрашивает, к кому вы приехали? — перевела женщина.
Эх, мальчишка, мальчишка… Трудно нам объяснить тебе, что такое память сердца. Не понять еще твоему детскому уму, какая сила заставила нас проехать много-много километров, чтобы взглянуть вот на эти горы, на твой новый дом, на мирное небо над Осетией… Для тебя война — далекая история, для нас же совсем близкое, незабываемое прошлое. А ты знаешь, что такое война? Когда ты с друзьями играешь в войну, это, наверно, увлекательно и весело. Но война страшная штука, когда в нее начинают играть взрослые. Уж поверь нам, дорогой. Вон и сейчас еще, как говорит твоя мать, «игрушки» войны, мины, находят в лесу на горах. Будь осторожнее, малыш, с этими ржавыми игрушками в них до сих пор таится смерть. На вот, возьми лучше горсть конфет, пусть у тебя останется о нас хоть, может, и не на долго, но «сладкое» воспоминание.
Фотоаппарат в руках Леши запечатлел наших новы к знакомых, и, тревожно поглядывая на небо — собирался настоящий дождь, — мы тронулись. Проехали узкий «коридор» в горах и вскоре вырвались на простор широкой долины Северной Осетии.
— Какая земля! — невольно воскликнули мы почти разом. — Какое богатство!
Тучный чернозем, сочная зелень. Вечерний воздух напоен теплой влагой. Здесь такой богатый урожай зреет! Поистине земля обетованная!
Следующий пункт нашего маршрута — станица Ассиновская. Но сегодня мы не успеем добраться до нее засветло, поэтому решили уклониться в сторону, заехать в город Орджоникидзе и там заночевать в кемпинге.
В Беслане, перед железнодорожным мостом, на красном полотнище протянут лозунг: «Добро пожаловать к нам на праздник 40-летия автономии Осетии!»
— Вот мы и пожаловали, незваные гости, — весело шутит Руфа.
Уже в густых сумерках проехали город. Он чистый, улицы широкие, дома каменные, но высоких мало — двух — и трехэтажные.
На площади сворачиваем вправо и через несколько минут выезжаем на окраину. Кемпинг находится в десяти километрах от города.
К туристскому городку подъезжаем в темноте — ночь на юге наступает быстро. В горах заманчиво мерцают огоньки пансионата, как волшебные фонарики гномов.
«Гномов» действительно оказалось тут полным-полно, палаток свободных нет, пришлось располагаться в машине. Леша, как верный страж, устроился на раскладушке около дверок.
За сегодняшний день проехали мало, но почему-то очень устали. Поужинала хлебом с чесноком, съели по два кусочка дыни и побыстрее забрались в спальные мешки.
2 августа
— С добрым утром, именинник! — выкрикнула Руфа через форточку машины.
Сегодня у Леши день рождения. Мы преподнесли ему подарки, пожелали долгих лет жизни, а на сегодня — безаварийного пробега до Ассиновской.
Сейчас в станицу ведет хорошая асфальтированная дорога Ростов — Баку.
— В Ассиновскую мы прилетели, кажется, в августе сорок второго, вспоминает Руфа в пути.
Я заглядываю в «расписание» — длинный список пунктов, в которых базировался полк в течение трех фронтовых лет.
— Совершенно верно: 13 августа 1942 года. Это была основная наша база на Северном Кавказе, самая восточная точка боевого пути полка.
Мы приехали в станицу в средине дня. Сегодня воскресенье, погода хорошая, ярко светит солнце и на улицах много народу. Все одеты по-праздничному. Без труда нашли дом, в котором было наше общежитие. Сейчас в нем, как и до войны, детский сад. Мы, конечно же, сфотографировали этот дом с разных позиций. Любая наша однополчанка, взглянув на фотографию, сразу узнает его. Он отремонтирован и выглядит теперь даже моложе, свежее.
Рядом с домом — правление колхоза. У входа стоит мужчина — среднего роста, сухощавый, лицо загорелое. Наши первые вопросы к нему и к подошедшим двум женщинам почему-то насторожили их.
— А кто вы такие? Почему интересуетесь военными годами? — спрашивает мужчина, разглядывая нас пытливыми серыми глазами.
Леша прибегает к уже испытанному средству — к книге, показывает фотографии. Лица собеседников светлеют.
— Я секретарь парткома колхоза, Бачманов Борис Николаевич, отрекомендовался мужчина.
— Вот и познакомились, — пожимая ему руку, говорим мы.
— Сам я тут не был во время войны, а вот моя жена, учительница здешней школы, может вам кое-что рассказать, она живет в Ассиновской с довоенных лет, — говорит Борис Николаевич.
Минут через десять мы сидели в доме Бачманова, и Галина Андреевна хлопотала с угощением. Поставила на стол тарелки с медом, нарезала огромными ломтями пышный белый хлеб.
— Уже из нового урожая!
Кажется, я никогда еще не ела такого сладкого душистого меда. Впрочем, не знаю, что было вкуснее — мед или хлеб. А сливы! Крупные, подернутые матовой синевой, сквозь которую просвечивала упругая лиловая кожица, от них еще пахло горячим солнцем, их жаль было есть, ими хотелось любоваться.
— Узнаём широкое гостеприимство местных жителей! — отмечаем мы с Руфой.
Хозяева рассказали, что население станицы увеличилось примерно вдвое по сравнению с довоенным годом, вырос новый поселок около консервного завода, построена двухэтажная школа, строится широкоэкранный кинотеатр.
— Я непременно буду теперь рассказывать своим ученикам о вашем приезде, — говорит Галина Андреевна. — Вас, летчиц, хорошо помнят старожилы.
— Еще бы! Почти полгода шумели мы над вами по ночам!
Рассказали о своем полку. Галина Андреевна кое-что записала.
— Вы не представляете, как это будет интересно ребятам, они ведь такие любознательные!
— А я тоже был летчиком, — признался Борис Николаевич. — В сорок первом окончил Батайскую школу, летал на истребителях, потом на ПЕ-2. В сорок четвертом списали по зрению.
— Так мы с вами тоже, значит, «однополчане»! — обрадованно восклицает Леша. — И я кончал Батайскую школу, только, правда, гораздо раньше вас. Но мне повезло — до сих пор еще летаю.
В оживленной беседе незаметно пролетело больше часа. Нам пора было отправляться в обратный путь.
— Я вас очень прошу, давайте заедем на минутку в наш колхозный сад, увидите, какой он богатый, — попросил Борис Николаевич.
Мы было попытались уклониться, но где там!
И вот мы с Руфой сидим в глубоких дебрях огромного сада, а мужчины пошли рвать яблоки и груши.
«Разве я могу отпустить вас без фруктов? Мне за это выговор объявят на партбюро», — сказал Борис. Николаевич.
Сейчас можно помечтать, вспомнить… А вспомнить есть о чем. Пять фронтовых месяцев не уложить, пожалуй, в те полчаса, на которые, как нам сказали, нас оставили одних.
…«Ночные ведьмы» — это прозвище мы получили от немцев еще здесь, на Северном Кавказе. И, надо думать, не зря. Чтобы удостоиться такой чести (я пишу без кавычек, потому что действительно считаю за честь услышать от врага такие слова), каждая летчица сделала к тому времени более двухсот боевых вылетов, а полк записал на свой «лицевой счет» не один десяток зримо эффективных результатов бомбометания — уничтоженные склады боеприпасов и горючего, разрушенные переправы, разбитые эшелоны, автомашины, зенитные прожекторы и т. д. Но основная заслуга наших тихоходов, пожалуй, и не в этом. Мы всеми ночами висели над головой противника, держали его в напряжении, не давали спокойно отдыхать. А попробуй после бессонной ночи рваться в атаку и бодрым голосом кричать: «Хайль Гитлер!»
Бессонные ночи… Сколько их было у нас? Мы не давали спать врагу, но и сами не дремали. Впрочем, иногда засыпали в воздухе, особенно под утро чертовски здорово уставали!
С дерева упало яблоко, мягко стукнувшись о землю. Руфа подняла его и, задумчиво разглядывая со всех сторон, заговорила:
— Ты знаешь, у меня сейчас в голове настоящий калейдоскоп воспоминаний. Крупные события и мелкие факты как-то путаются, наскакивают одно на другое. Давай вместе вспоминать, а?
— Что ж, попробуем. Итак, сначала значительные события.
— Пожалуй, нужно упомянуть о наградах. Свои первые ордена мы получали здесь, в Ассиновской.
— Помню, Евдокия Яковлевна учила нас, как нужно подходить за наградой, что отвечать на поздравление.
— Да… Воевать-то мы к тому времени немного научились, а вот получать ордена еще не умели.
Первый орден! Мы все — а новоиспеченных орденоносцев было человек двадцать — были так взволнованы, что почти каждая путала при вручении и руки, в какую взять орден, и левое плечо с правым при повороте во время отхода.
— А какой замечательный концерт самодеятельности состоялся у нас здесь 7 ноября, помнишь? — спрашивает Руфа.
— Еще бы! Ведь я была артисткой, пела. И хватило же… смелости, мягко говоря.
— Ну, уж если для немецких прожекторов в Моздоке хватало смелости, то огни рампы по сравнению с ними пустяк, — смеется Руфа.
Припомнили и Сашу Хоменко, парня с усами, прибывшего к нам в полк в качестве представителя от авиационных мастерских, которые базировались в то время в Хачмасе. Саша Хоменко вместе со своими товарищами по работе сделал для нашего полка хороший подарок к празднику — самолет. Он просил передать его лучшему комсомольскому экипажу. На торжественном построении было объявлено, что подарок вручается Тане Макаровой и Вере Белик.
— Не дожили они до победы… Одна короткая очередь вражеского истребителя — и в ночном небе вспыхнул факел из двух жизней…
Мы умолкли. У нас всегда наступает минута молчания, когда вспоминаем о погибших подругах.
— Что-то мне не нравятся эти тучки, — поглядывая на небо, забеспокоилась Руфа, — как бы дождь не пошел.
— Да, уж от здешнего неба всего можно ожидать. Помнишь, как мы страдали здесь от капризов погоды? Помнишь, помнишь… Я вспомнила одну ночь. Мы летели с Дусей Носаль в район Малгобека. Небо было как на новогодней картинке — все в звездах. А когда возвращались обратно, под самолетом расстилалось бескрайнее поле сплошной облачности. Я впервые летела ночью над облаками и как зачарованная смотрела на изумительную красоту: под нами, насколько хватало глаз, тугими барашками лежала плотная белоснежная масса, из которой там, на юге, вырастали громады Кавказских гор. Среди них величаво поднимал свою снежную шапку Казбек. Все это бледно освещалось луной. Зрелище захватывающее, неотразимое!
— Дуся, смотри, какое великолепие! — Говорю летчице.
— Да, да… чудесно… А сколько мы летим от цели?
Летим? Куда летим?
Я сбросила с себя коварные чары этой ночи и вернулась к действительности. А в действительности было вот что. Наш аэродром «подскока» находился между Сунжен-ским и Терским хребтами, и требовался точный расчет, чтобы пробить облачность над долиной. По моим подсчетам выходило, что через шесть минут нужно снижаться. Минуты прошли, мы нырнули в облака. Нас сразу окутала душная сырость и белесая мгла. По мере снижения становилось все темнее и темнее… Вдруг, взглянув на приборы, я заметила, что самолет снижается не по прямой, а по спирали.
— Дуся, ты чувствуешь, что мы вращаемся?
— Да, да. Рая, так нужно…
Высота упала с 1300 до 600 метров. А облачность еще не пробили. Уже начинаю понимать, как опасно вертеться в облаках, не зная точно, где ты вынырнешь из них. Но вот позади слева мелькнул огонек. Значит, пробились! Обрадованно кричу летчице:
— Гляди, огонек!
— Где?
И тут мы увидели (если так можно сказать, когда среди черного мрака ночи различили еще более черные горы), что находимся низко над дорогой, проходящей через Терский хребет. Слева и справа — казалось, самолет вот-вот заденет за них крылом — были горы. Только теперь мне стало ясно, какой смертельной опасности мы избежали. Окажись самолет метров на сто правее или левее, лежать бы нам под его облаками. Так вот какая оборотная сторона у восхитительной картины, которой я любовалась поверх облаков!
Когда мы приземлились на аэродроме, я спросила Дусю, почему она снижалась не по прямой, а пологой спиралью?
— А это потому, Раечка, что если бы мы в тот момент стукнулись о гору, то удар получился бы не лобовой, а на крыло, и у нас были бы кое-какие шансы на жизнь.
Так познавалось на практике сложное мастерство полетов ночью в гористой местности.
— Говорили, что мы разбомбили штаб генерала фон Кдейста в Моздоке или где-то в том районе, — продолжает вспоминать Руфа.
— Вполне возможно. Ведь разбили однажды немецкую баню — об этом рассказывал не кто-нибудь, а сам пленный немец.
— Я видела, как Дина Никулина с Женей Рудневой разбомбили как-то прожектор около Моздока. Мы с Лелей Санфировой шли вслед за ними.
Нашим воспоминаниям не было бы, наверное, конца. Но подошли мужчины с полной сумкой фруктов.
Машина выехала из сада на проселочную дорогу. Мы попросили Бориса Николаевича указать путь на кладбище — там похоронена наша однополчанка Тоня Ефимова.
— Я сам проеду с вами.
В глубине кладбища он подвел нас к памятнику. Читаем надпись:
«Вечная память героям, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Ст. лейтенанту Ефимовой Т. П.
Лелепину Н. И.
Погибли в 1943 году».
Наш сопровождающий рассказал, что здесь, на кладбище, каждый год в День Победы проходит митинг на могилах павших воинов. Возлагают венки. Население станицы приходит сюда, чтобы почтить память людей, отдавших свою жизнь за победу над фашизмом.
Это хорошо, что люди помнят, какой ценой досталась победа, что не забывают тех, кому мы обязаны своим счастьем жить и трудиться в свободной стране.
На окраине станицы распрощались с Борисом Николаевичем. Он любезно и от чистого сердца пригласил приехать на следующий год отдыхать в Ассиновскую. Хвалил здешний воздух, говорил об обилии фруктов и овощей. Просил передать привет и приглашения от жителей станицы всем нашим однополчанам.
Сегодня вечером остановились на ночлег уже в пансионате, а не в кемпинге. Успели засветло занять место.
— Итак, отступление полка закончилось, — подвела итог за ужином Руфина. — Теперь почти по тому же пути — по крайней мере до района Краснодара — нужно ехать обратно. Наступать.
Я посмотрела на убегающую в горы светлую лепту дороги.
— А что, если отклониться от ранее намеченного плана? — спрашиваю своих спутников.
Они вопросительно посмотрели на меня.
— Видите ли, наступать приятно во время войны. А сейчас по тому же маршруту…
— Что ты предлагаешь?
— Давайте проедем по Военно-Грузинской дороге. Посмотрим, что стояло тогда, в сорок втором, у нас за спиной. Что мы защищали?
Предложение показалось заманчивым. Тем более, мы чувствовали, что нам нужно немного отдохнуть, отвлечься от воспоминаний военных лет.
Через несколько минут новый план был готов. На некоторое время мы из бывших фронтовиков превращаемся в обыкновенных туристов и едем по Военно-Грузинской дороге. Побываем в Тбилиси, затем в Сухуми погрузимся на теплоход и поплывем до Новороссийска. А оттуда опять начнем поездку по боевому пути полка — Краснодар, Тамань, Керчь и так далее.
— В этом плане есть одно «но», — огорчил нас Леша. — В машине я обнаружил такие дефекты, с которыми через перевал ехать нельзя. А новые детали нигде до сих пор достать не могу.
Вот тебе раз!
— Вся надежда на станцию техобслуживания в Орджоникидзе. Завтра утром заедем туда, — сказал Леша, устраиваясь поудобнее в постели.
Сегодня будем спать почти как дома — под крышей, на настоящих кроватях.
3 августа
Сидим на станции техобслуживания. Нам повезло — здесь оказались хорошие, внимательные люди. И нужные нам запчасти.
Слесарь Манукянц Рубен Мхитарович уже приступил к ремонту. Приятно наблюдать за его работой. Движения точные, экономные, руки ловко орудуют разными ключами и отвертками. Вот он уже извлек испорченную деталь и молча показывает ее нам. Да… На таком подшипнике было бы рискованно ехать по горной дороге.
Рубен Мхитарович, или просто Рубен, как его здесь все называют, бывший фронтовик. Служил в танковых частях. С боями прошел через Новороссийск, Тамань, Керчь…
— Вместе воевали, — говорит он нам, показывая в улыбке ровный ряд белых зубов.
Двух часов не прошло, как мы въехали в ворота станции. А наша машина вот уже съезжает со смотровой ямы, в полной боевой готовности, надежно отремонтированная, смазанная, готовая идти на штурм Крестового перевала.
Мы сможем теперь подняться на «Волге» на такую высоту, на какую не поднимались на своих маленьких ПО-2 во время войны.
Через каких-нибудь полчаса машина, шурша по асфальту колесами, въехала в прохладное ущелье.
— Начинаем пробег по Военно-Грузинской дороге, — возвестил Леша. — Рая, засеки время и километраж.
Дорога идет вдоль Терека. Смотрим во все шесть глаз — впервые едем по этому старинному тракту.
Трудно описать красоту этих мест. Поэтому ограничусь короткими путевыми заметками.
Едем по Дарьяльскому ущелью. Въезжаем в туннель, довольно длинный. Пришлось включить фары. Все дальше, все выше поднимаемся в горы.
Проезжаем поселок Казбеги. Справа — гора Казбек.
Здравствуй, великан! Не виделись с тобой целых двадцать лет. Ты по-прежнему изумляешь своим величественным видом, великолепной шапкой вечного снега. А вот мы заметно изменились. Коротка человеческая жизнь по сравнению с твоей! Поэтому нам, людям, нужно дорожить даже минутами, чтобы успеть сделать хоть маленькое, но полезное дело, и оставить для грядущего поколения добрую память о себе, людях 20-го века.
Дорога перебегает то на правый, то на левый берег Терека. Шумит, своенравный!
Горы, солнце и редкие облака… Удивительно, среди громад вздымающихся к высокому небу гор отнюдь не чувствуешь себя ничтожно малой песчинкой. Нет, ничуть! В душе нарастает волна удивления, восхищения, восторга, и кажется, она вот-вот поднимет тебя до снежных вершин, откуда перед изумленным взором откроется вся величавая, неповторимая красота Кавказа.
Кавказские горы — это волшебная музыка, в которой удивительно гармонично звучат чудесные краски, прозрачный воздух, четкие грани света и теней.
Высоким чистым звуком взлетели в голубую высь снежные вершины. Тая власть света и необъятного простора. Там беспредельность.
Голые скалы берут ноту чуть ниже, но она не тусклого серого тона, а рельефно блестит гранитном мозаикой, отполированной веками и ветром.
Почти незаметно в музыку камня начинают вплетаться ножные звуки робкой зелени. И чем ближе к земле, тем громче поет цвет жизни, воплощаясь в изумрудные луга, причудливый кустарник и, наконец, в густой темно-зеленый лес, подернутый синеватой дымкой.
Терек — яркая нить в мелодии. Зарождаясь в заоблачных далях, он вначале еле уловимо звенит журчанием кристально-чистого ручейка. Но чем ниже сбегает по крутым склонам, тем мощнее становится его голос, и вот он уже с ревом несется меж скал, бушует в тесном ущелье, в слепой ярости обрушивается на уступы, пенится на перекатах и, освободившись от плена камня, грохочущей лавой вырывается на шпрокпй простор долины.
Вдоль Терека мягкими изгибами ведет свою мелодию дорога. Предостерегающими сигналами автомашин она вносит нотку современности в древний ансамбль.
Горный воздух незримым чародеем участвует в сотворении дивной симфонии. Он наполняет ее нежным ароматом цветов, свежим запахом леса, тончайшей влагой от бурлящего Терека.
А вверху, как главный дирижер этого могучего оркестра, — солнце…
Мы забрались высоко-высоко. Несколько белых, как вата, облаков лежат на вершинах гор, спокойно отдыхают.
Терек превратился в ручеек.
Время — 16.05. Мы на Крестовом перевале. Высота над уровнем моря — 2395 метров.
Долго здесь не задерживаемся — холодно, ветер. Скорее вниз, в долину, к теплу и людям!
Теперь справа от дороги, далеко внизу, бежит Арагви. Красавица река! Вода в ней на удивление голубая-голубая!
Поселок Млета. Конец Крестового перевала. Машина резво бежит все дальше, ниже. Мелькают селения Арахвети, Квешети, Пасанаури.
До Тбилиси осталось 50 километров. Горы стали ниже, воздух теплый, густой. Душновато. И вот дорожные зигзаги кончились, мы вырвались почти на прямую.
Поселок Мцхета. Пересекаем Куру. Мутная какая! Откуда она, интересно, берет начало? Смотрим в карту — из Турции.
До Тбилиси 21 километр. Высоко на горе — темный силуэт полуразрушенного храма. Здесь, по преданию, жил лермонтовский Мцыри. Вспомнилось из Лермонтова:
Я знал одной лишь думы власть, Одну, но пламенную страсть…
Спускаются лиловые сумерки. Вдалеке виднеются первые огни вечернего Тбилиси.
Мы проехали Военно-Грузинскую дорогу за пять часов. Рекорда не поставили, конечно, да и не собирались. Рады тому, что благополучно завершен небезопасный, на наш взгляд, переезд через Кавказские горы. Головы до отказа набиты необыкновенно яркими впечатлениями.
В тбилисском кемпинге нас приняли гостеприимно, нашелся уютный домик-палатка.
После ужина на «совете трех» единодушно решили: завтрашний день посвящаем знакомству с Тбилиси.
4 августа
С утра заехали в гостиницу «Интурист», чтобы уточнить расписание отплытия пароходов из Сухуми.
Леша заглянул в бюро обслуживания. Скоро вернулся, приглашает нас войти.
— Вот, знакомьтесь, — говорит он, указывая на сидящего за столом мужчину, — он тоже…
— Да мы давно знакомы! — воскликнули все трое разом. — Вместе учились в ВИИЯКА!
Вот так встреча!
Саша Эйдерман, как и мы, немало удивлен. Сели, разговорились. Рассказали, каким ветром занесло нас сюда. Вспомнили годы учебы, сокурсников.
В ВИИЯКА училось, кроме нас с Руфой, еще несколько однополчанок: Полина Гельман, Женя Жигуленко, Оля Яковлева, Наташа Меклин, Нина Ульяненко. Так уж получилось, что после войны мы не смогли продолжать учебу в тех институтах, откуда ушли на фронт. Пришлось начинать сначала.
Руфа и я говорим теперь — и совсем не в шутку, — что годы, проведенные в ВИИЯКА, — самые каторжные в нашей жизни. Учеба была неимоверно напряженной. А тут появилась семья, дети. Мы с мужем кочевали вначале по частным квартирам, за городом. Поездки в электричках отнимали много времени, но еще больше — семейные заботы и первый ребенок. Желание отоспаться было в те годы самым заветным и самым несбыточным.
Военная дисциплина, принимающая во внимание только занимаемую должность и звание, тоже заставляла иногда переживать нелегкие моменты — мы ведь были всего рядовые слушатели с двумя лейтенантскими звездочками на погонах.
— Рая, а ты помнишь, как тебя с госэкзамена на носилках несли? спрашивает Саша Эйдерман.
— Вовек не забуду!
Это случилось на последнем госэкзамене. Еще с утра я почувствовала себя плохо. Нарастала хорошо знакомые мне признаки периодически вспыхивающей болезни, заработанной на фронте. Обычно в такие дни я получала освобождение от занятий. Но не пойти на последний госакзамен? Я даже и мысли не допускала!
Жестокая боль схватила во время ответа перед комиссией. На лбу выступили холодные капли. Но это приняли за естественное в таких случаях волнение. Спокойно поставили оценку, «вы свободны» — сказали. Еле вышла во двор института. «Поймать бы такси»… Но дойти до проходной сил не хватило. Боль свернула в дугу, пришлось сесть на лавочку. На мое счастье, мимо проходила Руфина со своего факультета. Посмотрев на меня, остолбенела: «Что с тобой. Рая?»… А у самой, гляжу, слезы закапали. «Мне тогда показалось, что ты умираешь», — призналась она уже потом. «Плохо… Не могу идти», — еле выговорила я. Руфина побежала в санчасть. Быстро пришли санитары, уложили меня на носилки и понесли. Проходящие мимо слушатели, особенно с младших курсов, шептали в испуге: «С последнего госэкзамена на носилках выносят!..»
Саша «прикрепил» к нам девушку-экскурсовода, мы усадили ее в машину и отправились осматривать достопримечательности Тбилиси.
Прекрасный город. С богатой национальной архитектурой. Здесь у каждого дома свой характер, свой стиль.
Наша миловидная девушка-экскурсовод сообщала по пути многие сведения из истории города.
Побывали на горе Мтацминда. Оттуда открывается вид на весь город, как с Ленинских гор на Москву. Несколько минут мы любовались им, стоя на широкой веранде комплексного здания.
— Вон там район Дидубе, — обратила наше внимание экскурсовод. — Видите, стадион? «Динамо» — гордость тбилисцев. А вот одна интересная для вас, летчиков, справка: в октябре 1910 года известный авиатор Уточкин поднимал с Дидубийского ипподрома свой аэроплан и летал над городом.
Было уже часа три дня, когда мы подъехали опять к гостинице. Саша Эйдерман уговорил нас «заскочить на пять минут» в редакцию газеты «Вечерний Тбилиси», товарищи очень просили его устроить встречу с нами. Отказываться было неудобно.
В редакций нас интервьюировали и фотографировали, делали материал для очередного номера газеты. Так, совершенно неожиданно, мы попали в сети вездесущих газетчиков. В своей беседе мы не забыли, конечно, упомянуть о бывшем штурмане из полка имени Расковой — Гале Турабелидзе, которую хорошо знали по совместному обучению в Энгельсе. Симпатичная девушка-грузинка с большими черными глазами и «осиной» талией. Сейчас Галина Прокофьевна, женщина солидная во всех отношениях, живет и работает в Москве. Мы с ней всегда видимся у Большого театра во время наших традиционных встреч.
Под вечер приехали «домой», в кемпинг. С удовольствием сбросили с себя парадную одежду, пообедали и, предвкушая приятный отдых после жаркого дня, улеглись было на кроватях. Но тут Леша вдруг вскакивает и заявляет:
— Поеду к Аркаше. Может, застану его в аэропорту.
Аркаша Осланикашвили — его старый знакомый. Они служили вместе в одном полку, когда были еще военными летчиками. Осланикашвили живет теперь в своем родном Тбилиси, работает в Аэрофлоте.
Мы не возражали против намерения Леши повидаться с Аркашей.
— Поезжай, но только не на машине. Ты ведь выпил в обед бутылку пива.
— Ну и что? Я пьян, по-вашему?
— Нет. Но закон есть закон.
Леша надулся на нас, демонстративно положил на стол ключи от машины и ушел, бросив коротко:
— Поеду на городском транспорте. Вернулся, когда уже стемнело.
— Аркаша сдаст в 11 часов вечера дежурство и приедет к нам, — сообщил он и прилег.
Вскоре в нашем домике раздалось безмятежное похрапывание. А мы с Руфиной не спали до часу ночи, сидели одетые в платья и ждали гостя.
— Вы чего не спите? — удивился Леша, проснувшись.
— Ждем Аркашу.
— Я же пошутил! Его нет сейчас в городе. Нам очень захотелось отругать как следует за такую шутку. Но сдержались. Пригрозили только:
— Мы тебе припомним, когда вернемся в Москву!
5 августа
В 7 часов выехали из Тбилиси. Еще по утреннему холодку доехали до Гори.
Побывали в музее Сталина. Там много интересного материала по истории партии.
К полудню взобрались на Рикотский перевал. Здесь хлещет дождь. Почва глинистая, и на асфальт дороги стекают с гор оранжевые ручьи. Машина идет осторожно — колеса на поворотах скользят как по маслу. Того и гляди свалишься в пропасть.
Едем в облаках. Леша шутит:
— Пилотирую в сложных метеоусловиях. Придется вам дополнительно платить мне за это.
— Заплатим, — говорим, — только вывези нас живыми из этих мокрых облаков.
Спустились немного с перевала, и дождь прекратился. Дорога петляет все время вдоль рек, они шумят далеко под обрывом. Горы покрыты густым лесом. На ярко-зеленых лужайках выставлены ульи. Один за другим проезжаем небольшие поселки. А вот мальчишка несет воду в глиняном кувшине на голове. Впервые видим это в Грузии.
Забавный разговор произошел у нас на окраине большого населенного пункта Самтредиа. Мы остановились у развилки двух дорог. Одна уводит немного в сторону, другая идет прямо, но перед ней висит запрещающий знак. Спрашиваем у проходящего мимо молодого грузина:
— Скажите, пожалуйста, по какой дороге ехать на Сухуми?
— Поезжай прямо, так короче,
— Но здесь же «кирпич», проезд воспрещен!
— Вай! — машет рукой мужчина. — Кирпич тут нэ при чем. Он же не на дороге лежит!
Грузин широко улыбается, довольный своей шуткой. Мы тоже смеемся и едем прямо.
Ничего, обошлось. Знак был действительно «нэ при чем».
Уже перед Сухуми Леша неожиданно внес предложение.
— Послушайте, девочки, зачем затевать канитель с погрузкой на теплоход? Давайте я докачу вас почти за такое же время на машине.
Мы подумали-подумали и решили;
— Согласны.
Проехали Сухуми и устремились дальше по извилистой дороге. Руфина впервые в этих местах, и южная экзотика вызывает у нее частые эмоциональные всплески.
Повороты, повороты, бесконечные повороты… А Руфа молодец, ее совсем не укачивает. Сидит как гвоздь!
Три часа едем в темноте. В горах это трудно. Но наш водитель — «старый волк», имеет большую практику в этом деле и держит руль уверенно. Неужели он еще не устал? Мы пассажиры и то «доходим». Хочется распрямить и поразмять одеревеневшие ноги, спину. Хочется спать. А мы все едем, едем…
Река Псоу. Граница между РСФСР и Грузией.
— Россия, Россия… — тихонько, нараспев произнесла я.
— «Россия, Родина моя!» — как по уговору, подхватили Руфа с Лешей на мотив песни «Когда иду я Подмосковьем».
Около полуночи приехали в Адлерский кемпинг. Он уютно расположен прямо на берегу моря. Мы с Руфой вышли и… чуть не упали. Ноги подкосились, как на шарнирах.
— Ну и ну! — протянула с удивлением Руфа, наблюдая, как Леша свободно ходит около машины.
Подвели итог сегодняшнего дня: проехали от Тбилиси до Адлера, на спидометре прибавилось 600 километров. Плюс Рикотский перевал. Водитель пробыл за рулем 16 часов.
— Это, наверно, рекорд, — решила Руфа.
— Во всяком случае, мой личный, — подтвердил Леша. Впервые за всю поездку засыпаем под мерный шум морского прибоя. Спокойной ночи, Черное море! Пусть тихий плеск твоих волн навеет нам приятные сны. Мы ведь сейчас у тебя в гостях!
6 августа
Утро. Море спокойное, вода чистая, прозрачная. Ласково светит солнце. Сколько же здесь солнца, голубого воздуха и прохладной синей воды! С удовольствием искупались, поплавали. Хорошо! Легкий завтрак и — в путь.
— Как настоящие курортники, — с упреком в наш с Руфиной адрес говорит Леша, вкладывая в слово «курортники» явно отрицательный смысл, — видите, поздно выезжаем, уже десятый час.
— У нас еще отдых, — напоминаем ему.
В эти дни мы умышленно не ведем «военных разговоров». Никаких «а помнишь?», никаких боевых эпизодов. Отдыхать так отдыхать!
Сегодня и записывать-то как будто нечего. Целый день ехали без каких-либо приключений. Делали небольшие остановки. Один раз — чтобы съесть арбуз, купленный вчера в Гори, другой — чтобы искупаться в море. Было очень жарко.
Вечером остановились за Геленджиком в небольшом сосновом лесочке. Ночь уже зажигала звезды, когда мы устраивались в спальных мешках. Наши лица довольно сильно обгорели сегодня под палящими лучами южного солнца. Руфа пожаловалась, что у нее лицо «аж пылает». Я посоветовала смазать кремом. Она полезла в мешочек с умывальными принадлежностями и на ощупь достала тюбик. Сидит, мажется. До меня вдруг дошел резкий запах мяты.
— Ой! — восклицает Руфа в отчаянии. — Что я наделала! Зубной пастой намазалась!..
7 августа
Итак, наш короткий отдых кончился. Опять начинаются трудовые будни. Как и положено в рабочие дни, поднялись рано и в 7.20 покинули стоянку.
Задача на день: побывать в Краснодаре, в поселке Пашковском, в станице Ивановской и добраться до Темрюка. Там сейчас отдыхает всем семейством Ира Себрова.
Задача нелегкая, но выполнить нужно. Будем стараться.
Утро тихое, небо безоблачное. Но на море густая дымка.
Горизонт плотно прикрыт туманом. На берегу широкого залива лежит белый город Геленджик.
Если бы с нами сидела сейчас Серафима Тарасовна Амосова, то она непременно напомнила бы, что в сентябре 1943 года восемь наших экипажей под ее руководством летали отсюда в течение нескольких ночей на Новороссийск. Полк базировался тогда в станице Ивановской, а они перелетели на некоторое время сюда, в Геленджик, поближе к Новороссийску — готовилась операция по освобождению города.
Морские летчики с иронией смотрели на девушек-летчиц, на их фанерные самолеты — маленькие, хрупкие.
— Какие сами, такая и техника! — острили они. Но в первую же боевую ночь морячки (они пришли на старт посмотреть, как воюют девчонки) поняли, что боевая работа девушек заслуживает уважения. И парни открыто восхищались, наблюдая, как быстро и ловко вооруженцы подвешивают бомбы, а техники заправляют самолеты горючим, как немногословно, четко докладывают экипажи о выполнении задания и потом бегом спешат к самолетам, чтобы опять подняться в воздух. Мужчины-летчики сразу поняли, что это не показной сеанс, а привычный для девушек ритм боевой работы. Такая сноровка, ловкость приходят не сразу, они вырабатываются в течение многих и трудных боевых ночей.
Бомбы, которых, как надеялся начальник боепитания, хватит на всю ночь, скоро кончились, и начальник бегал по всем стоянкам морских летчиков, подскребывая там боеприпасы. Вдруг он в недоумении остановился перед двумя фигурами, между которыми, как ему показалось, шла борьба.
— Не дам бомбу! — услышал он женский голос. Маленькая девушка лежала на «сотке», крепко обхватив ее руками, а долговязый парень пытался вытянуть из-под нее бомбу.
— Что здесь происходит? — удивился начальник.
— Он хочет бомбу у меня отнять и утащить к своим. — Здесь работали и наши «братики» из бочаровского полка, — Но я первая ее нашла. А моей летчице уже не с чем лететь…
Ни я, ни Руфа из Геленджика не летали. Я заканчивала переучивание на летчика-ночника, а она в то время вывозила» новеньких летчиц. Ходили мы на Новороссийск из Ивановской.
Машина въехала на гору, и перед нами открылась типичная новороссийская панорама: множество кораблей в бухте и дым цементных заводов.
— Здесь мы бомбили какие-то щели — 7, 8, 9, - в задумчивости говорит Руфа.
Да, щели. Требовался снайперский удар, чтобы поразить цель. К чести наших летчиц и штурманов, командование авиадивизии без опаски доверяло 46-му гвардейскому женскому полку такие ответственные задания.
— Девчата обработают эти щели с присущей им женской аккуратностью, говорили в дивизии.
…Следуя дорожным указателям «На Краснодар», минуем Новороссийск окраиной. При выезде из города, немного в стороне от шоссе, видим светлый обелиск. Оставляем машину и по асфальтированной дорожке идем к нему.
У основания обелиска — скульптурная группа. Стоит молодая женщина с непокрытой головой, смело смотрит вперед, сдвинув брови. К ней прижалась испуганная девочка. Тут же, около их ног, — старик, может быть отец женщины. Он сидит, опершись одной рукой о землю, а другой рванул ворот рубахи, обнажив грудь. Все трое смотрят в одну сторону, вероятно, на своего мучителя. Но позы женщины и старика не выражают страха. Открытое, гордое презрение и ненависть сквозят в их порывистом движении.
Внизу надпись:
«НЕПОКОРЕННЫМ
Замученным и расстрелянным здесь в 1943 году фашистскими оккупантами новороссийцам и воинам-десантникам Советской Армии.
Вечная слава павшим за свободу и независимость нашей любимой Родины!»
Памятник поставлен в 1963 году. Скульптор Шмагун.
«Непокоренные» производят сильное, глубокое впечатление. Хочется поклониться и положить к их ногам цветы. Эти люди вызывают не чувство жалости, а гордость за них и ненависть к их убийцам. Ну, а если, глядя да этот памятник, и блестят в глазах слезы, то это слезы благодарности и гнева.
Вокруг обелиска — огромные плантации молодого виноградника. Он как бы символизирует собой Жизнь, победу Жизни над Смертью.
Взволнованные до глубины души, отходим от обелиска.
Проезжаем Верхне-Баканский.
— О, этот пункт мне очень памятен! — восклицает Руфа. — Именно над ним нас с Ольгой Санфировой подбили весной сорок третьего года.
Она оглядывает местность. Кругом горы, горы, покрытые лесом.
— Хорошо, что ветер тогда был попутный и нас отнесло к станции Крымской. А то где бы мы здесь приземлились?
— Скоро посмотрим, где вы в Крымской приземлились, — говорю я. — А сейчас, пока мы до нее доедем, расскажи, как все случилось тогда. Ведь, как ни странно, нам ни разу не приходилось слышать от тебя подробностей о том полете.
— Это произошло в ночь под Первое мая, — начала Руфа. — Нам только что вручили гвардейские значки, а Ольгу наградили орденом боевого Красного Знамени. Настроение было отличным, и на аэродром шли с твердым намерением сделать как можно больше боевых вылетов.
Руфа замолчала и задумчиво смотрела на дорогу. Она вспоминала, конечно, подробности той предпраздничной ночи.
— Два вылета прошли нормально, хотя стреляли по нас здорово. Сама знаешь, здесь проходила «Голубая линия». На третьем вылете не повезло осколок зенитного снаряда угодил в уязвимое место мотора, и он заглох. Но цель совсем близко, планируем на нее. Втайне надеемся, что мотор заработает, — у нас так уже бывало. Сбрасываю наконец бомбы, Леля берет обратный курс. Мотор по-прежнему молчит. И мы молчим. Вскоре понимаем, что придется падать у немцев.
Руфа опять умолкла, переложила сумочку с колен на сиденье, поправила волосы. Волнуется.
— Упали удивительно тихо, без треска, на ровную полянку. Но нас все равно, кажется, заметили. Совсем близко прошла пулеметная очередь. Мы притаились у самолета. Потом в перерывах между вспышками ракет двинулись то перебежками, то по-пластунски — к линии фронта. Минули железную дорогу, поле. Первомайский рассвет застал нас в камышах. Сидели там весь день. К вечеру пошел дождь, мы промокли до нитки. Леля простудилась, ее начал мучить кашель. Чуть не выдали себя.
С наступлением темноты вышли из лягушачьего болота, крадучись пошли дальше. И до чего же было обидно пробираться как вор по своей земле! Стороной обошли зенитку, которая бахала целый день почти над ухом. С трудом перебрались через глубокий ров — по поваленному дереву перешли два ручья с илистым дном. И снова наступил рассвет. Я помнила, что второго мая у Лели день рождения. Хотелось что-то подарить. Но карманы брюк пусты, только с пяток семечек запряталось в уголке. Я поздравила Лелю и подарила эти семечки. Чувство опасности уже притупилось, и мы решили немного поспать по очереди, А ночью опять ползли. На рассвете третьего дня перешли вброд речушку, за ней начинался лесок. Среди кустарника стояло высокое раскидистое дерево. Я влезла на него, чтобы осмотреть местность. В этот момент в кустах кто-то зашевелился. «Руки вверх!» — скомандовала Ольга и направила на вышедшего человека пистолет. Тот послушно поднял руки. Это был военный, без ремня почему-то, на рукаве — черная нашивка. Мы решили — немец. Но мужчина заговорил по-русски, сказал, что он из нашей артиллерийской части. Нам не верилось, что мы уже перешли линию фронта и подумали — обманывает. «Веди в свою часть», — приказала Ольга. А между собой договорились — если приведет к немцам, то первая пуля — ему, вторая — мне, а третью Ольга пустит себе в лоб. Однако пришли действительно к своим. Нас сразу же пригласили в особый отдел. Леля, отвечая на вопросы, все еще вертела взведенный пистолет в руке. «Положите оружие», — сказал офицер. Осмотрев пистолет, капитан покачал головой: «Вы не смогли бы выстрелить в вашего «пленного». Дуло забито землей». Это случилось, значит, когда ползли… Потом нас напоили сладким чаем, предложили отдохнуть, но мы рвались в полк. Уехали попутной машиной.
— Руфинка, подъезжаем к Крымской, приготовься, — сообщает Леша.
Руфа забеспокоилась. Напряженно всматривается вдаль, оглядывается по сторонам. Я уголком глаза наблюдаю за ней. В ее серых глазах плещется тревога и смятение. На виске бьется голубая жилка.
— Кажется, вот здесь, — неуверенно говорит она. Останавливаемся. Все выходим из машины. Руфа как-то растерянно смотрит вокруг. Мы с мужем деликатно отходим в сторонку: пусть Руфина минуту побудет наедине со своей военной судьбой. Она волнуется: то подойдет к низине за дорогой — «а где же болото?», то влево посмотрит, в сторону станции — «она тогда горела», то повернется к виднеющемуся справа вдалеке лесу. Места как будто те же, и в то же время что-то не то…
Ну конечно же, Руфинка, здесь много изменилось за двадцать лет. Вон дом строят, вот здесь пролегла новая дорога, там прошла линия электропередач. А почему нет болота за дорогой, так это понятно — сейчас август, а тогда, в сорок третьем, была весна. Первое мая.
— Да, это было все-таки здесь… — шепчет Руфа. Обернулась, ищет нас глазами. Очень похоже, что она только сейчас вспомнила о своих попутчиках. На ее ресницах, вижу, блестят слезинки. Она смущенно и будто виновато улыбается.
— Думала ли ты, когда ползла ночью, что спустя двадцать лет проедешь здесь на машине? — спрашиваю ее.
— Именно в такой конкретной форме я не думала, конечно. Но я была уверена, что мы освободим нашу землю и что, может быть, мне доведется побывать в этих местах после победы. Где-то глубоко здесь, — она указывает на сердце, — я, наверно, давно мечтала пройти по этой земле вот так, с поднятой головой, а не ползком, как тогда.
Руфа широко разбрасывает руки, будто хочет обнять высокое солнце, со счастливой улыбкой шагает по дороге.
— Как хорошо идти по своей земле!
Наша «машина времени» катит по горячему асфальту на Краснодар.
— На траверзе станица Киевская, — сообщает Руфа и многозначительно смотрит на меня.
— Настал и мой черед, хочешь сказать? — невесело усмехнувшись, отвечаю вопросом на ее взгляд. — Заезжать не будем, ну ее…
Упоминание этой станицы вызывает у меня в памяти неизменно одну и ту же картину.
…Катя Пискарева, дорогой мой Пискарь, ты тоже, конечно, не забыла ту черную мартовскую ночь сорок третьего года? Мы только начинали летать на эту страшную «Голубую линию». Но мне, твоему штурману, никогда не было страшно с тобой, я безгранично верила в твое изумительное летное мастерство. Ты здорово умела маневрировать и в слепящих лучах прожекторов, и в диком хаосе зенитного огня. Мы долго ходили с тобой в числе «везучих». Но вот в ту ночь… Помнишь, как это было? «Сегодня несколько экипажей будут подавлять зенитные средства противника, облегчая тем самым работу другим», — сказала командир полка во время постановки задачи. Мы с тобой попали в число «нескольких». Сначала все шло нормально — подавляли, как могли, всеми четырьмя бомбами. Но вот среди ночи наша фортуна немного проморгала. Мы попали под ураганный огонь, а прожекторы чуть ли не всего фронта со злорадством вонзились в нас жгучими очами. Но наш самолет шел как по струнке — ты всегда отлично выдерживала прямую на боевом курсе. Мне нужно было еще несколько секунд, чтобы сбросить бомбы на самый яркий прожектор, который мы заранее наметили. Я понимала, Катюша, как трудно тебе было в тот момент — держать в руках управление и свои нервы. Ты же видела, что зенитки бьют метко, уже разворочена левая нижняя плоскость, а мелких пробоин и не счесть. Внезапно откуда-то справа на меня набросился яростный зверь и вонзил мне в бедро раскаленные когти всех четырех лап. Перед глазами закрутилась огненная спираль. И тут же в лицо ударил фонтан света. Из последних сил я рванула за бомбосбрасыватели. Ты бросила самолет на крыло, и он со свистом понесся вниз. Имитация гибели…
— Как вам удалось выкарабкаться тогда из такого переплета? — прерывает мои размышления Руфа.
— Сама удивляюсь. В этом заслуга Кати Пискаревой. Я почти не принимала участия.
— Ну, да. Тебя ведь ранило.
— Я сообщила об этом Кате только тогда, когда пересекли уже линию фронта. Ей и без того трудно было. Левое крыло еле держалось, лонжерон перебили. o
…А помнишь, Пискарь, как ты заволновалась, когда я сказала, что ранена? Справлялась о моем самочувствии через каждые две-три минуты. Я уж и не рада была, что сболтнула. Но, понимаешь, я опасалась, что могу потерять сознание — у меня в сапоге было мокро от крови — и поэтому решила предупредить тебя. Сознание я не потеряла, а вот когда мы уже благополучно сели на аэродроме, то вылезть из кабины без твоей помощи, Катя, не могла… Но ты, Пискарик, не подумай, что по возвращении из госпиталя я стала переучиваться на летчика потому, что после той ночи потеряла веру в твое мастерство. Ты же знаешь, я давно мечтала взять управление в свои руки. Собственно, я была уже почти готовый летчик, и в этом ты сама «виновата». Ты очень часто отдавала мне управление, советом и практическим показом помогала осваивать самолетовождение ночью. Даже посадки иногда доверяла. Помнишь, я один раз оторвала «козла», и Бершанская сделала тебе замечание? Ты, конечно, не призналась, что это не твой «козел»…
— …А где сейчас Катя? Чем она занимается? — опять доносится до меня голос Руфины.
— Она во Львове, замужем. У нее двое детей. Работает. И учится — на заочном отделении Львовского университета.
— Какая молодец! Энергичная, смелая. В сорок лет начать учиться — не каждый отважится.
Машина мчится по горячему асфальту. «До Краснодара 50 км», предупреждает нас дорожный знак.
В полдень приехали в Краснодар. Здесь на улице Красной живет наша однополчанка, первый штурман полка Соня Бурзаева, теперь Рощина. Легко нашли ее квартиру, но Сони дома не оказалось, она была на работе. Ее младший сынишка быстро сообразил, кто мы такие, и побежал за мамой. В ожидании хозяйки стали рассматривать альбом с фотографиями. Как много в нем знакомых лиц! Вот командир полка Евдокия Давыдовна Бершанская. Худощавая, высокая, совсем-совсем молодая. Но еще до войны она была известной всему Краснодарскому краю летчицей. Незаурядные летные и организаторские способности позволяли ей справляться с должностью командира звена Краснодарского отряда ГВФ и с почетными обязанностями депутата.
— Рая, взгляни-ка вот на эту фотографию, — показывает Руфа на девушку в летной форме, — узнаёшь?
— Конечно. Это Полина Макогон. Довоенная фотография.
И сразу же вспомнилась тяжелая катастрофа, в результате которой мы похоронили здесь, в поселке Пашковском, трех подруг.
— Смотри, вот Ира Себрова! Нужно бы сделать надпись: «Мировая рекордсменка», — говорю я, рассматривая так хорошо знакомое мне лицо с характерным разрезом глаз.
Сейчас Герой Советского Союза Ирина Федоровна Себрова работает в Московском авиационном институте.
— Это верно, пожалуй. Едва ли кто еще может сказать, что совершил во время войны больше тысячи боевых вылетов, — соглашается Руфа.
Пришла Соня. Если бы не совершенно седые волосы, то я, наверно, сказала бы, что она мало изменилась за послевоенные годы. Гибель мужа, летчика, покрыла голову преждевременной сединой.
— Девчонки, милые! Какие же вы молодцы, что заехали ко мне! воскликнула она еще от двери. — А у меня на днях была Жека Жигуленко. Она теперь работает в Сочи «профсоюзным богом», — рассказывала Соня, — Она все такая же — неугомонная, деятельная и очень милая.
Герой Советского Союза Евгения Андреевна Жигуленко — одна из ветеранов нашего полка. Была сначала штурманом, лотом переучилась на летчика. Вся ее жизнь проходит под девизом: «Движение!»
Соня попыталась было усадить нас за чашку чаю, но мы наотрез отказались.
— Не обижайся, дорогая, не можем мы позволить себе такую роскошь. Сегодня нужно доехать до Темрюка. А сейчас вези нас…
— Да, да, Я знаю, как проехать к могиле наших девушек. Это в Пашковском, в парке.
Заехали на рынок, купили цветов.
Почти всю дорогу до Пашковского ехали молча. Каждая вспоминала военные годы, воскрешала в памяти образы тех, кто не дошел с нами до счастливого Дня Победы.
Там, в братской могиле, на которую мы возложим сейчас цветы, похоронена Дуся Носаль. Она была одной из лучших летчиц полка, заместителем командира эскадрильи. И моей самой близкой подругой…
Как все произошло тогда? Мне не нужно напрягать память, я знаю по рассказам подруг, как это случилось.
…Ночной старт. Дуся, в ожидании, когда на ее самолет подвесят бомбы, подошла к первому фонарю и читает только что полученное от меня письмо из госпиталя.
— Райка с врачами воюет, рвется в полк, а ее не отпускают, рана еще не затянулась, — сообщает она собравшимся около нее нескольким девушкам. Боится, наверное, как бы не опоздать переучиться на летчика, — смеется она. — Вон Жигули, Ульяненко и Наталка Меклин уже переучиваются.
— Дуся! — зовет ее от самолета штурман Ира Каширина. — Иди, выруливай, нам подвесили бомбы.
— Бегу! — весело отзывается та.
Они летят на Новороссийск. Чтобы подойти к городу, нужно перевалить через горы. Над горами сильные нисходящие потоки воздуха, самолет неумолимо «подсасывает» к земле. Однако опытная рука летчицы уверенно борется с коварной стихией и точно выводит самолет на вражеский объект. Бомбы ложатся в цель. Но едва летчица взяла обратный курс, как мимо них промчался немецкий самолет. Дуся понимает, что голубое пламя из патрубков выдает их, но нельзя убрать сейчас газ — самолет сыплется вниз, попал в нисходящий поток воздуха. И в этот момент по глазам резанула вспышка разрыва снаряда…
— Дуся, Дуся, держи самолет! — в тревоге говорит штурман Каширина, видя, что летчица подалась вперед и не работает управлением.
Дуся не отвечает. Предчувствуя недоброе, Ира Каширина сама берет управление — она знает, что нужно делать, перед войной училась в аэроклубе. Но ручка зажата, летчица навалилась на нее всем телом. Каширина привстает, левой рукой берет Дусю за плечо и подтягивает ее к себе. Другой рукой ведет самолет…
На старте сразу заметили, что с пришедшим самолетом что-то случилось. Он несколько раз заходил на посадку и никак не мог приземлиться в положенном месте. Наконец сел — коряво, с промазом. К нему сразу же подбежало несколько человек, в том числе командир полка Бершанская и полковой врач Жуковская. Ира Каширина, пошатываясь, подошла к Бершанской и тихо доложила:
— Товарищ командир, задание выполнено. Летчица ранена, самолет от цели привела я…
— Летчица не ранена, она убита, — медленно сходя с трапа, сказала врач.
— Вот тут остановимся, — выводит меня из задумчивости голос Сони.
Оставляем машину и идем в глубь парка. Соня подводит нас к высокому обелиску: здесь…
Кладем цветы к подножию. Среди белых гладиолусов красная роза — как капелька крови. Украдкой друг от друга вытираем глаза.
«Вечная слава героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны», читаем на обелиске.
— И это все? А где же имена наших девушек: Носаль, Пашковой, Макогон, Свистуновой? Нет имен!
— Евдокия Давыдовна уже давно возбуждала вопрос перед горсоветом о том, чтобы были написаны имена наших летчиц, ведь здесь только они четверо похоронены, — говорит Соня, — но почему-то до сих пор это не сделано.
Мы с Руфой молчим. На сердце очень тяжело.
Обошли вокруг обелиска, поправили цветы, постояли минуту, опустив головы, и медленно направились к выходу…
Из Краснодара выехали уже часа в четыре дня. В машине было как-то необычно тихо. Все трое сидели с задумчивыми лицами. Чтобы разрядить гнетущую тишину, Леша включил приемник. Зазвучала песня:
Как много их, друзей хороших, Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте…— У наших девушек и поселок и высота известны. А на могиле их имен нет, — говорю я. — Почему же они стали безымянными героями? — Во мне закипала горячая обида. — Ведь Дуся Носаль — первый Герой Советского Союза в нашем авиационном полку. И первая летчица — Герой времен Великой Отечественной войны. Почему же она лежит сейчас в земле безымянным героем? Почему, я вас спрашиваю?!.
…у незнакомого поселка на безымянной высоте…Песня разбередила душу, и все, что с трудом скрывала там, у могилы, прорвалось наружу. Слезы брызнули из глаз. Не в силах больше сдерживать себя я плачу — не стесняясь, открыто.
— Ну, ну… Зачем же так… — в растерянности говорит муж.
— Рая, не надо, а то и я… — просит Руфа. Я опускаю боковое стекло машины и подставляю лицо встречному ветру.
Вскоре после опубликования этого отрывка в газете «Советская Кубань» (20.3.65 г.) у памятника была возложена мраморная плита с именами погибших.
В станицу Ивановскую приехали как-то неожиданно быстро. Теперь сюда ведет довольно приличная асфальтированная дорога, или «госдорога», как ее здесь называют.
Если станица Ассиновская была «основной базой» нашего полка на Северном Кавказе, то Ивановская являлась таковой на Кубани. Мы простояли здесь пять месяцев — с середины апреля до середины сентября 1943 года. Отсюда, как я уже писала, мы летали бомбить «Голубую линию» противника, его последний оплот на кубанской земле. Враг знал, что если он не удержит эту линию обороны, то вынужден будет скатиться в Керченский пролив, плыть в Крым, так как здесь ему больше не за что было цепляться.
Воздушные бои были жаркими, яростными. У меня сохранилась вырезка из газеты «Красная звезда» от 9 октября 1963 года со статьей Маршала Советского Союза А. Гречко — «Освобождение Тамани».
«Авиация противника делала до 1500–2000 самолето-пролетов в день. Более двух месяцев длилось воздушное сражение на Кубани. По своей напряженности, количеству участвовавших в нем самолетов и числу воздушных боев оно превосходило все предшествовавшие сражения. Да и в последующем, до самого конца войны, мы не знаем такого большого сосредоточения авиации на ограниченном пространстве. Над Кубанью состоялось более половины всех воздушных боев, происшедших в апреле — мае 1943 года на веем советско-германском фронте. В итоге боев победу в воздухе завоевали советские летчики».
Наш полк принимал в этой грандиозной битве должное участие.
— В Ивановской полку вручили Гвардейское знамя, — напоминает Руфа.
Мы были гвардейцами уже с 8 февраля 1943 года, но вручение знамени состоялось только 9 июня. Удивительно, как хорошо помнятся знаменательные даты полковой жизни — будто дни рождения самых близких друзей.
— Расскажи, как это происходило, — прошу Руфу.
— А ты разве забыла? — удивляется она.
— Я была в командировке. Летала с Ирой Дрягиной в Саратов за подарком. Студенты сельскохозяйственного института, в котором она училась до войны, собрали деньги и купили ей самолет.
— А, да, помню… Так вот, о вручении знамени. Вообще-то церемония обычная — ты не раз после войны видела в кинокартинах. Но чувства… Когда сняли чехол и красный шелк горячо вспыхнул на солнце, у меня, да и у многих девчат, заблестели слезы… Бершанская целовала знамя. Мне тоже очень хотелось поцеловать его и зарыться лицом в теплые, мягкие складки. Это было наше, мое знамя, понимаешь?
Да, мне очень понятны эти чувства. Вспомнилось лето 1944 года. Огромный «минский котел». Обстановка сложилась очень напряженная. Знамя временно сияли с древка, и в свернутом виде, в брезентовом мешочке, оно хранилось у дежурного по части. Он отвечал за него головой. Ведь если полк теряет знамя, то его расформировывают. Это самый большой позор для воинской части! Одна ночь была особенно тревожной. В лесу, где расположился наш штаб, вдруг началась сильная перестрелка. Совсем близко. Я была дежурной по части. Сразу же мысль о знамени. Спрятала его под гимнастерку, затянула потуже ремень. Спокойнее и теплее стало. Будто знамя излучало тепло…
Итак, мы в Ивановской. Идем с Руфой по тихой, безлюдной улице. Заглядываем через низкие частоколы дворов — ищем собеседника. На улице Казачьей, в доме 177-а замечаем во дворе женщину.
— Здравствуйте! — говорим и выжидательно стоим у калитки.
Хозяйка радушно приглашает в зеленый дворик.
Нам опять повезло! Надежда Григорьевна Сергеева — учительница здешней школы. Завязывается интересная беседа.
Мы многое сообщили о полку — для учительницы это так необходимо. Надежда Григорьевна записывала: «Буду ребятишкам рассказывать».
Нужно, ох как нужно звать детям о том, кто и как сражался за освобождение их станицы, города, нашей Родины от фашистских захватчиков!
Не соглашусь с пословицей, что только «дурные примеры заразительны». Дети больше тянутся к светлому, прекрасному, героическому. Ну, а если иной раз и попадают под Дурное влияние, то это опять-таки из-за стремления к чему-то необычному. К сожалению, у взрослых иногда красочнее получается разговор о том, как НЕ НУЖНО поступать детям, и довольно скучно и сухо подчас рассказывают и пишут о том, как НУЖНО жить, с кого следует брать пример.
Надежда Григорьевна рассказала об изменениях, которые произошли в станице за послевоенное время. Население значительно увеличилось. На полях появилась новая культура — рис. Построено много жилых домов.
— А в Краевом лесе сейчас олений заповедник, — упомянула она.
Там проходил однажды большой полковой физкультурный праздник — и для этого находилось время. Физическая закалка была необходима. Разве мог бы хилый организм вынести такое огромное напряжение, какое мы выдержали во время войны?
От Надежды Григорьевны поехали к школе, в «наш дом». Припомнилось, что неподалеку находилось большое болото. Так и есть! Только через него проложена теперь хорошая дорога. Но лягушки квакают так же, как и двадцать лет назад.
Вот и школа — одноэтажное белое здание. Узнали сразу. Сколько же воспоминаний нахлынуло!
Нашим гидом оказался Василий Ананьевич Сергеев, завхоз школы. Мы случайно встретили его по дороге, и он гостеприимно открыл нам двери, провел по классам. Школа уже полностью подготовлена к новому учебному году. Все блестит свежей краской. На полу — дорожки, в учительской — ковер. Уютно. Взглянув на портрет Карла Маркса, я почему-то вдруг припомнила одну деталь из его биографии. Как-то, заполняя полушутливую анкету своей дочери, Карл Маркс на вопрос: «Что вы больше всего цените в женщине?» — ответил: «Слабость». Понятно, конечно, что этим хотел сказать Маркс.
Физически женщина бесспорно слабее мужчины. И об этом сильной половине рода человеческого следует помнить. Мужчине, по-моему, должно всегда доставлять определенное удовольствие, если он помогает женщине. Этим самым он доказывает другим, а в первую очередь себе, что оп сильный. Сознавать же себя сильным приятно. У женщины и душа в некотором смысле слабее, чем у мужчины. Она нежнее, менее защищена от грубых ударов. Ее легко ранить порой одним неосторожным словом или жестом. Но у женщины есть другие качества, которые помогают ей восполнять упомянутые «слабости». Например, выносливость, сила воли. Причем сила воли, как правило, оказывается большой у хрупких на вид, «женственных» натур. Они зачастую и сами не подозревают об этой силе. Опасность, говорят, удесятеряет силы. У таких женщин — в особенности. Силы духовные увеличивают физическую силу.
Вспомнился один случай, происшедший в нашем полку здесь, на Кубани. Однажды ночью во время боевой работы на старте вспыхнул пожар — из-за каких-то повреждений в электропроводке загорелся самолет. Рядом, крыло в крыло, стоял самолет летчицы Марины Чечневой. Полностью заправленный горючим, с подвешенными бомбами. В один миг Марина оказалась около своего самолета, приподняла его за хвост и одна откатила машину на безопасное расстояние. Когда же пожар был ликвидирован, то потребовались усилия шести девушек, чтобы поставить самолет Чечневой на прежнее место. Мы несказанно удивились, узнав, что несколько минут назад Маринка одна тащила груженный бомбами самолет.
— Ну и богатырь! — шутили над ней.
«Богатырь» — среднего роста, весом меньше «полсотни», — сама не понимала, как это ей удалось. Она удивленно глядела то на самолет, то на нас, хлопая длиннющими мохнатыми ресницами.
Переходим из класса в класс.
— Вот тут жила наша эскадрилья, — говорит Руфа. — Как будто все это было вчера… Только вместо парт — постели. На нарах, подряд.
Здесь утром 1 августа 1943 года восемь постелей оказались незанятыми 4 экипажа сгорели над целью. Восемь молодых, хороших девушек. Упомяну имена всех. Ведь если мы, их боевые подруги, не вспомним о них, то кто же еще сделает это?
Погибли при выполнении боевого задания: летчица Аня Высоцкая со штурманом Галей Докутович, Женя Крутова с Леной Салимовой, Женя Сухорукова с Сашей Роговой и Валя Полунина с Ирой Кашириной.
Страшная незабываемая ночь. Как сейчас вижу: далеко впереди несколько лучей прожекторов схватили самолет. Держат. Ведут… Но почему нет обстрела? Зенитки и пулеметы подозрительно молчат. Вдруг вверху, из темноты, недалеко от освещенного ПО-2 — красная ракета. Потом короткая очередь вражеского ночного истребителя. ПО-2 вспыхивает. Падает, падает… На борту рвутся ракеты. Через несколько минут — та же картина. Потом еще. И еще.
Мы были потрясены. Таких потерь полк не знал.
Нужно было вырабатывать новую тактику. Ее подсказала сама ситуация раз против нас бросили истребителей, то единственное спасение — малая высота. Истребитель побоится снижаться ночью. А мы можем. Пусть стреляют зенитки и пулеметы — они не так страшны, как огонь истребителя, который бьет без промаха по близкой освещенной цели.
Тяжелая утрата вызвала глубокие и печальные раздумья. У меня впервые за время войны появилась какая-то… неуверенность, что ли.
До этого я летала с легкомысленным убеждением, что меня никогда не убьют. Пусть ранят, пусть собьют, но не убьют. А теперь поняла, что можно погибнуть.
Как-то вечером, вскоре после той траурной ночи, я присела в саду под яблоней и написала что-то вроде стихов. На мой теперешний взгляд, от них попахивает пессимизмом. Что ж, случалось и так, что без особых надежд заглядывали в будущее. Вот эти стихи:
Вечер. Сад. И луч заката. Тополя у нашей хаты. Деревенские ребята, Голосистые девчата… И не верится, что рядом, Километров пятьдесят, Рвутся бомбы, бьют снаряды, Трассы пуль в зенит летят. И не верится, что ночью В пекло адово пойду. Что сгорю звездой полночной И с заданья не приду. И не верится, что после, Как при мне и без меня, Будет так же: в окнах отсвет, Песни, сад… И тополя…Припомнились строки из дневника Гали Докутович:
«Девушки вчера летали бомбить аэродром в Гостагаевской. Там «миллион прожекторов». И Наталке Меклин они сегодня снятся. Проснулась и села на кровати. «Натка, ты чего?» — «Понимаешь, не могу крепко заснуть — все время прожекторы снятся».
Нам всем до сих пор снятся иногда военные ночи: черной небо, слепящие лучи прожекторов, вспышки разрывов зенитных снарядов, пламя горящих самолетов. Просыпаешься с колотящимся сердцем. Потом с облегчением вздыхаешь: хорошо, что это только сон!
Но и наяву, случается порой, тоже бывают бои. Правда, совсем уж другого рода.
Лет десять назад мы с мужем жили в маленькой комнатке многонаселенной коммунальной квартиры. Жила там одна женщина — ее все не любили за злой язык. Стою я как-то в общей кухне, варю кашу пятимесячному сыну. Вошла та женщина. Я, как и все жильцы, взбегала вступать с ней в беседы, но у нее была странная манера — рассуждать вслух, вызывая, таким образом, присутствующего на разговор. Так было и в тот раз.
— Гм, — усмехнулась она, вроде как отвечая на мой слова, — «воевали!» Знаем, как вы воевали и за что ордена получали!
Словно кипятком плеснули мне в лицо. Мгновенная вспышка гнева затмила разум. И не помню, как так получилось: рука, в которой я держала ложку, мелькнула в воздухе и…
— Караул, убивают! — завизжала злоязычница не своим голосом.
Она преувеличивала, конечно. Никто не выбежал на ее крик.
Я понимаю, что поступок мой был некрасивым. Но почему меня не мучает раскаяние? Наверно, потому, что мы до сих пор видим во сне войну. И еще потому, что нет сейчас среди нас таких славных девчат, как Дуся Носаль, Галя Докутович, Полина Белкина, Тамара Фролова и много других…
От школы проехали на площадку, где был наш аэродром — с восточной стороны станицы. Обрадовались — она почти в том же состоянии, как и в нашу бытность тут. Хоть сейчас взлетай с нее.
— Рая, смотри-ка, — указывает Руфа в сторону, — колодец! Ты не забыла, чем он знаменит?
Колодец?.. Как же! Случай единственный в своем роде. Экипаж Никулина Руднева возвращался с задания с одной бомбой, которая, несмотря ни на какие усилия штурмана и летчицы, не вышла из замка бомбодержателя над целью. А вот при заходе на посадку ей угодно было сорваться. Но, к счастью, не взорваться. Начали искать бомбу. Обшарили весь аэродром — как сквозь землю провалилась!
Потом обнаружили ее вот в этом колодце. Над Женей Рудневой подтрунивали: до чего же меткое бомбометание!
С любопытством заглянули сейчас в колодец — нет ли там бомбы?
Солнце клонится к закату. Выезжаем из Ивановской.
— В это время у нас обычно раздавалась команда: «Боевые экипажи, за получением задачи!» — уже в пути, оглядываясь на площадку говорит Руфа.
Она поправляет пояс на платье, будто ремень на гимнастерке. У нее, как вижу, «боевое» настроение. А во мне беспокойными всполохами возникают отрывочные воспоминания, неясные образы, щемящая грусть. Я смотрю на багряное небо и думаю… О чем? Даже самой трудно разобраться. Сразу о многом. О том, как великолепен закат. О том, что эти прозрачные облака похожи то ли на цветы, то ли на перья сказочной птицы. И еще вот о чем: где-то там, в стороне заката, падали тогда, в сорок третьем, наши горящие самолеты… Может быть, теперь на том месте растут цветы? Красные тюльпаны. Или маки…
Еще на Донбассе, когда мы только-только начинали воевать, нам пришлось однажды днем садиться на огромное поле красных маков. Казалось, самолет погружался в полыхающий огонь… А на краю поля стояла Галя Докутович, прижав к груди большой букет бархатно-красных цветов. Ее лицо с густым, смуглым румянцем было удивительно красивым в обрамлении маков.
Галя… Вижу, самолет вспыхнул над целью. Над ним промелькнула хищная тень. Полотняные крылья ПО-2 ярко прочертили огненную линию к земле. Горела жизнь — прожитая, совсем короткая, и еще непрожитая — большая, красивая, нужная людям. Горели девичьи мечты, первая любовь… Горело человеческое сердце. Горела Галя…
— Как полыхает закат, — задумчиво произносит Руфа.
— Мне кажется, что сейчас там появится мифическая птица феникс… Возродится из пепла. А может быть, и не птица…
Руфа, словно уловив сумбурный ход моих мыслей, прошептала:
Много перла осело на этой земле в войну…
Проезжаем по новому, добротному мосту. Табличка извещает; «город Славянок». Но по виду это пока что станица. Сколько раз мы смотрели на нее с воздуха! Здесь была основная переправа немцев, когда они «по просьбе» наших войск нехотя уходили с кубанской земли. Мы невольно присматриваемся к берегам около моста — не осталось ли следов от наших бомб?
Мне пришла сейчас в голову мысль; а что, если бы у нас в руках была волшебная палочка, по мановению которой вдруг «воскресли» бы как те бомбы, которые мы когда-то сбросили здесь, так и всё, уничтоженное этими бомбами? Произвожу в уме несложный подсчет. Допустим, каждый экипаж делал в летнюю ночь не больше пяти вылетов. Положим, летало самолетов двадцать. Каждый брал по четыре бомбы. Значит, за неделю полк сбросил около трех тысяч бомб. Если предположить, что каждая десятая бомба наносила поражение (вероятность вполне реальная), то здесь должно лежать сотни две-три разбитых объектов.
Я огласила результаты своих подсчетов. Леша вдруг резко притормозил.
— Ты чего? — спрашиваем.
— Не могу дальше ехать — завал! В Руфином багаже воспоминаний нашелся эпизод и для станицы Славянской.
— У нас с Лелей однажды над этой станицей мотор отказал, — говорит она. — Славянская была еще в руках немцев, километрах в двадцати за линией фронта. Сначала надеялись, что мотор «заберет». Но когда до земли осталось метров сто, а то и меньше, я сказала себе: «Это конец». Самолет бесшумно пронесся над автоколонной немцев. «Как жаль, что мало прожила и мало сделала…» — обреченно подумала в тот момент. И вдруг… понимаешь, в тот миг, когда колеса самолета готовы были вот-вот коснуться земли, мотор ожил! Переход от отчаяния к счастью был таким неожиданным, что я» подпрыгнув, чуть не вылетела из кабины.
Руфа и сейчас резко переменила позу. Оказывается, живы не только воспоминания, но и рефлексы, приобретенные во время войны.
Километров через тридцать промелькнул поселок Красный Октябрь. У любой нашей летчицы есть что порассказать о полетах к переправе у этого маленького хуторка — не одну ночь ходили сюда. А Жене Жигуленко из-за одного происшествия он будет помниться всю жизнь, наверное.
Было это ранней весной сорок третьего года, когда Женя летала еще штурманом. Красный Октябрь довольно плотно прикрывался зенитками и прожекторами: здесь перекрещивались пути от Темрюка и с юга, от трассы Анапа — Гостагаевская — Варениковская. Женя летела с опытной, отличной летчицей Полиной Макогон. И вот случилось так, что в тот момент, когда зенитки открыли огонь и вцепились прожекторы, летчица потеряла сознание. Не от страха, конечно, а из-за плохого самочувствия в ту ночь. Едва штурман сбросила бомбы на цель, как самолет, задрав нос, свалился в штопор. Женя осознала случившееся только на втором или третьем витке. Схватилась за управление. Но одно дело выводить самолет из штопора днем, во время тренировочных полетов, и совсем другое дело ночью, в лучах прожекторов, под обстрелом. Целый километр падали, пока удалось выправить положение. Летчица очнулась, когда самолет летел уже по прямой.
Не сбавляя хода, проезжаем станицу Курчанскую.
— Что можете сказать про этот пункт? — интересуется Леша.
Про Курчанскую-то? Как же, помню, что мин тут было видимо-невидимо. А домов целых почти не было, все разрушено. Сейчас-то вон стоят новенькие, аккуратные. Здесь, в Курчанской, как уже говорилось, к названию полка «46-й гвардейский» прибавилось наименование «Таманский».
— Таманцы, отметим сегодня такое радостное событие? — с надеждой спрашивает Леша. Мы знаем, на что он намекает.
— Вместе с Ирой Себровой, в Темрюке, — обещаем.
Трудно ему, наверно, с нами. Бесконечные воспоминания, зачастую невеселые, иногда и слезы — как сегодня, например. Каждый день бессменно за рулем. И разумеется, «сухой закон». Вместо коньяка — чеснок. От всех болезней. Пока что помогает.
Ночь настигла нас у Темрюка. В полной темноте блуждали по окраине, пока не напали на верный путь. Улица Свердлова, 10-а.
В доме наших друзей обе семьи были в сборе. Саша Хоменко, муж нашей подруги Иры Себровой, готовил рыболовные принадлежности — завтра чем свет на рыбалку. Ему помогал его младший брат Валентин, хозяин квартиры, в которую мы не совсем ожиданно ввалились.
Женщины готовили ужин. Люся, жена Валентина, с милым и спокойным радушием встретила нас. Мы с Лешей здесь не новички. Туристские пути приводили уже нас в Темрюк.
Пока хозяйка накрывала стол для ужина, мы успели сообщить нашей однополчанке почти все о своем путешествии. Ира с глубоким вниманием слушала наш нестройный рассказ, который густо сдабривался восклицаниями, междометиями, жестами.
Улеглись спать далеко за полночь. Какой сегодня был безумно длинный день!
8 августа
Лёша разбудил нас в половине седьмого.
— Вставайте, скоро дождь пойдет, тогда мы застрянем здесь, — припугнул он.
Нам известно, что дорога от Темрюка до переправы на косе Чушка плохая, не асфальтированная, поэтому слово «дождь» прозвучало для нас, как «аврал». Вскочили, наскоро умылись, проглотили по стакану кефира и, торопливо распрощавшись, выехали.
Поселок Пересыпь на нашей карте обведен большим ярким кружком — звезда первой величины, так сказать. Там — полгода фронтовой жизни.
…«Жил-был у самого моря гвардейский Таманский полк» — так начиналась сказка-шутка, придуманная кем-то из летчиц, когда в октябре сорок третьего года «(я обосновались в поселке. Летали над двумя морями. На сухопутных самолетах. Как в сказке!
Дождевые тучи остались позади, Пересыпь встречает нас ярким блеском солнца и взмахом крыла белой чайки.
— Побыстрее поедем к Ларионовне, так хочется повидаться с ней! — говорю в нетерпении.
Но не сразу нашли «свой дом». Он теперь не первый, а десятый от края. Поселок занял добрую половину нашего бывшего летного поля. Другая половина засеяна кукурузой.
Стучим в заветную калитку. Вышла незнакомая женщина. Оказывается, наша Ларионовна давно переехала со всей семьей к себе на родину, в станицу Бесскорбную. Я прошу разрешения у Полины Ивановны Романенко войти в дом.
Трудно описать всю сложную гамму чувств, которые охватили меня, едва я переступила порог. Это было и удивление (три комнатки остались без изменений), и удовольствие (приятно заглянуть в один и» уголков своей юности), и еще что-то такое, от чего к сердцу подкатила теплая волна, а глаза вдруг застлало туманом. Я прошла в маленькую комнатушку, где жили шесть девушек нашей эскадрильи: Ира Себрова, Наташа Меклин, Катя Доспанова, Леля Радчикова, Полина Гельман и я. Спали на нарах. Мы с Полиной вот здесь, у печки, а около окна — другие четверо. За окном — море. Оно и сейчас шумит, как в те военные годы. Я присела на стул. И, словно по волшебству, стрелки часов моей жизни мгновенно дали обратный ход, на двадцать лет назад.
…Через несколько минут начало нового, 1944 года. Сегодня нашему полку разрешили летать только до полночи и встретить Новый год на земле. А здесь, на земле, погода совсем не новогодняя. Нет ни снега, ни мороза. Грязь, слякоть, моросящие осадки. Этой ночью в полетах меня не покидало недоброе предчувствие. Что-то должно случиться, что-то помешает встретить Новый год. Но полеты закончились, предчувствие, значит, не оправдалось.
Эх, нет! Все-таки произошла неприятность. Во время рулежки ком грязи ударил по винту, и от одной лопасти отлетела добрая треть. Мотор трясет, как в жестокой лихорадке, мощность упала. От тряски у меня даже в носу свербит, то и дело чихаю. Рулим по компасу, темнотища невероятная. Продвигаемся с опаской, так как наша стоянка недалеко от обрыва, и мы боимся, как бы не свалиться в море. Самолетные часы показывают 24.00. Мы с Полиной в отчаянии — опоздали к новогоднему тосту!
А комэска Никулина переводит в это время стрелки своих наручных часов назад. Когда мы со штурманом и еще один экипаж вошли в дом, на часах командира было без каких-то минут двенадцать ночи. Сбрасываем унты, комбинезоны и — к столу.
— С Новым годом, дорогие подруги!
…Нить Ариадны ведет меня дальше по лабиринтам памяти. И приводит опять к празднику. Тоже здесь, в Пересыпи. 7 ноября 1943 года.
Ввиду явно нелетной погоды полк боевой задачи не получил. Откровенно говоря, мы были этому рады. Приятно ли сидеть в праздник на аэродроме в тоскливом ожидании милости с неба. Нам объявили, что после ужина будет вечер самодеятельности, каждая эскадрилья в своем домике, так как в поселке не было подходящего помещения, в котором мог бы разместиться весь полк.
Обычно еще задолго до какого-либо праздника летный состав отказывался от своих законных ста граммов вина, накапливая эти граммы для праздничного стола всего полка. На этот раз начпрод БАО что-то расщедрился (хотя мы проявили полное равнодушие к такой щедрости) и дал указание отпустить на каждого человека по полному стакану вина. Но не знаю, как уж считать — то ли начпрод кого-то обманул, то ли его обманули, — только вино, как позже выяснилось, оказалось крепленым. Мой штурман, Полина Гельман, выпила залпом сладкое вино и, кажется, захмелела. Впрочем, у меня тоже кружилась голова.
И вдруг в самый разгар ужина раздалась команда:
— Рабочие экипажи, на аэродром!
— Вот тебе и самодеятельность! — иронически заметила Полина.
Загремели отставляемые скамейки, и через две минуты столовая опустела.
С поспешностью, на которую я и Полина оказались способны тогда, мы снарядились и отправились на аэродром.
— Наша цель сегодня — высота 164, восточное Керчи, — ставила командир полка задачу. — Предупреждаю: если облачность в районе цели будет менее шестисот метров, экипажи должны возвращаться, не выполняя задание.
Значит, садиться с бомбами. Неприятно.
Через полчаса мы уже вырулили на старт. Выпускающий взмахнул фонариком, я дала полный газ, хвост, как говорится, трубой, и самолет пошел в черное сырое небо.
Над Керченским проливом облачность прижала нас до трехсот метров.
— Ну как, пойдем дальше? — повернувшись, кричу Полине.
— Ха, конечно! — слышу безапелляционный ответ. И Поля лихо эдак взмахнула рукой — вперед, мол, на запад!
Мне тоже не хотелось возвращаться с бомбами. Идем дальше. Перелетели пролив. Здесь, в Крыму, облачность оказалась немного повыше, и я надеялась, что в районе цели она поднимется еще больше. Эта надежда вела меня все дальше и дальше… Увлекшись небом, я позабыла о земле и не заметила, как перемахнула передний край обороны. Обычно при подходе к этому рубежу я всегда слышала от штурмана: «Пересекаем линию фронта». Сейчас же она молчала, и поэтому я была убеждена, что мы еще над своей территорией. Вдруг под нами включился прожектор, немного пощупал лучом облака и сразу поймал нас. «Наши балуются. Ну, пусть позабавятся». И я продолжала спокойно идти. В светлом овале, образовавшемся в том месте, где луч упирался в облачность, я увидела темный силуэт самолета. «Еще кто-то попался», — отметила про себя. Но вот что удивительно: я качну самолет влево — и тот влево, я вправо — и он туда же. «Гм, странно»… В мою затуманенную сомнительным вином голову не могла прийти тогда простая мысль, что это тень нашего самолета.
С земли по нас начали стрелять.
— Очумели, что ли? — забеспокоилась я. Начинаю увертываться от трассирующих пуль. Вдруг кто-то схватил меня за плечо. Я вздрогнула. Кто это?
Конечно, не ангел небесный и не демон, а Полина.
— Райка! — кричит она, стараясь перекрыть шум мотора. — Разворачивайся, мы прошли цель! Керчь под мотором!
Я обалдела. Как же нас занесло на Керчь? Это безумство — лезть на такой укрепленный объект на высоте всего 350 метров! Значит, мы болтаемся в луче не своего, а немецкого прожектора, и стреляют по нас тоже немцы?.. Если к тому времени в моей голове и оставался еще хмель, то теперь его как ветром сдуло. Мысль лихорадочно заработала. Круто разворачиваюсь. Попутный ветер помогает унести ноги. Вдогонку летят светлячки пуль. Немецкие прожектористы еще держат нас в луче и, вероятно, с удивлением наблюдают за не в меру расхрабрившимся фанерным самолетом. Вот и цель под нами — теперь-то хорошо ее вижу! Штурман сбрасывает бомбы. Прогремел мощный взрыв, нас сильно подбросило. Еще бы! Истинная высота сейчас всего метров двести.
Теперь домой! Исправили переговорный аппарат, а пока шли до аэродрома, Полина рассказала мне, что она в полете немного задремала, ее разбудил луч прожектора. Осмотревшись, с опозданием поняла, что цель прошли. Стала мне кричать, чтобы я разворачивалась.
— Но ты сидела как каменная и шла все дальше, прямо на Керчь. Тогда я догадалась, что переговорный аппарат испортился, и начала теребить тебя за плечо.
Через несколько минут мы садились. На аэродроме не наблюдалось никакого движения, все самолеты стояли на земле. Полк явно не работал.
— Командир полка приказала вам обеим явиться и ней на доклад, — сказала техник Катя Бройко. — Будет снимать стружку, — предупредила она.
У командного столика я по всем правилам доложила:
— Товарищ майор, задание выполнено!
— Где вы были до сих пор? — подозрительно оглядывая нас, строго спросила командир полка.
— Бомбы сброшены на цель, — дипломатично ответила я.
— Все экипажи вернулись еще от пролива, говорят, что низкая облачность, С какой высоты бомбили?
Мы с Подиной переглянулись. Что ответить? Ведь нарушили указание.
— А они дырки в плоскостях привезли, товарищ майор, — ввернула подоспевшая Катя Бройко. — От своих бомб в основном.
«Вот вредная! — возмутилась я про себя. — Тянули тебя за язык…»
К нашему удивлению, Бершанская не стала ругать нас.
— Какая же все-таки высота в районе цели? — допрашивала она.
— Триста пятьдесят. Над проливом немного меньше, — признались мы.
— Ладно, идите.
Вот так мы и отпраздновали с Полиной 7 ноября 1943 года. К концу ночи облачность приподнялась, и нам удалось сделать еще два боевых вылета…
…Море за окном шумит, шумит. «Помнишь?.. Помнишь?.. — слышится мне в плеске волн. — «…тихо шептала безбрежность и ласкалась изумрудными, дрожащими брызгами к печальному, немому великану»… Помнишь?»
Да, вспомнила.
Как-то в период вынужденного затишья в боевой работе, появилась у нас в этой вот комнатушке — уж не знаю, откуда — книга о символистах, в которой были подобраны отрывки из произведений Блока, Белого и других, а также помещены несколько писем символистов друг к другу. Оригинальный стиль писем привлек наше внимание. Завязался оживленный спор.
Больше того, Наташа Меклин и я дерзнули даже подражать им. Сотворили какую-то невероятно страшную символическую чепуху и шутки ради отослали летчикам бочаровского полка. Как потом нам рассказывали, у них при чтении волосы вставали дыбом.
Подражая символистам, мы с Наталкой начали писать друг другу письма. Одно свое письмо помню до сих пор наизусть.
«Я не знаю, куда ушли бледнолунные тени; я не видела, как трепетали призраки отходящих туманов; и не слышала, как наплывали нежноласковые звуки, рассыпаясь в розовом блеске утренних жемчугов. Грезы дремали. Было загадочно-сладко от мягкого, бархатного дыхания млеющей полутьмы. Но кто-то поспешно и странно-невидимо уже сматывал паутину сновидений в огромный шелестящий шар, и от этого становились осязаемы тонкие кружева мечты.
Постепенно тишина таяла в поющем хрустале звонко-голубой дали, а в необозримой выси ликующе вспыхнула лучистая беспредельность. Стало совсем ясно. Блеск.
Тонкие стрелы взметнулись вверх, и желанно открылась агатовая глубина. Из-под алмазных снегов брызнул коралловый смех. Ломко изогнулась линия мысли. В туманную задумчивость чуткого покоя начал вплетаться мелкий бисер серебряного звона. Все заволновалось. Гибкие, дремавшие в неге крылья встрепенулись, приоткрыли теплую белизну, и от нее пахнуло опьяняющей, манящей тайной.
А совсем рядом, за глухой стеной, тихо шептала безбрежность и ласкалась изумрудными, дрожащими брызгами к печальному, немому великану…
P.S. Наталка, это я пыталась в символической форме описать момент твоего пробуждения».
— Рая, где ты там пропала? — зовет со двора Руфа. Пока я здесь сидела и вспоминала, они с Лешей беседовали с хозяйкой.
Присоединяюсь к разговору.
— Мы с Домной Ларионовной переписываемся, — рассказывает Полина Ивановна. — Живет она неплохо, дочери и сыновья семьями обзавелись.
— И Витька тоже? — удивленно вырвалось у меня. Как-то не верится, что тот шустрый, озорной, шестилетний Витька стал уже отцом. А давно ли Ларионовна прикрикивала на него:
— Витька, ты, кажу, опять унты надел?
— Так я ж, мамо, не чужие, а Ирины!
У него с летчицей Ирой Себровой была особая дружба. Горести, радости, унты, шлем и даже боевая работа — все было «наше». Витька всегда с нетерпением ожидал по утрам прихода Иры. Дождавшись, расспрашивал о том, как леталось ночью, много ли стреляли немцы, как рвались бомбы. А потом, когда Ира ложилась спать, он надевал ее унты, шлем и ходил по двору, а то и по улице, еле волоча ноги в непомерно большой обувке, но гордый и довольный ведь на нем настоящее летное обмундирование, от которого, казалось, еще попахивало порохом. Но вот однажды заехал какой-то парень с усиками и подозрительно долго разговаривал с Ирой. Саша Хоменко и не догадывался, конечно, что после его визита появится облачко ревности на ясном небе дружбы между его будущей женой и Витькой.
— Ох и доставалось же Ларионовне от нас! — вспоминаю я. — Ввалимся, бывало, утром с работы, всю хату заполоним. Каждая спешит побыстрее раздеться и занять очередь на мойку калош с унтов — грязи-то тут хватало! В спешке нальем, конечно, напачкаем — ведь нас человек пятнадцать у ней было. Потом каждая потихоньку просит Домну Ларионовну поставить ее калоши поближе к плите, чтобы успели высохнуть к вечеру. И ни разу не слышали мы от Ларионовны упрека, не видели косого взгляда. А когда весной улетали отсюда, то она уже в последний момент начала торопливо рассовывать нам в рюкзаки вяленую рыбу, «Может, — говорит, — в Крыму-то поначалу и есть нечего будет. Так вот хоть рыбку пожуете». Угадала, рыба очень пригодилась в первые сутки.
— Вы тоже в этом доме жили? — спрашивает Полина Ивановна Руфу.
— Нет, я вон в том, через дорогу. Там хозяев не было тогда.
Поговорив еще немного, мы поблагодарили Полину Ивановну и направились к дому напротив. Сейчас в нем живут мать с дочерью н еще маленький щенок и котенок. Смешной лохматый песик звонко затявкал на нас.
— Ты что ж, своих не узнаешь? — стыдит его Руфа. К сожалению, интересной беседы с хозяйкой у нас не получилось. Она не жила здесь во время войны и не могла говорить на волнующую нас тему. Знала только, что около школы, на небольшом кладбище воинов, есть могилы двух летчиц. Но об атом мы сами помнили. Похороны подруг не забываются.
Я видела, что у Руфы нет желания входить в хату (дом перестроен заново), поэтому предложила:
— Тронемся дальше?
— Да, пожалуй.
В центре поселка за невысокой деревянной оградой — несколько могил. Они расположены аккуратными прямоугольниками вокруг белого обелиска со звездой наверху. На одной из сторон обелиска написано:
ПОГИБШИЕ ВОИНЫ
Бондарева А. Г.
Володина А.
Маренко П. П.
Дедушев И. М.
Напротив памятника, ближе к дороге — две могилки рядышком, одна к другой прильнули.
…Это случилось мартовской ночью 1944 года. Стык двух морей часто создавал плохую погоду. В ту ночь мощный туман быстро надвинулся с юга, и, когда Аня Бондарева с Тосей Володиной возвращались из Крыма с задания, Таманского полуострова уже не было. Ничего не было, кроме тумана. Я понимаю, как им было одиноко и тревожно лететь над седым бескрайним полем. Никаких признаков жизни внизу. Можно бы рискнуть пробиться сквозь туман, но это очень опасно. Где море? Где земля? К тому же у молодого экипажа еще не было достаточного опыта полетов в сложных метеоусловиях, как у ветеранов полка, которые прошли нелегкую школу борьбы с коварной кавказской погодой. Кружились, очевидно, в надежде, что туман рассеется или образуется окно. Но горючее кончилось. Упали в туман. А там — плавни…
Хоронили их в дождливый ветреный день 28 марта. Играл оркестр. Можно было плакать открыто — слезы мешались с каплями дождя. Винтовочный залп прозвучал последним аккордом к похоронной музыке.
С тех пор прошло 20 лет. Но и сейчас отзвуки прощального салюта болью отдаются в сердце.
Кладем на могилы скромные цветы. Такими же скромными были и две молодые девушки.
Тихо на кладбище. Вечным сном спят здесь воины. И совесть перед ныне живущими чиста — они до конца выполнили свой человеческий долг… Не забывайте об этом, жители Пересыпи! Следите, чтобы тропинки к могилам не зарастали травой. Сюда еще не раз придут летчицы 46-го гвардейского Таманского полка. Сюда не раз придут матери погибших.
Едем по косе Чушка. Дорога неважная. Временами кажется, будто она ниже уровня моря и волны вот-вот перехлестнут через плоскую береговую каемку. А море сегодня сильно волнуется. Оно покрыто белыми гребешками.
— Где-то здесь стояла наша зенитка, которая нас с Полиной чуть не убила, — вслух размышляю я.
— Ты что-то путаешь, — говорит Леша, — как это «наша» и «чуть не убила»?
— Да вот так.
Примерно в средине осени 1943 года, когда в Крыму но было еще маленького плацдарма наших войск у Маяка, немецкие самолеты гуртами летали по ночам из Крыма на Таманский полуостров. А мы летали в Крым. Над Чушкой пути часто скрещивались, иногда чуть ли не лоб в лоб. Нашим зенитчикам было трудно разбираться в многоголосом гуле самолетов. Бьют вроде как по чужому, а тут, глядишь, и свой подвернулся откуда-то.
Вот и нам досталось однажды по ошибке. Идем мы в Крым с бомбами. Поймал нас по недоразумению свой прожектор с Чушки. Зенитчики же решили: раз прожектор держит, значит, это «фриц». Как они начали по нас палить, успевай только поворачиваться! А с бомбами-то тяжело вертеться. Говорю штурману: «Дай ракету «я свой». Дала. Не помогает. Я помигала бортовыми огнями. Все равно бьют. И прожектор держит. Тогда, отчаявшись, я убрала газ и крутым скольжением пошла к земле, как всегда делала над целью в таких случаях. Снизилась метров до двухсот, кричу: «Чи у вас очи повылазыли? Чего по своим лупите? А то вот мы тоже как шарахнем бомбы»… Перестали. Полина спрашивает: «Ты уверена, что они слышали тебя?» — «Нет, — говорю, — но я хоть душу отвела. Давай теперь снова набирать высоту».
— А я однажды над Чушкой чуть из самолета не выпала, — вспоминает Руфа.
— Это как же?
— Понимаешь, мне никогда не приходилось летать на высший пилотаж, все по прямой да развороты, ну скольжение еще иногда. Очень хотелось прочувствовать, что такое петля. Вот однажды я и попросила летчицу, Раю Юшину, сделать петлю. Мы возвращались с задания, ночь была лунная. Рая согласилась. Сделала одну петлю — мне понравилось. Прошу еще. Вторая получилась с зависанием в верхней точке. Загремел аккумулятор, на лицо посыпался мусор с пола кабины, а сама, чувствую, отделяюсь от сиденья и падаю вниз головой. Еле успела ухватиться за борта кабины, а то бы прилетела тогда Юшина без штурмана. Ремнями-то ведь не привязывались.
— Что было бы с Бершанской, если бы она знала о всех ваших проделках? качает головой Леша.
Вот уже и конец Чушки. Мы останавливаемся около светлой высокой скульптуры: солдат в накидке, с автоматом в руках замер в торжественно-суровой позе. На постаменте надпись:
«Доблестным воинам Советской Армии в день десятилетия освобождения Таманского полуострова от немецко-фашистских захватчиков. 1943–1953 гг.».
— Это и в вашу честь, — уважительно говорит Леонид. Потом, взглянув на спидометр, громко провозглашает: — Таманцы, у нас настал переломный момент путешествия, проехали пять тысяч километров!
С радостью поздравляем друг друга и особенно водителя.
К нам подошел мужчина примерно наших лет. Лицо печальное, на глазах блестят слезы.
— Не знаете, здесь кто-нибудь похоронен? Я ищу могилу брата, — говорит он с ярко выраженным кавказским акцентом. — Погиб на Тамани, у пролива. Вам случайно не знакома его фамилия?
Он назвал фамилию. Нет, к сожалению, не знакома.
Я сразу не записала ее, а потом мы никак не могли вспомнить.
Наверное, не один этот человек ходит вот так по земле уже двадцать лет, ищет могилу близкого. А ее нет… Он останавливается у памятника и с робкой надеждой думает, что, может быть, именно здесь лежит тот, погибший во время войны. Смотрит на застывшую в камне фигуру воина и начинает узнавать знакомые черты дорогого человека. Ему очень хочется, чтобы это был именно он. Потому что неизвестность мучительна.
Мы подъехали к переправе, заняли очередь в длинном ряду машин, купили билеты для ее величества «Волги» за четыре рубля и себе по двадцать копеек. Через полчаса подошел паром «Южный». Началась выгрузка, потом торопливая погрузка.
Сейчас все успокоилось, плывем. Решили по-настоящему позавтракать. Разложили копченые бычки, помидоры, огурцы, дыни — все это купили на маленьком рынке на Чушке.
С середины пролива открывается широкая панорама Крыма. Хорошо видны Маяк, Жуковка и другие пункты. В дымке прячется Керчь.
— Впервые переплываю пролив по воде, — говорит Руфа. — А ведь сколько раз мы пересекали его по воздуху!
— Можно подсчитать. У меня при себе летная книжка. Достаю из сумки «Личную летную книжку» — небольшая, типа блокнота, размером примерно 15Х10 сантиметров в твердом переплете. Это краткий дневник моей боевой работы за три военных года. Дневник, который регулярно каждое утро заполняла адъютант эскадрильи на основании записей дежурного по полетам. Итог каждого месяца заверен круглой полковой печатью и подписью нашего бессменного начштаба Ирины Ракобольской. Давно не заглядывала в эту книжицу! Нахожу: октябрь 1943 года. Боевые вылеты в Крым начались 21 октября 1943 года. В графе «Краткое содержание задания» написано: «Бомбила враж. прожект, между Маяк и Баксы». Замелькали знакомые названия: Тарханы, Булганак, Багерово, Керчь, гора Митридат… Первого ноября бомбила по прожекторам в пункте Оссовины, уничтожила один прожектор.
— Смотрите-ка, какое у нас с Полиной было меткое попадание! откровенно хвастаюсь перед однополчанкой и мужем.
Потом идет Эльтигенский период: «Сбрасывала мешки, газеты, ящики». «Бомбили плавсредства восточное Эльтигена»… Последний удар перед нашим перебазированием в Крым был нанесен 11 апреля по скоплению войск противника в пунктах Владиславовка и Семь Колодезей. Каждый полет в ту ночь продолжался почти два часа — немцы отступили «далеко вперед», за Турецкий вал.
— Подсчитала, — говорю, — с Таманской земли сделала 208 боевых вылетов в Крым. Значит?..
— Значит, четыреста с лишним раз пересекала Керченский пролив, заключает Руфина. — И это тебе-то! Ведь ты боялась воды, — припоминает она мне старые грехи.
— А ты разве не боялась? Ну признайся, по-честному?
— Неприятно, конечно, лететь на сухопутном самолете над морем, — не скрывает Руфа и пристально смотрит в зеленовато-синюю глубь. — Бывало, как начнут обстреливать, так стараешься уйти в море, но потом, когда отстанут, опять жмешься к берегу. Земля, хоть там и враг, — все-таки земля. Притягивает…
Руфу, вижу, клонит ко сну — сегодняшнюю ночь мало спали. Ну, пусть подремлет. Я выбралась из машины, подошла к борту, где стояло несколько «пеших» пассажиров.
— Вы из Керчи? — спрашиваю стоящую рядом женщину.
— Нет, из Жуковки.
— Давно там живете?
— Да почти всю жизнь! — весело отвечает собеседница. Вот находка! Я навострила уши.
— Ив войну там жили?
— Жила… — она почему-то перестала улыбаться. Паром скоро подойдет к причалу. Нужно спешить!
— Вы не помните, здесь летали «кукурузники» во время войны? Слышали о таких?
— Как же! Они по ночам летали. Немцы дю-юже их не любили.
Уж какая там любовь!
— А вам от этих «кукурузников» не доставалось?
— Ни, они аккуратно бросали бомбы. Вот, помню, как-то немцы привезли в Жуковку прожектор, новенький, и поставили его возле штаба. В ту же ночь «кукурузник» разбил его. Мы так обрадовались! На другой день и штаб уехал. У нас стало тихо.
Женщина была, очевидно, твердо убеждена в том, что для ПО-2 попасть в прожектор — раз плюнуть. Мне не хотелось разрушать ее иллюзий. Зачем общипывать свой лавры? «Эх, тетечка, — подумала я, — знала бы ты, как мы однажды на Северном Кавказе всем полком две ночи напролет бомбили переправу у Хамидии, а она все стояла целехонькая, как заколдованная!
— Скажите, около вашей Жуковки не падал ночью сбитый «кукурузник»? — с затаенной надеждой задаю вопрос.
Это о Жене Рудневой спрашиваю, о нашем штурмане волка, о «девушке-сказке», как называю ее про себя. Тогда, в апреле сорок четвертого года, так и не удалось найти даже обломков самолета. Неужели и она, и летчица Прокопьева сгорели дотла?
— Ни-и! Николи не было такого! Немцы не умели сбивать их.
«Умели, к сожалению. Не видела, значит, как горел самолет. Ярко, словно шаровая молния».
Паром начал пришвартовываться. Пассажиры заволновались. Женщина торопливо поправила платок на голове, попросила меня поднять ей на плечи поклажу и двинулась к выходу. А через несколько минут и мы съехали на крымский берег.
Ни в Керчи, ни в Эльтигене наши самолеты никогда не касались земли, это не базовые точки. Тем не менее мы решили обязательно там побывать.
«Эльтигенские ночи» — явление исключительное в боевой работе полка. В этот период мы стали транспортной авиацией. Возили продукты, медикаменты, патроны — все это было так необходимо нашим десантникам в Эльтигене! Отрезанные с моря и суши, они жили и боролись только благодаря помощи с неба.
Нам очень хотелось увидеть при дневном свете тот белый прямоугольник школьного двора, куда мы сбрасывали груз. Мысленно я представляю его всегда отчетливо, ясно. Но хочется постоять там, посмотреть вверх, на небо — как ПО-2 выглядели для десантников? И еще хочу выяснить долго мучивший меня вопрос: почему несколько раз случалось так, что трасса пуль от наземного (а не зенитного!) пулемета проходила дугой над моим самолетом? Именно «над», а не «под». По моим представлениям, для этого нужно было, чтобы пулемет стоял приблизительно на уровне высоты полета самолета, то есть не ниже, чем метров на тридцать-сорок. Где же находилась эта вражеская огневая точка?
Я высказала свои недоумения Руфине.
— Подожди немного, на месте уточним, — отклоняет она все мои «где?» и «почему?», уткнувшись в карту.
Асфальт выводит нас почти на берег. Впереди — широкая полоса песчаного пляжа, на котором маячат редкие фигуры отдыхающих.
— Извините, вы здешняя? — останавливаем идущую с пляжа купальщицу.
— Да, я керчанка.
— Подскажите, пожалуйста, как проехать в Эльтиген?
— А какой вам нужен — первый или второй?
— Разве их два? Нам нужен тот, где во время войны высаживался десант.
— Тогда поезжайте вон по той дороге, в Эльтиген-II. А этот поселок Эльтиген-I. Простите за любопытство — почему вы им интересуетесь?
Пришлось коротко объяснить.
— На ловца и зверь бежит! — обрадовалась керчанка и стала торопливо доставать из сумочки блокнот. — Давайте знакомиться. Я сотрудница газеты «Керченский рабочий», Маркелова Людмила Даниловна. Сегодня же постараюсь сделать материал в газету.
Людмила так за нас уцепилась, так настойчиво (но очень вежливо и мило) просила и расспрашивала, что мы волей-неволей выполняли все ее желания: надевали Звезды (прямо на дорожные платья), отвечали на многие вопросы, позировали перед фотоаппаратом.
— Это мои первые в жизни снимки, только начинаю осваивать профессию фотокорреспондента, — призналась Людмила.
На прощанье обменялись адресами.
Эльтиген-II оказался совсем близко. Из-за поворота дороги открылся вид на знакомые очертания берега, и напряженный волнением взгляд сразу же остановился на том, чего мы с нетерпением ожидали — здание школы, обнесенное низким белым забором.
— Это она! — воскликнули мы с Руфой и одновременно схватили Лешу за плечи.
Он прибавил обороты мотору.
Как бы я ни описывала сейчас те чувства, которые высокой волной выплеснулись из сердца, все равно понять меня до конца сможет лишь только тот, кто летал сюда осенними ночами 1943 года. Вы, мои однополчанки. Помните?
…Самолет идет над морем. Впереди, на темной прибрежной полоске крымской земли, оранжевым глазом мерцает костер. «Сюда, сюда, — зовет он, я горю, у меня есть силы, но нужно поддержать их. Нужна пища, патроны, лекарства. Сюда, сюда…» Самолет бесшумно снижается, летит мотыльком на огонь. Вокруг костра падают, как спелые яблоки с дерева, мешки, ящики, почта. Вражьи пули стараются настичь ночной мотылек, но он, мелькнув легкой тенью, тает во мраке. Иной раз с неба вдруг раздается звонкий голос: «Полундра, бросаю патроны!» Тогда во дворе восторженно летят кверху шапки и бескозырки…
Мы стоим сейчас на том месте, где горел костер. Он давно погас, вместе с пожаром войны. Но в уме опять вдруг вспыхнул предупредительным желтым светом. Природа мудро поступила, наделив человека памятью. Жаль только, что некоторых она обошла. Но большинство людей помнят о военных кострах и, наверно, не допустят, чтобы они опять вспыхнули.
Руфа изучающе оглядывает двор и замечает:
— С воздуха он мне казался больше.
— Я тоже так подумала. Наверное, это потому, что мы повзрослели. А может быть, причина в деревьях, их ведь тогда не было около забора.
За школой низкий берег вскоре круто поднимается вверх почти отвесной стеной. Эта стена принадлежала в ту пору врагу, Людмила Маркелова в разговоре с нами упоминала про немецкий дзот, который, господствуя над местностью, простреливал почти каждый метр эльтигенской земли. Он и теперь, говорят, виден.
— Руфа, посмотри хорошенько вон туда, на обрыв, — прошу подругу, — то темное пятно — не дзот ли?
— Вероятно. Вот, кстати, и ответ на твои «где и почему».
И в самом деле: я заходила на костер вон оттуда, с юга, правым разворотом. Снижалась, снижалась… Дзот за хвостом. Вдруг — пулеметная очередь. В спину…
Невольно передергиваю плечами. Бр-р-р!
— Представила? — догадывается Руфа.
Покружили по двору, подошли к зданию. На двери табличка: «Керченская начальная школа № 6». Никого нет, дверь закрыта. Заглянули в окна — там все готово к приему маленьких керчан.
Недалеко от школы, у берега, стоит белый обелиск. На нем, кроме «Вечной славы героям…», мы ничего не нашли. Про десант — ни слова. Не ожидали. Неужели нельзя было уместить здесь несколько конкретных слов о защитниках «Огненной земли»? На песчаном берегу загорают, купаются десятка два отдыхающих. Тут же, против обелиска, в прибрежной полосе, из воды выглядывают остовы затонувших катеров или барж. На них в штормовую ночь приплыли с таманского берега отважные десантники и вгрызлись в немецкую оборону. Море давным-давно смыло кровь с песка, а жители захоронили убитых, и только черные остовы безмолвно свидетельствуют о драматических событиях военных лет. Но знают ли обо всем этом те вон отдыхающие? Вот ты, юноша в красивых плавках, лежишь на теплом золотом песке, из портативного приемника звучит веселая музыка. А ты знаешь, что двадцать лет назад твой сверстник лежал на этом же месте с гранатой в руке и на него лились не ласковые солнечные лучи, а свинцовые пули врага? Может быть, ты и не знаешь. А нужно, должен знать. Ведь ты — молодой гражданин Советского Союза, и на тебе лежит обязанность охраны и защиты Родины. Если же на обелиске было бы что-нибудь написано о десанте, то ты непременно запомнил бы те слова и в трудный момент (кто знает, может, и случится такой) они помогли бы тебе найти в себе силы и мужество.
— Не пора ли трогаться? — напоминает Леша. — Время-то уж четвертый час.
Он прав. Необходимо побывать еще в Керчи, там есть у нас одно важное дело.
До самого последнего момента, пока белый забор школы не скрылся за поворотом, мы с Руфой все оглядывались назад. Хотелось получше запечатлеть каждый штрих, каждый оттенок памятного для нас места.
…До войны жила в Керчи девочка Вера Белик. Ходила в школу на улице Войкова. Теперь дети с этой улицы учатся в большом светлом здании, при входе в которое написано: «Керченская школа № 17 имени Героя Советского Союза Веры Белик».
Мы пришли сюда ради встречи с тобой, Вера. Вот и довелось нам вновь повидаться. Ровно двадцать лет назад полк прощался с двумя подругами. Под звуки ритуального салюта падали цветы на могилу… С именем твоей летчицы мы теперь встречаемся в Москве на улице Татьяны Макаровой. А с тобой впервые после войны встретились. Помнится, ты мечтала стать преподавателем, учить детей. Видам, что твоя мечта сбылась — ты учишь их всей своей жизнью. Ведь каждый ученик твоей школы знает, что Вера Белик добровольно из московского пединститута пошла на фронт, летала штурманом на ночном бомбардировщике, сделала 813 боевых вылетов. Знает, что ты погибла от пуль вражеского истребителя, сгорела в небе Польши. Знает, что ты была смелой, любила Родину… Д ведь может, Вера, случиться так, что ученик, который сидит теперь за твоей партой, полетит когда-нибудь на ракете к другим мирам и в долгие часы одиночества будет вспоминать родную Землю, где есть город Керчь и школа, высоко на фронтоне которой высечено в камне твое имя. Может, и ракета будет называться «Вера Белик»…
— Хорошо, когда человек оставляет свое имя людям, — задумчиво глядя на школу, говорит Руфа.
— Хорошо, когда люди не забывают имен достойных, — дополняю ее мысль.
Отъезжая, помахали школе, как живому человеку. До свиданья, Вера! Продолжай учить своих юных земляков. А мы едем дальше — сама знаешь, какой впереди еще большой путь у нашего полка.
Опять в движении. Бесконечной темно-серой лентой вьется впереди дорога, обрываясь то на близком горизонте подъема, то на далеком краю ровной степи. Скучноватая эта часть Крыма, однообразная. Редкие поселки очень похожа один на другой, а дома в них — как близнецы.
Теперь можно рассказать о дальнейших наших планах.
Из Пересыпи полк перелетел в Крым 12 апреля 1943 (?) года и сел около поселка Чурбаш. Поселка по существу не было, немцы сожгли его дотла. На другое утро мы перебазировались уже в Карач, на следующий день — в Изюмовку. Немцы, опасаясь быть разбитыми на две части (с севера, с Перекопа, наступали войска 4-го Украинского фронта), спешили отойти с Керченского полуострова к Симферополю. Мы едва успевали догонять их. 15 апреля наши самолеты сделали еще один бросок вперед и приземлились на просторной сухой площадке у села Карловка. Там прожили около полмесяца. Вот в Карловку и едем сейчас.
Уже давно выяснили, что на нашей карте ее нет, поэтому будем искать по памяти. А память отчетливо сохранила невысокие белесые горы, поселок в долине небольшой речки, теплый весенний день и радушную встречу с населением.
Сейчас проезжаем Старый Крым. Здесь уже другой пейзаж — горы, сады, зеленый лес. Этот уголок Крыма напомнил Руфе Болгарию, она была там летом 1946 года.
— О Болгарии, о ее людях у меня сохранились самые хорошие, светлые воспоминания. — рассказывает Руфа. — В Софии проходил тогда антифашистский конгресс женщин-славянок. Я находилась в составе советской делегации. Слышала бы ты, какие горячие речи произносились с трибуны конгресса! С каким гневом звучали проклятия фашизму, войне. С какой страстной верой высказывалась надежды на мир. У многих выступавших женщин кто-то погиб на войне — брат, муж, сын.
— В то время раны были совсем свежие…
— На конгрессе одна болгарка подошла ко мне и, сняв со своей руки браслет, надела мне. «В память о том, что вместе боролись против фашизма», сказала она.
— Это тот, который ты надевала однажды?
— Да, он самый. А после работы конгресса несколько дней ездили по Болгарии. Встречали нас везде чудесно, даже можно сказать восторженно. Часто на пути собиралось много народу, останавливали машину и просили: «Скажите что-нибудь о русских!» Я поняла тогда, что болгары — наши настоящие, искренние друзья. В поездке по стране нас сопровождала в качестве переводчика болгарка по фамилии Болгаранова. Обаятельная, умная женщина. В войну попала в концлагерь, подвергалась там не раз пыткам. Ей выкручивали руки, пальцы. Как сейчас вижу ее искалеченные в суставах пальцы. Она старалась прятать их… Я поражалась: откуда у нее, после всех пережитых ужасов, столько свежей энергии, страсти к жизни, чуткости к людям? Помню, в Пловдиве, перед гостиницей, где мы остановились, собралось несколько тысяч жителей. Приветствовали, махали руками и просили сказать несколько слов. Болгаранова говорит мне: «Руфа, ты должна выйти и сказать что-нибудь». — «Не могу! Не сумею. Боюсь…» — «Нужно! Ты должна!», и почти силой выпихнула меня на балкон. Я что-то говорила. В основном, кажется, о нашем полку. И вот в конце почувствовала, что действительно НУЖНО было говорить. Народ хотел видеть меня, русскую, слышать русскую речь. Болгаранова поняла это раньше меня.
Руфа глубоко вздохнула. Будто она и в самом деле только что кончила говорить перед восторженными болгарами. Потом, вспомнив что-то, улыбнулась.
— А вот один любопытный момент поездки. Монастырь в юрах, там жили настоящие монахи. Когда мы приехали туда, собралась большая толпа. Приветствовали, спрашивали, что-то говорили. И вдруг запели «Катюшу». Сначала я от удивления просто онемела. А потом и сама стала подпевать.
— Оригинальная сценка, — улыбается Леша, — болгарские монахи и русская девушка-Герой хором поют «Катюшу»!
— Потом ездили в какую-то воинскую часть. Там нас буквально носили на руках. Вместе с машиной. Даже крылья погнули, мы еле смогли выйти потом.
— В общем, с триумфом проехала по Болгарии, — заключает Леша.
— Это был триумф нашей победы.
9 августа
Переночевали в поле за Белогорском. Карловки еще не встретили.
Мы с Руфой долго не могли заснуть — очень много впечатлений принес нам прошедший день. Один Эльтиген чего стоит.
Где-то, затерявшись в звездах, летел самолет. Я смотрела на густую россыпь небесных огней и думала: вот так и мы гудели в ночном военном небе. Но тогда оно освещалось всполохами взрывов, заревом пожаров, беспокойными взмахами прожекторов. Звезды меркли перед огнем войны.
В воображении встала картинка из прошлого. Как-то лунной ночью летели мы с Полиной Гельман на задание. Маршрут проходил недалеко от горы Ай-Петри с отметкой высоты 1233. Наш мотор отрабатывал положенный срок и поэтому капризничал — не хотел поднимать нас выше 1ысячи метров. Прибегая к различным хитростям, я заставила его набрать тысячу двести. Но на этой цифре стрелка высотомера замерла. Что делать? Страшновато лететь, когда где-то поблизости торчит вершина горы, за которую можно зацепиться. И возвращаться обидно. Идем. До боли в глазах всматриваемся вперед. С минуты на минуту ожидаю услышать «характерный треск», как говорят в авиации. «Вон она. Ай-я-яй!» — говорит с облегчением штурман. Гора недалеко, но раз мы ее увидели, значит, не столкнемся. И в тот момент мне припомнился запах духов «Ай-Петри», первых в моей жизни духов, которые я держала в руках, — приз на костюмированном вечере в школе. Они пахли горным воздухом, южными цветами и еще чем-то неведомым. Пролетая же тогда около вершины Ай-Петри, я почувствовала, как от нее пахло еще и опасностью, реальной угрозой поломать свои крылышки об эти экзотические камни. Мы осторожно обошли гору стороной…
Руфа, выбросив руки из спального мешка, вспоминала вслух (любопытно, авиаторы не могут разговаривать без жестов);
— Карловку я очень хорошо помню. Она расположена среди невысоких медовых гор. Прилетели мы туда на пасху, жители понатащили нам к самолетам пирогов, крашеных яичек, сдобных булок и прочей вкусной пищи. Но, по-моему, они не столько воскрешение Христа отмечали, сколько праздновали свое избавление от врага. Мы удивлялись — откуда у них такое богатство, ведь немцы совсем недавно ушли? Потом узнали, что село было партизанским и жителям удалось надежно припрятать продукты.
С жителями Карловки у нас с первых же минут встречи установились самые доброжелательные, теплые отношения.
— Ты помнишь тот налет на наш аэродром в Карловке? — помолчав немного, опять заговорила Руфа. — Вы, летчицы, сразу же улетели тогда с техниками, а всех остальных «мамочка» увела в горы.
Я живо представила себе, как Евдокия Яковлевна ведет девушек в укрытие, словно заботливая наседка своих цыплят.
— Как сейчас помню этот случай, — говорю. — Я находилась в тот момент в воздухе, проверяла мотор. Вдруг вижу: откуда ни возьмись, вынырнул истребитель со свастикой, прошелся низко-низко вдоль стоянок самолетов и выпустил длинную пулеметную очередь. Один самолет загорелся. Почему «мессер» не тронул меня — ведь прямо под носом у него была!
— Для него самого наш аэродром был, наверно, неожиданностью.
— Поднялись мы тогда по тревоге, но едва отлетели от Карловки, как видим, мчатся несколько «мессеров». Это тот привел, первый. Они шли, конечно, громить нас.
— И кто знает, чем бы все кончилось, если бы их не встретили наши «ястребки». Завязался воздушный бой…
— Да, проучили нас за беспечность… Незаметно для себя мы наконец уснули.
Проснулись сегодня рано. Наскоро позавтракали. Беспокоимся, найдем ли Карловку.
— Сердцем чую, где-то рядом она, — говорит Руфа,
— Отыщем, не беспокойтесь, это ж не иголка, а целое село, — успокаивает Леша, — садитесь в машину, поехали. По дороге несколько раз останавливались, спрашивали.
— Карловка? — люди пожимали плечами. — Что-то не слышали.
Наконец один дед сказал, нам:
— Это совсем рядом. Вот сейчас сворачивайте вправо и приедете прямо в Карловку. Только она теперь так не называется.
Оказывается, два села объединили одним названием — Меловое.
Стоило проехать после поворота несколько минут, как сердце подало сигнал; мы на верном пути.
— Нашли, нашли! — в радостном возбуждении шумим все трое.
Едем по Школьной улице. Высматриваем, конечно, старожилов. Из дома № 11 выходит немолодая полная женщина, глядит из-под ладони на машину. Останавливаемся, здороваемся.
— А я дывлюсь, к кому ж это «Волга» приихала? — с мягкой улыбкой говорит Мария Емельяновна Мотуренко.
— К вам приехали, ко всем жителям Карловки. Помните, в войну здесь женский полк стоял?
— Как же не помнить? Вон там был аэродром, — обрадовала она нас. Теперь-то он засеян. А у меня в доме жили две летчицы, кто-то из начальства.
Она упомянула и про налет на наш аэродром.
— Ранило у вас тогда одну девушку, — со вздохом говорит Мария Емельяновна.
Подошла соседка — Китаева Екатерина Ивановна. Высокая, худощавая, с живыми молодыми глазами, хотя лет ей, наверно, побольше, чем нам. Охотно вступила в беседу.
Женщины вспоминают те годы с большим волнением. Чувствуется, все сохранилось в памяти, только острота горя о погибших сменилась глубокой затаенной печалью.
Муж Марии Емельяновны погиб в партизанах. Четверых детей вырастила одна.
— Ох, как трудно приходилось! Самой старшей-то дочке, было 14 лет. Теперь мне полегче живется, дети давно встали на ноги.
Екатерина Ивановна Китаева тоже немало пережила в годы войны. Когда все мужчины села, в том числе и ее муж, ушли в горы, у нее дома сделали пункт сбора продовольствия для партизан. Женщины незаметно сносили к ней продукты, а по ночам связные приходили и забирали. Она вывешивала для них в окне белую тряпочку — немцев, мол, в доме нет. Нашелся предатель, донес. Вместе с грудным ребенком Екатерину Ивановну повезли в Балаклаву.
— Оказывается, нас, целую машину женщин, хотели сбросить в море. С впереди идущей машиной так и сделали. Но тут налетели самолеты, стали бомбить. Охранники разбежались по укрытиям. Мы тоже попрыгали с машины и спрятались. А потом начался артобстрел, паши пошли в наступление. Немцам было самим до себя. Так вот и спаслись. Но дочка умерла у меня на руках от истощения…
Екатерина Ивановна смахнула краем фартука слезу и умолкла. Мы тоже молчали — слова утешения теперь ни к чему.
Я вспомнила про одно свое письмо, которое писала домой из Карловки. В Саратовском музее мне теперь показывали его — выпросили, говорят, в свое время у мамы. Письмо это мне не отдали, но копию сделали. Вот отрывок из письма:
«…Люди рассказывают о том, как они жили при немцах. О, сколько черных дел натворили здесь фашисты! Сколько проклятий шлют жители на их головы! Еще хорошо, что немцы в этом районе быстро отступали и не успели перед уходом совершить всего того, что делали в других деревнях. Например, в одном селе вырезали 800 человек, большинство детей и стариков. А младенцев они брали прямо за ноги и били головками о стены».
— Когда я вернулась в село, — продолжала Екатерина Ивановна, — то пошла было напрямик, через площадку, где стояли ваши самолеты. Меня остановили и попросили пойти другой дорогой. Смотрю — а возле самолетов девчушки ходят… Удивилась я тогда…
— А вот один житель вашего села был страшно огорчен, когда увидел нас, — говорю.
И рассказала такой случай. Заместитель командира полка Амосова, приняв все наши самолеты на площадку в Карловке, зашла в одну хату напиться воды. В этот момент во двор вбежал мальчуган лет пяти, сынишка хозяйки. Он уже успел побывать около самолетов. «Ну, как, видел летчиков?» — спрашивает мать. «Яки там летчики! — разочарованно махнув рукой, проговорил сын. — Там сами бабы!..»
— Глупенький, — улыбаются женщины, — ему, конечно, хотелось увидеть орлов, богатырей, советских асов, а тут… «сами бабы»!
— А начальники у вас тоже женщины были? — интересуется Екатерина Ивановна,
— У нас в полку не было ни одного мужчины. Странно, почему-то бытует такое мнение, что сколько бы ни работало женщин, а начальником над ними обязательно должен быть мужчина.
Женщины с какой-то особой теплотой говорили о летчицах, которые все ночи кружились над ними шумной каруселью. II они, пережившие мрачные дни оккупации, с откровенным удивлением задавали вопрос: «Как же вам не страшно было летать по ночам?» Между прочим, нас об этом почти везде спрашивают. Я уже начинаю задумываться — может, и в самом деле страшно?
— Где же вы потом-то, после Крыма, воевали?
Руфа рассказала о дальнейшем пути полка, о некоторых наших девушках.
— Вот тебе и девчонки! Ну и молодцы! — восклицали женщины.
Они и сейчас молодцы, мои однополчанки. Какими вышли из огня военных лет, такими и продолжают идти по жизни — сильными духом, выносливыми, настойчивыми в достижении цели.
Ведь известно, что именно в детстве и юности формируются и определяются основные черты характера человека, его убеждения, идеалы, взгляды. Человек не рождается ни героем, ни трусом, ни добрым, ни злым. Маленький ребенок это лишь бесформенный материал, из которого можно слепить что угодно. Много рук трудится потом над ним. Среди них — заботливые, любящие руки матери, сильные руки отца, неустанные руки учительницы. И вот годам к восемнадцати основная форма слеплена. Теперь человек должен пройти через горнило жизни. Если форму лепили чуткие, добрые руки, то закалка жизнью пойдет человеку только на пользу, из него получится хорошая скульптура. Если же материал попал в неряшливые, злые руки, то он потом пли рассыплется или из него выйдет уродец.
Мое поколение прошло через высокий накал войны. Не все выдержали это испытание. Кое-кого война изуродовала морально. Я смотрю иной раз на наш полк как бы со стороны, глазами постороннего, и задаю себе вопрос: почему так получилось, что собрался целый полк таких замечательных, хороших девчат? (За исключением, может быть, нескольких человек, но при общем количестве двести с лишним — это не в счет.) Наверно, в основном потому, что все они были добровольцы. Когда у человека возникает порыв добровольно идти во имя любви к Родине туда, где можно умереть — на фронт, — это, по-моему, говорит о многом. И еще, наверное, потому, что многие из них стремились жить по принципу, по которому жил великий летчик Чкалов: «Если быть, так быть лучшим». Эту фразу он написал однажды на своем портрете, который протянул ему какой-то мальчишка для автографа. И еще, наверное, потому, что над их характерами трудились в свое время добрые руки.
Мы в свою очередь поинтересовались жизнью села, делами в колхозе.
— Колхоз наш, правда, не самый лучший в районе, но дела идут неплохо. Основной доход дают виноград, розы, табак, лаванда.
— Село здорово разрослось, — отмечаем, — едва узнали его.
— Да, новых построек много: большая ферма, магазин, целая улица для переселенцев…
Беседуем больше часа. Пора трогаться дальше. А расставаться не хочется — ни нам, ни нашим знакомым. Наконец, теплое (и неоднократное!) пожатие рук. И настойчивая просьба:
— Передавайте привет вашим девушкам от жителей Карловки! Скажите, что мы очень хорошо помним о вашем полку!
Уезжали с таким чувством, словно побывали в гостях у давних, хороших друзей.
— Уж здесь-то вы всласть наговорились, — подшучивает Леша.
— Ты не представляешь, что значит для нас побывать в Карловке.
— Нет, девочки, теперь представляю. И вообще я рад, что еду с вами. Будто читаю живую книгу о вашем полку.
Задержались не надолго в Симферополе. Сделали кое-какие необходимые закупки для себя и для машины. И вот опять мчимся по шоссе. Едем в Чеботарку, к последнему пункту пребывания полка в Крыму.
О том, где находится Чеботарка, у меня, да и у Руфы, сохранились довольно общие представления — где-то недалеко от города Саки. Знаем только, что поле, с которого работали, было очень большое, так как именно оттуда полк впервые стал летать с повышенной нагрузкой. Разбег самолета, следовательно, увеличивался, площадка, значит, должна быть длинной. Вот и все ориентиры.
— Ну, девочки, сделайте еще одно, последнее усилие, и с Крымом будет покончено, — просит Лета.
Делаем немалые усилия, «выбрасываем глаза» в обе стороны, ищем.
— Попробуем остановиться у этого поселка, — просим водителя.
В разговоре с жительницей выясняем, что это Верхняя Чеботарка. Опять, как в Эльдигене, нас сбивает с толку раздвоенность.
— Поезжайте еще немного вперед, там есть Нижняя Чеботарка. Раньше-то, до революции, здесь жил сам помещик, а в Нижней — вся прислуга.
Вон оно что! А мы тогда и не знали таких любопытных деталей.
Едем дальше. Не без труда находим наконец то, что нужно. Жарким днем в маленьком тихом поселке нелегко встретить человека.
Нам посчастливилось познакомиться со старожилом — Раисой Ильиничной Морозовой. Приветливая пожилая женщина помогла вспомнить, где размещался наш полк, в какой стороне был аэродром.
Немного на отлете от поселка стоит длинное одноэтажное белое здание. До войны там находился сельскохозяйственный техникум. Вот в этом доме мы и жили полмесяца. Сейчас в Чеботарке лет шесть существует школа-интернат, для нее выстроено новое здание, а в поселке живет обслуживающий персонал. Значит, раньше, при царе (Горохе — так и хочется сказать), здесь жили слуги помещика, а теперь — люди, обслуживающие детей советских граждан. Невольно возникает вопрос: а кто бы сейчас здесь жил и кому бы служил, если бы тогда, в сорок четвертом, наша армия не вышвырнула оккупантов из Крыма?
Раиса Ильинична ведет с нами неторопливую беседу.
— Помню, у какой-то вашей летчицы был день рождения. Она пришла ко мне и спрашивает: «Ильинична, не сможете ли вы сделать для меня вареники? Я сегодня именинница, хочу угостить своих подруг украинским кушаньем». Что ж, говорю, могу. Большое блюдо ей наготовила. Хвалили, вкусные получились.
Она припомнила, как в первые дни, когда полк прилетел сюда, над Чеботаркой с утра до вечера гудели наши истребители.
— Пролетит низехонько, а потом вверх носом поднимется и кувыркаться начинает. У меня в хате целый день стекла дрожали.
Мы с Руфой понимающе переглянулись и… рассмеялись.
Был такой период, когда летчики-истребители, желая, очевидно, блеснуть перед девушками мастерством пилотажа, на обратном пути с задания обязательно проходили над нашим аэродромом и выделывали разные вензеля в воздухе. Глупые парни! Они забывали, что мы в это время спали после ночных полетов. Беспрестанный рев моторов истребителей не давал нам нормально отдыхать. Стали жаловаться командиру полка Бершанской, а она — в высшие инстанции. Вскоре по всей воздушной армии объявили, что Чеботарка — запретная зона. Кто нарушит, будет строго наказан. Только после этого стало тихо.
Что и говорить, парни не обходили нас своим вниманием. Побывать в женском полку, познакомиться с девушками, «обменяться опытом боевой работы» — было мечтой многих летчиков. Но поскольку мы с вечера и до утра летали на задания, а днем истребители сами работали, то возможностей для обмена опытом что-то не находилось.
Только с «братиками»-бочаровцами у нас с самого начала знакомства, с 1942 года, установились дружеские, хорошие отношения. «Братики» тоже летали ночью на ПО-2, нам была понятна их работа, как своя собственная, а они со знанием дела ценили и уважали наш труд. Бочаровцы не хвастались перед нами, как некоторые истребители (чего там греха таить!), воздушными боями и сбитыми самолетами противника. Они были такими же работягами, «кукурузниками», как и мы. Думается, что правильный тон для своих подчиненных задал сам командир полка Константин Дмитриевич Бочаров. Его ребята видели, как он относился к нашему командиру — по-товарищески, без тени превосходства, как равный к равному, и в то же время никогда не забывая, что перед ним женщина — поэтому, естественно, и сами усвоили такую манеру обращения.
— Мне особенно запомнилась одна ваша девчушка, — говорит Раиса Ильинична, — маленькая, вот такусенькая, — она показывает от земли чуть побольше метра. — Веселая, бойкая. Интересно, как она теперь? Да и жива ли?
Мы начинаем перебирать всех маленьких ростом однополчан. Не легко, у нас их много. Вообще в полку народ был мелкий. Кто же? Штурман эскадрильи Дуся Пасько? Живет в Москве, давно окончила мехмат МГУ, преподает в институте, пишет диссертацию. Мой штурман Полина Гельман? Кандидат экономических наук, преподает политэкономию. Верочка Бондаренко? Она и сейчас не изменила своей профессии, работает по части приборов. Штурман Лида Целовальникова? Живет в Саратове, инженер.
— Кажется, она была у вас каким-то начальником, — уточняет Раиса Ильинична.
— Саша Хорошилова, комсорг полка! — сразу догадываемся мы. — Она теперь мать семейства, у нее трое детей. Живет в Куйбышеве. Это человек завидной энергии и необычайной трудоспособности. Руководит кафедрой политэкономии в институте. Строчит уже докторскую диссертацию. Вот вам и «такусенькая»!
— Видать, и правда: «Мал золотник, да дорог».
Выслушав на прощанье комплимент от Раисы Ильиничны, что мы с Руфой совсем не похожи на участниц Отечественной войны, садимся в машину и едем на бывший наш аэродром.
Огромное поле, ровное, как доска. Часть его засажена виноградником. Да, здесь было где разбежаться с тремястами и даже четырьмястами килограммами бомб — катись хоть до Турции.
Отсюда, вот с этой самой земли, взлетели мы вечером 9 мая 1944 года с бомбами и взяли курс на мыс Херсонес — там, на самом краешке крымской земли, еще сидели жалкие остатки оккупантов, работал аэродром. Но наше верховное главнокомандование уже не принимало их и расчет — в тот день сообщили, что Крым освобожден.
Мы с Полиной Гельман летели в превосходном настроении. Радостно было сознавать, что в большом ратном подвиге советских воинов, совершенном при освобождении Крыма, есть маленькая частица и твоего труда. Солнце едва успело скрыться за горизонт, а в небе уже появились первые звезды. Тихий вечер опускался на землю. Мы шли вдоль берега, и правое крыло самолета накрывало светлую песчаную кайму.
— Полина, ты была когда-нибудь в Крыму до войны? — спрашиваю штурмана.
— Да, пионеркой в Артеке. Какой это чудесный лагерь!
— А я вот только сейчас, в войну, ознакомилась с берегами древней Тавриды. Да и то в основном ночью, с высоты птичьего полета.
— Ничего, кончится война, приедешь сюда отдыхать.
— После войны столько дел навалится, что не до отдыха будет… Ой, что это такое? — воскликнула я в изумлении.
Земля под самолетом вспыхнула небывалым залпом разноцветных огней. Стреляли на огромной площади от Качи до Балаклавы, палили из всех видов оружия, но преобладали ракеты. В первое мгновенье у меня мелькнула было мысль, что, может быть, враг неожиданно прорвался с Херсонеса? Нет, это абсолютно нереально! Но что же тогда творится под нами?
— Отойдем в сторонку, от греха подальше, — говорю штурману, разворачиваюсь и ухожу в море.
— Странно, — размышляет Полина, — похоже, что наши войска решили выпустить в воздух все оставшиеся боеприпасы.
— Полина! — мелькнула у меня догадка. — Да ведь это же салют в честь освобождения Крыма!
Мы с удовольствием тоже выстрелили несколько ракет.
Это был первый салют, который я видела в своей жизни. Потом я смотрела на них много раз, в основном в Москве после войны. Но всегда, любуясь фейерверком праздничных огней, вспоминаю тот, первый, стихийный.
Руфа и Леша ушли куда-то на край аэродрома. В ожидании их я медленно шагала вдоль вспаханной полосы.
От земли исходит теплый запах… Он настойчиво напоминает мне о чем-то давно забытом, и я мучительно стараюсь понять — о чем? Запах, именно запах крымской земли, к которому примешивается едва уловимый вкус моря. Глубоко вдыхаю, закрыв глаза. И кажется, припоминаю…
Это было в тот день, когда мы улетали из Крыма. Я лежала на своей серой солдатской шинели около самолета, а вокруг бродили вот эти же запахи. Мне было тогда немного грустно…
Я с детства мечтала побывать в Крыму — покупаться в Черном море, увидеть прозрачных медуз, поискать красивые камешки на морском берегу… Потом, летая ночами над Крымом, я не раз возвращалась к этой мечте. И надеялась, что когда освободим Крым, она обязательно сбудется. «Но вот через несколько минут полк поднимется в воздух, полетим в Белоруссию, а покупаться в Черном море так и не довелось. Летала-летала, освобождала все-таки, а к своей давней мечте — черноморской волне — даже не прикоснулась», — думалось с грустью тогда. Эта грусть входила в душу вместе с запахом крымской земли, к которому примешивался едва уловимый вкус моря…
Не потому ли я так люблю теперь отдыхать в Крыму? Открыла глаза и вижу: Руфа идет с маленькой веточкой виноградной лозы.
— Увезу на память о нашем последнем аэродроме в Крыму.
Я нагибаюсь и беру горсть земли.
Мы не мыслили себе уехать из Крыма, не побывав в Севастополе. Полк принимал самое активное участие в освобождении города, и мы имеем полное право завершить поездку в городе-герое. Тем более, Руфина там никогда не бывала.
Заехали в Евпаторию, купили фотопленки, продукты, заправились бензином. Хотели пообедать, да Леша не согласился.
— Перекусим в машине, нужно постараться доехать засветло.
Он всегда вот так — все на ходу и на ходу. В Севастополе живет школьная подруга Руфы, Надя Журавлева, у нее мы и намерены переночевать. Как ни спешили, а темнота накрыла нас еще в Инкермане. До Севастополя ехали на ощупь. Долго потом кружили по городу в поисках Надиного дома. Не раз останавливались, спрашивали прохожих. Их указания привели нас на какую-то улицу, где было совсем темно от высоких деревьев.
— Скажите, пожалуйста, где улица Мокроусова? — спрашиваем у проходящего молодого моряка с девушкой.
— Не знаю такой.
С помощью карманного фонарика Леша прочел табличку на доме: «Ул. Мокроусова».
— Как же вы не знаете, по какой улице идете? — говорим матросу.
— А зачем мне знать? Меня сейчас другое интересует, — улыбается парень, влюбленно глядя на девушку.
10 августа
— Здравия желаем, товарищ капитан первого ранга! — бодро, в полную силу легких выпалили сотни две моряков прямо под окном.
Я проснулась. Посмотрела на часы — шесть утра. Выглянула в открытое окно. В гавани стояли военные корабли, блестя на солнце влажными палубами. На ближайшем к берегу корабле вдоль бортов выстроились белые шеренги матросов. У них начинался трудовой день. Пришлось и нам начинать.
Сегодня мы пойдем смотреть Севастополь. Главное — побывать на Малаховом кургане, на панораме. Надя согласилась взять на себя роль экскурсовода по городу. У нее сейчас почти отпуск — муж Илья в плавании где-то в Средиземном море, младший сын в пионерском лагере, старшему она поручила сегодня некоторые хозяйственные дела. Не спеша позавтракали, тщательно отгладили свою парадную форму и отправились. Разумеется, без машины.
Севастопольские военные преподнесли нам с Руфой одну неожиданность, которая, откровенно говоря, глубоко тронула нас. Идем по улице, и вдруг встречный подполковник приветствует нас, приложив руку к козырьку. Отвечаем в растерянности легким поклоном. Через некоторое время приветствует майор, потом полковник. Будто мы генералы. Решили выяснить — в чем дело?
Полковник разъяснил:
— У нас в Севастополе так принято — приветствовать Героев Советского Союза. Тем более женщин.
Мы с благодарностью пожали ему руку.
На Малаховом кургане, у панорамы, было очень много пароду. Никогда, наверное, не зарастет народная тропа к этому памятнику севастопольской славы.
Описывать панораму, вероятно, ни к чеху. Уверена, многие там бывали или видели репродукции. Понятны, конечно, каждому и те чувства, которые владеют посетителями. Мы выходили оттуда как из храма Мужества и Доблести, бережно унося неизгладимые впечатления.
Прошлись потом по городу. Чем-то он схож с Волгоградом — может, домами, названиями улиц? Больше всего они схожи своей военной судьбой. Севастополь и Волгоград — две бесценные жемчужины в венце российской боевой славы.
Южное солнце не жалеет сегодня своего тепла. Но после обеда оно утомилось, прилегло в тучку. Мы тоже, придя домой, легли на часок. Ноги гудят от многочасовой экскурсии пешком. Однако долго блаженствовать не пришлось.
— Подъем! — скомандовал Леша, — Выезд через полчаса.
Стали собираться. Время, неумолимое время, подгоняет нас безжалостно. Сегодня оно приказывает покинуть Крым.
— Итак, девочки, двинемся освобождать Белоруссию? — спросил Леша, когда Севастополь скрылся ужа из глаз.
— Да, твою родную Беларусь. Ох и гнать теперь будешь! Только не забудь за сыном в Скадовск завернуть, — говорю мужу.
В Скадовске, недалеко от Херсона, находится сейчас наш младший сын, девятилетний Сашок. На время поездки мы «подбросили» его родственнице, жене Лешиного брата. У Риты своих двое детей, согласилась и еще одного взять, «до кучи». Вот уже с полмесяца, как она увезла их из Москвы. Теперь же, как ранее и было договорено, мы заедем за сыном, довезем его до Белоруссии, оставим у деда с бабкой, а сами поедем дальше по боевому пути полка.
В Симферополе случилось первое за время поездки неприятное дорожное происшествие, которое закончилось разбором в госавтоинепекции. Мы остановились по красному сигналу светофора на бойком перекрестке. Потом, на визжащих тормозах, подъехал таксист, вплотную притеревшись к нашей машине. Едва включился зеленый свет, как он лихо рванул с места. Но разъехаться не удалось — машины каким-то образом сцепились задними бамперами. Таксист поцарапал заднее крыло своей машины. Образовался затор, подошел милиционер, моментально собралась толпа. Водитель такси, вероятно, хорошо знал, что самый лучший способ обороны — наступление, и смело ринулся в бой за спасение своих водительских прав. Регулировщику недосуг было разбираться в ситуации, ему нужно было побыстрее очистить перекресток, и он, расцепив нас, отослал в автоинспекцию. Там, после долгих манипуляций и охаживаний, инспекторы вынесли справедливое решение — мы не виноваты в царапине. В общем, все утряслось. Только время жаль потеряли. И перенервничали — мы очень дорожим честью и водительским удостоверением нашего шофера.
11 августа
Происшествие в Симферополе выбило нас из расписания, и из Крыма выехать вчера не успели. Ночевали перед Воинкой в придорожных кустах.
Проснулись чем свет — шоссе уже загудело грузовыми машинами, тут долго не поспишь. Умылись севастопольской водой. Вчера перед отъездом набрали целую канистру из водопровода в Надиной квартире, так как знали, что в степной части Крыма воду не везде достанешь. Быстро, по-военному, уложили вещи и включились в оживленный ритм дорожного движения.
За Воинкой до Армянска шли большие земляные работы. Тянули канал и рядом с ним бетонированную дорогу. Вода для степного Крыма — проблема номер один, и это чувствуем даже мы, проезжающие со скоростью 100 километров в час. «До питьевой воды 2 км» — извещают кое-где надписи на столбиках, и стрелка указывает куда-то в сторону от дороги. Только в Крыму встретились с такими указателями, акцентирующими внимание путешественников на воде. В других местах и не думали о ней.
У Ишуни остановились около высокого обелиска. У нас как-то само собой повелось, что ни один памятник не проезжаем мимо. На фасаде читаем надпись: «Героям ишуньских позиций, которые погибли в годы Великой Отечественной войны». На другой стороне четверостишие:
Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные, Вечную славу поет вам народ. Доблестно жившие, смерть победившие, Память о вас не умрет.Становится печально, но светло, когда читаешь стихи на памятниках. В сердце входит теплое ощущение, что их писали благодарные руки и безусловно руки доброго человека.
…Убегают назад последние километры крымской земли.
— Расскажите на прощанье еще один эпизод из вашей жизни здесь, — просит Леша.
— Если самый короткий, то могу, — говорю. — Когда перелетали из Крыма в Белоруссию, я сбросила над Перекопом вымпел. На клочке бумаги, вложенной в гильзу, написала: «До свиданья, красавец Крым! Вернусь после войны. Жди».
— Ишь, какие записки писала. Муж, ты не ревнуешь? — шутит Руфа.
— В данном случае — нет. Даже сам вожу ее на свиданья.
Еще несколько минут пути, и дорожный щит оповещает: «Граница Крымской области».
— Пора подвести итоги нашей боевой работы в Крыму, — предлагает Леша.
Он уже начал говорить «мы», «наш полк», будто тоже служил вместе с нами.
— Итоги давно подведены, — заглядывая в какие-то свои записи, говорит Руфа. — Провоевали мы здесь ровно месяц, но за Крым бились полгода. Сделали всем полком 6140 боевых вылетов, получили орден и стали именоваться 46-й гвардейский Таманский ордена боевого Красного Знамени…
— К тому времени мы пробыли на войне ровно два года, — добавляю.
— А если учесть, что при подсчете выслуги лет авиаторам военные годы считают один за три, то мы стали старше на шесть лет.
— В этом законе, безусловно, есть логика.
— Беспощадная логика войны.
Потянулись пыльные дороги Херсонщины. Мы с мужем не раз колесили по ним, пробираясь к Скадовску — небольшому городку на берегу моря. Он привлекал нас мелководьем и теплым морем. Для детей лучшего места и желать не нужно. Сейчас там купается наш Сашок… Как он, не заболел ли? Целых две недели я не в курсе его жизни. Что-то неспокойно на сердце…
За разговорами незаметно прошло время. Подъезжаем к Скадовску. Я все больше начинаю волноваться — каким сейчас увижу сына? Не случилось ли с ним что-нибудь?
Во дворе дома нас встретила Рита со своими детьми. Моего Саши не было видно.
— Где Сашок? — спрашиваю с тревогой.
— Лежит… Ты только не волнуйся… «Так всегда начинают, когда собираются сообщить тяжелую весть», — пронеслось у меня в голове.
— Что с ним?.. — И, не слушая уж дальше объяснений, я метнулась в комнату.
Сын лежал недвижно под одеялом. Одним взмахом я раскрыла его, ожидая увидеть… уж не знаю, что — может, даже изуродованное, забинтованное тельце. Но Сашок порывисто вскочил и… мы обнялись.
— Здравствуй, мама!
— Здравствуй, дорогой мой мальчиш!..
У него, оказывается, болело горло, и ему приказали лежать смирно в постели. От радости я сразу обмякла и опустилась на стул. Сумка с дневником поездки упала на пол…
12 и 13 августа
В ожидании, когда Сашок окончательно выздоровеет, мы два дня отдыхали. Купались в море, стирали, готовили машину для большого броска в Белоруссию.
Удивительно, даже здесь, в Скадовске, встретили человека, который каким-то образом был связан с боевой работой нашего полка. Хозяин дома, Алексей Ефимович Дадулов, снабжал нас, оказывается, бомбами, когда мы воевали в Крыму в составе 8-й воздушной армии.
— Такие ненасытные были, все давай им и давай, — вспоминает он, — Не успеешь привезти машину, как ваши девчушки, вооруженцы, мигом, словно муравьи, все растащат. А инженер по вооружению — как же ее фамилия-то?..
— Стрелкова Надежда Александровна.
— Да, да. Она та-ак на нас покрикивала! Только я слышишь, бывало; «Мало, еще! Шевелитесь быстрей!» А вот летчиц ваших почти не приходилось видеть на аэродроме. Говорили, что они не вылезали из самолетов всю ночь.
Это верно. Особенно в ночи-максимум, когда штаб дивизии требовал сделать как можно больше боевых вылетов. Все летали тогда «по возможностям и по способностям». Начальник штаба полка Ирина Ракобольская или ее заместитель Аня Еленина подходили к только что севшему самолету, принимали доклад у экипажа прямо из кабины, записывали. В это время вооруженцы подвешивали бомбы, техники заправляли самолет горючим. Через 4–5 минут экипаж уже опять взлетал. В такие ночи нам привозили на старт второй ужин. Но мало кто притрагивался к нему. Некогда, да и не хотелось есть. «Быстрей, быстрей!» — торопила внутренняя напряженность. Помню, как-то еще на Тамани в одну из таких ночей-максимум у меня с самолетом произошла какая-то заминка. Выпали свободные минуты, и нам со штурманом предложили пойти доужинать. Подошли мы к столику, где сидела повариха из БАО с кастрюлями. Глядим — она плачет.
— Что случилось? Вас обидели?
— Конечно, — сквозь слезы отвечает она. — Я напекла таких хороших оладьев, а никто не хочет есть. Кому ни предложу, все отмахиваются.
— Не огорчайтесь, в завтрак съедим.
— Тогда они не такие уж вкусные будут…
14 августа
В десять утра покинули Скадовск.
Сейчас выедем на трассу и опять начнем отсчитывать километры боевого пути полка. Красная нить на карте проходит через Мелитополь, Харьков, Курск, Орел и завязывается узелком в Сеще. В этом узелке памяти — почти целый месяц фронтовой жизни. Но ни сегодня, ни завтра развязать узелок не удасться — до Сещи около полутора тысяч километров.
Нас теперь в машине пятеро. Прибавился Сашок и маленький черный котенок, приблудный какой-то. При посадке сын протащил его в машину контрабандой, в коробке. Узнали об этом уже в пути. Пришлось согласиться не выгонять же пассажира в поле. Но пока доехали до шоссе, котенка сильно укачало, он лежал на сиденье бездыханным трупом. Порешили оставить его на кухне придорожного ресторанчика, до Белоруссии он не дотянет с таким вестибулярным аппаратом.
День очень жаркий. Окна машины открыты, ветер отчаянно треплет волосы, водитель жмет педаль газа, и мы несемся на скорости сто десять километров.
— Как на самолете! — доволен Сашок.
— Папа воображает, наверное, что у него в руках штурвал ИЛа, предполагаю я.
— Вы же летели тогда в Белоруссию тоже с такой скоростью, оправдывается Леща.
Да, летели… Как мы говорили тогда — «на вторую войну». Я внимательно рассматривала проплывающую под самолетом землю. Даже пышная майская зелень не смогла прикрыть ее изуродованное войной лицо. Развалины, пепелища, воронки, траншеи… Но заметно было, что тут уже начали приводить землю в порядок, как терпеливая хозяйка прибирает в доме после налета непрошеных буйных гостей. Зеленели огороды, распахивались поля, кое-где блестели свежесрубленные бревенчатые стены хат. Здесь жизнь пускала первые послевоенные ростки.
А там, в Белоруссии, пока еще сидели непрошеные гости. Страна-хозяйка готовила хорошую новую метлу для них.
Мотор неожиданно закашлял, скорость упала, и мы остановились среди голой степи. Кончился бензин.
Хорошо, что есть запас в канистре. Леша вышел из кабины, полез в багажник. В это время мимо нас проезжала полуторка с визжащими пассажирами полный кузов свиней. И надо же было так случиться, что в момент, когда грузовик поравнялся с нами, одна здоровенная хавронья, проломив загородку, вывалилась из кузова и, задев слегка ногой Леше за ухо, перелетела через нашу машину и шмякнулась в распаханную землю у дороги. Все это произошло настолько быстро, что мы не успели испугаться. Потерю быстро заметили, пострадавшего пассажира водворили на место. Совершенно нелепый случай чуть не закончился для нас трагически. Нам надолго хватило разговоров вокруг этой темы. Рассказывали о разных происшествиях, которые только случайно не оканчивались несчастьем. Примеры, понятно, брались в основном из фронтовых лет — мы опять уже настроились на военную волну.
— Каких только ситуаций не бывает в жизни. Вот у меня однажды… припомнился мне один эпизод.
Мы стояли в Слупе, в Восточной Пруссии. Там впервые стали летать с деревянного настила конструкции нашего командира полка Бершанской. С грунта-то нельзя было, грязь непролазная. Взлетаем мы однажды с Полиной. Ночью, с бомбами, конечно. Едва оторвались от «паркета», как мотор вдруг стал захлебываться. Будто у него сердечный приступ. А высота всего метров тридцать. «Падаем. Впереди овраг. Неизбежная катастрофа», — проносится в голове. В такой момент и летчика может инфаркт хватить. Но натренированный на всяких неожиданностях мозг не позволяет сидеть обреченно. Он моментально начинает посылать повелительные сигналы. Сектор газа! Рука проверяет — отдан полностью вперед. Зажигание! В порядке. Высотный корректор! На месте, не стронут. Что же еще? Поработай пока пусковым шприцем, впрысни хоть несколько капель горючего! Бензокран? Да не может быть, он всегда открыт, а по нечаянности его трудно перекрыть. Рука все-таки тянется. Закрыт?!. Да, почти закрыт. Быстро опускаю рычажок вниз. Мотор сразу облегченно вздыхает. Самолет, словно передумав кончать жизнь самоубийством, устремляется вверх… «Что было?» — спрашивает штурман. До этого она напряженно молчала, — в такие моменты летчику нельзя мешать. Я хотела было ответить, но не получилось, во рту пересохло.
— У тебя и сейчас, кажется, перехватило, — замечает Руфа.
— Да… Взлетать с бомбами на перекрытом бензокране… Кто-то из вас в рубашке родился, — полагает Леша.
— За время войны столько всякого случалось, что не хватило бы для всех рубашек, — справедливо отмечает моя подруга.
15 августа
Ночевали в посадках где-то под Новомосковском. Утром собирались по тревоге — надвигалась гроза. Вдали громыхал гром, темная туча раскинулась на полнеба. Не успели уложить постели, как начался ливень. На асфальт все-таки выехали, не забуксовали. Прошли километров десять, и вот перед нами вещественные доказательства неправильной езды: в кювете лежат две разбитые машины, легковая и грузовая. Очевидно, это случилось из-за обгона на скользкой от дождя дороге. Людей около места аварии нет.
Леша ведет машину осторожно, скорость держит не больше пятидесяти.
До Харькова ехали в дожде, но перед городом он прекратился, напряжение езды спало.
— При перелете мы останавливались в Харькове, — вспоминаю я. — Вечером ходили в театр на «Холопку». Это был большой праздник для нас. Столько времени не приобщались к искусству! Музыка, пение, яркие костюмы, блеск огней… Все было похоже на прекрасный сон. Оперетта шла на украинском языке, но рядом со мной сидела Наталка Меклин и переводила в неясных местах.
— У вас в полку много украинок было, начиная с командира полка, говорит Леша.
— Не только украинок. Были представители и других национальностей, уточняет Руфина. — Вот давайте подсчитаем. Русские, украинки, белоруски…
— Татарки: Марта Сыртланова, Оля Санфирова, — подхватываю я.
— Еврейки, мордовки… Еще кто, вспоминай.
— Одна карелка…
— Мэри Авидзба — абхазка.
— Катя Доспанова — казашка.
— Была у нас техник — армяночка…
— Саша Османцева, — подсказывает Руфа.
— А жили дружно, как одна семья!
— Вот вам и пример единства нашего многонационального государства, делает вывод белорус, наш рулевой.
В Харькове наскоро перекусили, сделали кое-какие закупки. А уже при выезде, на окраине города, чуть не попали в аварию. Девчонка лет десяти едет на велосипеде нам навстречу, за ней бежит подружка, очевидно, хозяйка велосипеда.
— Как его тормозить, Ни-и-и-ин?! — кричит в испуге девчонка и мчится прямо нам в лоб.
Велосипед, неловко вильнув в сторону, каким-то чудом миновал колеса нашей машины.
Чем дальше от Харькова, тем хуже становится погода. Временами опять идет дождь. Сидим тихо, присмирели.
— Чего нахохлились? Хоть бы рассказали какой-нибудь эпизод, — просит Леша.
— Тебе они еще не надоели?
— Представьте — нет!
Порывшись в своей памяти, я рассказала такой случай. Это было в день моего рождения, в Восточной Пруссии. Подруги решили отпраздновать всей эскадрильей, благо погода стояла нелетная. Километрах в двух от нашего поселка, на опушке леса, находилось богатое имение. Говорили, что там никого нет, кроме домашних животных, предоставленных сбежавшими хозяевами самим себе. И вот мы отправились туда, чтобы раздобыть посуду для сервировки стола. Очень уж хотелось обставить все красиво, по-домашнему.
Пошло нас человек шесть. Через распахнутые ворота осторожно вступили во двор. Коровы, почуяв человека, призывно замычали на разные голоса. Смотрим, вымя у всех раздутые. Но как им помочь? Доить не умеем. Погладили только по головам. Потом подошли к открытой парадной двери и, вынув на всякий случай пистолеты, с опаской вошли в дом. Он был большой, двухэтажный, типа шикарной виллы. Все окна зашторены изнутри светомаскировочным материалом. В гостиной полутьма, но дальше ведет дверь в столовую, откуда из приоткрытого окна падает полоса света. Жутковато немного, но идем в столовую… То, что мы увидели там, заставило еще больше насторожиться. Посредине стоял длинный стол, за которым, казалось, только что пировала большая компания: множество, бутылок и графинов с вином, наполовину выпитых, хрустальные бокалы, яства. Будто люди лишь на минутку отлучились и скоро вернутся — пища имела свежий вид.
А может быть, и в самом деле тут кто-то прячется? Мы на цыпочках прошли к массивному буфету, взяли кое-какую посуду и гуськом направились к выходу. Я шла замыкающей. В гостиной вдруг обо что-то споткнулась. Нагнулась, подняла, смотрю — туфля. Новая, из белого атласа, моего размера. И тут, каюсь, я поддалась искушению — примерить. Когда целую войну на ногах таскаешь солдатские сапоги, то красивые туфли большой соблазн. Пусть даже одна. Я села на диван, сняла сапог и надела туфлю. Красиво! «Рая! — кричат мне девчата уже со двора. — Где ты там? Мы уходим!»
И в этот момент я услышала шорох осторожных шагов в столовой. «Топ-топ»… Кто-то направлялся в гостиную. Я обмерла. Пистолет! Где же мой пистолет? Завозившись с туфлей, я отложила его куда-то в сторону. Лихорадочно ощупываю диван и прихожу в ужас — пистолета нет. А шаги все ближе, ближе… О, матерь божия! Я заметалась около дивана. Под руки попадались какие-то тряпки, картонки, шляпы. Все, что угодно, но не пистолет! «Топ-топ»… В последней безнадежной попытке бросаюсь опять к дивану. В самом углу, у подлокотника, рука наталкивается на холодную сталь. Хватаю пистолет, потом сапог и бегу к выходу. За спиной слышу все те же шаги. Пулей вылетаю во двор. «Что случилось? На тебе лица нет», — удивленно опрашивают подруги. «Там… кто-то идет», — еле выговорила я. И тут за мной следом вышел… солидный гусь.
В машине стало оживленнее.
Скоро уже Курск.
— Определенно потеряем больше часа, пока его проедем, — сожалеет Леша. — Плохо, что такая бойкая трасса, как Москва — Симферополь проходит через города.
— А в Курске полк тоже делал остановку на ночь, — напоминает Руфа.
— Да… Для кого Курск военных лет — «дуга», жестокие бои, а для нас соловьи!
Мы ночевали тогда в гостинице на аэродроме. Вечером под окном в молодой зелени деревьев самозабвенно пели соловьи. И казалось, что не военные дороги, а просто какая-то счастливая случайность завела тебя в эту соловьиную рощу. Наш слух, истерзанный за два года какофонией войны, до самого утра услаждали завораживающими трелями знаменитые певцы. Курские соловьи уже забыли о войне и высвистывали своим подругам страстные признания в любви. А мы не могли, не имели права забывать о том, что война продолжается. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Эта песня не была еще в ту пору сложена. Но мы были тогда солдаты.
16 августа
Орловский лес дал нам приют на ночь. Но было холодно и сыровато. Заехали в полной темноте на какую-то полянку. А утром осмотрелись и увидели, что место прелестное. Кругом светлые кудрявые березы и кое-где дубы. В лесу, как призраки, бродят уже грибники.
Задание на сегодняшний день такое: побывать в Сеще, затем через Брянск и Рославль выехать на Минское шоссе у Смоленска. Но до Минска нам сегодня не добраться. Остановимся на ночь у Лешиных родителей — в Озерцах — это прямо на шоссе за Оршей. Оставим там Сашку. А потом двинемся дальше, придерживаясь общего направления Минск — Гродно.
Руфа прикинула расстояние по карте:
— До Озерец около 600 километров. Добежим?
— Без сомнения. Если с машиной ничего не случится, — делает оговорку Леша.
— Тьфу, тьфу, тьфу! — плюем через левое плечо. Кстати сказать (и по секрету), летчики — народ суеверный. Они не любят, например, число тринадцать, черных кошек, женщин с пустыми ведрами. Перед уходом из дома в полет обязательно присядут на минутку. Выйдя за порог, не возвращаются.
Мне как-то рассказывал знакомый летчик, командир корабля, про один свой «чертов полет», как он называл его. Тринадцатого числа у него по расписанию был рейс. С самого утра зловещая дюжина гвоздем сидела в голове и не давала покоя. А тут еще по пути на аэродром кошка дорогу перебежала. Правда, серая, не черная. У самолета командиру доложили, что на борту двенадцать пассажиров, все уже на местах. И вдруг, видят, спешит к ним человек необычного вида: в черной широкой мантии, с длинными волосами, — «батюшка». Предъявляет билет. Летчик смотрит на пассажира, как на кошмарное привидение. Тринадцатый, да еще поп! «Ну, — думает, — теперь нам труба!» «Батюшка», ничего не подозревая и не замечая искрометного взгляда, прошел на свое место, устроился поудобнее в кресле, перекрестился, и всем своим видом показал, что он готов к полету.
— Когда мы прибудем в Н.? — смиренно осведомился он.
«Черта с два прибудешь в Н. с таким пассажиром», — со злостью подумал командир корабля.
Весь полет он с необычным напряжением держал штурвал и с минуты на минуту ожидал неприятностей. На дальнем подходе к месту посадки радист доложил:
— Н. штормит. Приказано идти на другой аэродром.
— Ну вот, начинается, — со вздохом пробормотал летчик.
Запросили другой аэродром. «Не принимаем, штормим», — получили неутешительный ответ. А до третьего горючки не хватит…
— М-м, да… Ситуация… — командир ожесточенно заскреб в затылке.
Вообще-то подобные ситуации бывали у него не раз, когда по вине погоды самолет не находил места для приземления. Но сегодня виноват был, конечно, тринадцатый пассажир. И летчика неудержимо потянуло взглянуть на него.
«Батюшка» преспокойно спал. «И совесть не мучает, — с неприязнью подумал летчик. — Вот взять бы да высадить немедленно», — мелькнула жестокая мысль. Может, он так и сделал бы, если бы был уверен, что после жертвоприношения самолет благополучно приземлится в пункте Н.
Возвратись в пилотскую кабину, командир корабля услышал от штурмана еще одно неприятное сообщение — отказал локатор. Ну как тут не поверить в приметы?
Однако в судьбу тринадцати пассажиров решили, очевидно, вмешаться силы небесные. Может быть, сам Николай-угодник, тезка командира корабля. Во всяком случае, вскоре из эфира на борт поступила такая радиограмма: «Если у командира корабля первый минимум, то посадку в Н. разрешаем». Командир уже давно был пилотом первого класса, значит, ему можно садиться. Он так и сделал.
«Батюшка» выходил из самолета последним. Весь экипаж молча провожал его косыми взглядами…
— Вот видишь, — закончил рассказ мой знакомый, — если бы не первоклассное пилотское свидетельство, то…
Любопытно, почти всегда рассказчики подобного рода историй кончают свое повествование именно такими словами: «Если бы не… то…»
В половине восьмого, после горячего завтрака, выехали на трассу. День по всем признакам будет неплохим: спокойно светит солнце, на небе кое-где тонкая, как кружева, высокая облачность.
Сегодня воскресенье, и шоссе, как и люди, тоже отдыхает. Грузовые машины почти не появляются, да и легковых мало. Ехать одно удовольствие. В кабину сквозь приоткрытые окна наплывают разнообразные запахи: то пахнет свежей соломой, то скошенной травой, то бьет сильный аромат хвои. Кругом яркая, свежая зелень. Словно сейчас не конец, а только начало лета. На лугах коровы лениво пощипывают траву. Вокруг благодатный, светлый покой… И вдруг: «Берегите, берегите, берегите мир!» — громовым раскатом ворвался «Бухенвальдский набат». Я вздрогнула. Это, оказывается, Леша включил приемник. Безмятежную тишину ясного утра вспугнула суровая мелодия «Набата».
«Берегите мир!» — эти слова особо значительно, веско звучат вот здесь, среди мирных полей и лесов, под высоким голубым небом в тихое летнее утро. И когда рядом сидит сын, Сашок.
В этом районе много маленьких памятников-столбиков у дороги. Почти на каждом километре. Печальные вехи минувшей войны! А сейчас в стороне от шоссе видели поросшие травой развалины. Похоже, тут была деревня.
— Сколько лет прошло, а следы войны все еще видны, — высказывает общую нашу мысль Руфина.
Кругом леса, леса… Брянские. Немало хранят она былей и легенд о том, как сражались партизаны Брянщины. О многом, еще неизвестном, могли бы рассказать людям, если бы умели. Но тихо стоят деревья под полуденным солнцем. Молчат…
В машине тоже на некоторое время наступает задумчивая тишина.
— Минут через десять должна показаться Сеща, — прерывает размышления сообщение водителя. Мы приободрились.
— Значит, перелет на 2-й Белорусский фронт завершен благополучно, — с удовольствием констатирует Руфа.
Заглянув в конец тетради, где у меня записано фронтовое расписание, сообщаю для сведения:
— Полк прибыл в Сещу 22 мая 1944 года.
— И мы опять прилетели к Вершинину, в 4-ю воздушную армию.
— А командующий фронтом был новый для нас. Говорили, что у генерала армии Захарова какой-то свой, особый взгляд на применение легких ночных бомбардировщиков.
— Мы немного побаивались его. Вдруг наши методы, тактика придутся ему не по вкусу? Вдруг, чего доброго, услышим: «Девчонки прилетели? Господи, что же мне с ними делать?»
— Ну, нет! Так он не мог сказать. К тому времена мы доказали, что умеем воевать.
— Вы уже знали себе цену, да? — пытается подковырнуть Леша.
— Мы узнали, почем фунт лиха на войне. Сейчас будем в Сеще… Знакомое волнение ускоряет пульс. Память напряженно ищет в своем арсенале приметы первого белорусского аэродрома. Лес, большое летное поде и одна-единственная землянка… — вот, пожалуй, и все. Но лесов в Белоруссии много, а той землянки и в помине, наверное, нет. Если бы не оповещательный знак на дороге — «Сещинская», — то мы наверняка проехали бы мимо.
— Смотри, Рая, какое большое село появилось. А когда мы прилетели сюда в сорок четвертом, здесь были развалины. И ни одной живой души.
— Живые души-то, положим, здесь встречались. Помнишь французских летчиков?
В Сеще на очень короткое время сошлись боевые пути «Нормандии — Неман» и нашего, 46-го гвардейского Таманского. Несколько летчиков из полка французских добровольцев заглянули к нам. Мы не знали тогда, понятно, ни истории создания этого полка, ни имен храбрых французских патриотов. Все стало известно уже после войны. Но сам факт пребывания французских летчиков в составе наших Военно-Воздушных Сил радовал и лишний раз доказывал, что борьба против немецкого фашизма носит интернациональный характер.
— А местных жителей здесь действительно не было, — продолжаю я. — Во всяком случае, за то время, что мы прожили в Сеще, я ни одного не видела.
— Ваша эскадрилья вообще жида отшельником — в лесу, в шалашах.
Не спеша идем по краю бывшего нашего аэродрома, вдоль опушки леса. Здесь находятся кое-какие нежилые постройки. Может быть, и наша землянка сохранилась? Но Руфа почему-то очень внимательно присматривается к деревьям. Пока не буду спрашивать, понаблюдаю.
Птицы весело щебечут в лесу. Вдали прокуковала кукушка. И припомнилась мне одна совсем мелкая деталь из жизни в Сеще. Как-то перед вечером я пошла по лесу, чтобы нарвать букетик цветов и устроить их в кабине самолета предстоял первый боевой вылет на белорусской земле. Недалеко куковала вот так же кукушка. Я спросила ее, как часто делала в детстве: «Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?» Молчание. «Ну, пообещай хоть годик, жалко тебе, что ли? Уж больно хочется дожить до конца войны». Молчит, неразумная. Я затаила тогда обиду на эту птицу.
— Вот она, моя береза! — радостно восклицает Руфа, подходит к дереву и нежно гладит широкий ствол.
— Уж не под этой ли березой ты познакомилась с кем-нибудь из французских летчиков? — подшучивает Леша.
— Не угадал. Здесь двадцать лет назад я прочла письмо с объяснением в любви от твоего брата Михаила.
— Но как ты опознала? Чем это дерево отличается от других? — поражаюсь я.
— Видишь ли, объяснения в любви это не то, что, например, боевые вылеты. Нельзя упомнить, при каких обстоятельствах проходил каждый из 840 моих вылетов. Но объяснений, сама понимаешь, было гораздо меньше, и я могу подробно описать, где и как они проходили. Вот смотри.
Руфа показывает на стволе характерный сруб и вбитую гильзу.
— Это не моих рук дело, разумеется. Но мне хорошо запомнилась метка, когда, прислонившись к стволу, я читала письмо от Михаила. Потом не раз приходила сюда.
— А твоя где березка? — спрашивает меня муж.
— Под Москвой, в Салтыковке. Забыл?
— Затеяли какой-то несерьезный разговор. О любви, о березках… уклоняется он от ответа. — Разве для этого мы сюда приехали?
— Давайте сядем, — предлагает Руфа, — здесь так хорошо!
Сели. Несмотря на реплику Леши, она продолжает развивать свою тему.
— Я ответила тогда Михаилу признанием. Но в такой форме, что он надолго обиделся.
— Что ж ты ему написала?
— Я взяла книжку «Дон-Кихот», — почему-то она всегда лежала в моем рюкзаке при перебазированиях полковой библиотеки, — и, подражая письму Дон-Кихота своей возлюбленной, Дульсинее Тобосской, написала: «О, храбрейший из храбрейших! О, прекраснейший из прекрасных!»… И так далее. Заканчивалось письмо такими словами: «До гроба твоя девица Руфина».
— О, бедный мой брат! — подняв глаза к небу, театрально вздыхает Леша. — Как он перенес такой удар!
— Примирило нас несчастье, — уже другим тоном продолжает Руфа. — После той ночи, когда нам с Лелей Санфировой пришлось выброситься на парашютах из горящего самолета, у меня началось что-то вроде нервной горячки. Михаил в то время был в доме отдыха нашей воздушной армии. Как узнал, сразу примчался к нам в полк. Навещал меня в санчасти.
— Вот видишь, — говорю. — «Не в шумной беседе друзья познаются. Друзья познаются в беде».
Сеща — это, пожалуй, один из самых спокойных периодов в жизни полка. Боевой работы пока не велось, изучали новый район. Летчицы и штурманы зубрили карту Белоруссии, рисовали по памяти реки, дороги, населенные пункты. Летали на поверку техники пилотирования, по спецзаданию и для ознакомления с белорусской землей.
Осматривались, приглядывались. После Черного моря и Крымских гор нужно было набить глаз на равнинной лесистой местности. Техники получили возможность без спешки поработать на матчасти. Вскрывали потаённые узлы, залезали в «нутро» мотора, притирали клапаны, проверяли в самолете каждую гайку, каждый шплинт. Хотя нас и не знакомили с планами Верховного командования, однако мы были абсолютно уверены, что скоро начнется большое наступление наших войск и полк быстро пойдет вперед. Всем хотелось основательно подготовиться к новому броску на запад.
Появились часы для отдыха и развлечений. А это мы умели делать не хуже, чем летать. С удовольствием вспоминается, что в полку никогда не было «мероприятий» в скучном и затасканном смысле этого слова. Главными распорядителями считались инициатива и желание. Хочешь вышивать? Пожалуйста, если тебе прислали в конверте цветных ниток, как например, начштабу Ирине Ракобольской. Захотелось петь? Присоединяйся к хору, можешь даже солистом стать, вроде комэски Дины Никулиной. Желаешь сразиться в шахматы? Включайся в чемпионат, только вряд ли выиграешь у летчицы Клавы Серебряковой. А может быть, ты любишь философствовать? Иди тогда вон к той группе, где Хорошилова, Акимова, Гельман. Ну, а если есть потребность почитать — бери в руки книгу и уединяйся.
Лишь в конце июня заварилась каша в огромном минском «котле»…
— Ты чего задумалась? — спрашивает Руфа.
— Воскрешаю в памяти наше житие в Сеще.
— «Житие» — у святых, — а мы…
— «Ночные ведьмы», — ввернул муж. Руфа покосилась на него:
— Мы не были ведьмами, конечно…
— Но и не ангелы! — поддразнивает Леша.
— Не спорю, — соглашается она. — Идеальных людей вообще в природе не существует. Только в сказках. Были у наших девчонок свои плюсы и минусы. Скажу больше — у некоторых после войны проявились новые отрицательные черточки в характере, поведении. Но все — в пределах допустимого, так сказать. И мне обидно становится, когда охаивают мою однополчанку лишь на основании отдельного ее недостатка. У каждой из моих фронтовых подруг была одна главная, неоспоримо положительная черта — она добровольно отдавала свои силы, рисковала жизнью ради нашей победы. Это нельзя забывать, нельзя вычеркнуть из ее биографии. И за это ее нужно уважать, особенно тем, кто не знает, что такое война, кто не видел, какие глаза у смерти.
— Согласен с тобой по всем пунктам, — перестает шутить Леша. — И ты можешь не сомневаться в том, что я уважаю ваш полк, хоть и не принадлежу к числу тех, кто не видел…
— Твои чувства мне известны, — перебивает Руфа, — и не о тебе речь.
Руфина, что называется, «завелась». Нужно бы переменить тему разговора. Поэтому предлагаю:
— Хотите расскажу об одном случае? Спорщики замолчали. Значит, согласны слушать.
— Мы стояли здесь, в Сеще. Полетела я как-то по спецзаданию. Днем, одна. И вот на обратном пути произошла у меня неприятная встреча. К сожалению, я заметила истребитель уже в тот момент, когда он пикировал на меня. Я прижалась к земле, вильнула к опушке леса. Преследователь, взревев мотором, пронесся мимо и пошел с набором высоты. Потом развернулся и, как ястреб на цыпленка, камнем бросился вниз. Неточная пулеметная очередь, я шарахаюсь в сторону, а противник делает маневр для следующей атаки. Чувствую, что не уйти мне от него. Силы у нас слишком неравные. Загоняет он меня, как зайца, И снова слышу рев над головой, и опять пулеметная очередь, но, как и в первый раз, мимо. Я на миг оторвала взгляд от земли и посмотрела на неудачливого противника. Не поверила своим глазам — на самолете были красные звезды. Но в следующее мгновенье меня осенила верная догадка: какой-то наш хулиган захотел поиздеваться над тихоходом «кукурузником». Вижу, он опять делает заход. И такая во мне злость и обида вскипели, что, потеряв всякий контроль над собой, вдруг решаюсь на немыслимый трюк. «Ах, так? — думаю. — Ну, смотри, хвастун, на что способен мой ПО-2!» Набираю скорость и в тот момент, когда истребитель бросился в очередную атаку, я развернулась боевым и пошла навстречу. Это было так неожиданно для нападающего, что он едва успел оценить обстановку и изменить курс. Больше не возвращался. Я торжествовала. Весь оставшийся путь пела во все горло.
— Хорошо проучила! — одобряют Руфа и Леша.
— А знаете что? Я обиделась тогда не столько из-за себя, сколько из-за моего самолета. Истребитель, видите ли, решил похвастаться скоростью, маневренностью. А чьи крылья подняли впервые того летчика в воздух? Кто научил его летать? Кто великодушно прощал ему неизбежные ошибки при первых шагах в небе? Да и на войне ПО-2 играл не последнюю роль. Недаром его называли «старшиной фронта».
— Ты так кипятишься, будто только сейчас вернулась из того полета, замечает Руфа.
— По-моему, это наш общий недостаток — мы не умеем спокойно говорить о годах войны.
Когда я начала писать свои воспоминания, то с удивлением обнаружила, что не могу встать на позицию постороннего наблюдателя. И мне вновь пришлось пережить описываемое. Те же волнения: возбуждение, радость, отчаяние, горечь утрат, торжество победы. И даже болезни те же появились — бессонница и крапивная лихорадка.
Из-за кустов вдруг неслышно вышел паренек лет восьми и изучающе уставился на нас васильковыми глазами.
— Откуда ты, прелестное дитя? — удивилась Руфина.
— А вы чьи будете? — строгим тоном спрашивает маленький следопыт.
Он сразу учуял в нас «чужаков».
— Мы из Москвы.
— А что вы здесь делаете?
— Вспоминаем.
У мальчика на лице удивление.
— Садись, послушай, — предлагает Руфа. Популярно, простым языком, она начинает рассказывать ему о нашем полку. А ведь у нее талант! Не зря кончала педфак в институте. Мальчик слушает ее с интересом.
Потом мы выяснили семейное положение нашего юного знакомого. Колин отец работает шофером, мать — в полевой бригаде. Есть маленькая сестричка Галка. Учится Коля без троек, любит шахматы. Намерен стать… тут он запнулся и немного смутился.
— Ну, ну, смелее, не стесняйся.
— Космонавтом, — твердо произнес Николай.
— О-о! — почтительно воскликнули мы. Летать в ракете — мечта многих мальчишек теперь. Молодец, Коля, дерзай!
— Засиделись мы здесь, — поднимаясь с травы, говорит Леша, — пора ехать дальше.
Коля, как вежливый хозяин, проводил нас до машины. Нужно бы подарить ему что-нибудь. К сожалению, ничего космического у нас нет. На глаза попалась коробочка с дорожными шахматами. Это подойдет, пожалуй, — хлопец ведь увлекается и шахматами.
— Возьми на память. Желаем тебе стать чемпионом.
— До свиданья, космонавт, — Леша по-мужски жмет ему руку.
— Счастливо вам! — прощается Коля. Он долго машет вслед одной рукой, поддерживая другой штанишки.
— Вы удивительно везучие, — утверждает Леша, — уж который раз подмечаю — мы встречаемся именно с теми, кто нужен. Вот и в Сеще. Теперь этот космонавт всем своим друзьям расскажет о беседе с нами, о женском полку. И пойдет молва…
— Это хорошо. Значит, и здесь сделали кое-что полезное для нашего полка, — с удовлетворением говорит Руфа.
— Реклама? — опять не унимается Леша.
— Нет, пропаганда, — спокойно поправляет Руфа.
— А малец-то, видать, смышленый, — говорю, — вы заметили, какие у него глаза? Пытливые, умные.
Говорят, что глаза — зеркало души человека. Я верю в это определение. Ум, темперамент, характер нередко можно разгадать по «свечению глаз».
Мне припомнились сейчас глаза одной нашей летчицы. Много раз смотрела я в них при различных обстоятельствах. Оттенки «свечения» бывали самыми разнообразными. Но всегда среди них неизменно выделялся главный, направляющий луч — воля.
Когда наши взгляды скрещивались за шахматной доской (а шахматные баталии были особенно частыми именно здесь, в Сеще), я видела, как от этого основного луча брызгали лукавые с хитринкой искорки. Когда же летчица брала в руки мандолину и разучивала что-нибудь трудное, мне казалось, что именно тот упорный луч управлял ее пальцами. Я не видела ее глаз в момент боя с вражескими зенитками и прожекторами — никто не может заглянуть в глаза летчицы в такие минуты. Никто, кроме разве смерти. Но я уверена, что луч воли светился тогда всеми огнями ярости.
В марте 1945 года я увидела эти глаза на фоне белой подушки в госпитальной палате. В них влажно блеснула радость. Но потом я с тревогой заметила, что тот, самый сильный луч едва пробивается сквозь тугую завесу боли и отчаяния.
…В ту ночь многие наши экипажи не вернулись с задания. Сумасшедший ветер, неожиданно задувший с Балтики, принес тяжелые тучи липкого снега. Фантастический вихрь смешал землю с небом и понес фанерные самолетики в неизвестном направлении. Не видно было никаких ориентиров, ни земных, ни небесных, чтобы определить, куда сносит. В снежном смерче все кружилось, кипело, бушевало. Это было как светопреставление. Чудом ли, нет ли, все экипажи приземлились благополучно в разных местах — кто на поле, кто на дороге, кто на льду озера. Поутру они слетелись в полк. Не было только летчицы Клавы Серебряковой со штурманом Тосей Павловой. Несколько дней полк жил в тревоге — о подругах не поступало никаких вестей. Наши поиски были безрезультатными. Когда начали гаснуть надежды, с другого фронта пришла весть: там в армейском госпитале лежат две тяжело раненные летчицы.
— Аронова, лети немедленно, — приказала мне Бершанская, — это, наверно, наши.
Я мчалась на полных газах. Но все казалось, что самолет летит медленно.
И вот я сижу у их коек. Клава лежит неподвижно, бледная, ей трудно говорить. Штурман Тося Павлова, тоже прикованная к постели, с передышкой рассказывает:
— Почти от самой цели, от Данцига, мы летели в снежном буране. Земли не видно, решили придерживаться только курса. А ветер, оказывается, был шквальный… Когда горючее подошло к концу, снизились, стали искать место для посадки. Я выстрелила ракету, другую. Присмотрели площадку, вроде ровная. Клава делает заход. Все идет хорошо. Вдруг самолет заваливается, треск, удар и дальше уж я не помню… Очнулась утром от каких-то толчков. Смотрю — лежу в снегу, а рядом стоят несколько мальчишек и палками откапывают самолет из-под снега.
— Дети, мы живые… — набравшись сил, сказала я. Ребятишки перепугались, услышав голос. Побежали в поселок, привели взрослых. А Клава-то все еще без сознания была… Вот так мы и оказались здесь.
— Но что же случилось в момент посадки?
— За провода, оказывается, зацепились…
Среди беснующейся пурги можно ли разглядеть тоненькую ниточку проводов!
…Год спустя, уже после войны, несколько наших однополчанок, которые учились в ВИИЯКА, шумной толпой ввалились в одну из палат главного военного госпиталя в Москве. Клава Серебрякова только-только начинала учиться ходить. Переломанные ноги, окостеневшие суставы не хотели подчиняться. Но в ее глазах уже отчетливо светился хорошо знакомый мне луч вместе с колючим упорством и радугой надежды. «Будет ходить!» — поверила я тогда.
Через несколько лет в Москве, в театре Советской Армии, проходила встреча бывших летчиц с юношами и девушками столицы. Молодые москвичи с интересом слушали выступающих.
— Слово имеет бывшая летчица 46-го гвардейского Таманского полка, ныне учительница из города Октябрьского, Клавдия Федоровна Серебрякова, — объявил председательствующий.
Клава легко взошла на трибуну, и в притихший зад блеснул из ее глаз все тот же сильный, яркий луч — луч воли. Она говорила хорошо, с огоньком.
— Приезжайте к нам в Октябрьский! — обратилась Клава с призывом к сидящим в зале. — Город молодой, строится, работы на всех хватит!
В перерыве я подошла к ней и по-дружески, как всегда было между нами, сказала:
— Молодец, Клава-джан (так ее звали близкие подруги в полку). Твоей энергии может позавидовать любая молодая девушка. Только вот располнела ты зря. Много, наверное, сладкого ешь?
— Понимаешь, Рая, в мире столько вкусных вещей, у меня же совсем нет силы воли, чтобы запретить себе их есть!
А в глазах — хитринка…
В Брянске у машины отказал стартер. — Сдает старушка, устала, открывая капот, с сожалением говорит Леша.
Теперь он заводит мотор ручкой. На нас бросают кто удивленный, кто насмешливый взгляды — «Волга», а заводится как грузовик!
Проехали Рославль, без остановки прошли через Смоленск. Около Орши уже под вечер со вздохом облегчения выехали на Минское шоссе. Теперь до Озерец рукой подать.
Как всегда перед узловым пунктом, начинаем приводить в порядок вещи в кабине и себя. Причесываемся, оправляем платья, вытираем пыль с лица и рук специальным дорожным лосьоном. Мы хотим предстать перед отцом с матерью свежими и красивыми. Руфа, смотрю, даже губную помаду достала. А у меня вот один случай на всю жизнь отбил охоту красить губы.
Было это где-то в Польше. Приехала однажды к нам в полк кибитка с надписью «Военторг». Но на лотках были в основном пудра и губная помада. Однако этот товар, казалось бы ходовой среди женщин, не раскупался летчицами. Тогда кто-то сказал (может быть, сам же продавец), что помада предохраняет губы от обветривания. У нас многие страдали от этого. Начали покупать. Купила и я тюбик. Вечером перед вылетом густо намазала губы. В полете же забыла, конечно, об этом. Когда от встречного потока воздуха в носу становилось влажно, я, как обычно, рукавом комбинезона проводила справа налево. (Да простится мне такая откровенность! Носовой платок не всегда был под рукой.) Вернулась с задания, пришла на КП с докладом. «Что с тобой?» — в испуге спрашивают меня. Оказывается, я размазала по лицу всю губную помаду. Как на грех, у командирского столика сидел в ту ночь кто-то из офицеров дивизии. Смущение и стыд так зажгли мне щеки, что, наверно, и незаметной уж стала на них губная помада. Больше никогда не красила губы. И теперь не решаюсь — боюсь.
Деревня Озерцы находится в трех километрах не доезжая районного города Толочина. Прямо у шоссе. Здесь еще в двадцатом году поселился Степан Павлович Пляц со своей семьей. «Семья крылатых», — называют ее теперь некоторые журналисты. Этот эпитет напрашивается сам собой: четыре сына и две невестки — авиаторы. Давно разлетелись сыновья из родной хаты, но Степан Павлович и Наталья Моисеевна ни за что не хотят менять место жительства. Погостить у того или иного сына — с удовольствием, но уезжать из Озерец… «Вросли мы уж тут», — говорит мать. А дед Степан убежден, что самый лучший климат на земле — белорусский, что здешний воздух очень «пользительный» для здоровья. И, судя по нашему деду, с этим можно согласиться. Он 1883 года рождения, но до сих пор не знает, где у него сердце.
Во время войны не захотел эвакуироваться. «Чего я кину свою хату? Немцы прийдут и уйдут, а нам с Масеевной на старости лет дуже тяжко бегать». Самый младший сын, пятнадцатилетний Толя, ушел в лес к партизанам. Дед же партизанил на легальном, так сказать, положении. Много навредил захватчикам, много вызволил людей из-за колючей проволоки — недалеко от их дома был лагерь для военнопленных. А вот своего старшего сына Тимофея не удалось сберечь… Тимофей регулярно сообщал партизанам секретные сведения из немецкого штаба, куда устроился писарем по заданию тех же партизан. Его схватили всего за несколько дней до освобождения Озерец.
И может быть, в то самое время, когда Тимофея вечером увозили на расстрел, другой сын, штурман Михаил, находился всего в каких-нибудь сорока километрах от Озерец. Он с волнением подбегал то к одному, то к другому взлетающему на задание экипажу и просил: «Братцы, осторожнее сегодня бросайте бомбы. Вот здесь — он показывал на карте — в двухстах метрах от шоссе, батькин дом. Смотрите, не трахните по нему…» В ту ночь полк майора Бочарова бил по отступающим немцам в районе города Толочина.
Буквально на другой же день, как только немцы ушли из Озерец, над деревней пролетел бреющим большой самолет и сбросил вымпел. Это самый старший из сыновей-авиаторов, Дмитрий, подал весточку о том, что все четверо живы-здоровы и воюют там-то и там-то.
А еще через несколько дней и Михаилу выдалась возможность побывать дома. Он как-то недавно рассказывал мне о том первом, после оккупации, приходе своем в отчий дом. И то ли потому, что Миша хороший рассказчик, то ли потому, что у меня было очень обостренное внимание, его слова нарисовали в памяти такую четкую картину, словно я видела все своими глазами.
…На попутной машине Михаил приехал в Озерцы после полудня. Вот и знакомая дорожка — прямо от Минского шоссе к дому родителей. Двести метров. Триста шагов. Сначала он бежал. Потом пошел шагом. А перед дверью ноги отказали. Миша и радовался предстоящей встрече с родными, и страшился, что может никого не увидеть в живых.
Собравшись духом, он открыл дверь. В избе была одна мать, она стояла около кухонного стола и мыла посуду.
— Здорово, хозяйка! — бодрым голосом поприветствовал Михаил.
— Здравствуй, соколик, — повернувшись к ному, спокойно ответила мать.
Она не узнавала сына!
Вглядываясь в дорогое, такое знакомое с самого раннего детства лицо, Михаил с болью отметил, что мать сильно постарела: совершенно седые волосы, в мелких морщинках лицо. И стала мать маленькой, худенькой… «Но почему же она не узнает меня? — в тревожной растерянности думал Михаил. — Мама, ведь это я, сын твой, пришел с войны»…
— Мама!!! — не выдержав, выкрикнул Миша в отчаянии.
Тарелка замерла на секунду в руке матери, потом раздался звон разбитой посуды.
— Миша, сыночек…
Михаил вовремя подхватил мать и усадил на стул.
— Ослепла я почти от слез-то… — прошептала она.
Подъезжаем к Озерцам. Теперь настала для Руфы очередь волноваться, как волновалась я перед Скадовском из-за своего Сашули. Дело в том, что, когда мы уезжали из Москвы, ее пятилетняя Маринка была с детским садом на даче. Но вот уже с неделю, как дачный сезон кончился. Родителям предложили забрать детей домой. Поэтому Михаил срочно вызвал старшего сына Володю из Озерец (они там вместе с нашим Толей гостили у деда), вручил ему Маринку и проводил опять в Белоруссию, а сам уехал в командировку. Обо всем атом мы узнали из телефонного разговора еще в Скадовске. С тех пор Руфа ничего не знала о дочери. Тут есть из-за чего волноваться, понятно. Я-то уверена, что с Маринкой все в порядке, там Нина (единственная дочь у Пляцев) сумеет за ней присмотреть. Но уговаривать Руфину сейчас бесполезно — по себе знаю. Материнские чувства неподвластны разуму.
17 августа
Вчера под вечер приехали в Озерцы. Все наши дети были живы-здоровы. Отпраздновали благополучный приезд и встречу с родителями. Дед, очевидно под впечатлением наших разговоров, тоже пустился в воспоминания. У него, конечно же, есть что рассказать о годах войны. Ребята лежали на печи, одни головы были видны, подпертые руками, и блестящие глаза — слушали деда, его партизанские «байки».
Руфа читала письмо от матери из Чкаловска. По лицу было видно, что она удивлена и встревожена.
— Что пишет Зоя Петровна? — спросила я.
— Представляешь, совсем недавно поднялась после инфаркта и уже опять продолжает репетиции в Доме культуры!
— И на каких же она ролях?
— Сейчас Кабаниху в «Грозе» готовит.
…Какие только роли не приходилось играть Зое Петровне! Не на сцене, а в жизни. Семнадцати лет осталась старшей среди шести осиротевших своих братьев и сестер. Потом стала женой, матерью и одновременно студенткой мединститута, отличницей. Но здоровье не выдержало — попала надолго в больницу. Выжила благодаря воле к жизни. Начала работать учительницей в сельской школе. Довелось быть и воспитательницей в трудовой колонии для беспризорных. Немало опасных моментов пришлось пережить, прежде чем колонисты полюбили энергичную, бесстрашную «тетю Зою». Жизнь будто нарочно придумывала для Зои Петровны всякие осложнения, иногда бросала ей сразу целую пригоршню бед. Но та только крепче сжимала в кулак свою волю и убеждала себя: «Не падай духом. Не унывай. Действуй!» К пятидесяти годам успела уже и внучат вынянчить. Потом уехала к себе на родину. Заскучала там после шумной и хлопотной московской жизни. Постепенно увлеклась самодеятельностью и вот теперь играет на сцене Дома культуры в Чкаловске.
Руфина убежденно говорит всегда, что характером она не в мать удалась. Но мне кажется, что тут Руфа ошибается.
Вчера же, на большом семейном совете решили; за примерное поведение и разумную инициативу в оказании помощи по хозяйству, старших сыновей — Володю и Толю — взять в дальнейшую поездку. Пусть посмотрят, послушают, запомнят. Очень полезно для 16-летних парней.
Собирались сегодня в дорогу что-то очень долго и лишь в три часа выехали. Держим путь на Минск.
Двадцать лет назад наши наступающие войска образовали под Минском огромный «котел».
За пять дней (с 29 июня по 3 июля) была блестяще осуществлена операция по окружению основных сил 4-й немецко-фашистской армии, оборонявшейся на Могилевском направлении. Силами двух фронтов (1-го и 3-го Белорусского) были созданы железные клещи, которые сомкнулись на западной окраине города Минска, «откусив» от фашистской армии 100 тысяч человек. Наш 2-й Белорусский фронт шел на противника в «лоб», поджимая его к Минску.
ПО-2 активно помогали пробивать брешь перед началом операции. А потом полку пришлось перепрыгивать через весь «котел». Робцы, Затишье, Красный Бор, Логи, Рассвет… — мы проскочили эти пункты дней за десять. Садились там все больше около леса. Сейчас не отыскать тех площадок… Но сколько же неожиданных ситуаций было, и тревожных и просто смешных!
— Перелетели мы как-то уже под вечер на зеленую лужайку, — рассказываю я, — С одной стороны — лес, с другой — дорога проходит. БАО не успел еще подъехать сюда, и мы пошли в лес на подножный корм, ягоды есть. Ходим по лесу, аукаем. Вдруг слышим команду: «К самолетам!» Выбежали, смотрим… У меня мурашки по спине забегали — по дороге ползут танки с белыми крестами. Немцы! «Сейчас они развернутся к нашим самолетам и раздавят их, как щепки!» — пронеслось в голове, наверно, у каждой летчицы. И все-таки бежим, может быть успеем взлететь. А железная колонна медленно приближается, грохочут и визжат гусеницы… Почему немцы не поворачивают? Неужели они слепые, не видят наших камуфлированных стрекоз? Но вот у передней машины открывается люк… Мы замерли. Оттуда показывается человек и… приветственно машет нам пилоткой. Наши?! Машут уже из второго, из третьего танка. Мы тоже изображаем радость, но получается не совсем искренне. Все еще не верится, что тревога была ложной. Успокоились только тогда, когда башня последней машины скрылась из виду.
— И я вспомнила про одну ложную тревогу, — смеется Руфа. — Тоже где-то в минском «котле» было. Самолеты наши стояли на опушке леса. Так вот, утром один старичок из БАО пошел в лес заготовить дров для кухни. Рубит себе потихоньку и песенку мурлычит. К нему сзади неслышно подкрался другой дядька из батальона, шутник такой, и крикнул хрипло: «Хенде хох!» Дровосек даже не оглянулся, бросил топор и с криком: «Немцы!» — примчался в полк. Поднял тревогу. Нас разбудили (мы спали после боевой ночи), приказали бежать к самолетам. Ждем команду на взлет. А к этому времени «немец» вернулся из леса и начал расписывать, как он разыграл старика. Тревоге дали отбой.
Ребята хохочут.
— Но что досаднее всего, — продолжает Руфа, — в суматохе кто-то из рабочих поспешил вылить на землю тесто, приготовленное для оладьев на обед, и погрузить пустую кастрюлю на машину. Посуда была большой ценностью в то время, ее тоже спасали в первую очередь. Потом мы в обед шутили: «За вторым блюдом идите вон к той сосне, там оладьи пекутся на солнышке».
— Не война, а сплошные веселые приключения, — завидуют сыновья.
— Ишь, как поняли! — удивленно вскидывает бровь Руфина. — Рая, покажи-ка им летную книжку. Что мы делали в Белоруссии?
Достаю, листаю. Ищу июнь — июль 1944 года.
— Ну вот, смотрите. Бомбили войска противника в пункте Перелоги, потом по дороге Шклов — Черноручь. Били переправу на Днепре севернее Могилева. Сбрасывали бомбы по отступающим войскам на дорогах у Погоста, Белыничей, Копысь, Березина, Ольховки… Хватит? Пробили себе бомбами стокилометровый путь от Днепра до реки Березина. И это только в течение десяти дней — с 22 июня по 1 июля.
— А как подтверждалось ваше бомбометание? — хитро улыбаясь, спрашивают ребята. — Ведь у вас на самолетах не было фотоаппаратов. Ночью-то можно куда угодно швырнуть бомбы.
Такого рода вопросы нам задавали уже не раз, и не дети, а взрослые люди. Объяснение же здесь довольно простое. Наши экипажи вылетали один за другим с интервалом обычно в три-четыре минуты. Подходя к цели, мы со штурманом уже видели чьи-то разрывы. При докладе сообщалось точное время как своего бомбометания, так и наблюдаемого нами взрыва. Идущий за нами самолет также фиксировал наш удар. Начальнику штаба оставалось только сравнивать эти минуты и проставлять соответствующие фамилии.
— В летной книжке это выглядело так. Вот смотрите:
«Бомбили дорогу Белыничи — Погост. Наблюдался один сильный взрыв и пожар. Подтверждает Себрова». Дальше: «Разрывы подтверждает Макарова», «Взрыв подтверждает Дудина», «Подтверждает Серебрякова», «Подтверждает Юшина»… Так что, дорогие мои, тут не швырнешь куда попало. Кстати, ночью взрывы виднее, чем днем, и, куда бы ты ни бросил бомбы, вспышку обязательно кто-то зафиксирует. Главным же контролером в нашей боевой работе — и самым строгим — была собственная совесть. Кажется, убедила. Вопросов больше нет. Мальчишки интересуются маршрутом нашего пути.
— Сегодня заночуем в Минске, у дяди Вани, — отвечаем. — Завтра побываем в Мире, Новосадах, Новоельне и, пожалуй, доедем до Гродно. А там…
— А там и Брест недалеко, — замечают они будто мимоходом.
Но мы знаем, что Брест для них — основная цель путешествия. Что ж, посмотрим, как получится со временем. Нужно бы, конечно, побывать в крепости. Прочесть книгу — хорошо, а посмотреть своими глазами — еще лучше. Тем более юношам.
Въезжаем в город Борисов. Нельзя не остановиться у танка-памятника, поднятого на высокий гранитный пьедестал.
«Экипажу танка
Героям Советского Союза
гв. лейтенанту Раку,
гв. ст. сержанту А. А. Петряеву
и гв. сержанту А. И. Данилову,
погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 30 июня 1944 года при освобождении г. Борисова».
Борисовцы высоко чтут память погибших героев-освободителей, золотом пишут их имена. Мне пришла на память одна мысль, высказанная Женей Рудневой (кажется, в связи с гибелью наших подруг в Пашковской): «Кончится война, и над их могилами люди поставят красивый мраморный памятник. Это будет стройная девушка с задорно закинутой назад головой. А кругом — много цветов. И матери скажут своим детям: здесь похоронены летчицы. Они погибли, защищая нашу землю от врага»…
Слушая и читая рассказы о погибших Героях Отечественной войны, часто приходится встречаться с такими, ставшими уже штампом, словами: «Он был простой советский человек».
Совсем они были не «простые» (это слово от частого приложения к понятию «человек» воспринимается порою как «примитивный» или «простак»). Каждый по-своему был сложным в своей неповторимой индивидуальности. Задача искусства — будь то живопись, кино, поэзия — умело воплотить такие яркие образы. Но это, наверно, не легко. Ибо, по словам известного художника Нестерова, «искусство — это подвиг». А на подвиг не каждый способен.
Я же мечтаю пока о малом — чтобы люди знали хотя бы конкретные имена погибших моих однополчанок.
…Богата белорусская земля памятниками войны. Вот и опять, перед Минском, мы стоим у монументального гранитного обелиска. Высоко взметнулась в небо светлая пирамида с пятиконечной звездой вверху. У подножия лежат свежие цветы: пунцовые розы, нежные гладиолусы, скромные незабудки, полевые ромашки… Видно, не один человек принес их сюда.
Кому же воздвигнут памятник? Надпись сделана на белорусском языке. Леша переводит: «Тридцать тысяч лежит здесь в братских могилах. Это нельзя оплакать и нельзя забыть… Будьте бдительными, люди, объединяйте силы, чтобы впредь никто такое не мог повторить».
«Здесь похоронено тридцать тысяч советских военнопленных, партизан и мирных граждан, расстрелянных и замученных немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг.»
С трудом дочитал мне муж до конца. Я знаю, какая горькая мысль спазмой давит ему горло: «Может быть, и мой брат Тимофей лежит тут»…
Тридцать тысяч имен не уместить на мраморной доске. Но сама цифра — 30 000 — производит потрясающее впечатление.
Мы не единственные, кто остановился у обелиска. С шоссе свернули еще три «Волги». Потом одна иностранная машина. Вышли и забыли выключить радио. Доносятся звуки веселой песенки. А нужно бы:
И вот тогда поймете вы, Хотят ли русские войны…18 августа
— С праздником! — просунув голову в дверь комнатушки, где мы спали с Руфой, произнес Леша вместо обычного: «Подъем!»
Сегодня же день авиации! Ваня, брат Леши, слышим, напевает: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» С кухни тянет вкусным запахом жареных грибов.
— Вставайте, девочки. Моя хозяйка уже приготовила завтрак, — сообщает Иван.
— Заспались мы с тобой сегодня, как барыни, — шепчет мне Руфа, — и Вере не помогли готовить.
За столом собрался целый колхоз — нас пятеро, семья Ивана Пляца (жена Вера и две забавные дочки, «матрешки», как мы их называем) и пришла жена самого младшего из братьев Пляцев — Нина. Запыхавшись, она тащила за собой маленького сынишку.
— Ой, боялась, что не застану вас! — торопливо обнимаясь со всеми, говорила она. — А Толя в лагерях… Жалеть теперь будет!
Большая семья Пляцев живет дружно, но видеться приходится не так часто — работа, служба, заботы. Хорошо вот, что боевой путь нашего полка прошел через избу деда Степана и квартиры двух братьев-минчан. А то бы в этом году и не встретились, наверно.
Завтракали в темпе, Иван спешил в аэропорт — готовить самолет к вылету. Тридцать лет работает он в авиации, прошел нелегкий путь от моториста до инженера. По секрету скажу, что я считаю его самым трудолюбивым из всех братьев, хотя и остальным никак нельзя отказать в этом качестве. Если можно сравнивать людей с самолетами, то Иван похож на уважаемого мной ПО-2. И такой же безотказный.
В десять часов приехали в аэропорт. Погода сегодня — как по спецзаказу авиаторов: небо празднично-умытое, солнце веселое, легкий ветерок игриво перебирает голубые флажки, которыми украшены здесь сегодня аллеи и здания.
Мы заехали в порт для того, чтобы уточнить, где находятся Новосады. На нашей карте этого села нет, думаем, что здешние штурманы помогут нам поставить нужную точку на реке Неман.
Новосады памятны самыми разнообразными и волнующими событиями, хотя полк пробыл там недолго, всего с неделю. Это село так же интересно для белорусского периода нашей фронтовой жизни, как Карловка — для крымского.
К сожалению, сколько мы ни ползали по Неману на картах разных масштабов и назначений, Новосад не нашли. Есть, правда, Новое Село, тоже на Немане. Может быть, это одно и то же? Порешили на том, что уточним в пути, как делали уже не раз.
Путь наш лежит по Брестскому шоссе. За деревней Столбцы, в 15 километрах в сторону от магистрали, находится село Мир. Около него была просторная ровная площадка. На ней мы просидели лишь два дня (7 и 8 июля 1944 года) и одну ночь. Но какую тревожную ночь!
В будний день и в большом поселке не сразу встретишь человека. Но наша покровительница — удача — продолжает благоволить к нам, ведет навстречу старую седую женщину. Она живет здесь, оказывается, больше полустолетия. Великолепно!
— И во время войны здесь жили? — уточняем на всякий случай.
— Да.
— Вам случайно не приходилось слышать, что летом 44-го года, здесь на короткое время садились на маленьких самолетах летчицы?
— Я сама видела. Вон на том поле они были.
— Мы из того полка, — говорим. — Потянуло вот проехать по местам, где летали в войну.
Женщина пристально вглядывается в наши лица. Уж не хочет ли она сказать, что признает нас?
— А я разговаривала тогда с вашей начальницей. Невысокая, полная. Дусей ее звали.
Феноменальная память! Запомнила нашего комиссара, Евдокию Яковлевну Рачкевич.
— Интересно, как в то время жители отзывались о нас? Что говорили по адресу летчиц? — задаем не просто ради женского любопытства вопрос. Может быть, и здесь гитлеровцы уже успели охаять нас?
— Удивлялись вашей смелости. Ведь кругом в лесах еще много немцев было.
В Мире действительно сложилась опасная для полка ситуация. Перелетели мы сюда днем, а ночью мимо аэродрома еще проходили отступающие немецкие части. Они не знали, что отступать-то им уже некуда — советские войска шли впереди их. Хорошо, что мы не работали в ту ночь, сидели тихо — бомбы не успели подвезти. А то неизвестно, чем кончилась бы для нас такая прыть.
Рассказали кое-что о своем полку. Пусть и в Мире знают про 46-й гвардейский!
Старушка, видно, спешит куда-то. Она взялась за сумку, которую при встрече с нами поставила на землю. Не будем задерживать.
Оглядываем еще раз бывшую нашу «точку» — отсюда хорошо видно большое поле — и, попрощавшись, садимся в машину.
В пути Руфа припомнила один случай из «мирского» периода. Здесь была захвачена в плен группа немцев, среди которых затесался власовец. Он упорно сопротивлялся. Когда же пленных привели в штаб нашей авиадивизии, предатель стал ползать на коленях, умоляя сохранить ему жизнь. Гадко было смотреть, как он пытался охватить ноги полковника Покоевого, командира дивизии, как все его тело дрожало в животном страхе перед неизбежной карой. Полковник с омерзением отстранялся, а рука невольно тянулась к пистолету — Покоевой недавно узнал, что власовцы замучили его родителей. «Ведите его на допрос», — поспешил приказать он.
Невеселый рассказ навел на некоторые размышления. Почему одни люди умирают мужественно, иные я бы сказала даже красиво, так, что их смерть дает другим новые силы для жизни, а иные делают последние шаги на четвереньках, жалобно скулят и теряют на краю гибели последние крохи человеческого? Причина, вероятно, не столько в твердости или слабости характера, сколько в целя борьбы. Не сможет, мне кажется, умереть человек с достоинством, если он вступил в борьбу с низменной, корыстной целью, если он не шибко верит в правоту своей борьбы. У него, думается, перед угрозой гибели должна всплыть и затмить все на свете одна мысль: «Моя жизнь мне дороже всего». И он пытается спасти ее любой ценой, чаще всего ценой отвратительных унижений.
Тот же, кто глубоко убежден в справедливости своей борьбы, тог не будет в предсмертный час лизать сапоги своего врага, он и на виселицу пойдет с поднятой головой.
Дорожные раздумья меняются быстро, подчиняясь темпу движения. Мир позади, и мы озабочены теперь, как найти Новосады.
— Доедем до Турца, там выясним, — уверяем друг Друга.
— А пока расскажите что-нибудь веселенькое, — просит Леша.
Он ужо привык к тому, что время от времени мы развлекаем его всякими забавными случаями из нашей фронтовой жизни. Скучно ехать молча, в сон клонит.
— «Веселенькая» история приключилась со мной где-то здесь, чуть ли не в том же Мире, — вспомнила я.
Как сейчас вижу ту сценку во всех деталях. Сидим со штурманом около самолета. Жара невыносимая, как в Сахаре. Мучит жажда. Видим, по краю аэродрома, в одном направлении, время от времени проходят солдаты с котелками. Туда — с пустыми, обратно — с полными. Вероятно, где-то недалеко есть источник воды. Полина пошла выяснить.
«Пить, пить!..» — стучит все время в висках. Идет мимо солдат, несет осторожно котелок. Я осмелилась попросить хоть глоточек.
— Солдатик, налей немного, — и протягиваю пустую консервную баночку.
Од как-то странно посмотрел на меня и аккуратно налил неполную банку. «Ну и жмот! Трясется над каждой каплей», — осуждающе подумала я. С жадностью сделала первый большой глоток… Я до сих пор содрогаюсь при воспоминании об этом моменте! Будто огонь вспыхнул внутри, дыхание перехватило, глаза полезли на лоб, сердце остановилось… В общем, то была не вода, а чистейший спирт. Солдат с перепугу стал объяснять мне, что там, недалеко, то ли из чана, то ли из цистерны вытекает эта… жидкость. Но мне было тогда не до того, чтобы уточнять, из какой емкости я хватила отравы. Чуть богу душу не отдала.
— Ой, уморила! — хохочет Леша. — Я бы и то, наверно, не выдержал без подготовки!
В Турце не удалось, к сожалению, установить, где находятся Новосады. Нам посоветовали заехать в Кореличи, обратиться в поселковый Совет. Проселочной дорогой отправляемся туда.
— А чем знаменита эта деревня, что вы так упорно ее ищете? — спрашивают ребята.
— Новосады?! — в один голос восклицаем с Руфой. — Во-первых…
Во-первых, садились мы там не куда-нибудь на поле или лужайку, а на широкую деревенскую улицу, прямую и ровную, не хуже иного аэродрома. Подруливали к домам, разворачивали самолеты и затаскивали их хвостами в палисадники или ворота. Если посмотришь с воздуха — и не заметишь наши камуфлированные ПО-2 на пестром фоне изб, деревьев, цветов. Это, пожалуй, уникальный фрагмент из жизни полка. А прижались мы к домам совсем не ради оригинальности. В лесу, за Неманом, как предупредили нас жители, было много немецких частей, потрепанных в боях под Минском. Они еще не успели, вероятно, осознать, что единственный безопасный для них способ выхода из окружения — плен.
Вечером из леса появились первые «ласточки»: несколько немецких солдат пришли сдаваться в плен. Они принесли нехорошую весть — ночью вооруженные гитлеровцы собирались напасть на село, их гнал голод.
В ту тревожную ночь никто не сомкнул глаз. Обстановка осложнялась еще тем, что начался дождь с грозой. В каждой подозрительной тени чудились крадущиеся фигуры врагов.
— Во-вторых, — как по конспекту излагаем события, — там опять-таки был единственный случай, когда несколько экипажей летала бомбить среди бела дня.
Утром несколько храбрецов из БАО сунулись было в лес за пленными. Вскоре пришлось помогать им оторваться от противника. Как только наши солдаты благополучно вернулись на исходный рубеж, то пять или шесть самолетов взлетели с бомбами и сбросили груз на кишащий немцами лес. Этот внушительный удар сразу заставил их изменить свой прежний план, они нацепили на палки белые тряпочки и стали поспешно выходить из леса.
— Понимаете, возникло серьезное затруднение, — объясняет Руфа, пленных некому было охранять. Ведь в БАО мало народу, а немцев привалило сотни две. Обратились за помощью к местному населению. Мальчишки-подростки с удовольствием стали нести службу охраны с автоматами в руках. Но это была чистая формальность, пленные и не думали никуда бежать. Наевшись каши (наш повар сварил им огромный котел), они смирно сидели в тени сарая на краю села. Вот ведь наша добрая русская душа! Пленный — это уже не враг, а просто человек. Он голоден, значит, его нужно покормить.
Мне запомнился один пленный солдат, из тех, что пришли из леса. Он был тяжело ранен, лицо серое, нижняя челюсть отвисла, неумело прибинтованная. Привалившись к бревенчатой стене сарая, пленный сидел неподвижно и еле дышал. Было ясно, что жизнь его кончена. Угасающим взглядом смотрел он куда-то вдаль. И столько безнадежности и отчаяния дрожало в том взгляде, что в душе у меня шевельнулась жалость. Я не могла ее заглушить даже мыслью о том, что, может быть, именно этот немец стрелял в меня час назад, когда мы кружили над лесом. «Зачем ты шел в Россию, несчастный? Чтобы погибнуть вот так бесславно, под стеной чужого сарая?» — думала я, глядя на умирающего врага.
— А ты помнишь одного немца-джентльмена из тех пленных? — спрашивает Руфа.
— Джентльмена? — удивляюсь. — Какого?
— Значит, не видела. В тот же день к вечеру привезли бомбы для ночной работы, и девушки-вооруженцы стали разгружать их с машины. Пленные сидели неподалеку. И вот один из них встал, — высокий такой, крепкий, младший чин какой-то, — подошел к нашей девушке и, легонько отстранив ее, начал сам сгружать. Девчонки сначала удивились, а потом махнули рукой: пусть поработает, зря, что ли, кашей его кормили. Почти всю машину один разгрузил.
— Интересно, — размышляет Леша, — что побудило пленного к такому поступку? Ведь он знал, что бомбы предназначены для удара по его соплеменникам.
— Вероятно, он захотел внести свою лепту в дело приближения мира. А может, сказалась сила привычки — помогать женщине. Хорошая мужская привычка, ее приятно наблюдать даже у врага.
— Мне кажется, что тот парень был не враг. Насильно мобилизованный.
— Может быть…
— Ну, девочки, — говорит Леша, — вы, кажется, все рассказали о Новосадах. Остается только найти и взглянуть на них.
— Нет, еще не все. Кое-что не успели.
Приехали в Кореличи. Красивый поселок, живописная местность. Дома аккуратные, городского типа. В горпоссовете застали только одного секретаря партбюро, да и тот спешил по делам.
— Есть такая деревня недалеко от Валевки, — обнадеживающе заверил он. А ваше предположение, что Новое Село — те же Новосады, отпадает. Немцы сожгли Село вместе с жителями за то, что оно было партизанским.
Не теряя времени, едем в указанном направлении.
А в ушах еще звучит: «…сожгли вместе с жителями». Какое жуткое зрелище… Горит целое село, из запертого полыхающего амбара несутся душераздирающие крики детей, женщин. Черный дым поднимается к небу… Некоторые еще верят, что там, на небе, есть бог. Неужели он может безучастно наблюдать этот ужасающий костер из человеческих жизней? Боже, покарай каннибалов, если ты справедлив! Господи, спаси невинных детей — ты же всемогущий!.. Сгорело Село, сгорели люди… Какой же ты бог, равнодушный, немощный старик?..
Ну вот, наконец-то сейчас будем в Новосадах. Может, встретим там прежних знакомых? Диму, например. В сорок четвертом он был мальчишкой, но я узнала бы его по глазам — тогда они перевернули во мне всю душу. А тихие слова и сейчас слышу: «Батьку убили, а мамку с сестренкой угнали в неметчину»… Вернулись ли они оттуда?
Еще издали завидев деревню, понимаю, что едем напрасно.
— Нет, это не наши Новосады, — разочарованно произносит Руфа.
— Да, «типичное не то», как говорится, — соглашаюсь с ней.
Остановились у околицы. Нет ни реки, ни широкой улицы. Несколько домиков разбросаны в беспорядке по холмистому месту.
— Поворачивай назад, — без дальнейшего промедления просим Лешу.
На обратном пути в селе Валевка задержались около группы рабочих, ремонтировавших дорогу. Поделились с ними своей бедой, спросили, не знают ли они еще одних Новосад на Немане. Чтобы не вызывать никаких сомнений нашими расспросами, коротко рассказали, кто мы, и подтвердили свои личности документами. Мужчины — здесь были и пожилые, с бородами, и молодые парни очень заинтересовались нашим рассказом. Видно было, что они от души хотели помочь нам. Старательно перебирали в памяти названия всех известных им в этой округе деревень, спорили между собой. Но что поделаешь, если нет здесь больше Новосад!
— Я видел девушек-летчиц во время войны, — говорит вдруг один из рабочих. — Здесь, в Белоруссии, летом сорок четвертого года.
Со вновь вспыхнувшей надеждой обращаемся к нему. Туркевич Александр Михайлович был партизаном. Без каких-либо наводящих вопросов он охотно выложил нам все, что запечатлелось ему о той короткой встрече с женским авиационным полком. Его особенно поразило, как маленькие двукрылые самолетики, легко коснувшись земли, почти сразу же останавливались и «подъезжали» прямо к домам, становились хвостом к забору.
— Вы хоть и мужскую форму носили, но она очень ловко сидела на вас. Только сапоги великоваты были, — припомнил Александр Михайлович даже такой штрих.
— Но где это было? В каком месте вы с нами встречались?
— Не помню… — разводит руками бывший партизан. — Двадцать лет ведь прошло.
Потом, спохватившись, говорит:
— Вы поезжайте в Кореличи, отыщите там в горпоссовете Железняковича Павла Арсеньевича. Он в войну был комиссаром партизанского отряда. Может быть, подскажет вам.
Пыльная «Волга» опять остановилась у здания Кореличского местного Совета. Постучались в единственную незапертую дверь.
— Пожалуйста, войдите!
Навстречу нам из-за стола поднялся высокий, крепко сложенный человек. На груди целый ряд орденских ленточек. Мужчину еще не хочется назвать пожилым, и в то же время чувствуется по каким-то неуловимым признакам, что 1917 год застал егр не в люльке.
— Вы Железнякович? — почему-то догадываемся мы.
— Он самый, — протягивая руку, отвечает Павел Арсеньевич.
Внимательно выслушав рассказ о поиске Новосад, Железнякович на минуту задумался. Потом не спеша, но убежденно произнес:
— Тут какое-то недоразумение. Либо вы ищете не в том районе, либо село называется иначе.
Мы окончательно пали духом. Да-а… Надоело, видно, удаче ездить с нами. Бросила на произвол судьбы…
Впрочем, можно ли в данном случае говорить о произволе этой не всегда милостивой особы? Ведь если бы мы не потеряли Новосад, то не нашли бы Железняковича. Знакомство же с ним вознаградило нас за потерю.
Павел Арсеньевич Железнякович — коренной житель здешних мест. Примечательно, что своей биографией он будто намеренно обобщил наиболее характерные и лучшие качества белорусского народа. С такими людьми нередко встречаешься на страницах книг, на экранах кино. «Типичный образ», — говорят о них. И все-таки, когда случайно вдруг сталкиваешься с ними в жизни, ощущаешь их рукопожатие, слушаешь их, то почему-то всегда немного удивляешься: «И в самом деле есть такие?»
До 1939 года Железнякович успел отсидеть 13 лет в тюрьмах панской Польши, как «особо опасный политический преступник», осужденный на пожизненное заключение. Революционную теорию начал изучать еще 15-летним подростком с романа Горького «Мать», а потом доучивался в тюрьмах на «Капитале» Маркса, Осенью 1939 года польское правительство, убегая от надвигающейся немецкой фашистской армии, забыло прихватить с собой ключи от Равицкой тюрьмы. Друзья открыли дверь камеры — последней тюремной камеры в жизни Павла Железняковича.
Потом был незабываемый, счастливый день в его жизни — встреча с советскими людьми на Буге, с солдатами Красной Армии. И как чудесный сон, в который трудно поверить, — возвращение в родное село Еремичи на Немане. После неожиданного отдыха в постели для больного (расплата за тюремный холод и голод) Железнякович как одержимый уходит в работу. Западная Беларусь начинала жить по-новому. Крестьяне создавали первые колхозы, распахивали панские земли, строили дома, школы. В начале лета 1941 года секретарю Мирского райисполкома Павлу Арсеньевичу Железняковичу хлопот поприбавилось ожидался хороший урожай, нужно было подготовиться к уборке. Но военная буря уничтожила урожай на корню, а Железняковича отбросила в глубь страны, в Орск, где строились новые корпуса для эвакуированного с запада завода. Хотя Павел Арсеньевич понимал, что он не лишний и в тылу, все же душой рвался туда, где мужчинам дают в руки автомат, а не лопату. Не раз слал просьбы в Москву. В мае 1942 года получил наконец телеграмму: «Явиться в распоряжение ЦК Компартии Белоруссии».
Сначала была учеба. Из спецшколы Железнякович вышел инструктором подрывного дела. А потом тайными партизанскими тропами пришел в свой родной Неманский край. Пропуском ему служил автомат, на котором была выбита цифра «1942». Был вначале рядовым минером, подрывал железные дороги. В партизанский отряд народу прибывало, Железнякович стал учить молодежь.
Движение народных мстителей ширилось н крепло. На юге Налибоцкой пущи, в которой находился штаб соединения, пользовался известностью отряд «дяди Володи». Какой же большой радостью было узнать в «дяде Володе» своего земляка, друга по подпольной юности, с которым вместе сидели в Равицкой тюрьме, — Владимира Зеноновича Царюка! Пути друзей сошлись на партизанских стежках и уж больше не расходились. Когда Советская Армия подошла к Неману, из лесов на соединение с ней вышло 33 тысячи партизан. Среди них был и комиссар партизанского отряда «1-й Комсомольский» Павел Арсеньевич Железнякович.
— Припоминается мне случай, — рассказывает Железнякович, — вели мы как-то большую колонну пленных. Вдруг над нами «кукурузник» появился. Кружится, кружится, изучающе будто. Потом слышим женский голос:
«Кто ведет? Партизаны?» — «Да, да, — отвечаем, — партизаны!» Успокоилась, полетела дальше.
В тот период мы много летали на разведку. Помогали устанавливать места скопления «блуждающих» немцев. Иногда они огрызались, стреляли из автоматов. К счастью, наш полк не понес тогда ни одной потери, а вот связной самолет дивизии прилетел однажды с убитым офицером во второй кабине.
— Еще в тылу врага нам приходилось иногда слышать по радио иди узнавать из других источников о женщинах-летчицах, которые громят немецких фашистов, — продолжает разговор Железнякович. — И знаете, как это поднимало дух партизан, как мобилизующе действовало на всех? Лучше иных речей и докладов.
Потом, заглянув в какую-то тетрадь, Павел Арсеньевич говорит:
— Вот, если желаете, я познакомлю вас с некоторыми официальными цифрами, публикуемыми в связи с 20-летием освобождения Белоруссии. В тылу врага было создано 1108 партизанских отрядов, объединенных в 199 бригад. В них насчитывалось 370 тысяч бойцов.
Железнякович называл цифры, одна разительнее другой. А мне думалось: «О, Беларусь! Великий партизанский край! Сколько мужественных и преданных людей дала ты Родине в лихую годину!
Горжусь, что к этим цифрам могу прибавить еще две, правда, более скромные: участвуя в операциях по освобождению белорусской земли, 46-й гвардейский авиаполк сделал 1753 боевых вылета, сбросил на фашистскую армию 350 тысяч килограммов бомб».
Какой бы ни была приятной встреча, прощанье неизбежно. Павел Арсеньевич заносит к себе в тетрадь наши адреса, а я записываю его: Кореличи Гродненской области, ул. Партизанская, 9. Про себя подумала еще раз: как все типично и, можно сказать, символично у этого человека — и фамилия, и даже название улицы, на которой он живет, бывший партизан Железнякович!
Едем в Новоельню. Что делать, приходится смириться с появлением первого белого пятна на нашей карте — Новосад.
Эх, взлететь бы сейчас на ПО-2 и осмотреть бы весь этот район! Да и вообще — покружиться, покувыркаться в воздухе. Уверена, что, несмотря на большой перерыв в летной работе, смогла бы поднять и посадить самолет. А как иногда тянет в небо! Уж, видать, такая это необыкновенная стихия — пятый океан.
Мечты обрываются на первом же ухабе. Наш водитель без разбора гонит автомобиль на недозволенной скорости. За счет интенсивного износа ходовой части машины наверстываем время, потерянное на безрезультатный поиск.
Новоельня — последняя точка, откуда полк наносил удары по противнику, еще находившемуся на нашей земле. Потом, из Головачей, мы бомбили фашистскую армию уже на польской территории. Ввиду сложности взлета с песчаной полосы, из Новоельни на боевые задания ходили только опытные экипажи, ветераны полка.
— У нас там с Полиной Гельман был самый страшный взлет, который мне довелось пережить за время войны, — говорю я. — И в то же время тот полет я считаю одним из самых результативных моих вылетов в Белоруссии.
— Да, подниматься с бомбами с той площадки было нелегко, — вздыхает Руфа. — Мало того, что песок, направление взлета было единственным — на лес.
— В этом-то и таилась главная опасность. Так вот, взлетаем мы, значит. Оторвались от песочка с трудом, самолет нехотя пошел с набором высоты. Вяло поднимается. Начинаю гадать — достанут нас верхушки деревьев или нет? Слышу — достают: «чирк, чирк!» по плоскостям. Мороз по коже побежал. И вдруг по бомбе слева: «чирк!» Смотрю… — и ты представляешь, Руфа, что я вижу? Контровые «усики» слетели с ветрянки взрывателя! Значит, ветрянка сейчас может сорваться и следующий удар веткой по оголенному взрывателю…
Руфа смотрит на меня круглыми глазами. Из слушающих она, пожалуй, лучше всех понимает, что я тогда пережила. Леше и то не приходилось, наверное, испытывать подобное на своем «горбатом» штурмовике. Погибнуть от собственной бомбы!
— Ну, и как же? — шепотом спрашивает Руфина.
— Видишь, жива. Весь путь до цели я не спускала глаз с той бомбы. Полине, разумеется, ничего не говорила. Зачем волновать зря. А самой-то ей из задней кабины не видно.
Я немного перевела дух и досказала;
— В тот полет мы бомбили отступающие войска противника на дороге около Попран. Удачно попали в головную машину колонны. Создалась пробка. Наши девчата быстро потом ее раскрошили.
В Новоельню мы решили завернуть в основном только для того, чтобы посмотреть (и показать) площадку, каждый взлет с которой был связан с немалым риском. И наверно, именно поэтому она до сих пор видится во всех деталях. Уверена, что с какой бы стороны ни взглянула на нее сейчас опознаю непременно. Ведь прежде чем взлетать, мы измерили ее шагами вдоль и поперек, обсмотрели каждый бугорок, каждую ямку, изучили во всех деталях конфигурацию верхней кромки леса, в направлении которого был взлет.
Случилось так, что, совсем того не подозревая, мы подъезжали к Новоельне именно по той дороге, недалеко от которой находилась наша площадка. И еще случилось так, что недалеко от нее машина наша стала лопнул скат. Это расплата за бешеную гонку. Едва мы с Руфой вышли из кабины и бросили взгляд направо, к лесу, как поняли, что авария произошла как нельзя кстати. Нет худа без добра!
— Вон наш аэродром! — дивясь такой удаче, заявили мы с ней разом.
Побежали, приглашая жестами следовать за нами. Леша закрыл машину, потом пришел на «точку». Осмотрел, прищурив глаз, и авторитетно заявил:
— Отсюда взлететь нельзя.
— А вот взлетали! И не пустые, а с бомбами…
— Прибегая к небольшой хитрости, — поясняет Руфа.
— Знаю. Цирковой аттракцион, — изрекает Леша.
— Война всему научит.
Леша пошел менять скат, а мы с ребятами направились к лесу. Рассказывали о некоторых моментах из боевой работы, из нашей жизни здесь. Припомнилось, как в одну из ночей немцы сильно бомбили станцию Новоельня и мы очень боялись, как бы они не ударили по нашему аэродрому. Полеты на время прекратили, самолеты рассредоточили.
— Новоельня чуть не оказалась последней станцией на моем жизненном пути, — вспомнился мне один случай. — Как-то утром в сером рассвете зарулила я на стоянку, — вон там она была. Вылезаю из кабины, и вдруг мимо моего уха: «ть-ю, ть-ю!» — свист пуль. Так близко, что, кажется, ветерок на щеке почувствовала. Озираюсь кругом — ни души. И ни звука больше. Тишина. Жутковато мне стало. Кто стрелял, откуда? — до сих пор осталось для меня загадкой.
— Это все-таки лучше, чем остался бы памятник над твоим прахом, уверяет Руфа.
— Отсюда мы уходили бомбить противника на дорогах под Гродно.
— Сегодня во что бы то ни стало нужно добраться туда.
И Руфа сразу посерьезнела, задумалась. «Знаю, дорогая, какая сила влечет тебя в тот город, — подумала я. — Гродно — главная цель твоей поездки по Белоруссии. Нелегкой будет встреча…»
— Пошли к машине. Леша, наверно, уже заменил колесо, — бросаю умышленно прозаическую фразу, чтобы отвлечь подругу от ее воспоминаний. Отложим их до завтра.
— Где вы там бродили? — встретил нас Леша нетерпеливым вопросом. — У меня тут такой интересный разговор был!
В его инструментах не нашлось какого-то нужного гаечного ключа, и он решил остановить грузовик. Шофер, молодой мужчина, заинтересовался, почему московская «Волга» с одним человеком оказалась под Новоельней. Леша охотно объяснил.
— Я помню тех летчиц, — неожиданно сказал мужчина. — Благодаря им я в свои десять лет выучил наизусть Гимн Советского Союза. Они часто вечером собирались реем полком на площади перед своим общежитием, выстраивались ровными рядами и исполняли гимн. Хорошо пели! Мы, мальчишки, забирались на деревья, смотрели и слушали, будто представление в театре. Вот тогда с их слов я и запомнил гимн.
Мужчина очень спешил и не мог нас ждать.
— Ты хоть узнал его фамилию? — спрашиваю мужа, доставая карандаш.
— Забыл, — растерянно говорит он.
— Эх, какой же ты недо…
— …тепа, хочешь сказать?
— Нет, я имела в виду «недогадливый».
— Ладно, садитесь, поехали. Колесо теперь новое. Осталось километров двести, не больше.
Смотрим на карту. От Новоельни красная линия уходит прямо на запад, на территорию Польши. Синяя линия отклоняется в сторону и оканчивается в Гродно. Там нет ни площадки, с которой бы мы взлетали во время войны, ни следов от взрыва наших бомб. Но там есть памятник, на котором должно быть написано имя нашей однополчанки, Героя Советского Союза гвардии капитана Сапфировой. Мы едем туда, чтобы поклониться ее праху.
Солнце уже коснулось остроконечных верхушек елей. То ли усталость, то ли чудесные краски вечерней зари внесли в наш экипаж необычную умиротворенную тишину. Дорога хорошая, ровная, местами аккуратно обсажена ивами. Деревень, какие мы привыкли видеть в России, нет. По обе стороны шоссе беспрерывно мелькают хутора в два-три домика. Кое-где в окнах уже зажигаются огни. День угасает тихо, незаметно. Небо на западе отсвечивает спокойными бледно-розовыми и светло-серыми тонами.
Давно перестала я смотреть на небо с одной-единственной целью — летная или нелетная погода? А ведь после войны года два-три только так и смотрела. Невольно фиксировала в уме высоту и плотность облаков, направление и скорость их движения и прочие метеорологические факторы. Довоенные взгляды на небо приходили постепенно, с трудом вытеснял фронтовые привычки. Какое же наслаждение для человека — уметь видеть небо во всей его разнообразной красоте!
В Гродно приехали в двенадцатом часу ночи. У встречного майора спросили дорогу к гостинице. Он объяснил нам все повороты и улицы, но потом, заглянув в машину, сказал:
— Если к вам можно подсесть, я проеду и покажу вам. Мне в ту же сторону. А то заблудитесь ночью.
С радостью приняли его предложение. В пути заговорили о памятниках погибшим, спросили, не знакомо ли ему имя Ольги Санфировой.
— Это имя известно у нас многим жителям, — сказал майор. — В городском парке над братской могилой стоит памятник. Там человек сорок захоронено. Среди них, я хорошо помню, есть и ее фамилия. В городе есть и улица имени Ольги Санфировой.
Гродно встретило нас доброй вестью.
19 августа
Переночевали в гостинице «Неман». Утром Руфа протянула мне два письма со словами:
— Прочти. Может, для твоего дневника они будут кстати.
Сегодня она какая-то другая. Говорит мало, немного рассеяна. Ушла в себя.
Я пробежала глазами письма. Думаю, что их нужно переписать в дневник.
«Уважаемая Руфина Сергеевна!
Прошу извинения за беспокойство. Дело в том, что меня интересует одно обстоятельство, связанное с военным временем. Мне недавно попалась книга «Героини войны», где в очерке «Подруги» описан эпизод из Вашей фронтовой жизни, когда Вы вместе с летчицей Санфировой были сбиты зенитным огнем немцев.
Я тоже участник Отечественной войны, но не летчик, а обыкновенный пехотный разведчик. У меня в памяти остался эпизод, когда ночью над передним краем летел горящий самолет и из него выпрыгнули на парашютах два человека. Они приземлились между немецкой и нашей обороной. Вскоре раздался взрыв и крик женщины: «Помогите!» Мы бросились на зов. Но весь тот участок был заминирован, и прежде чем успели подползти к летчице, раздался второй сильный взрыв. Мне на лицо падает воротник от комбинезона и часть теста летчицы. Самолет горит, сильно освещая местность. Немцы беспрерывно стреляют, но нам все-таки удалось вынести летчицу. Тут же бросились за второй. Другая оказалась счастливее, она приземлилась на противотанковых минах.
Кто были те летчицы, мы не знали. Да и живую не удалось как следует рассмотреть, тогда было не до этого. Так тяжело видеть гибель женщины!
И вот теперь, прочитав очерк, мне кажется, что это именно тот случай. Если мне не изменяет память, это было в Польше, недалеко от населенных пунктов Буда, Обремб и Пашковица. Был небольшой мороз, снега не было.
Я писал в издательство, которое выпустило книгу, мне порекомендовали обратиться к Вам, сообщили Ваш адрес. Ответьте, пожалуйста, Руфина Сергеевна, с Вами ли произошло все описанное мной.
Мой адрес: Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, 115.
Силкин Владимир Павлович».
«Здравствуйте, Руфина Сергеевна!
Получил Ваше письмо. Я знал, я чувствовал, что Вы ответите! Верю, тяжело было Вам вспоминать о гибели подруги, как и мне порой не легко вспоминать о товарищах, которые не вернулись с войны.
Руфина Сергеевна, о Вашем героизме, о героизме советских летчиц, я теперь всем своим товарищам по работе рассказываю. Они молодые и не видели, не пережили того, что испытали мы в войну. Им это нужно знать.
Помню я, Руфина Сергеевна, того солдата, который дал Вам свои сапоги Вы ведь были тогда босые, унты-то еще в воздухе свалились с ног. Его фамилия Мороз. Но он погиб спустя полтора месяца после того случая с Вами.
У меня на войне тоже был случай, когда нас с товарищем спасли от верной смерти русские девушки, угнанные в Германию. Мы шли к одному дому на окраине города, из которого только что выбили немцев. В нижнем этаже того дома, как мы потом уже выяснили, остался в засаде немец с целью убить первых подходивших советских солдат, а самому потом убежать (они часто так делали). В том же доме у хозяина работали русские девушки, шесть человек. Двое из них заметили нас из окон второго этажа. Видели они и того солдата немца, который сидел на веранде первого этажа. Девушки, понимая, какая нам грозит опасность, начали махать руками, но мы не замечали. Тогда они сбросили на голову немца большой комнатный цветок в тяжелом ящике с землей. Мы услышали стук, крик и вбежали в дом. Немецкий солдат лежал на полу без сознания. Девушки, со слезами на глазах, подбежали к нам, начали обнимать и торопливо рассказывать о случившемся. Через полчаса мы с товарищем пошли дальше.
Где они теперь, наши спасительницы? Одну звали Тоня, другую — Катя. Больше о них ничего не знаю. В то время на встречу после войны не надеялся. И вот, спустя двадцать лет, события тех дней вспоминаются с такой отчетливостью, что уверен — о них никогда нам не забыть…
Руфина Сергеевна! Если Вам доведется бывать в наших краях, заезжайте в Елец. Летом здесь очень хорошо — две реки, лес, чистый воздух. Рад буду принять Вас в своем доме.
Привет Вам от моей жены и сына.
Силкин».
Ни я, ни Руфина не были на похоронах Ольги. Я из-за болезни находилась в то время в доме отдыха нашей воздушной армии, а Руфу положили в санчасть под наблюдение врача — нервное потрясение было слишком глубоким.
И может быть, потому, что я не видела Ольгу мертвой, она в моей памяти навсегда осталась живой. Как сейчас вижу ее: на словно точеной, среднего роста фигуре хорошо сидит военная форма. Тонкая талия плотно перетянута широким армейским ремнем. Белоснежный подворотничок, как ожерелье, охватывает девичью шею. Мягкие каштановые волосы, нежное лицо, всегда будто тронутое легким загаром… Красивая она была, наша Ольга, командир эскадрильи гвардии капитан Санфирова.
Вчера был День авиации, а сегодня у нас — «день Ольги», как сказала Руфа. Вспоминаем о ней вслух и про себя.
— Санфирову я считал самой лучшей курсанткой в своей группе, — говорит Леша. — Летала она легко, непринужденно, как птица. В ней чувствовался природный дар к авиации.
В 1938 году, когда Оля начинала учиться летному мастерству в Батайской школе, Леонид уже несколько лет работал там инструктором.
— Многим в полку Леля казалась слишком уж требовательной, может, даже придирчивой, — говорит Руфа. — Но это потому, что она любила порядок во всем — в полетах, во внешнем виде и даже в мыслях. В обращении со своими подчиненными была всегда ровной, вежливой и внимательной. Я не помню, чтобы она накричала на кого-либо, позволила грубость.
Руфа помолчала, как бы перебирая в памяти все случаи, подтверждающие правильность ее слов. Потом, натолкнувшись, очевидно, на какой-то необычный эпизод, улыбнулась и продолжала:
— Правда, один раз она меня здорово отругала.
— Неужели? Непохоже на Ольгу.
— Случилось однажды… Мы летали на Новороссийск, — начала рассказывать Руфа. — И вот в одном полете у нас зависла на правом крыле кассета с зажигательными ампулами. Как мы ни крутились, как я ни дергала за рычажки кассета не срывалась. Тогда я решила вылезть на крыло и руками попытаться вытолкнуть ее. «Не смей!» — сказала Ольга. Но я не послушалась, вылезла. Ведь при посадке кассета могла сорваться и тогда самолет загорелся бы. Леле ничего не оставалось делать, как держать самолет в строго горизонтальном полете. Я подползла к передней кромке крыла, одной рукой ухватилась за расчалку, а другой стала толкать кассету. Она никак не поддавалась, сидела в замке намертво. Устала я, руки онемели. Поняла, что не сбросить мне ее. Нужно перебираться в кабину. А сил нет. Леля видела, что я выдохлась, вот-вот соскользну с плоскости, и начала уговаривать ласково-ласково: «Руфочка, милая, подтянись немного». Я кое-как добралась до ее кабины и повисла — не могу дальше. «Ну, ну, дорогая, еще чуть-чуть», — опять уговаривает Леля. В общем, докарабкалась я до своей кабины, перевалилась на сиденье. И вот тут-то Леля обрушилась на меня. «Бестолковая! Сумасшедшая! Ненормальная! — посыпались на меня ругательства. — Ты же могла упасть! Как бы мне тогда объяснять, почему я без штурмана вернулась?» Она не остыла даже после благополучной посадки. Пошла и доложила обо всем командиру полка. Бершанская пригрозила мне: «Еще раз такое повторится — отстраню от полетов». Я больше никогда не вылезала над целью.
— А что же с кассетой-то случилось? Почему она не сбросилась?
— Ушко погнулось. Вооруженцы молотком выколачивали кассету из замка.
В десять утра мы уже забрали документы у администратора гостиницы и направились в городской парк. По дороге купили большие красивые букеты. В Гродно очень много цветов. Кабина машины наполнилась чудесным свежим запахом. Руфа в задумчивости глядела на пышные розы, на которых блестели капельки росы. «Леля очень любила розы», — сказала она мне сегодня.
В центре большого тенистого парка стоит высокий светлый обелиск. На нем написаны сорок три фамилии. «Капитан Санфирова О. А.» — нашли мы в одной колонке. Бережно раскладываем цветы под фамилией подруги.
Руфа, припав на одно колено, держит в руках розы и почему-то медлит их класть. Она делает вид, будто вдыхает аромат. А на лепестки к холодным росинкам падают горячие слезы…
Почему, когда человек плачет, его стараются уговорить:
«Не надо»? Человеку надо, необходимо иногда излить в слезах свои чувства. И я буду отговаривать. Плачь, Руфа, плачь открыто — ведь ты впервые стоишь у могилы своей летчицы. Двадцать лет ты носила в себе эти слезы. И не надо теперь их стыдиться. Кто же осудит человека за то, что он плачет у могилы погибшего друга?
…Уже при выходе из парка Руфина предложила:
— Нужно заехать в горсовет, попросить, чтобы на памятнике было написано не просто «капитан Санфирова», а «Герой Советского Союза гвардии капитан Санфирова».
В горисполкоме к нашей просьбе отнеслись внимательно. Председатель Иван Иванович Ушацкий пообещал, что в самое ближайшее время надпись будет дополнена. Затем нам любезно предложили посетить Гродненский государственный историко-археологический музей. Заверили, что там есть много интересного. Имеется кое-что и о нашем полку.
— Следует посмотреть, — решили мы. Работник горисполкома Чупров Степан Иванович охотно взял на себя труд сопровождающего.
— Я ведь тоже бывший фронтовик, — сказал он по дороге. — Воевал под Сталинградом. Прошлый год был там на торжествах по случаю 20-летия разгрома фашистских войск на Волге.
— А мы в этом году побывали там. Везем в себе глубокие впечатления. Особенно от Мамаева кургана.
— Да… Курган — святое место для волгоградцев. В музее нас встретили, как почетных гостей. Экскурсовод Ядвига Францевна — приятная женщина, влюбленная в свою профессию, — провела нас «галопом по музею», как она сказала, потому что мы не располагали большим временем.
В одном из залов, где рассказывается о крае в период 1920–1941 гг. с удовольствием обратили внимание на портрет нашего нового знакомого — П. А. Железняковича, помещенного в числе активных работников Компартии и комсомола на Гродненщине.
Два зала посвящены теме «Край в период Великой Отечественной войны». Здесь мы задержались у портрета генерал-лейтенанта инженерных войск профессора Д. М. Карбышева. Он был контужен в первые дни войны в оборонительном бою именно здесь, в районе Гродно. Попал в плен. Три с половиной года провел в лагерях, но не смогли фашисты сломить его твердую волю, не склонили его к измене Родине. Разъяренные гордой непреклонностью, враги зверски замучили Карбышева в лагере Маутхаузен в феврале 1945 года.
— Как жаль… — шепчет Руфа. — Три с лишним года человек стоял против пыток, соблазнов, заманчивых обещаний, угроз, изощренной лжи. И только три месяца не дожил до Победы!..
А вот и уголок о нашем полку. Портреты командира полка Бершанской, комиссара Рачкевич, Ольги Сапфировой. Несколько фактов и цифр.
— Мы хотели бы расширить экспозицию о женском полку, но у нас нет пока материала. Очень просим помочь нам в этом деле. Посетители интересуются женщинами-летчицами.
— К сожалению, — говорим, — наши возможности весьма ограничены. К нам многие обращаются с подобной просьбой, а материала-то у нас нет. Только одни воспоминания остались.
— Хотя бы фотографии свои…
— Это обещаем.
Мы от души поблагодарили работников музея за оказанное нам внимание, за интересный рассказ экскурсовода. Честно говоря, до этой поездки я считала подобные музеи скучным местом, а на их экспонаты — порой ветхие, полуистлевшие — смотрела зачастую равнодушным взглядом. Это, наверно, потому что не всегда удавалось слушать пояснения. Но экспонаты, оказывается, молодеют и становятся интересными, когда к ним прикасается живое слово опытного экскурсовода.
— Какое впечатление вынесли вы из нашего музея? — спросила Ядвига Францевна.
— Самое основное это то, что единство Западной Белоруссии со всей Белоруссией, со всей советской землей имеет глубокие исторические корни, отвечаем мы с Руфой.
— Главное, всегда вместе боролись с врагами, начиная от татаро-монгольского ига и кончая последней войной с немецким фашизмом, подчеркивает Леша.
— Будем всегда вместе, — говорят сотрудники музея и крепко жмут руки на прощание.
Пока мы прощались, наш «телохранитель», Степан Иванович, успел переговорить с кем-то по телефону.
— Убедительно просят вас заехать на радио, — сообщил он, подойдя к машине.
Мы переглянулись и неопределенно пожали плечами:
— Время-то у нас…
— Это буквально на пять минут. Хотят сделать небольшую звукозапись.
Видя наше замешательство, добавил:
— Об Ольге Санфировой.
— Тогда везите, — соглашается Руфа.
Короткая, конкретная беседа с сотрудницей радио опять вернула нас к годам войны. Руфа рассказала о последнем боевом вылете Ольги, который закончился так трагически. Голос рассказчицы был спокойный, однако руки выдавали. Переплетенные пальцы нервно подрагивали. Но магнитофон не улавливал эти душевные импульсы. Да и есть ли такой аппарат, который мог бы записать в этот момент весь комплекс внутренних переживаний?
Я знаю, мысленно Руфа летит сейчас на горящем самолете. Команда летчицы: «Прыгай!» Свободное падение. Рывок за кольцо. Но парашют не раскрывается. В какую-то долю секунды Руфина успевает представить, как распластается сейчас на земле ее мертвое тело. Еще рывок — отчаянный, сильный. Над головой разворачивается огромный белый зонт. Руфа медленно опускается в темную неизвестность… А потом — все как в бреду. Лелю, прикрытую брезентом, утром увозят в полк. Едет и Руфа. Там Руфу заботливо укладывают в постель. Ночью она подумала: «А где же Леля?» Встала, пошла искать. В пустой комнате стоял гроб. Руфина подошла и среди цветов увидела лицо спящей Ольги… Очнулась уже в санчасти.
А магнитофон бесстрастно фиксирует ровный голос Руфы:
— Леля была отличной летчицей, хорошим командиром. Я любила ее за честность, смелость, сильную волю…
Мы приехали в ваш город, чтобы почтить память погибшей подруги.
— Вы знаете, что в Гродно есть улица имени Ольги Санфировой? спрашивает собеседница.
— Да. Именно туда мы и отправимся сейчас…Тихая окраинная улица. Медленно проехали из конца в конец. У каждого дома на табличке с порядковым номером — имя нашей Ольги.
— Значит, у всех жителей этой улицы она записана в паспортах, оглядывая одноэтажные домики, говорит Руфа.
— А все ли они знают, кто такая Ольга Санфирова? — размышляю я.
Остановились у дома № 3. Хозяйка сама вышла к нам навстречу. В беседе с ней выяснилось, что она не только знает, кто была Ольга, но и присутствовала на похоронах.
— Много народу провожало ее…
Подошло еще несколько человек. Уловив, о чем идет разговор, подключились к беседе. Мы рассказали об Ольге, показали ее фотографию в книге.
— Теперь будем знать, какой была наша Ольга Санфирова, — сказал кто-то.
«Наша»… Значит, не только на табличках, не только в паспортах, но и в сердцах живет здесь ее имя!
Мы уезжали из города с тихой радостью за дальнейшую судьбу дорогого нам имени. Ольга Санфирова навечно прописана в Гродно.
…Степан Иванович вывел нас из города на дорогу, идущую к шоссе Москва — Брест. Мы сказали ему сердечное спасибо за подаренное нам время и внимание.
— Счастливого пути! — пожелал он. — И благополучного возвращения в Москву!
В 16.00 проезжаем Индуру. Задержались у перекрестка дорог. Куда поворачивать — вправо или влево? Спрашиваем у мужчин, которые тоже здесь остановились, поправляют огромный воз с сеном.
— Скажите, пожалуйста, на Волковыск по какой…
— Влево, — не дав нам договорить, отвечают дядьки.
— А вправо куда?
— В Польшу!
Они подмигивают нам и смеются. Мы тоже дружно рассмеялись — над своей забывчивостью. Граница-то совсем рядом!
— Ну, Польша не Техас! — говорим, но поворачиваем все-таки влево.
Некоторые места по дороге удивительно похожи на подмосковные. Заскучали немного о Москве. Уже месяц в пути. В нашем распоряжении еще два дня. Успеем побывать в Бресте. Ребята ждут нашего решения. Но мы между собой уже решили — будем в крепости!
Дорога была почти пустынной, но вот навстречу стало попадаться много народу — одна, вторая, третья компания прошла. Что-то несут в мешках.
— Что за праздник? — остановившись, в шутку спрашивает Леша.
— У нас теперь каждый день праздник! — отвечает бойкая женщина. Клюкву собираем.
А у самой щеки — тоже как клюква. Так и пышут здоровьем.
Вскоре после Пружан мы оказались свидетелями (хвала аллаху — не виновниками!) дорожного происшествия. Столкнулись мотоцикл и инвалидная машина. Серьезно пострадал пассажир с мотоцикла. Пришлось его посадить к себе и ехать обратно в Пружаны, в больницу. Парень стонал, жаловался на боль в левом боку, ему было трудно дышать. Мы очень опасались, как бы он не потерял сознание еще до Пружан. В больнице первый осмотр врача успокоил нас — ни переломов, ни смертельных травм нет. Пострадавший к атому времени почувствовал себя лучше. Поблагодарил нас «за доставку» (даже шутить пытался!)
— Не катайся больше на мотоциклах, — порекомендовали мы ему. — Желаем быстрейшего выздоровления!
Ровно в 9 вечера выехали на Брестское шоссе. «До Москвы 1000 км, до Бреста 54 км», — прочли на указателе.
— Куда? — спрашивает Леша.
— До Бреста-то ближе, чем до Москвы, — говорят ребята. — Переночуем уж там… Хитрецы!
— Так и быть, — соглашаемся, — едем в Брест!..
20 августа
Сегодня пасмурно, временами моросит дождь. Но сейчас, пожалуй, были бы и некстати веселые, смеющиеся краски. Мы едем в Брестскую крепость.
В восстановленной части инженерной казармы Цитадели находится сейчас музей. Он начал свое существование с 8 ноября 1956 года.
Залы музея открываются в 11 часов. Но еще задолго до этого времени в вестибюле уже собралось много народу. Приезжие и местные жители.
Вначале посетителей приглашают в кинозал для просмотра документального фильма. Лента небольшая, минут на тридцать, но в ней много волнующих кадров. Особенно хватает за душу эпизод встречи бывших защитников крепости. Не успела я вытереть глаза, как включился свет.
Затем предлагают разделиться на группы, подходят экскурсоводы, и начинается осмотр музея. Не хочу пересказывать то, о чем написал уже С. С. Смирнов в своих книгах. Отмечу только, что я лишний раз убедилась в справедливости изречения: «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Много здесь такого, что удивляет, потрясает, восхищает. А взятое все вместе слагается в суровую, но прекрасную песню мужества, верности, любви, долга.
Я уверена, что нашим сыновьям это посещение запомнится на всю жизнь. Да и нам, конечно, тоже.
Из множества экспонатов мне особенно врезались в память два. Часть кирпичного свода подвала. Враги применяли огнеметы, чтобы вынудить людей к сдаче. Кирпич оплавился, а люди не вышли. Их воля оказалась крепче камня… Веночек из искусно сделанных нежно-розовых цветов, похожих на цвет яблони. Его прислала мать одного из погибших здесь воинов. Она делала венок долго. Любовно вырезала каждый лепесток. Такое искусство под силу только тем рукам, из которых война вырвала единственного сына…
Разумеется, ни одна мать не пожелает своему сыну трагической судьбы защитников Брестской крепости. Но если случится так, что судьба сама поставит наших сыновей в подобные условия, то пусть они будут так же верны присяге, пусть сражаются так же храбро, как защитники этой легендарной крепости.
В последнем зале — книга отзывов. Это тоже волнующий документ. Здесь пишут не только по-русски или, скажем, по-грузински, по-белорусски. Пишут на многих языках мира. Узнаём французский, итальянский, английский, немецкий, испанский и другие языки. Смысл многих записей сводится к одному: «Богата героями земля советская.
Нет конца подвигам, совершенным на благо социалистического Отечества».
… И вот мы стоим на берегу пограничной реки.
— Боевой путь нашего полка уходит дальше — в Польшу, Германию… глядя вдаль, говорит Руфа.
— Съездим и туда. Потом, — строю планы.
— Значит, продолжение следует? — спрашивает Леша.
— Если позволят обстоятельства и время, — непременно,
А теперь домой, в Москву!
21 августа
Вчера поздно вечером доехали до Озерец. Сейчас решаем задачу: как разместить в «Волге» семь человек и пять чемоданов? На мой взгляд — это невозможно. Леша же уверяет, что «пара пустяков».
Интересный, красивый сон приснился мне сегодня. Кончилась война, и мы всем полком летим на парад Победы в Москву. Впереди идет самолет командира полка Бершанской. На нем укреплено наше полковое гвардейское знамя. Красное полотнище развевается по ветру… И вот под нами Красная площадь. Колонны демонстрантов. Мы заходим на посадку и приземляемся прямо на брусчатку. Выпрыгиваем из самолетов и под звуки марша шагаем мимо Мавзолея. А на главной трибуне стоят — живые! — все наши погибшие девушки и радостно машут нам руками. Вдруг над площадью появляется самолет ПО-2, и с него сыплются цветы, как листовки. Из них вырастает целая гора. Да это же Эльбрус! Мы все уже в гражданских платьях. Подбадривая друг друга, начинаем подниматься вверх. Чем выше — тем труднее. Карабкаемся по скалам, поддерживаем уставших. А на самой вершине, на снеговой шапке, стоит наше полковое знамя.
— Завидую, — произнесла Руфа, когда я рассказала ей свой сон. — Какие чудесные сны тебе снятся! А я сегодня спала как убитая.
Помолчав, добавила:
— В твоем сне есть, по-моему, определенная идея. В символической форме.
— Вот и мне так кажется.
Подошел Леша и сообщил, что все вещи уложены, а кабина готова принять семь пассажиров. Похоже, что наша машина резиновая.
Распрощались с родителями и, взбудоражив утреннюю деревенскую тишину сигнальным гудком, двинулись.
— Примечательно, что в сорок пятом, когда полк летел с фронта, то самолеты шли от границы таким же маршрутом: Брест — Минск — Москва, вспоминает Руфина.
— И летели мы таким же четким, дружным строем, как и на фронт, добавляю.
— Вашей дружбе можно и сейчас позавидовать, — говорит Леша.
— Безусловно.
— Нам здорово повезло в том отношении, что в полку не было ни одного мужчины, — высказывает Руфа правильную, на мой взгляд, мысль.
— Я тоже так считаю, — к нашему удивлению, соглашается Леша.
Мы были избавлены от многих осложнений, неизбежно возникающих в случае смешанного состава боевой части, да еще на фронте. И хотя жизнь полка шла по строго определенному уставами порядку, все равно она заметно отличалась от таковой в мужских частях. Несмотря ни на что, в полку царил «женский дух». Он проявлялся во всем: в опрятности формы одежды, чистоте и уюте общежития, культуре проведения досуга, в отсутствии грубых, а то и нецензурных слов и в десятках других мелочей. В боевой работе он выказывал себя в особой точности выполнения задания. Вышестоящие начальники довольно быстро почувствовали это, и когда речь шла об уничтожении малогабаритных целей, то предпочитали поручать их нашему полку.
— А еще нам повезло в командирах, — продолжаю я, — начиная от командира полка Бершанской и кончая командующим воздушной армией Вершининым.
— Вам и в мужьях повезло, — заявляет Леша.
— Не всем…
— Во всяком случае, многим, в том числе и здесь сидящим.
— Довольно смелое утверждение.
— Но самая большая удача в том, что мы остались живы после войны, говорит Руфа. — А что может быть прекраснее, чем жизнь со спокойной совестью.
— И с беспокойной мечтой.
«Машина времени» торопится к финишу.
На девяностом километре от Москвы, справа от дороги, вырастает темный силуэт памятника. Девушка со связанными руками, босая, идет на виселицу. Зоя… И почему-то тут же вспомнилось — в Берлине есть светлый монумент, поставленный после войны: русский солдат держит на руках девочку, доверчиво к нему прижавшуюся. Две крайние точки войны.
… Уже мелькают пригородные дачные места.
— Удивительно, — говорит Руфа, — у меня такое же состояние, как и тогда, в сорок пятом, когда мы подлетали к Москве. И сердце так же бьется, будто возвращаюсь после четырехлетней разлуки.
— В тот день, как и сегодня, было тепло, светило солнце, — припоминаю.
— Едва я завидела тогда на горизонте первые признаки Москвы, запела во весь голос. И сейчас хочется.
— Запевай, мы с удовольствием подтянем.
— «Я немало по свету хаживал»… — без дальнейших уговоров начала Руфа.
С настроением пропели всю песню.
— Давайте подведем итоги поездки, — предлагает Леша.
— Да что ж тут подводить-то? — говорю. — Проехали:
84454-74402=10052 километра. В пути пробыли 33 дня. Везем дневник и массу обновленных воспоминаний.
И вот через несколько минут подъезжаем к городской черте.
— Ура!!! — несется из нашей машины.
Первый столичный светофор удивленно открывает зеленый глаз.
Здравствуй, Москва! Мы опять, как и в сорок пятом, вернулись к тебе с победой. На этот раз победили время.


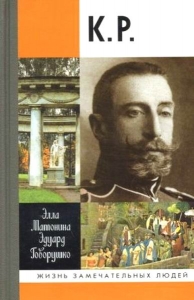

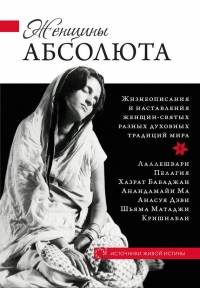
Комментарии к книге «Ночные ведьмы», Раиса Ермолаевна Аронова
Всего 0 комментариев