Любовь Салимова Барселона
У некоторых вещей, как и у людей, бывают имена. Может быть, у тех вещей, которые мы любим или к которым привязываемся? Но можно ли любить, например, одеяло из верблюжьей шерсти? Или привязаться к нему? Вряд ли. А такое одеяло мы много лет нежно звали Верблюдом… «Накрой меня Верблюдом». Еще была Кружка Киселя. Не помню, чтобы в ней когда-нибудь был кисель, она работала карандашницей. Но имя закрепилось. Никакой любви или привязанности к этой темной прозрачной кружке я не испытывала. А имя было. И пережило саму Кружку, которая, кажется, потерялась или была забыта при переездах.
Поэтому я не могу сказать, откуда у некоторых вещей, как и у людей, берутся имена.
Дом звали Барселоной. Кто, когда и почему дал ему такое имя, я уже не помню. Может быть, потому, что одна часть дома была разрушена? Выпирал кусок стены, а за ним была часть комнаты на первом этаже — дощатый, когда-то красный пол, стены с остатками штукатурки. В остатках комнаты девчонки любили играть в «дом». Можно было притащить туда разную утварь. Подметать дощатый пол.
Дом был трехэтажный, мрачно-серый. Одна его сторона смотрела на скверик, где были только деревья и три штуковины с перекладиной для выбивания ковров. Но чаще на них висели не ковры, а вертелись, кувыркались, свисали вниз головой дети. Любимый аттракцион моего детства. Другая сторона выходила во двор с глухой кирпичной стеной завода. Летом стены почти не было видно под диким виноградом. В этом дворе была песочница с традиционным грибом. В самом углу двора — деревянные сарайчики, среди которых — страшный вонючий сортир. Да, был еще возле сарайчиков маленький зеленый деревянный домик. Там жила старушка. В теплые дни она выходила и сидела на лавочке, всегда очень тепло одетая.
В Барселоне на каждом этаже была одна огромная квартира. Не знаю, кто жил в доме раньше, но после войны квартиры превратились в коммуналки.
Мой дед Иосиф приехал сюда как раз после войны. Вернее, сначала приехала баба Ядя с детьми — моим отцом и теткой. Дед написал ей с фронта, чтобы она перебиралась в город — он уже знал, что в их деревне недалеко от Ошмян (а до войны это была территория Польши) будут колхозы, и собственного хозяйства у них уже не будет. Вот тогда баба подхватилась и приехала. В подвале дома жила землячка, дворничиха Михалина, она и приютила семью на какое-то время. А когда вернулся дед, ему предложили выбирать любые комнаты в доме, места было еще много. Предлагали и в других домах — еврейских. Но дед отказался. Не смог. И поселился с семьей на втором этаже.
В то время, которое я помню, в квартире жили три семьи. Сразу за входной дверью была общая кухня — три плиты, три стола, три хозяйки. Прямо из кухни можно было попасть в небольшую комнатку (может быть, бывшую комнату для кухарки или прислуги). Там жила польская семья — дядя Рома, тетя Тэня и их сын Марек. Дядя Рома пил, тетя Тэня кричала и иногда оставляла его ночевать на кухне. Он спал сидя на стуле. Марек был старше меня. Я помню его как доброго, покладистого мальчика. Он никогда не обижал нас, девчонок, более того, нас с сестрой Инкой почему-то приняли в дворовую мальчишескую компанию, в которую входил и он.
Дальше, как выходишь из кухни — туалет, ванная, а за ней — дверь в две комнаты других соседей. Дядя Антанас — седой, солидный молчаливый мужчина, и его жена Янина, учительница на пенсии, спокойная и хозяйственная. У них было два взрослых сына, старший женился и уехал, а младший, Миндаугас, учился на медицинском факультете и играл на аккордеоне. Через стенку было слышно, как он играет и поет по-литовски: «Приходи, приходи ко мне, сеньорита, я тебя расцелую, сладким кофе тебя угощу…» Сеньорита появилась к концу нашей жизни в Барселоне, тоже медик, и родила дочку Каролинку.
Коридор напротив туалета служил нашей прихожей. Там висели пальто и стояла обувь. Это был Красный Коридор — с красными досками на полу. Дверь отделяла его от Зеленого Коридора — с зеленым линолеумом, значит. Это была уже наша территория. Из Зеленого Коридора можно было попасть в большую комнату — налево и в бабы-ядину — направо.
За Зеленым был еще небольшой кривой коридорчик — Аппендикс. Небольшой? Каким-то образом там помещался обеденный стол со стульями, холодильник и что-то еще… Из Аппендикса можно было попасть в дедову комнату и в Пенал — длинную и узкую комнатку.
Помню, были разные перестройки: то мы с Инкой жили в Пенале, а родители — в Большой, то Большая превращалась в Детскую, а родители втискивались в Пенал. Большая комната была действительно просторная, светлая. Там можно было кататься на велосипеде, кувыркаться, прыгать со шкафа, строить разные домики из подручных материалов. А еще мне очень нравилось накинуть плед на большой раздвижной стол, так, чтобы плед свисал до пола, притащить настольную лампу и уютно устроиться под столом с книжкой. Осталось ощущение тихого зимнего вечера, когда за окном сгущаются синие сумерки, и слышно, как летит самолет, а в печке потрескивает огонь, и от всего этого в моем подстольном мире так хорошо, и в то же время немного тревожно…
Чуть меньше была комната деда. У него был телевизор — большой черно-белый «Таурас». Мы ходили к деду смотреть «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». Дед и сам какие-то сказки рассказывал. По-моему, всего две: про лягушку (он говорил — лЯгушка) и про курицу (курЫца).
Бабина комната была небольшая, и там было все «как у людей»: торшер, телевизор на ножках, картинки то ли с котиками, то ли с цветочками. Еще у нее были «хлопцы» — фарфоровые, пластмассовые, резиновые зверюшки, трогать которые не разрешалось. На столе стояла довольно уродливая пепельница в виде ребенка с раскрытым ртом. Когда мы ее трогали, баба говорила: «Постав». Потом мы друг друга дразнили: «Не трогай бабин Постав».
Когда дед умер, мне было лет шесть, и как-то я не сразу поняла, что это навсегда. Осознала только тогда, когда увидела его в гробу в зале у него на работе. Помню, как меня, ревущую, вели домой. Вскоре у нас появилась сестра Юлька, и в комнату деда никого не вселили, она осталась за нами. Эта комната превратилась в гостиную — с диваном, креслами и телевизором. Там мы проводили вечера, играли в лото или шашки, иногда смотрели телевизор.
В доме было печное отопление. Но года за три до «конца» Барселоны почему-то решили сделать ремонт и провести паровое. В Аппендиксе поставили отопительный котел, который по ночам шумел и трещал. А печки разломали. Но перед этим нам с Инкой разрешили разрисовать кафель цветными восковыми мелками. Это было чудесно — на каждом квадратике появилась маленькая картинка — цветочек, солнышко, птичка…
Был в доме и чердак, на котором я, к сожалению, так никогда и не побывала. И был глубокий холодный подвал, в котором хранился разный хлам, а еще жили люди. Семьи с детьми. Правда, там жильцы менялись, видимо, перебирались в лучшие условия.
На других этажах тоже было много жильцов. На первом жил парень с собакой колли, старик, которого называли Татарин, пьяница-милиционер с женой и двумя маленькими дочками. Милиционер иногда катал нас на своем ментовском «бобике», а когда запивал, поколачивал жену, маленькую, всегда какую-то несчастную женщину, которая иногда приходила к моей маме и смущенно просила трешку до зарплаты. Жильцов третьего этажа помню плохо, только детей: Толика, у которого был самокат, и Витьку-Дерёвню из нашей «мальчишеской» компании. Компания занималась в основном постройкой секретных штабиков, казаками-разбойниками и гонками на велосипедах. Одно время компания взрывала где-то добытый карбид, за что нам с сестрой здорово влетело от родителей. Хотя наши мальчишки были благородные и не подпускали нас слишком близко.
В Барселоне я прожила первые свои десять лет. Потом нас выселили, а через два года мы вернулись — но уже в заново выстроенную на том же месте кирпичную пятиэтажку. Скверик тоже изменился — деревьев стало меньше, зато появились фонари, асфальт, скамейки и клумбы. Перекладины для ковров тоже пропали, а та, которую поставили в другом месте, совершенно не подходила для акробатических упражнений. С другой стороны исчезло все — сараи с сортиром, зеленый домик (интересно, куда делась бабушка?), лавочка, песочница с грибом. Осталась только стена завода, которая и сейчас летом покрывается диким виноградом, хотя за ней и завода-то больше нет.
Из жителей Барселоны в новый дом, кроме нас, вернулась только семья милиционера. Жена его рано умерла, девочки подросли, в квартире поселились еще какие-то родственники, с которыми мент (к тому времени бывший) благополучно спился. Потом квартиру продали, и девочки ушли от отца.
Я прожила в новом доме много лет, потом сменила еще три места жительства. Но где бы я ни жила, ни у одного из моих домов не было и нет имени. Прихожая называется прихожей, комната — комнатой, одеяло — одеялом. И я по-прежнему не могу ответить, откуда же у некоторых вещей берутся имена.



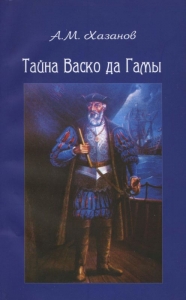


Комментарии к книге «Барселона», Любовь Салимова
Всего 0 комментариев