Михаил Соловьев Записки советского военного корреспондента
Предисловие
История Советского Союза, освещающая жизнь страны во всех ее проявлениях, еще не написана. При чины этого ясны. В СССР нет свободной печати, следовательно, отсутствует та информация, первоисточником которой такая печать является. История там постоянно переписывается наново, а лживая философия режима, подменяющего истину марксизмом пропускающая факты через пропагандный фильтр искажает решительно всё. Западный мир не в состоянии написать эту историю, так как для всех беспристрастных иностранных наблюдателей доступ в Советский Союз закрыт, заграницей же постоянно делались большие усилия внести в анализ и оценку Советского Союза извращения, которые советский режим считал необходимыми, чтобы удержаться у власти.
Каждый, кто долго жил под советской властью может сделать свой вклад в ту или иную главу пока еще не написанной истории СССР, но честно говорит может лишь тот, кто порвал с советским режимом ушел в свободный мир. Все сведения, способствующие пониманию истории и жизни в советских условиях, чрезвычайно ценны, потому что они проливаю свет на темные области малоизвестного и таинственного советского мира. Каждый отдельный человек мог пережить лишь часть общего горького опыта, поэтому каждый может кое-что сообщить своим товарищам по несчастью. Одна из особенностей советской системы заключается в том, что советские граждане имеют очень скудные сведения о многих ее проявлениях. Там, как говорит Соловьев, камень, брошенный в воду, не вызывает кругов на ее поверхности.
Книга Михаила Соловьева скорее воспоминания, чем история; но автор дает кусочки мозаики, которые будущий историк сможет когда-нибудь сложить и использовать для до сих пор не написанной истории СССР. Качество света, возможно, важнее силы освещения — книга Соловьева бросает не только сильный, но и необычайно яркий свет на запутанные и сложные области трудного советского мира. Просто, понятно и скромно он пишет о том, что пережил, будучи военным корреспондентом в Советском Союзе с 1932 г. до начала Великой войны, предоставляя фактам говорить самим за себя. Это делает его книгу особенно убедительной. Выводы, которые вдумчивый читатель сделает из нее, будут тверже и определеннее заключений, навязываемых читателю в виде готовых обобщений.
Соловьев происходит из семьи, похожей на ту, которую он описал в своей предыдущей книге «Когда боги молчат». Среда и некоторые события, изображенные в этом волнующем романе, в значительной степени автобиографичны. Соловьев был назначен в 1932 г. военным корреспондентом «Известий», главным образом, благодаря революционному прошлому своей семьи. В этой книге он рассказывает о своих многочисленных обязанностях, начавшихся с того, что он был назначен преподавателем истории в генеральской группе при Академии им. Фрунзе и продолжавшихся на маневрах и на работе в разных частях Советского Союза от Украины и Кубани до Узбекистана: в перерывах автор бывал в Москве. В 1937-м году ему пришлось переехать в Калинин (бывшая Тверь), потому что, в результате сотрудничества с Бухариным в редакции «Известий», его право на жительство было ограничено и он получил так называемые «минус шесть». Соловьев был затем восстановлен в должности корреспондента и принял участие в Малой войне в Финляндии; Большая война застала его в Москве. В группе генерала Рыбалко он был послан на Запад собирать остатки советских армий, разбитых неожиданной германской атакой; в Белоруссии он, по приказу Рыбалко, предпринял поиски генерала Ракитина. В критический момент во время обороны Москвы воинская часть, в которой находился Соловьев, оказалась отрезанной, настигнутой пулеметной очередью немцев. В лесах Белоруссии Соловьев пустил свою последнюю пулю не в себя, а в своего раненого коня. В конце концов, он был захвачен в плен немцами.
На ярком фоне этих событий автор изображает много чрезвычайно интересных эпизодов, рассказанных живо и с глубокой человечностью. Повествование проникнуто юмором, острие которого обычно направлено против самого автора, — примером может служить рассказ о радио-репортаже под огнем, во время маневров в Ферганской долине. В книге нет ни напыщенности, ни претенциозности; всюду чувствуется симпатия автора к людям и его сочувствие их горю. Соловьев освещает события с русской точки зрения; однако, он говорит о других народностях Советского Союза с симпатией и без всякого высокомерия. Если он порой и видит кое-какие недостатки у некоторых калмыков или узбеков, то он отмечает недостатки также и у русских, (например, в забавном описании паники, охватившей Пермский полк в Финляндии). Описывая человеческие слабости, Соловьев никогда не злобствует. Как автор сам говорит, он изображает странную, противоречивую, несоветскую душу, так называемой советской армии, являющейся народной армией и во многих отношениях воплощающей народную душу. Чувства ужаса и жалости, испытываемые бойцами во время голода на Украине, и их сочувствие украинцам и казакам во время разгрома Кубани изображены так же убедительно, как и растерянность, охватившая москвичей, когда разразилась Великая война.
Легкой, но уверенной рукой Соловьев рисует изображения встреченных им людей. Он набрасывает эскизы Жукова, Власова и Ворошилова, и дает более детальные портреты Буденного, Апанасенко, Гамарника, Ракитина, Рыбалко, Мехлиса, Тимошенко и Городовикова — калмыцкого генерала, руководившего массовой высылкой калмыков; в книге есть много портретов и менее значительных лиц. Одно из чарующих достоинств книги Соловьева заключается в том, что наиболее яркие черты даваемых им характеристик вскрываются в действии, развитием самых событий: так оценка личности генерала Городовикова возникает у читателя в результате встречи Соловьева с женой генерала. Читатель видит людей в их московском окружении, в горах Ферганы, на степных просторах или в скованных морозом финских лесах.
Соловьев лишь постепенно пришел к заключению, что советский режим не служит народному благу, причем это заключение также не преподнесено в виде готового вывода, а возникает по мер<^ развития описанных в книге событий, завершающихся превосходным изображением настроений штрафного батальона и отношения к нему со стороны начальства во время обороны Москвы.
Книга Соловьева представляет особенный интерес для военных, потому что она проливает свет не только на советские методы и приемы и на боевой дух и настроения советских войск в различных условиях, но и дает представление о двух разных военных теориях: о теории, которой придерживается Тимошенко и его последователи, и о теории Ворошилова и его школы. Соловьев приводит обоснования, даваемые каждой из этих теорий. Его книга содержит также много сведений о длительном антагонизме между комиссарами и командирами. Поскольку этот антагонизм затрагивает основной вопрос о партийном контроле вообще, эта тема представляет большой интерес и для не военных. Соловьев облекает плотью голый остов имеющихся у нас информации об этих напряженных взаимоотношениях и сообщает конкретные подробности, показывающие, как существующий порядок приводит к многочисленныем недоразумениям, несправедливостям, и обвинениям; к сведению личных счетов и общей неуверенности. С проникновенным пониманием он показывает, почему чекисты приходят к точке зрения, находящейся в коренном противоречии с точкой зрения военных. Контраст между судьбой Стогова и Симоненко, — судьбой преступника, который не понес наказания, и героя, который был расстрелян, с большой убедительностью вскрывает всю сложность жизни в советских условиях. При этом политические мотивы не играли ни в одном из этих случаев никакой роли.
Одним из больших и редко встречающихся достоинств этой книги является то, что в ней нет пропаганды: быть может, именно поэтому эта книга — такое убедительное обличение советской системы. Впрочем, лучше прочесть эту книгу, чем читать о ней. Прочтите ее и убедитесь сами.
Вице-адмирал (в отставке) Флота США Лесли С. Стивенс
Как я стал военным корреспондентом
Чистая случайность сделала меня в 1932 году военным корреспондентом одной из двух самых больших советских газет — «Известий».
Незадолго до этого введено было новое правило, по которому военные корреспонденты могли быть, кроме «Красной звезды», армейского официоза, — только в ТАСС'е — Телеграфном Агентстве Советского Союза, в газете «Правда» и в нашей. Все другие газеты и журналы страны лишались права иметь специальных корреспондентов по армии и флоту к должны были черпать военную информацию из сообщений ТАСС'а. Новая инструкция гласила, что военные корреспонденты должны получить утверждение Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам. Как часто это случается в СССР, мой предшественник, много лет проработавший в роли военного корреспондента, член компартии, в прошлом преподаватель Высшего Кавалерийского училища, следовательно, человек в военных делах весьма сведущий, был по каким-то причинам забракован. Был предложен другой кандидат, но и его отвергли. Отказали в утверждении еще двум. И тогда кто-то надоумил редактора предложить этот пост мне.
В то время я играл в редакции скромную роль спортивного репортера, хотя и именовался весьма торжественно: «Зав. сектором физической культуры и культурных развлечений». Находился я в ожесточенном соревновании с моими коллегами из других московских газет, увлекался спортивной жизнью, что для моих тогдашних двадцати четырех лет не должно почитаться зазорным, вел жестокую борьбу с другими «секторами» за газетные строки. Если не ошибаюсь, был я самым молодым сотрудником в редакции, политически себя ничем не проявил, в компартии и комсомоле не состоял и, казалось бы, это должно было гарантировать от выдвижения меня на политическую роль в газете, а роль военно! о корреспондента, конечно, политическая.
Все эти доводы я привел редактору, когда узнал о его коварном замысле превратить меня из спортивного репортера в военного корреспондента.
— Да меня и не утвердят, — развивал я последний аргумент. — С какой стати наркомат будет соглашаться на назначение беспартийного?
Но говоря это, я был почти уверен, что меня наркомат утвердит. И чтобы эта моя мысль была понятной, должен я несколько слов сказать о себе. Вернее не о себе, а о той крестьянской династии, из которой я вышел. Наша семья сыграла заметную роль в гражданской войне на юго-западе России. В борьбе за советскую власть погиб мой отец и несколько братьев. Революционные заслуги семьи не были забыты. Учился я в университете на государственный счет, получая стипендию имени Фрунзе, установленную правительством для детей героев гражданской войны. В то время, к какому относится мой рассказ, два моих старших брата находились не на очень значительных, но всё-таки заметных командных постах в армии.
Всё это могло повести к тому, что моя кандидатура окажется подходящей. Наркомат мог меня, в некотором роде, рассматривать, как своего питомца.
Редактор на это и рассчитывал, убеждая меня принять предложение.
Недели через две было сообщено, что политуправление Красной армии дало свое благословение, а вскоре получил я подписанный Ворошиловым и Гамарником мандат, который открывал новоиспеченному военному корреспонденту доступ в военные учреждения и воинские части.
Четыре года провел я в военных сферах. Не так уж много, но для меня достаточно. Я встречался со всеми или почти со всеми военными деятелями страны. Для некоторых из них я писал статьи и конспекты речей. Исправлял стенограммы их выступлений, а когда стенограммы не поддавались исправлению, писал речи заново. На моих глазах рождалась литературная слава некоторых советских полководцев. Я бывал на маневрах и в походах. Запах человеческого пота стал мне привычным. Я видел много смешного, грустного, нелепого и героического. Видел я людей, молниеносно делавших карьеру и столь же молниеносно исчезавших. Вероятно, был я не очень плохим военным корреспондентом, о чем свидетельствует то, что когда меня однажды арестовали по поводу… впрочем, вообще без всякого повода, вожди Красной армии оказали мне защиту и я отделался простой ссылкой.
Вы хотите знать, что такое военный корреспондент в СССР? Об этом можно было бы написать большой том, но можно обойтись и несколькими фразами.
Вы видели охотничью собаку на стойке? Ее тонкий нюх впитывает миллионы запахов, заполняющих мир, но среди них находит лишь тот, который исходит от дичи. Военный корреспондент подобен этому полезному животному (да простят мне все военные корреспонденты мира это сравнение). Он ощущает несущийся мимо поток событий, но в этом потоке должен найти только то, что ему следует и что он может знать.
Вы присутствовали когда-нибудь на процессе по поводу литературного плагиата? Каждая сторона доказывает, что написанное принадлежит именно ей. Это совсем не похоже на советского военного корреспондента. Он всегда доказывает, что написанное принадлежит не ему, а кому-нибудь другому. Он пишет корреспонденции с маневров, но написавши ищет генерала, полковника или, в крайнем случае, майора, чтобы получить их подпись. Он переплывает на подводной лодке Черное море, но свой дневник публикует от имени капитана подводной лодки. Он совершает полет на новом советском аэроплане, но отчет об этом полете появляется в газете за подписью прославленного летчика-испытателя. Он мчится вслед за юной авиаторшей Катей, стремительно улетающей на крошечном спортивном аэроплане, чтобы поставить рекорд скорости, но отчет о рекорде публикует от имени Кати, в которую немножко влюблен. Человек, проживший всего лишь четверть века, способен влюбиться даже в авиаторшу.
И, наконец, вы видели людей, пишущих книги? Это похоже на советского военного корреспондента, но только отчасти. Он пишет книги, но очень часто не издает их за своей подписью. В военных писателях ходит генерал армии Ока Городовиков, питающий врожденный страх к письменности вообще и весьма слабый в ней; маршал Буденный — кто угодно, но только не военный корреспондент. Он добывает славу другим и, сам оставаясь в тени, утешается тем, что «мысль, выраженная словами, называется гонораром», как утверждал когда-то Карл Радек.
Скромность? Ничуть. Так заведено в советской прессе и изменить этого никто не может.
Теперь читатель приблизительно знает, что такое советский военный корреспондент и поймет автора, если тот скажет, что роль военного корреспондента в СССР как будто специально создана для того, чтобы человек, вынужденный ее играть, всё время чувствовал себя несчастным.
Но, всё-таки, если быть справедливым, эта нелюбимая мною роль должна вызывать во мне чувство благодарности. Исполняя ее на советской военной сцене, я лишил себя права быть только спортсменом. В общении с армией и с ее людьми я, быть может, впервые, почувствовал, как сложна жизнь. Она настойчиво ставит перед человеком вопросы и требует ответа на них даже тогда, когда человек не находит ответа. Счастливая пора моей отрешенности от больших проблем кончилась для меня, оказался я схваченным за шиворот и брошенным на изрытое ухабами поле большой жизни. В общении с солдатами и офицерами, в походах, на биваках, в дружеских попойках познавал я жизнь такой, как она есть, учился самостоятельному мышлению, становился более взрослым и более скучным.
Я назвал эту работу записками военного корреспондента, а между тем мое общение с армией было значительно более разносторонним. Я был солдатом и офицером. Очень часто лист бумаги, оставшийся у меня, я использовал не для записей, а для махорочных самокруток. Последний мой карандаш — между прочим, необычайной прочности, — был мною употреблен на то, чтобы затянуть жгут на ноге раненого, истекавшего кровью. Но всё-таки мое отношение к армии сформировалось тогда, когда был я корреспондентом и потому было выбрано не вполне точное, но внутренне оправданное название.
Эта книга не претендует на роль фундаментального труда о Красной армии. Для такого труда автор не располагает сведениями нужного диапазона. В «Записках» я старался просто и бесхитростно рассказать о виденном, дать фрагменты не созданной еще картины. Мне хотелось бы верить, что, как в капле воды отражен океан, так в моих «Записках» отражена странная, полная противоречий не советская душа так называемой Советской армии.
Генеральский инкубатор
В инкубаторах выводятся цыплята. В других содержатся дети, появившиеся на свет раньше положенного срока. Но в Советском союзе до Второй мировой войны существовал, а может быть, существует и поныне, инкубатор для генералов.
Принято думать, что военный, прежде чем стать генералом, должен проделать определенный жизненный путь. Военная школа подготовит из него лейтенанта, военная академия даст ему знания, но оставит в скромном чине капитана, и только после многих лет, а то и десятилетий армейской службы, когда знания дополнены опытом и голова покрывается сединой, становится человек генералом.
Этот обычный ход вещей в Советском союзе давно нарушен. Были когда-то в России блестящие генералы, наделенные знаниями и опытом, но революционные солдаты и матросы многих из них перестреляли. Другие пытались применить свои знания и опыт, чтобы подавить революционную чернь, но их тоже перестреляли. И только немногие избегли этой участи, укрывшись за пределами России.
Революция нуждалась в своих генералах и она, с присущей революциям смелостью, создала их. В гражданской войне вчерашние солдаты и матросы становились полководцами и вели в бой полки, дивизии, корпуса и армии. У них было много энтузиазма, им и восполнялся недостаток знаний и опыта.
Вот имена из длинного перечня прославленных советских полководцев, родословная которых типична для большинства советских военных вождей первого поколения:
1. Буденный. Маршал СССР. Казак. 1917 — унтер-офицер. 1919-командующий армией.
2. Пархоменко. Погиб в 1920 г. Рабочий 1917-слесарь на заводе 1918 — командир дивизии.
3. Чапаев. Погиб в гражданской воине. Крестьянин 1917 — унтер-офицер 1919 — командир дивизии.
4. Блюхер. Маршал. Убит по приказу Сталина. Рабочий 1917 — унтер-офицер 1918-командир дивизии.
5. Думенко. Расстрелян по приказу Троцкого. Неизвестного происхождения 1917 — полковой писарь 1918-командир корпуса.
6. Дыбенко. Расстрелян по приказу Сталина. Крестьянин 1917- матрос 1919-командующий армией.
7. Апанасенко. Генерал армии. Погиб во Второй мировой войне. Крестьянин 1917 — унтер-офицер 1919 — командир дивизии.
8. Тимошенко. Маршал СССР. Крестьянин 1917 — унтер-офицер 1918-командир дивизии.
9. Ворошилов. Маршал СССР. Рабочий 1917 — профессиональный революционер 1918 — командующий фронтом.
10. Городовиков. Генерал армии. Степной житель (калмык) 1917-солдат 1919-командир дивизии
Можно продолжать этот перечень до сотни имен, но характер сведений от этого не изменится. Изредка в таком перечне мелькнут имена людей, получивших в старой армии необходимую подготовку для занятия высоких военных постов, как Тухачевский, Егоров, Шапошников, но подавляющее большинство прославленных советских военачальников пришло из низов, из народа. Революционная случайность вознесла их на высоту.
Если бы для того, чтобы стать генералом, достаточно было сменить солдатскую одежду на генеральский мундир, тогда всё было бы просто. Но человека встречают по мундиру, а провожают по уму. Генералу многое надо знать. А знаний-то как раз и нехватало, да и поныне нехватает советским военачальникам, выдвинутым революцией. Энтузиазма много, знаний мало. Это относится не только к военным и специальным знаниям, но и к общим. Культурный уровень советских генералов первой формации, которая и поныне еще является в советской армии решающей, чрезвычайно низок.
Мы можем быть очень снисходительными в установлении обязательного минимума знаний для генералов, но всё же решать уравнение с одним неизвестным они должны уметь. Между тем, для маршала Буденного, например, окончившего военную академию, пишущего книги на военные темы, такое уравнение лежит выше границы его математических познаний.
После всех этих предварительных замечаний мы можем перейти к рассказу о генеральском инкубаторе, обещанному самим названием этой главы.
Вскоре после того, как стал я военным корреспондентом, последовал вызов меня в политическое управление красной армии, при котором я был аккредитован. Пожилой человек с непомерно большим лбом, заставляющим вспомнить, что человечество вырождается, принял меня в тесном кабинете. Это был начальник одного из многочисленных отделов «сердца армии», как именовалось политическое управление. Перед ним лежала папка с моим личным делом. Скучным, бесцветным голосом, большелобый обратился ко мне:
— Мы установили, что вы историк.
Термин «установили» должен был обозначать, что велось какое-то длительное следствие, во время которого следователь установил виновность преступника. В данном случае, я в этом был уверен, следствия не велось, а просто была взята папка с моим личным делом, из которого видно, что я окончил университет по историческому факультету. Это и послужило основанием возвести меня в ранг «историка».
— Что вы, товарищ комиссар, какой же я историк? Я учился на историческом, но к научной работе у меня склонности нет, — ответил я.
— Дело не в научных занятиях, они нас не интересуют. — Большелобый говорил всё тем же скучным голосом, но его глаза пытливо ощупывали меня. — Нам срочно требуется преподаватель истории.
В этом уже сквозила откровенная опасность. Из всех профессий мира педагогическую я выбрал бы последней. Я и в прессу ушел, стремясь избежать отправки меня в какую-нибудь школу, учить детей истории. Имело, конечно, значение и то, что я тянулся к литературным занятиям, но непосредственной причиной, побудившей меня пойти в прессу, был всё же страх перед педагогической профессией, которая мне угрожала. Большелобый продолжал говорить:
— Вам легко будет совместить вашу работу в газете с преподаванием истории. Всего два часа в неделю.
— Но помилуйте, товарищ, комиссар, — взмолился я. — Какой же я педагог? Да я вам, при моей неопытности и нелюбви к этому делу, столько напорчу, что и исправить потом нельзя будет.
Комиссар ждал, пока я выскажу возражения, но в мои слова не вслушивался. Для него вопрос был решен.
Когда я остановился, чтобы перевести дыхание, он вялым своим голосом проговорил, словно продолжал начатую им раньше фразу:
— Всего два часа в неделю. Видите ли, там, куда мы намерены вас послать, остались без учителя истории. Пригласить нового трудно, на оформление и проверку уйдет не меньше двух месяцев, а до конца занятий осталось всего месяцев пять. Вы же проверены и можете приступить к занятиям немедленно. Вам надо отправиться к начальнику КУВС, в академию имени Фрунзе…
И он стал давать мне указания, словно я уже согласился на посылку меня к начальнику какого-то странного КУВСа, или словно мое мнение ничего не значило. Впрочем, мое мнение действительно ничего не значило. В тот же день я входил в старое здание академии имени Фрунзе на улице Кропоткина.
В узкой неуютной комнате меня встретил полный, выхоленный генерал-майор Жимайтис, к которому меня направил большелобый. В то время он именовался комбригом, но мы, для простоты, будем и в дальнейшем пользоваться общепринятыми титулами, тем более, что через некоторое время они были введены и в Красной армии. Жимайтису, балтийцу по происхождению, предстояло в будущем проделать черновую работу по присоединению балтийских государств к СССР. Он был «рекомендован» Кремлем правительству демократической Литвы и назначен там главнокомандующим армией, после чего население Литвы стало проявлять энтузиазм и требовать «воссоединения» с СССР. До Второй мировой войны Жимайтис проделал с Литвой, Латвией и Эстонией то, что предстоит проделать маршалу Рокоссовскому с Польшей. Как известно, Рокоссовский «рекомендован» советским правительством правительству Польши и ныне является главнокомандующим Польской армии. Но в то время, к которому относится наш рассказ, Жимайтис еще ничем не прославился и его имя мне ничего сказать не могло.
Я повторил всё, что сказал до этого большелобому в наркомате, но Жимайтис обратил на мои слова так же мало внимания, как и тот. Усадив меня у стола, он подробно рассказал о моих обязанностях. Самое главное, по его мнению, заключалось не в педагогическом таланте, а в умении справиться с аудиторией.
— Вам, молодой человек, придется иметь дело со старшими войсковыми начальниками, — поучал он меня. — КУВС — это, если расшифровать, своего рода генеральский инкубатор или, обычными словами, — Курсы Усовершенствования Высшего Командного Состава Красной Армии… Да, да, усовершенствования… И, по совести вам скажу, совершенствовать надо, очень надо. Впрочем, вы сами это увидите.
Начальник генеральского инкубатора пытливо посмотрел на меня. Закурил и, нахмурившись, став сухо официальным, закончил беседу со мной:
— До вас у нас сменилось три учителя истории. Слушатели прогнали их… Характерами не сошлись. { Я не }уверен, что вы удержитесь, весьма не уверен. Но попробуйте.
Я и пробовать не хотел бы, но что можно было поделать против всесильного политуправления красной армии?
Жимайтис привел меня в аудиторию, представил слушателям и ушел, а я остался в созвездии орденов, украшавших сидящих передо мной людей в мундирах: комбригов, комдивов, комкоров. Три десятка мундиров и три десятка насмешливых лиц с усами и без усов.
Генералы располагались у двух больших столов, соревнуясь в небрежности поз. Маленький черноусый комбриг (генерал-майор) с совершенно круглым лицом сидел ближе других ко мне. У него была седая голова, заставлявшая думать, что чернота усов получена им у парикмахера. Перекинув короткие ноги, затянутые в синие брюки и блестящие сапоги, через ручку кресла и тихонько позванивая шпорами, он озирал меня насмешливыми глазами. Рядом с ним был толстяк с покатыми плечами. У него лицо, словно навечно, обветренно и похоже на внутренность бурака, а глаза, когда он поднял их на меня — маленькие и заплывшие жиром. Он старательно вырезывал на столе свои инициалы, пользуясь для этого остро отточенным перочинным ножом. В дальнем конце стола худощавый генерал, отвалившись к спинке кресла, насвистывал военный марш и при этом сонными глазами рассматривал меня.
Большинство представших передо мной лиц было мне знакомо по фотографиям, мелькавшим в прессе. Тут собрался цвет генералитета, представители той его группы, которая именовалась конармейской[1], и пользовалась наибольшим расположением Сталина. Не трудно было растеряться среди этих генералов, усеянных ромбами и орденами, но еще в комнате Жимайтиса я твердо решил не теряться. Эти люди прогнали троих моих предшественников, учителей истории. Последнего, бывшего здесь передо мной, они вынесли на руках и выбросили через заднюю дверь во двор. Вероятно, прогонят и меня. Уйду я сам или они вынесут меня, как моего предшественника? Сознание неизбежности скандала с генералами, избалованными безнаказанностью, придало мне уверенности. Я попытался начать урок. Но как только произнес первую фразу, генерал Еременко, которого я встречал на фотографиях, перестал резать стол, поднял свое бурачное лицо и, словно увидев меня впервые, неожиданным в его тучном теле тонким голосом проговорил:
— Товарищи, не знаете ли вы, что это за дитё тут стоит и чего оно хочет?
На издевательский вопрос Еременко немедленно откликнулся круглолицый, черноусый и седоголовый Книга. Судьба словно решила подшутить над ним, наградив его этим именем. Вряд ли, при столь литературном имени, генерал Книга часто держал книгу в руках. По его лицу с мелкими чертами и хитроватым выражением глаз можно было определить, что перед нами крестьянин, расчетливый, умный прирожденным умом. В ответ на реплику Еременко, он шумно вздохнул и проговорил, вплетая в речь украинские слова:
— Да то, товарищи командиры, не дитё, а сам товарищ прохвессор по науке, которая о том, что було и чего не було, по истории, значит. Товарищ прохвессор будет нас, старых дураков, уму-разуму учить.
Еременко отложил в сторону перочинный нож и высоким своим голосом проговорил:
— Ну что ж, учи!
В его голосе было столько наигранного{ смирения, }что в аудитории послышался смех.
Жимайтис настойчиво советовал мне не обращать внимания на шутки генералов. Ожидая пока стихнет смех, я думал про себя: «Генерал, одетый в одежду солдата, остается генералом. Ну, а солдат, надевший генеральский мундир, перестает ли он быть солдатом и становится ли генералом»?
Когда в аудитории немного стихло, я снова попытался приступить к уроку, но на первой же фразе Книга оборвал меня:
— Постой? — тоном приказа произнес он. — Ты нам прежде скажи, чему учить будешь?
Всё еще стараясь быть спокойным, но уже чувствуя приступ злости, я ответил:
— Я не знаю, могу ли я чему-нибудь научить вас, но первый урок мы посвятим отмене крепостного права в России.
— А когда это было? — раздался бас Апанасенко, которого легко было узнать по грубому, квадратному лицу и обилию орденов на груди.
Не подозревая западни, я ответил:
— В 1861 году.
— Как же ты можешь нас учить о крепостном праве, когда тебя тогда и на свете еще не было?
Опять раздался смех. Решив, что лучше на первом же уроке оборвать нелепое назначение меня на роль педагога среди генералов, изо всех сил стараясь быть спокойным, я сказал:
— Мне никакого удовольствия не доставляет быть для вас объектом шуток. Я был бы рад не учить вас, каждый из вас несравненно умнее меня. Пришел я к вам не по своей воле. И не примите за обиду, если я скажу, что один человек (я хотел было сказать «генерал», но удержался) может задать столько вопросов, что десять самых умных педагогов на них не ответят…
Апанасенко, внимательно прислушивавшийся, уловил мою мысль.
— Ты говори точнее, — прокричал он с места. — Ведь, ты хотел сказать, что один дурак может задать столько вопросов, что десять умных на них не ответят.
— Конечно, при отмене крепостного права я не присутствовал, — говорил я, — но значит ли это, что я не могу знать о том, что тогда произошло и почему произошло? История — наука о прошлом и она хранит сведения о прошлом и делает их доступными всем, мне и вам в том числе. Неужели эпоху Тамерлана нельзя изучать только потому, что это было задолго до нас? Ведь этак мы можем низвести себя на роль однодневных мух, не имеющих прошлого.
Я замолк, раздумывая, не уйти ли мне из аудитории, пока еще не поздно. Но снова раздался голос Апанасенко:
— Ты не обижайся. Это ведь мы, чтоб пошутить только, а обидеть нет у нас желания. Начинай урок! Вскоре среди блестящих генералов я уже чувствовал себя вполне на месте. Во мне жило тогда, сохранилось и поныне уважение к этим людям большого подвига. Не их вина, что не получили они нужного образования. Дети бедняков, они и сами прожили бы бедняками, не случись революции, вынесшей их на поверхность.
Многие из тех генералов, которые были тогда в описываемом инкубаторе, отмечены военной историей Советского Союза, некоторые сыграли заметную роль во Второй мировой войне, другим выпала печальная судьба и они погибли в боях в Финляндии, в Монголии, а еще больше их погибло в застенках ГПУ-НКВД. Поэтому, рассказывая об этих людях, мне хотелось бы просеять слова через густое сито, чтобы остались самые точные, самые правдивые, точно рисующие облик этих странных, никогда до этого невиданных полководцев.
КУВС имели обширный и фантастический учебный план. В причудливом сочетании переплеталась в нем история военного искусства с грамматикой русского языка, стратегия и тактика с начальной арифметикой, марксистско-ленинское учение о государстве с географией, учение о взаимодействии войск с основами физики. При мне как раз ввели немецкий язык, но дальше "Das ist die Schule, das ist der Tiseh" дело не пошло и уроки немецкого языка вскоре были прекращены. История тоже не пользовалась признанием и ей отводилось всего два часа в неделю. Зато русский язык преподавался настойчиво, хотя и без достаточного успеха.
Мои педагогические достижения в генеральской аудитории были более чем скромными. Правда, генералы как-то всё-таки запомнили, что война с Ливонским орденом при Александре Невском была раньше, а Куликовская битва Дмитрия Донского позже и что, во всяком случае, татарское нашествие на Русь было раньше, чем произошла Великая Французская Революция и позже, чем Дарий вел войну с царством скифов. Мне не хотелось бы вызывать у читателя улыбку и представление о каких-то варварах, затянутых в генеральские мундиры. Можно ли назвать варваром ребенка, не знающего, что земля, на которой он роет ямки, вращается вместе с ним? Разница между ребенком и нашими генералами чисто условная, возрастная.
Чтобы покончить совсем с моим тогдашним педагогическим опытом, скажу, что мне посчастливилось найти способ заинтересовать моих слушателей. Через некоторое время наши уроки перестали быть скучными. Завидев меня входящим в аудиторию, генералы оживлялись. Развернув учебный план, я громко читал тему урока, но немедленно с мест раздавались выкрики.
— Ты нам промышленным переворотом в Англии мозги не засоряй. Давай что-нибудь горько-соленое.
Я начинал урок по теме и видел: генералы равнодушны к моим словам и пропускают их мимо ушей. Тогда я прибегал к историческому анекдоту, не обязательно приличного свойства. Аудитория немедленно оживала. Обычно пользовался я старыми, затасканными анекдотами (где я мог взять новые?), но не помню ни одного случая, когда бы хоть один из принесенных мною анекдотов «с бородой», был бы известен генералам. Генералы умели очень хорошо, от души, смеяться. Но всё-таки, между анекдотами, я сообщал и серьезные исторические сведения. Не моя вина, если анекдоты запоминались, а исторические сведения — нет.
Жимайтис при встрече со мной восклицал:
— Это просто удивительно — говорил он. — Слушатели в восторге от ваших уроков. До вас мы приглашали лучших педагогов-историков и неизменно получались скандалы, а у вас-то и опыта никакого нет, а — успех полный.
Знай Жимайтис секрет моего успеха, не радовался бы.
С общими науками в генеральском инкубаторе дело обстояло более или менее скверно, но изучение чисто военных проблем было поставлено более строго и, насколько я могу судить, более успешно. История военного искусства мало привлекала внимание слушателей — какое им дело до того, как воевал Александр Македонский, но проблемы современной войны, стратегия, взаимодействие войск, искусство маневрирования, облик иностранных армий — всё это занимало их умы и вызывало живой интерес.
Часто в аудиториях КУВСа появлялись топографические планы. Начиналась военная игра по картам. Прорабатывались маневры или изучались сражения прошлого.
В моем лице совмещался штатский преподаватель и военный корреспондент. Преподавателю истории не было нужды присутствовать на военных играх генералов, но для военного корреспондента они представляли не малый интерес. Изредка я являлся в аудиторию, чтобы послушать и посмотреть.
Руководили военными играми профессора военной академии. Чаще других комбриг Евсеев, при котором занятия проходили особенно оживленно. Пожилой Евсеев, с коротко подстриженными усами, внешним своим обликом, манерой вести себя, чистой и точной речью, был образцом блестяще воспитанного офицера. Он начал службу давно, еще в императорской армии. Целое десятилетие он состоял профессором военной академии Красной армии. Ни одним словом и ни одним жестом Евсеев не подчеркивал своего превосходства перед генералами революционной формации и всё-таки чувствовался в нем барин, глубоко затаивший презрение к простым людям, носящим такой же мундир, какой носил он сам. Вероятно, не только я чувствовал в нем глубинное, может быть, им самим неосознанное, пренебрежение к мужикам в генеральских мундирах, но чувствовали это и слушатели КУВС, люто невзлюбившие комбрига Евсеева.
И тем не менее, занятия, которые он проводил, были самыми интересными и, вероятно, весьма полезными для слушателей курсов.
Мне запомнилось одно из евсеевских занятий. К приходу Евсеева служитель принес целый ворох топографических материалов и свалил всё это грудой на столе. Появился Евсеев, тщательно, по форме одетый. Остановившись у стола, он поздоровался и проговорил:
— Польская военная литература называет противодействие Пилсудского наступлению Красной армии чудом на Висле. Перед вами лежат карты района развития этой операции…
Евсеев бесстрастным голосом дал указания о расстановке сил сторон. Когда это было нанесено цветными карандашами на карты, он разделил группу на две части. Одна должна была играть роль польской армии, другая — Красной. Роль Пилсудского выпала на этот раз Книге, а во главе Красной армии был поставлен Еременко. Остальные должны были быть помощниками и советниками. Стороны разошлись по разным комнатам и «игра» началась.
— Я ставлю задачу: двумя дивизиями прорвать фронт у высоты 74,4 и выйти в тыл польской кавалерийской дивизии, — сообщил Еременко, появляясь из своей комнаты.
— А я плевал на это, — немедленно откликнулся Книга-Пилсудский. — Ты прорываешься, а я тебе у фольварка Крыж хвост рублю, потом сковываю твои две дивизии, бросив в бой свой стратегический резерв, а потом перестраиваю кавдивизию и бью во фланг прорвавшегося противника.
— Постой, постой, товарищ Пилсудский, — начинал визгливо кричать Еременко. — Как это ты перестроишь кавдивизию, когда прорыв был неожиданным и времени у тебя не осталось?
— Ну, это ты, брат, шалишь. Я предвидел прорыв красных и расположил кавдивизию в эшелонах, а фронт прикрыл заслонами.
И Книга положил перед Евсеевым карту, на которой кавдивизия, действительно, была показана в таком положении, что могла атаковать прорывающиеся войска красных.
После этого Еременко ушел в свою комнату, чтобы обсудить создавшееся положение и наметить новые меры.
Проработав операцию на картах, Евсеев дал короткий и точный обзор действий обеих сторон. Обзор был суровым и тщательно обоснованным. Евсеев утверждал, что польская сторона совершенно не использовала преимуществ, даваемых ей хорошо подготовленным районом обороны. В то же время красная сторона предприняла бессмысленный прорыв, поставив две свои дивизии в очень тяжелое положение, из которого они могут быть выведены только переброской новых подкреплений и оттягиванием с боями на исходные позиции. Красная сторона, таким образом, создала рискованную для себя ситуацию, при которой может выронить из рук инициативу наступления.
Я был совершенно согласен с анализом, даваемым Евсеевым. При всей моей неосведомленности в военных делах, мне было ясно, что обе стороны допустили ошибки, на которые указывал Евсеев. Вероятно, большинство слушателей соглашались с ним, но главные действующие лица — Еременко и Книга, — готовы были оспаривать каждое критическое замечание.
Не было никаких причин, которые помешали бы моему сближению с питомцами КУВС. В отношениях с военными они очень ревниво блюли субординацию, но я был человеком штатским. К тому же они могли сказать обо мне, что я «из своих». Крестьянское происхождение и революционная слава семьи, к которой я принадлежал, были, по их мнению, убедительным аттестатом моей добропорядочности. Вскоре стал я получать приглашения от моих генералов. Жили они все в большом сером доме на Девичьем Поле. Длинные-предлинные коридоры, а из них двери в квартиры. Москва, испытывавшая жилищный кризис, не могла предоставить им хороших жилищ. Генеральская квартира обычно состояла из двух-трех комнат и крошечной кухни. Не во всех квартирах имелись ванные.
Относительная скромность жилищ никого из генералов не удручала. Они смотрели на свое пребывание в Москве, как на кратковременное. Жили они с семьями, часто многолюдными. В то время советские генералы еще терпели около себя своих первых жен, женщин простых, иногда даже малограмотных. Стремление избавляться от старых жен пришло позже, когда генералы почувствовали вкус к хорошей жизни и променяли скромных, но преданных им подруг, на артисток театров, балерин, певиц и просто женщин «культурных», любящих хорошо пожить и понимающих в этом толк.
Чаще всего, приехав по приглашению к тому или другому генералу на семейное торжество, я заставал у него всё те же лица: генералы КУВС с семьями. Редко можно было увидеть в этой среде профессоров академии, — это был другой мир, к которому мои генералы относились со скрытым недоверием. Еще реже офицеров из наркомата; к тем генералы относились принципиально враждебно.
Частные визиты дали мне больше для познания душевного мира советских полководцев, чем многочисленные встречи в официальной обстановке. Дома генералы расстегивали пуговицы своих кителей и как будто расстегивали при этом пуговицы своих душ.
За праздничным столом я видел перед собой грубоватых крестьян, совершенно чуждых аристократизму. Они предпочитали простые блюда, приготовленные их женами, деликатесам, привезенным из правительственного магазина. Жена Василия Ивановича Книги, грузная рыхлая женщина с добродушным лицом, славилась искусством делать пироги; у Еременко худощавая робкая жена, которая, кажется, никак не могла привыкнуть к тому, что ее муж такой значительный человек, готовила борщи, каких, по утверждению Апанасенко, «сам царь не едал».
На генеральские пиршества меня привлекало не кулинарное искусство генеральских жен, а возможность послушать генералов, которые сбрасывали в домашней обстановке настороженность и недоверие и представали в своем натуральном облике. Как генералы, они были мало интересны для меня, но дома они становились очень колоритными. В их рассказах, воспоминаниях, спорах проходила эпоха великих потрясений и великих противоречий. В это время фальсификация истории уже шла полным ходом, коснулась она и истории гражданской войны, в которой эти люди принимали деятельное участие. Основная линия фальсификации пролегала в плоскости усиления до гиперболических размеров роли Сталина в вооруженной борьбе за советскую власть. Это вызывало раздражение и обиду.
— Нет, вы подумайте только, — кричал однажды генерал в большом ранге, имени которого я не назову, так как он жив и занимает крупный командный пост в Советской армии, — подумайте только, что мы тогда, под Царицыным, были дураками и не понимали, что нами руководит товарищ Сталин. Я в то время там был, казалось, должен был бы знать, а вот ведь, простофиля, проворонил руководящую роль Иосифа Виссарионовича.
Часто в этой полупьяной компании разгорались споры, которым я тогда не придавал значения, хотя и понимал, что они являются отражением большого столкновения, идущего в среде высшего командного состава. Спорили о военной доктрине, искали основной принцип боевой деятельности. Маневр? Фронтальное наступление? Прорыв?
В этом генералы не были единодушны. Насколько я мог заметить, они и не были последовательными. Сегодня Апанасенко, Книга и Еременко могли отстаивать одну концепцию, но завтра они высказывали совершенно противоположный взгляд. У советских военачальников не было еще установленной точки зрения на методику войны, потому и колебались они в своих суждениях.
Но сказанное не относилось к Тимошенко, изредка появлявшемуся в среде своих друзей с КУВС. Сам Тимошенко, нынешний маршал, прошел через КУВС годом раньше, а в то время, о котором идет речь, он командовал войсками на Украине. Высокий, широкоплечий, со всегда бритой головой и с грубыми, топорными чертами лица, он говорил громким, не допускающим возражений тоном. Его недолюбливали, но он был «из своих», и это примиряло с ним. О Семене Константиновиче Тимошенко очень трудно рассказывать. Он несомненно, был растущим в умственном отношении человеком и стоял на голову выше своих друзей по гражданской войне, хотя предварительная подготовка была у него столь же ничтожной, как и у большинства из них.
Но была в нем одна неприятная особенность. Он не говорил, а изрекал истины. Давно замечено, что люди ограниченного кругозора очень охотно впадают в пророческий тон. Даже простейшая истина в их изложении звучит заповедью — с таким апломбом они ее изрекают. Происходит это, вероятно, от того, что люди недоразвитые или развитые односторонне чужды сомнений. Они путают знание, которое всегда сопровождается сомнением, с верой, сомнений не терпящей. Вот к таким людям принадлежал Тимошенко. Он верил в свою военную доктрину, которая привела его к столкновению с наркомом Ворошиловым.
Господствующей доктриной Красной армии того времени, «ворошиловской доктриной», было признание маневра источником и основой всех побед. Взаимодействие войск, боеснабжение, подготовка личного состава — всё это происходило под знаком маневренной войны. Теория «дробления» сил противника маневром своих войск находила отражение в военной литературе, ее придерживались штабы. Казалось, что «ворошиловская» доктрина так и останется господствующей.
В это время Тимошенко выдвинул идею прямого, «лобового» удара, как основного начала методики войны.
Однажды, когда Апанасенко праздновал день своего рождения, а я был в числе гостей, приехал Тимошенко. Это было в разгаре его спора с Ворошиловым, за которым пристально следил Сталин, не становясь пока ни на ту, ни на другую сторону. В этот вечер мне удалось от самого Тимошенко выслушать обоснование его доктрины. Невозможно требовать от меня, чтобы я, через столь длинный срок, был в состоянии точно воспроизвести сказанное тогда Тимошенко, но если бы я попытался восстановить в моей памяти его слова и манеру говорить, то его речь прозвучала бы так:
«Маневр должен быть основным средством борьбы для слабой стороны, не могущей выставить достаточно войск для фронтального удара. Он требует особо тщательной организации, слаженной техники, доведенного до точности часового механизма взаимодействия войск. Для слабой в войне стороны прямой удар слишком большая и рискованная роскошь, чтобы применить его, как основной принцип. Но положение Красной армии таково, что в смысле человеческих ресурсов она всегда будет в выгодном положении. В то же время сомнительно, чтобы мы в короткий срок обогнали в техническом отношении наших противников. Мы будем в смысле техники подтягиваться к ним, но обогнать скоро не сможем. Правильно ли ставить задачу поднятия точности действия наших войск до такого уровня, когда маневренная война станет для нас возможной? Правильно, но при этом мы должны знать, что времени ее разрешить, даже если война будет через десять или пятнадцать лет, всё равно у нас не хватит. Поэтому, признание маневренной войны наилучшей является для нас очень опасным. В маневренной войне мы всегда будем слабее противника, снабженного лучшей техникой, имеющего солдата и офицера более высокого технического уровня.
Но если в маневренной войне мы, несомненно, будем слабее, то в войне фронтальной противник, или коалиция противников, справиться с нами не могут. Мы заставим их серией прямых ударов истекать кровью, т. е. терять то, чего у них меньше, чем у нас. Конечно, потери и у нас будут велики, но в войне надо считать не свои потери, а потери противника. Если мы даже будем терять больше людей, чем противник, на это надо смотреть спокойно. Такими потерями мы уравновешиваем техническое неравенство и они нам не являются опасными. Я не вижу в Европе армии, которая могла бы выдержать наше массированное наступление. А такое наше наступление, помимо всего прочего, закрывает для противника возможность маневра в стратегическом масштабе и вынуждает его к фронтальной войне, выгодной для нас и не выгодной для него.
Климентий Ефремович (Ворошилов) говорит, что я отрицаю вообще маневренную войну. Это не так. Я признаю маневр, но не выходящий за рамки тактической задачи, маневр же стратегического масштаба я отрицаю, так как в нем все преимущества перейдут на сторону противника. Мой принцип: массированное наступление в лоб, давление на фланги и целый ряд маневров тактического значения…
Если представить себе в грубых чертах существо нашего спора, то оно состоит в следующем: приняв идею маневренной войны, мы будем стремиться множеством связанных между собой действий дробить массив противника. Но ведь противник тоже применит маневр. Рядом второстепенных по значению мер он обрежет силовые линии наших войск. — Тимошенко резко взмахнул рукой, обрывая невидимые нити. — Таким образом возникнет ряд местных боевых участков, каждый из которых не имеет решающего значения. Мы теряем способность управлять событиями, боепитание нарушается и наши войска, даже более сильные по численности, оказываются скованными. Так как противник не будет ограничивать свою задачу сковыванием наших войск и постарается воспользоваться выгодной для него ситуацией, то он введет в действие все свои силы для того, чтобы подавить по частям наши войска, т. е. применит стратегический маневр, которому мы ничего противопоставить не можем, имея скованную армию, нарушенное управление, разрушенные коммуникации.
Моя идея (он очень подчеркивал слово „моя“) всё ставит по-иному. Имея преимущество в живой силе, мы собираем нашу армию в огромный кулак. Наличие такого кулака не позволяет противнику рассредоточить его войска для маневра, не дает ему возможности нарушить тесное „сцепление“ его армии, а, наоборот, заставляет сжиматься, переходить в оборону на возможно более ограниченной территории. Иными словами, мы получаем условия фронтальной войны, мы навязываем характер войны противнику, подготовленному для маневренной войны, но вынужденному нами к войне позиционной, в которой все преимущества на нашей стороне. Вынудив к этому противника и ставя задачу разгромить его, мы наносим дробящий удар не сочетанием частных маневров в надежде, что сумма частных успехов перерастет в общий успех, а фронтальным действием, по возможности стараясь разорвать фронт противника. В то же время мы давим на его фланги. Для нас сражение фронтальное и давление на фланги является единым сражением, для противника это три разных задачи. В моем приеме остается много места для тактического маневра, но он определяется в конкретной обстановке и носит подчиненный характер, основой же основ остается фронтальное наступление, поддерживаемое массированным огнем артиллерии и авиацией».
Еременко пытался было что-то сказать, но Тимошенко отмахнулся от него:
«Я знаю всё, что вы скажете, — проговорил он. — Многие возражения могут быть приведены против моей схемы, но ее преимущество в том, что она учитывает уровень военной культуры нашей армии, мало подготовленной для маневренной войны, зато непобедимой в массированном лобовом ударе. Я уверен, что доктрина Тимошенко станет господствующей в армии».
Это было сказано так внушительно, что никто не посмел дальше возражать. Беседа перешла на другие темы.
Генералы, несомненно, были дружны между собой, спаянные круговой порукой. Но это не избавляло их от раздоров, споров, зависти. Они завидовали получающему более высокое назначение, тому, у кого больше ромбов в петлицах и больше орденов на груди. Особенно отличался этим Книга. В маленьком комбриге жило непомерное честолюбие. Ему казалось, что его обходят. В то время, как его друзья носили по два и по три ромба, в его петлицах был лишь один. Это было для него источником бесконечных терзаний. Он считал, что в отделе командных кадров кто-то нарочно подставляет ему ножку и писал жалобы наркому. Зависть и недоверие —. эти два чувства постоянно разъедали души питомцев КУВС.
Не доверяли новым командным кадрам, получающим лучшую подготовку в школах. Не доверяли своим товарищам, выдвинувшимся на генеральский пост уже после гражданской войны. Считали не заслуживающими доверия генералов технических войск. «Это не генералы, а чертежники» — уверял Апанасенко. О новых командирах любили злословить и если верить тому, что говорилось, то военные школы выпускали никуда негодных офицеров.
«Грамотные то они грамотные, — говаривали генералы меж собой, — да каковы-то в бою будут. Мы не очень грамотными были, а всех грамотных генералов раскокали».
Впрочем, генералы понимали значение образования. Было в них, тщательно скрываемое, ощущение неполноценности. Для того, чтобы собственное невежество не выглядело совсем уж трагическим, надо было постоянно принижать значение «учености» и утверждать, что она не столь уж и нужна, доказательством чего являлось, по мнению моих генералов, то, что они, неучи, «раскокали» многих ученых генералов.
Отрицая значение образования для полководца, они, в глубине души, понимали его ценность. Иногда сознание собственной невежественности прорывалось наружу, как было это однажды осенью, в Нескучном саду за Москва-рекой (излюбленном месте для прогулок слушателей КУВС). Повстречавшийся мне генерал Апанасенко увлек меня в боковую аллею оголенного осенью и всё-таки прекрасного парка. Крепко держа под руку, словно боясь, что я убегу, Апанасенко медленно говорил:
— Чертовски всё-таки обидно. Посылают меня округом командовать, а ты знаешь, что это такое? В округе восемнадцать дивизий, три танковых, авиация. Требуется палата ума, чтобы управлять всей этой махиной, а где же его взять, если на медные пятаки в детстве учился, а теперь, на шестом десятке лет, учиться трудновато. Нас недолюбливают в армии, говорят буденновцы все главные посты захватили. А почему это происходит? Каждый из нас на деле доказал, что воевать он умеет. В нашей группе на тридцать шесть слушателей 59 боевых орденов, это тебе, брат, не шутка! Раньше просто было воевать, а теперь? Надо командовать комбинированным войском, а я никак не могу запомнить расчетов скоростей танковых соединений и не доверяю авиации. Всё мне кажется, что летчики сверху не разберут, где свои, где чужие и разгонят свои войска так, что их потом и не собрать… Ерунда, конечно, да ведь в военных условиях часто такая ерунда, как сомнение, большую силу имеет… Кажется, дали бы мне командовать полком и ничего больше не надо, а тут на округ посылают.
Впрочем, сетование Апанасенко не помешало ему командовать округом, потом занять место маршала Блюхера, убитого по приказу Сталина, и пребывать в должности главнокомандующего дальневосточными армиями. Во время Второй мировой войны привел он эти армии на запад, со славой сражался и мужественно погиб в бою. На центральной площади Белгорода воздвигнут памятник этому генералу с квадратным, грубым лицом крестьянина.
Ворошилов, стоявший тогда во главе вооруженных сил СССР, часто появлялся в генеральском инкубаторе. После его визита то тот, то другой из генералов исчезал. Через некоторое время становилось известно, что исчезнувший назначен на командный пост.
Назначения были у всех на уме. Питомцы генеральского инкубатора мечтали о том времени, когда они избавятся от КУВС. На свое пребывание в Москве они смотрели, как на неизбежное, но к счастью, кратковременное зло, которое кончится в тот день, когда им вручат приказ о. назначении на командный пост. Они твердо усвоили две истины:
1) Научиться они всё равно ничему не научатся.
2) Независимо от успехов в учении, им предоставят крупные военные посты.
Их расчет строился на знании Сталина и на уверенности, что без них он обойтись не может. Они встречали Сталина в годы гражданской войны, когда он был маловажным винтиком в партийной машине Ленина. Бывали в Кремле тогда, когда Сталин уже установил свою самодержавную власть. Знали, что Сталин не доверит армию никому другому, а лишь им. Более умных, образованных и молодых генералов он пошлет к ним в помощники, но решающие посты в армии всё-таки отдаст им, генералам революции.
Боясь Сталина, мои генералы, тем не менее, ясно отдавали себе отчет в своей полной зависимости от него и знали: будут служить ему верой и правдой. Эти люди были навечно впряжены в колесницу коммунизма, из которой они не могли, да и не хотели вырваться.
Смерть Сталина несомненно повлияет на положение тех из буденновских генералов, которые умудрились уцелеть поныне. Они всё еще играют заметную роль в армии, но вряд ли можно рассчитывать на возрастание этой роли: мавр сделал свое дело. К водительству в армии поднимаются новые люди — более образованные, лучше разбирающиеся в политических вопросах и, может быть, более отравленные ядом властолюбия.
Будут ли «новые» лучше «старых» — не знаю. Покажет время.
Незаметно подошло время выпуска КУВС. Еще до окончания занятий генералы были расписаны по должностям.
Потом были экзамены, в общем, совершенно ненужные, так как назначения давались вне зависимости от их исхода. На экзамене был раскрыт секрет моего педагогического успеха. Когда стали задавать вопросы моим генералам, я постарался скрыться в самом дальнем углу экзаменационного зала. Я не мог себя считать виновным в том, что генералы запоминали только анекдотические случаи из истории, а места для серьезных знаний в их головах не находилось. И всё-таки мне было немного не по себе, когда мои ученики перевирали события, путали имена и выдавали анекдоты за историческую правду. Экзаменаторам стоило не малого труда сохранять серьезность на лицах, когда генерал начинал рассказывать один из анекдотов, которыми я начинил моих слушателей. Но их выдержки оказалось недостаточно, когда подошла очередь В. И. Книги. Его попросили рассказать о Великой французской революции. И по тому, как он мялся, я видел, что он всё сказанное мною позабыл. Помявшись немного, он изрек:
— А это, товарищи, было тогда, когда одна дура-аристократка сказала, что она не понимает бедноты, которая требует хлеба. Она сама хлеба не имеет, а ест пирожные.
В этой неуклюжей передаче известного анекдота Книга излил свои познания касательно великой революции во Франции. Не лучший получился ответ на вопрос о роли Александра Македонского. Книга долго думал и припомнил только то, что великий полководец пришел за поучением к бочке Диогена.
Я был бы удручен, если бы подобную осведомленность генералы проявили только в истории. Но и по другим предметам дело обстояло не лучше. Даже в чисто военных, где у них были всё-таки заметны успехи, обнаруживались зияющие провалы. Так генерал Апанасенко не мог ответить на вопрос Евсеева о сражении на Марне.
— Да знаете ли вы где находится Марна? — настаивал Евсеев, и этой своей настойчивостью вывел из себя Апанасенко, имеющего значительно более высокий военный ранг, чем Евсеев.
— Я-то знаю, где Марна, а вот знаете ли вы где находится Калаус? — ответил вопросом на вопрос Апанасенко (Калаус — крошечная степная речушка, не отмеченная даже на картах).
— Зачем мне знать, где находится Калаус! — раздраженно сказал Евсеев. — Нам надо знать, где происходили великие сражения.
— Так вот, как раз на Калаусе и было великое сражение, — не сдавался Апанасенко. — Я там кавалерию генерала Покровского в 1918 году разбил.
Так и не получив от Апанасенко ответа о битве на Марне, отпустили его от экзаменационного стола.
Жимайтис был очень холоден со мной в этот день. Он что-то проговорил о том, что я четыре месяца занимался анекдотами, а не выполнением учебного плана. Но он был не прав. Если бы я не ввел в преподавание истории Диогена с бочкой, то Книга вообще позабыл бы, что ему говорили об Александре Македонском, а без глупой и наивной парижской аристократки для него не существовало бы и Великой французской революции.
В дальнейшем я уже не приглашался для преподавания истории в генеральском инкубаторе и никогда об этом не жалел. С моими же генералами я потом встречался на протяжении многих лет, находя их во всех уголках страны. Впрочем, прежде чем расстаться с ними в Москве, я провел среди них еще один вечер, заслуживающий того, чтобы о нем рассказать.
Перед тем как отпустить генералов из Москвы, пригласили их на ужин к Сталину. Мне нечего было и думать попасть туда. Но в 12 ночи позвонили в редакцию и незнакомый голос сказал, что я могу приехать в Кремль, пропуск для меня уже заказан. На мой вопрос, обязателен ли мой приезд, человек на другом конце провода подумал и ответил:
— Нет, не обязателен, но если хотите, то можете приехать.
Спрошенный мною редактор распорядился, чтобы я ехал. Всех моих генералов я застал в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Это по их просьбе были вызваны в Кремль преподаватели КУВС, в их числе и я. Сталин к этому времени уже покинул зал. Лакеи в однообразных серых костюмах обслуживали гостей. Мои генералы были навеселе, хотя я слышал, как они перед поездкой в Кремль договаривались не напиваться и «знать меру».
Не стоит рассказывать, как выглядит генеральское веселье в нашей стране, не обходящееся без обильной выпивки. Оно трудно поддается описанию. Одни спорят о былых походах и пьют. Другие поют песни и пьют. Третьи молчат и пьют. Но народ тренированный и опьянению не так-то легко поддающийся. Если иногда случается такой грех, то приписывается он не водке, а плохому настроению. Много раз мне доводилось слышать, как один генерал жаловался другому:
— Знаешь, вчера у меня было отвратительное настроение. Выпил и с колес свалился.
Часа в два ночи я собрался уезжать. Вместе со мною покидали Кремль Книга, Еременко и еще несколько генералов, пребывавших в достаточно откровенном опьянении. Когда мы спускались по широкой, устланной ковром лестнице, к нам подошли чины кремлевской охраны. Они предложили генералам свою помощь, чтобы доставить их домой. Это вызвало возмущение Еременко.
— Они думают, что мы пьяные — твердил Еременко. — Нет, шалишь, нас пьяными не увидишь.
При этом он пошатывался и его надо было поддерживать под локоть.
— Верно, — кричал Книга. — Мы не пьяные. Мы гордыми соколами из Кремля выйдем.
На противоположной Кремлю стороне Красной площади меня поджидал редакционный автомобиль. Я погрузил в него гордых соколов и, отправив их домой, поплелся в редакцию, думая по пути о том, что теперь я избавился от генеральского инкубатора, который будет загружен новой партией птенцов-генералов.
Вознесенский полк бывалый…
Скомпрометировав себя на ниве просвещения советских полководцев и избавившись от генеральского инкубатора, я надеялся, что меня оставят в покое, и пришвартуюсь я в гавани нашей редакции. Но не тут-то было! Через несколько месяцев, более или менее спокойных, получил я повестку из военкомата. Мне предписывалось явиться на командирские сборы, «имея при себе ложку, полотенце и запасную пару белья».
Еще в университетские мои годы введен был обязательный курс военных знаний. Мы возились с макетами местности, изучали оружие, производили топографические съемки и делали множество других мало привлекательных дел, которые все вместе именовались курсом высшей допризывной подготовки. Заведовал военной кафедрой добрейший Павел Илларионович, носивший на своем стареньком щуплом геле мундир комбрига (генерал-майора, как мы условились именовать чины). Он искренне старался изгнать из нас военное невежество, но был близорук и потому не замечал, что на его лекциях мы дружно дремали. Павел Илларионович был из дореволюционных офицеров, давно пора бы быть ему в отставке, но подвернулась военная кафедра и он пошел на это тяжкое испытание.
За то, что в зимние месяцы мы отсыпались на лекциях Павла Илларионовича, приходилось нам расплачиваться летом, когда на три месяца нас увозили в военные лагеря и превращали в солдат и младших командиров. До этого я дважды испил эту чашу. Надеялся, что после университета обо мне забудут, но вот прошло два года — и меня снова требуют.
Если бы я придерживался истины, завоевывавшей тогда всё большее признание и гласившей, что «блат в период социалистического строительства решает всё», то от сборов я мог бы уклониться. Достаточно было попросить кого-нибудь из высокопоставленных чинов армии и приказ о моем вызове на командирские сборы был бы аннулирован. Но руководствовался я тогда другими нормами поведения и потому в назначенный день и час был на сборном пункте, откуда происходила отправка в воинские части. Я в точности знал, что меня ждет и куда отправят. Предстояло мне в течение трех месяцев носить на себе военную одежду, маршировать, петь в строю, спать в палатке и делать множество других дел, без которых я вполне бы мог прожить. Не привлекало меня и то, что в армии делал я заметную карьеру. В первые сборы был рядовым, во вторые отделенным командиром и командиром взвода. На этом основании военкомат причислил меня к комсоставу, что никакого военного пыла во мне не пробудило. Несомненным было и то, что попаду я опять, как и раньше, в Иваново-Вознесенский Пролетарский полк, выходящий в летний лагерь под гор. Ковровым.
Одним словом, всё было заранее известным и непривлекательным.
Однако, в 1932 году, когда всё это происходило, наш эшелон двинулся не в сторону Коврова, а в противоположном направлении. Состоял эшелон всего лишь из двенадцати теплушек, в которых размещались человек триста пятьдесят призванных на летние сборы. Начальник эшелона на каком-то полустанке заглянул в наш «студенческий» вагон (в нем было три десятка студентов и я, недавний студент, назначенный старшим в этой веселой команде) и сообщил, что эшелон направляется под Кривой Рог, куда вышел наш полк, всё тот же Иваново-Вознесенский Пролетарский.
Это уже было интересно. Ковровский лагерь, где нам пришлось до этого бывать, скучнейшее место на земле. Расположен он в изолированном лесу и видишь в нем только солдатские и командирские лица. А тут Украина, Кривой Рог.
Как мы узнали от начальника эшелона, предстояли на Украине грандиозные маневры, для которых стягивались войска из всех военных округов. По этой причине наш полк оказался не в Ковровских лагерях, а под Кривым Рогом, где его причислили к корпусу С. К. Тимошенко.
Оживление, вызванное известием, что направляемся мы к Кривому Рогу, потухло, как только наш маленький эшелон дошел на следующий день до голодающих районов. Перед нами развернулась картина умирающей Украины и ее предсмертные судороги потрясли нас. Молчаливые мертвые села лежали в стороне от железной дороги и редко-редко в них можно было видеть дымок, вьющийся из трубы. Земля лежала невспаханной и мне казалось, что от нее исходит жгучий укор людям.
А люди — страшные и одичавшие — заполняли железнодорожные станции. Когда поезд останавливался, в вагоны врывался разноголосый вопль:
— Хлеба! Хлеба
Бледные до прозрачности, одетые в рваную ветошь, дети подходили к теплушкам и тянули жалкими, рвущими сердце голосами:
— Подайте, ради Христа, товарищи-граждане. На Украине при станциях имеются небольшие садики с запыленными деревцами. Из них в вагоны доносился смрад. Железнодорожники, сами шатающиеся от голода, сносили туда трупы умерших. Нам были видны эти трупы, беспорядочно брошенные под деревьями. Мужские, женские, детские.
Одним словом, мы доехали и прямо с поезда проследовали на гауптвахту. Начальник нашего эшелона еще с дороги сообщил по начальству, что студенты не подчиняются его приказу и отдают свои паек голодающим, а их примеру последовал весь эшелон. Военный харч отдавался гражданскому населению, что, по понятиям начальника эшелона, было деянием наказуемым. Дело дошло до командира корпуса Тимошенко. Тот не наказал весь эшелон, а ограничился тем, что приказал «проветрить» студентов на гауптвахте. Всем дали по три дня ареста, а мне, как старшему, восемь дней.
Отбыв наказание, явился я во вторую роту, в которой оказались и все мои спутники по вагону. Начиналась для меня армейская жизнь, если только не считать ее началом гауптвахту. В первый же день, осматриваясь вокруг, я явственно ощутил, что в полку происходит что-то неладное. Раньше, в Ковровских лагерях, полк наш славился певучестью. Роты уходили на полевые учения с песнями и с песнями возвращались. А тут, под Кривым Рогом, песни замерли. Идет рота в строю, командир приказывает:
— Запевай!
Запевала, он в первом ряду первого взвода, послушно затянет полковую песню:
Город спит привычкой барской А горнист, горнист трубит подъем. Гимн несется пролетарский, Все палатки ходуном.
Дальше должен следовать припев. Командир роты, высокий, не молодой уже человек, наверное из неудачников, иначе почему бы он был в таком возрасте всего лишь комроты? — поведет покатыми плечами и начнет:
Вознесенский полк бывалый Удалых бойцов стране кует, Всегда готовых в бой кровавый За трудящийся народ.
Командир роты поет, а мы молчим. Оглянется командир и безнадежно рукой махнет: — Отставить!
Точно такая же хмурь была заметна в облике всех рот. Песен не слышно, громких разговоров не ведется, споры не вспыхивают. Тимошенко, инспектировавший полк, кричал на командира полка:
— У вас не полк, а похоронная процессия.
Голодающая Украина наплывала на воинские лагеря и на Кривой Рог толпами изможденных людей. К дороге, ведущей в лагерь, подходили мужчины, женщины, девушки, дети. Они молча стояли. Стояли и смотрели. Их прогоняли, но они появлялись в другом месте. И опять — стояли и смотрели.
Политруки из сил выбивались, чтобы вывести бойцов из состояния мрачной, не прорывающейся наружу озлобленности. В нашей роте политруком был Остап Пилипенко, из крестьян Полтавщины. Мы между собой говорили, что в военно-политической школе ему дали добрую понюшку политической премудрости и он никак не мог от нее отчихаться. Большеголовый, лохматый и откровенно глуповатый, он появлялся перед нами и начинал ежедневную политбеседу, или, как он говорил, «политзарядку». В это время газеты, словно в насмешку, заполняли свои страницы сообщениями о расцветающей колхозной жизни. На фоне того, что мы видели собственными глазами, находясь в центре умирающей от голода Украины, газетные сообщения наводили жуть своим циничным враньем. Однако же Пилипенко с превеликим усердием пересказывал нам сказки о колхозном «рае». Запустив пятерню в свою буйную шевелюру, он бегал перед нами, сидящими на земле кружком и, полузакрыв глаза, говорил без умолку. Начинал он с передовицы «Правды», но очень скоро доходил до колхозных тем. Только что начали коллективизацию, а уже какие результаты! — восклицал он, потрясая газетой.
Голодающие крестьяне и крестьянки стояли в стороне и молча смотрели на нас.
Наговорившись досыта о радостях, которые сулит коллективизация, Пилипенко вытирал пот с лица и тыкал грязноватым пальцем в сторону кого-нибудь из студентов. Разговор дальше развивался, приблизительно, так:
— Скажите, товарищ студент, раз вы ученый товарищ, об чем гениальном сказал нам товарищ Ленин в статье о кооперативном плане? Там, значит, вся коллективизация как на ладошке объяснена.
Если выбор падал на моего друга, Леонида Г., студента горного института, человека, как тогда казалось, органически чуждого военному делу, но во время Второй мировой войны вдруг вынырнувшего из неизвестности, получившего генеральское звание и занимающего теперь крупный пост в советской армии, то ответ на вопрос Пилипенко бывал таким:
— Товарищ Ленин об гениальном в своем кооперативном плане много говорит. Ленин учит, что если, допустим, индивидуальное крестьянское хозяйство общими силами и с энтузиазмом развалить, то тогда чересполосицы не будет, хат тоже не будет, а построятся общежития или там казармы для всех, колодец на всех один, бабы обед не будут готовить, а получат еду из полевой кухни, у крестьян скота не будет. И вообще ни черта н6 будет.
Политрук долго крутил головой, словно стараясь вобрать летающие в воздухе слова Леонида, а потом, с присущей ему хитрецой, говорил, что товарищ студент хоть и по-ученому, но правильно всё разъяснил. А бойцы повторяли между собою: «Одним словом, ни черта не будет».
Однажды в четвертой роте случилось «ЧП» — чрезвычайное происшествие. Обварился кашевар Полуектов, здоровенный детина из подмосковных огородников. Особый отдел заимел какое-то подозрение и нагрянул в роту, но псе, в том числе и пострадавший, в один голос заявили, что несчастье произошло по нечаянности и никто, кроме самого Полуектова, в нем не повинен.
Следствие прекратили. Не докопались на этот раз до правды армейские чекисты.
А всё произошло так: к полевой кухне, у которой орудовал Полуектов, рано утром подошла группа бойцов. После короткого, но ожесточенного спора, один из пришедших схватил черпак, зачерпнул в котле бурлящего супа и плеснул им на Полуектова, целясь в нижнюю часть живота. Кашевар взвыл дурным голосом и так его, воющего и изрыгающего проклятия, отвели к полковому врачу.
Нападение на кашевара произошло не без причины, Среди приходящих к лагерю голодающих крестьян и крестьянок было много девушек. А солдаты всякие бывают и не у каждого вид голодающих вызывал лишь скорбь. Люди бездумные среди россиян всегда найдутся, часто и неплохие это люди, но соблазну они поддаются с необычайной легкостью. Присутствие вокруг военного лагеря девушек, обезволенных голодом, не оставляло их равнодушными. Вот к таким любвеобильным сердцам принадлежал и кашевар Полуектов.
За пределами лагеря находилось обширное здание полковой бани и рядом — вещевой склад. Здесь по ночам стояли часовые. Однажды ночью Полуектов завлек в пустующую баню девушку из табора голодающих крестьян, раскинувшегося в степи. Когда он покидал баню, постовые заметили, но задержать не смогли: вырвался из их рук кашевар. Отпустив девушку и сменившись из караула, часовые, распаленные злобой, явились к Полуектову. Кашевар ответил на брань бранью и тогда пошел в ход черпак с раскаленным солдатским супом.
Дыхание голодающей Украины замораживало жизнь полка. В большинстве своем роты состояли из крестьян. Все мысли бойцов были прикованы к дому. С тоской и смятением присматривались крестьянские сыны к тому, что дала коллективизация украинским селам.
Началось роение Солдатская дружба повсюду одинакова, верная это дружба Даже страх перед доносительством не мог ее убить. Сексоты в ротах, надо думать, обязанности свои выполняли, но вряд ли при этом горели энтузиазмом. Тоже ведь люди Чаще по несчастному стечению обстоятельств и реже по подлости натуры или слабоволию в сексоты попадали Тех, что по подлости, распознавали сразу — подлая натура себя на каждом шагу проявит, а солдат, как известно, великий психолог и моментально определяет, каким миром мазан его сосед по взводу или по месту на нарах.
Так что доносительство не могло помешать солдатской дружбе, на крепкий узелок завязываемой В свободные часы бойцы разбредались по лагерю, собирались в группы под деревьями, уходили на стрелковый полигон Беседы между ними были значительными, хоть и немногословными:
— Видел? — спросит один другого.
— Не слепой И оба понимают, что речь идет о таборе голодающих, мимо которого рота проходила.
— Наделали делов, — скажет первый И опять оба понимают, что укор обращен к тем, кто крушит крестьянское хозяйство и вызвал этот страшный голод
— Политрук говорит, что партия и правительство помогут, — подумав скажет другой Оба с сомнением покачают головами.
— Мертвому компресс к заднице приложат, — скажет первый. И столько в этом невинном замечании обиды, что оба надолго замолкнут.
— А что делать? — спросит второй.
Первый сорвет былинку и долго мнет ее в зубах. Потом выплюнет и скажет-
— А я откуда знаю?
Поднимутся они и уйдут — сумрачные, полные сомнений — воины Красной армии.
Начало маневров откладывалось и было предписано проводить полевые учения. Неожиданно вспыхнул интерес к этим учениям С утра отправлялись роты в леса, степи, на берега рек. Вслед за ними тянулись полевые кухни, дымящие на ходу трубами. А за кухнями валили толпы голодающих детей, женщин, мужчин Доползет кухня до назначенного ей места, а там рота уже поджидает. Подходят голодающие. Командиры и политруки стараются подальше отойти Человеческое и им не чуждо Кашевар разливает суп по котелкам, но котелки сразу же из солдатских рук переходят в детские грязные и жадные лапки. Солдатскими ложками орудуют бородатые и голодные мужики, торопятся за ними женщины. Какой-нибудь из бородачей скажет. «Армия-то народная и должна она народ кормить, раз беда такая». Кашевар доходит черпаком до дна. Конец. Быстро расползается толпа в стороны Возвращаются командиры и политруки.
— Как обед — спросит командир роты и печальная усмешка скользнет по его лицу.
— На ять, товарищ комроты.
— На все сто
На разные лады дружно хвалят обед, а у большинства-то и пыль с губ супом не смыта Кашевар, тоже довольный, гонит свою четвероногую тягловую силу к дороге и пустая кухня грохочет черпаками, ложками и пустой посудиной
Вечером роты возвращаются Бойцы от усталости и голода еле переступают ногами по пыли Командир полка встречает роты и подзывает к себе командиров.
— Задание выполнено… За время учения, никаких происшествий не случилось, — рапортуют те
— Почему бойцы так утомлены? — спрашивает комполка. Но это только ритуал, так как он ведь знает, почему утомлены. И так же по ритуалу ответят командиры рот и взводов.
— Жарко было… Переход большой. Надо бы усиленный ужин бойцам.
Комполка в крик ударится:
— Что вы, хотите меня под суд загнать? И так во всем перерасход.
Но вызовет своего помощника по хозяйству:
— Надо было бы ужин покрепче устроить. Утомлены очень бойцы, — скажет он. Хозяйственник с тоской станет возражать, но командир полка понизит голос:
— Павел Ильич, ведь ты понимаешь!
И Павел Ильич направится в каптерку и кашевары по его приказу разожгут дополнительные кухни, бросят в котлы куски мяса, засыплют крупу.
Однажды был объявлен приказ: дивизия, к которой принадлежал Иваново-Вознесенский полк, отправляется в Ковровский лагерь. Маневры отменены.
К железной дороге, на погрузку, прибыли вечером. Грузились на маленькой станции. Забравшись в теплушки, растягивались на полу и быстро засыпали. Солдату бессонница уставом не предписана.
Ночью наш эшелон затарахтел колесами и тронулся в путь. Через полчаса вдруг резко затормозил. Разбуженный толчком и в душе кляня машиниста, я выглянул в дверь. Невдалеке занимались огнем воинские склады, с которых снабжалась наша дивизия и еще две других. Вдоль эшелона забегали люди. Приказ: «Второй роте построиться».
Мы ускоренным шагом приближались к горящим складам. Еще не доходя до них, услышали крики и вопль людей. Звучали редкие пистолетные выстрелы.
Мимо нас в ночной тьме люди волокли за собой тележки, нагруженные ящиками, мешками, бочками. При нашем приближении они останавливались, но видя, что мы проходим, трогались дальше.
У складов бушевала толпа. Крестьяне окружающих сел и обитатели голодных таборов. Подбегали всё новые люди. Они рвались в склады. Через окна летели мешки с сахаром, мукой, катились бочки с рыбой и маслом. Маленький взлохмаченный военный бегал вдоль сараев и стрелял вверх из пистолета. Несколько бойцов, охранявших склад, пытались удержать толпу, но пока они заграждали один вход, люди вливались в другой.
Завидев роту, маленький и лохматый, с пистолетом в руке, подбежал к нам с криком:
— Спасайте военное имущество. Роту привел Пилипенко. Он послушно приложил руку к своей вихрастой голове и почему-то с радостью крикнул:
— Есть, спасать имущество.
По его приказу, мы составили винтовки в козлы и ринулись в склад, еще только загорающийся. Вместе с бородатыми мужиками и истерически кричащими женщинами, мы выбрасывали через окна мешки, ящики, бочки. Только когда стало в складе нетерпимо жарко и языки пламени прорвались через потолок, мы покинули его.
Ничего спасенного нами от огня уже не было. Люди уволокли в свои села. По дорогам, ведущим от склада, двигались толпы. Уносили на плечах, в подолах платьев, увозили на телегах, санках и в колясках продовольствие.
Я с удивлением оглянулся вокруг. Тут оказался весь наш полк, да и из других полков много бойцов. Кое-как соорудив носилки, мы положили на них обгорелые останки двух наших товарищей и, походной колонной, двинулись к железной дороге. Вид у нас был довольно страшный. Какая-то старуха, отставшая от своих, при нашем приближении торопливо закрестилась и с неожиданной прытью скрылась в кустах. У бойцов в глазах появилось какое-то новое выражение — радостное и смелое, даже дерзкое. Словно впервые мы почувствовали нашу слитность и с радостью подчинились приказам общей для нас {всех,} неразделимой солдатской души.
— Запевай! — крикнул Пилипенко, потерявший в огне свой чуб и брови.
— Только веселее, — откликнулся командир роты, оказавшийся здесь же и теперь несущий забинтованную руку на перевязи. Каким-то образом прибился к нам кашевар Полуектов, тот самый, которому бойцы невидные места кипящим супом ошпарили. Славился он на весь полк своим веселым голосом, и лучшего запевалы, по общему убеждению, в мире не могло быть. Его круглое, покрытое сажей и потом лицо было веселым и беззаботным.
Когда раздалась команда запевать, Полуектов крикнул:
— Я буду запевать!
Послышался смех и чей-то голос прогудел из задних рядов:
— Да куда тебе? Ошпарили тебя, как того борова.
— Об чем разговор? — изумился Полуектов. — Они же мне не горло ошпарили, а много ниже. Звонким своим голосом кашевар затянул:
Город спит привычкой барской, А горнист, горнист трубит подъем…
В положенном месте полторы сотни солдатских голосов дружно подхватили:
Вознесенский полк бывалый, Удалых бойцов стране кует. Всегда готовых в бой кровавый За трудящийся народ!
На этот раз песня звучала в полный голос, подтверждая, что правы были те, которые называли Иваново-Вознесенский Пролетарский полком завзятых горлопанов.
Через две недели, когда были мы уже в Ковровском лагере, пришел приказ: меня требовали в Москву. Командир полка был смущен: он не знал, что в его полку один из солдат второй роты — военный корреспондент, которого телеграммой вызывает в Москву «сам» Гамарник. Я понимал комполка. Видел ведь я не только то, что мне показали бы, явись я сюда в роли военного корреспондента, но и многое другое, что обыкновенно не показывается и о чем стараются не говорить.
Впрочем, командир полка напрасно беспокоился. Я ничего не мог написать, а если бы рискнул писать, то восторженно рассказал бы о солдатской душе, которую я и в себе тогда явственно ощутил.
Джунгли
На Кубани это было, в 1933-м под осень.
Если люди об этом смутном времени позабудут, то сама земля о нем напомнит. Не может быть такое предано забвению.
Через много лет, будучи уже за пределами России, рассказывал я о виденном мною тогда. Мои соотечественники, покинувшие родину на четверть века раньше меня, сокрушенно качали головами, но по их глазам я видел: сомневаются.
Потом я долго сидел в американской тюрьме в чудесном австрийском городе. Шел спор о моей голове.
— Отдайте! — требовали советские представители.
— Нет! — упорствовали американцы. — Представьте обвинительные материалы.
А по вечерам в мою тюремную камеру приходили американские офицеры и солдаты, всё больше из студентов. Владеющие русским языком или думающие, что они владеют. Хотели послушать странного русского, предпочитающего находиться в тюрьме, но не возвращаться на родину. Я рассказывал американцам о стране их советского союзника. Из-за этих вечерних собраний комендант тюрьмы, пожилой американский офицер, перевел меня в просторную камеру и прислал с солдатом стопку бумаги и пишущую машинку с русским шрифтом, чтобы я мог записывать рассказываемое.
По вечерам приходило в мою камеру человек пять-шесть. Последним появлялся комендант. Он ни слова не говорил по-русски, но старательно высиживал до конца.
Однажды я рассказал моим слушателям о виденном мною на Кубани в 1933 году. Слушали внимательно и видно было — заинтересованы чрезвычайно. А когда я кончил, один из слушателей — он сейчас здесь в Америке свои силы на литературном поприще пробует — воскликнул:
— Да ведь то, что вы рассказали, чудесный сюжет для фильма!
Все начали тогда обсуждать, как из всего этого можно было бы сделать фильм, а я сидел подавленный. Я рассказал им правду, а для них она показалась занимательным фильмовым сюжетом. В их умы эта правда не вмещалась.
Потом я стоял перед столом, покрытым зеленым сукном. На правом конце стола бесновался советский представитель — полковник Ш. Вдоль стола сидели американские офицеры. Среди зеленых мундиров выделялся китель морского офицера и скромный серый костюм молчаливого человека в штатском, американского дипломатического агента.
Я молчал. За меня говорил американский военный следователь. Шаг за шагом он отбивал нападения советского представителя. Под ударами документированных утверждений рассыпались карточные домики советских построений о якобы совершенных мною смертных грехах. Когда из рук полковника Ш. были выбиты все его карты и он начал попросту ругаться и грозить свернуть мне и моим «покровителям» шеи, председательствующий полковник с утомленным немолодым лицом, обратился ко мне:
— Наше следствие опровергло советские обвинения, направленные против вас. Но нам не ясно, почему вы не хотите добровольно вернуться на родину?
Я начал отвечать. Рядом со мною очутились переводчики из тех, что навещали меня в тюрьме. Через пять минут после того, как я начал говорить, полковник Ш. кричал, что я веду здесь «лживую пропаганду». Через десять минут он требовал «прекратить оскорбление союзной державы». Через пятнадцать — кинулся на меня с кулаками, но наткнулся на несокрушимую стену, образованную широченной грудью гиганта МП (американского военного полицейского). Не пробив этой стены, советский представитель, откровенно сквернословя, запихнул в портфель свои бумаги и ринулся к выходу. Стоявший у двери американский солдат услужливо протянул ему плащ.
Я продолжал говорить. Прошел час — я говорил. Переводчики менялись. Председательствующий подвинул мне стакан с водой, но я им не воспользовался. В каком-то месте я остановился. Надо было бы, по порядку, рассказать о том, что я видел на Кубани, но в то же время обожгла мысль: «Не поверят. Сюжет для кино». И я сделал скачок к войне, не рассказав о той правде, о которой, если люди о ней забудут, земля напомнит.
Почти через два часа я замолчал, удивленный тем, что меня ни разу не прервали. А еще через полчаса я слушал решение:
«В насильственной выдаче Советскому Союзу отказать».
Но прошел еще не один месяц, прежде чем я покинул тюрьму. Спор о моем черепе велся в каких-то других сферах.
Уже будучи на свободе, стал я встречать в эмигрантской прессе короткие и в большинстве своем случайные упоминания о событиях тех лет в тех именно местах, в которых берет начало правда, кажущаяся кинематографическим сюжетом.
Кусочки правды принесли с собой люди за пределы отчизны. Мой кусочек, быть может, немного крупнее других и я присоединю его к тем, что уже представлены на всеобщее суждение.
Однажды редактор позвал меня к себе в кабинет. Сказанное им не было для меня новостью. Лазарь Каганович уже много месяцев находился на Северном Кавказе в качестве чрезвычайного уполномоченного ЦК партии. Происходило что-то такое, о чем редакции следовало бы знать и потому надлежало мне испросить разрешение в Политуправлении Красной Армии и отправиться в войсковые части, расквартированные на Северном Кавказе.
Разрешение было дано, а на сборы много времени не требовалось: фотоаппарат через плечо, блокнот в карман, портфель с парой книг, полотенцем, мылом и бритвой — вот и все сборы.
Мой коллега из ТАСС'а предупредил меня, чтоб в Ростов я не ехал. При явке на регистрацию меня отправят назад в Москву, как незадолго до этого отправили его. Таков приказ Кагановича.
В связи с этим, предпринял я глубокий обходной маневр и вскоре оказался в районе Армавира. К моему удивлению, я не застал на месте кавалерийскую дивизию, которой командовал тогда Белов (во Второй мировой войне он с блеском водил рейдовый кавалерийский корпус и долго держал под угрозой Смоленск, занятый немцами). Интендантство, склады, мастерские на месте, а полков нет: ушли.
Выяснив, что полки взяли курс на Брюховецкую, помчался я вслед. Пользуясь моим мандатом, употребив всю силу убеждения, на какую только был способен, получил я из дивизионного гаража «ГАЗик», нагрузил его канистрами с бензином, и с солдатом-шофером по фамилии Козликов запылил по дорогам.
Бывают люди, у которых каждая черта мелка и незначительна. К таким принадлежал мой шофер. Интерес представляло лишь то, что он, как это редко бывает, сам сознавал свою неприметность.
— Я своих предков не одобряю из-за их мелочности, — сказал он мне по дороге. — Рост у всего нашего рода никудышный, а тут еще имя подобрали мелкое и прямо-таки унизительное. Ну, что стоило моим прародителям назваться Быковыми, Быкадоровыми, Бугаевыми или еще как, по-серьезному. Хоть бы. Козлов, а то ведь, черти, что придумали: Козликов. От такого имени мычать хочется.
Козликов смачно сплюнул в сторону и нажал на газ. Автомобиль завизжал, заскрежетал, зачихал и понесся по дороге, ежеминутно грозя развалиться.
К станице Брюховецкой мы подъехали перед вечером. Солнце опускалось в стороне и, как часто бывает в степях, казалось оно огромным, на кузнечном горне раскаленным шаром, грозящим упасть вниз. От такого пыльно-красного, не режущего глаз солнца людям становится не по себе и заползает в них тревога.
Сунулся было Козликов в одну улицу и остановился: заросла улица бурьяном и не проехать по ней. Повернул он направо и, пересекши кочковатое поле, на котором «ГАЗик» уподобился скачущей блохе, вкатил в другую улицу. Тот же результат: не проехать.
Козликов похлопал по рулю своими маленькими испачканными ручками и повернулся ко мне.
— Что будем делать?
К центру станицы, где высилась церковь с голубыми куполами, можно было пробраться только объехав станицу вокруг. Предоставив Козликову вести автомобиль в объезд станицы, сам я отправился пешком.
Я знал, что на Дону и Кубани произошел разгром казачества, пытавшегося было сопротивляться коллективизации, а теперь мне предстояло видеть вблизи казачью станицу, на которую обрушилась карающая рука советской власти. Улица, по которой я шел, представляла собою ничто иное, как джунгли, никогда до этого мною невиданные. Бурьян рос выше человеческого роста. Из-за него не видно было домов. К ним надо было пробираться сквозь эти заросли. Казачьи жилища были безлюдными и мертвыми. Они смотрели на то, что когда-то было улицей, провалами выбитых окон. В домах пыль и запустение, брошенные тряпки, битая посуда. В одном доме была прикреплена к потолку детская «колыска» (люлька). В другом валялась кошка, превратившаяся в комок шерсти и даже смрада уже не издающая.
В третьем, четвертом, шестом доме — всё та же картина. Я завернул еще в один дом, но, войдя в него, быстро вышел наружу, изгнанный зловонием. В те полминуты, что я провел в нем, увидел я два человеческих трупа. На полу сидела старуха, опустив на грудь седую, взлохмаченную голову. Она привалилась спиной к лежанке, широко раскинула ноги. Мертвые ее руки были скрещены на груди. Знать так она, не расцепив рук, отдала Богу душу. С лежанки свешивалась желтая старческая рука, опустившаяся на седую голову женщины. На лежанке виднелось тело старика в холстинной рубахе и в холстинных же штанах. Босые ступни ног высовывались за край лежанки и видно было, что много походили по земле эти старые ноги. Лица старика я не мог рассмотреть, повернуто оно было к стенке.
К стыду своему, я должен признаться, что не на шутку напугался. Почему-то меня особенно потрясла рука, лежащая на мертвой голове старухи. Может быть последним усилием, опустил старик руку на голову мертвой подруги и так они оба застыли. Когда они умерли — неделю, две недели назад? С тех пор, как карательные отряды подавили в станице попытку восстания, прошло три четверти года. Оставшиеся в живых — женщины, дети, инвалиды, — были погружены в эшелоны и увезены в дальние края. А эти старики как-то остались. Умерли они в родной хате, захлестнутой бурьянными джунглями по самую крышу.
Решив не заходить больше в дома, а поскорее добраться до живых людей, я углубился в джунгли, сквозь которые была протоптана тропинка. Я шел по ней, а с обоих сторон вздымались стены из буйной поросли сорняка. Изредка, где бурьян рос реже, можно было видеть дома, стоящие по сторонам улицы — пустые и безмолвные. Потом бурьянные стены скрывали всё и начинало казаться, что во всем мире есть только этот бурьян, разросшийся с силой невиданной.
Иллюзия, что нахожусь я в джунглях, настолько завладела мною, что когда в стороне послышались крадущиеся легкие шаги и бурьян заколыхался, я остановился с замершим сердцем. Не тигр ли?
На тропинку выскочила кошка. Самая обыкновенная серая кошка из тех, что в городах именуются Мурками, а в селах Кисами. Я обрадовался, что хоть какое-то живое существо повстречалось. Извлекши из кармана бутерброд, я предложил его кошке. Она не подходила. Я отступил на несколько шагов назад, оставив бутерброд на месте. В один прыжок кошка достигла его и молниеносно пожрала. Считая, что основа для знакомства создана, я направился к кошке, ласково зовя ее. Кошка грозно шипела, но с места не трогалась. Когда я протянул руку, чтобы погладить ее, она вдруг вздыбила шерсть на спине. Яростно куснула меня в ладонь и прыгнула в заросли.
Ладонь оказалась прокушенной довольно основательно. Кое-как перевязав руку носовым платком, двинулся я дальше. Но не успел сделать и двух десятков шагов, как со стороны донесся разъяренный крик, шипенье, удары. Крик определенно принадлежал человеческому существу. И в то же время он был страшным, замораживающим кровь. Я стал ломиться через заросли. Шум раздавался совсем рядом, но я еще ничего не видел. Наконец, я раздвинул последний вал бурьяна и застыл в оцепенении.
Увиденное мною было чудовищно и неправдоподобно; словно какая-то неведомая сила отбросила меня в доисторическую эпоху. Среди бурьянных джунглей росло здесь одинокое дерево: акация. Вокруг дерева бегал совершенно голый человек. Взлохмаченная копна грязных волос шевелилась при каждом его движении. Длинная растрепанная борода падала на волосатую грудь.
Передо мной был пещерный человек в том виде, в каком мы привыкли видеть его на рисунках в школьных учебниках.
Он делал то, что и положено делать пещерному человеку: гнался за хищниками. С десяток разномастных кошек метались вокруг дерева, под которым валялся мертвый голубь. Человек отбивал для себя пищу. В правой руке он держал увесистую дубину. Валялись две кошки с разбитыми головами.
Человек кричал, но, слов было не разобрать.
Потрясенный виденным, бежал я через бурьянные джунгли, пока не столкнулся лицом к лицу с Козликовым. Обеспокоенный моим долгим отсутствием, он отправился на поиски. С десяток красноармейцев сопровождало его, все широкоскулые и косоглазые. Татары. Мы вернулись назад к акации, но там уже было пусто. Голый человек и яростно нападавшие на него кошки исчезли в бурьянных джунглях. Татарин, командир взвода, отбросил ногой мертвых кошек.
— Это Ерема их убила, — сказал он, с трудом справляясь с русской речью. — Такая безумная человека тут живет. Казака была, женка, детка имела. Женка, детка теперь на Сибирь пошла, а Ерема безумная стал, бурьян живет.
Другая часть станицы была заселена людьми. Бурьянных зарослей там не было. По приказу Кагановича, переведен в Брюховецкую колхоз из соседней области, однако же огромная казачья станица оказалась слишком просторной для небольшого колхоза, потому и стоят нетронутыми бурьянные джунгли на одной ее половине. Один только живой человек обитает там — безумный Ерема. Последний обитатель станицы, имевшей до коллективизации двадцать тысяч жителей.
На постое в Брюховецкой стояли два эскадрона из беловской дивизии и отряд внутренних войск ГПУ — полусотня человек. В то время чисто национальных формирований уже не было. Гамарник, колдующий над созданием межнациональной войсковой смеси, добился их разжижжения инородным элементом, — поэтому эскадроны из четырех взводов каждый, имели по три татарских взвода и по одному, укомплектованному русскими. Командовал кавдивизионом (тогда еще существовали кое-где кавдивизионы, соответствующие пехотным батальонам) молодцеватого вида командир, если не ошибаюсь, его фамилия была Тетерин. Хотя, может быть, Глухарев или еще что-нибудь в этом птичьем роде. Мне всегда было трудно запомнить имена и даты.
Тетерин (условимся его так называть) встретил меня укоризненным покачиванием головы. Из его слов я понял, что совершил почти недопустимую вольность, пройдя через бурьянные джунгли. Он боялся ответственности за меня, случись со мной беда. Я успокоил его, сказав, что ответственность за малозначительного корреспондента не была бы слишком тяжелой.
Отрядом ГПУ командовал какой-то Перепетуй, как сообщил мне Тетерин. Он предупредил меня, что Перепетуй обязательно пожелает меня видеть. Действительно, не прошло и получаса, а за мной уже явился белобрысый молодец в фуражке с зеленым околышем. Часто шмыгая носом, он сообщил, что Перепетуй приказывает товарищу, прибывшему в станицу, немедленно явиться к нему.
За те полчаса, что разговаривал я с Тетериным, узнал я от него о лютой вражде между ним и Перепету-ем. Хоть жили они в одной станице, но друг друга старались не замечать. Не сговариваясь, они провели через жилую часть станицы незримую демаркационную линию и ни тот, ни другой за линию — ни ногой.
Тетерин посоветовал мне идти к этому… Он так перефасонил фамилию Перепетуя, что совершенно невозможно привести ее в новом звучании.
Пошли. Когда отдалились шагов на двадцать от дома, в котором помещался Тетерин, белобрысый мой спутник вдруг выронил из рук винтовку, присел на корточки и залился визгливым хохотом. Удивленный, я остановился и мне довольно долго пришлось ждать, пока этот весельчак придет в себя. Он хохотал над тем, как ловко Тетерин перекрутил фамилию его командира. Смачная острота Тетерина дошла до его сознания с запозданием.
Нахохотавшись, белобрысый поднял с земли винтовку и мы пошли дальше. Теперь он необыкновенно часто шмыгал носом, словно хохот нарушил какой-то обязательный ритм и он ускоренным темпом наверстывал упущенное.
Перепетуй встретил меня, чинно восседая в просторной хате у стола, с разложенными на нем бумагами. Это был ражий детина. При моем входе он слегка приподнял со скамьи свое необозримое туловище, но с подозрительной поспешностью опустил его назад. Грозный чекист был явно пьян и не верил в силу своих ног. Я с удивлением рассматривал это странное сооружение природы: не часто увидишь такое! Маленький, приплюснутый сверху череп переходил в узкий лоб, а ниже вздымались бугры налитых бурачным соком щек, между которыми лиловой грушей торчал нос.
«И чем тебя такого чертолома, вскормили?» — хотелось спросить.
Рядом с Перепетуем сидел молодой человек с тонкими чертами порочного лица. Я знал уже эту новую разновидность чекистов. Чекист — энтузиаст. Не совсем лишен интеллигентности, может быть даже в ВУЗ-е учился, а потом на работу «в органы» напросился и теперь изучает опыт старого чекиста Перепетуя, который в человеке видит, прежде всего, затылок, куда можно всадить пулю.
Предстояла процедура мне уже известная. Не ожидая вопросов, я протянул Перепетую* мой мандат. Он уперся в него свинцовыми глазами и долго рассматривал. Потом приказал денщику (наглый парнишка лет двадцати, поступь вороватой кошки) подать очки. Водрузив на сизую дулю носа огромные роговые очки, опять присосался Перепетуй глазами к мандату. И опять, вероятно, ничего не понял в нем, не могли очки помочь его пьяным глазам! Однако, вид держал Перепетуй строго и, протягивая мандат помощнику, буркнул: «Кажется в порядке». Потом закричал на меня хриплым басом:
— Ты что ж это, растакую твою мать, приехал в станицу, а на регистрацию не являешься?
Я «взыграл», как часто это со мной случалось, и ответил Перепетую парой фраз из лексикона одесских портовых грузчиков. По тогдашним моим понятиям, этот лексикон весьма полезен при встречах с такими, как Перепетуй, которыми Русь никогда не оскудевала. Результат получился неожиданный. Перепетуй вдруг преисполнился уважением ко мне и протянул свою пудовую лапищу:
— Здорово, браток, — прогудел он.
В это время помощник Перепетуя сообщил ему новость, состоящую в том, что мой мандат подписан самим Ворошиловым, а вторая подпись Гамарника. Перепетуй, до этого рассматривавший мандат в течение десяти минут, удивился и опять потянул его к себе. Очки он позабыл водрузить на нос. С большим трудом он узрел внизу подпись Ворошилова, но это и всё, на что хватило его зрительной силы.
— Так ты, значит, фураж для армии приехал собирать? — спросил он меня.
Затуманенный мозг Перепетуя рождал фантастические предположения. Помощник пояснил ему, что я не фуражир, а корреспондент. Это окончательно привело его в умиление и он, одним движением отодвинув в сторону бумаги, крикнул:
— Гришка, подавай на стол. Там у меня под кроватью литра очищенной, волоки ее!
От ужина я отказался и имел неосторожность сказать, что обещал ужинать с Тетериным. Перепетуй, недовольно сопя, строго сказал мне.
— Являться каждый день на регистрацию к моему помощнику. Понятно?
И добавил, обращаясь к тому:
— Запроси-ка Ростов, может у него поддельный мандат…
Я ушел. До незримой демаркационной линии меня провожал помощник Перепетуя, не проронивший ни одного слова и всё же вызвавший во мне жгучую ненависть, которую даже Перепетуй не вызвал.
Надо было бы мне ехать дальше, вдогонку за дивизией Белова, но со мной всю мою жизнь бывало так, что приковывался я к месту, где что-то поражало мое воображение. В Брюховецкой я всё время ощущал близость Еремы, доисторического человека, занесенного в XX век. Станица была полна рассказами о нем. Ерема до коллективизации состоял председателем стансовета, был коммунистом, а когда началась коллективизация, порвал он партийный билет на виду у станичников и примкнул к тем, что решили оружием свои дома от советской власти защитить. Большинство их погибло в стычке с отрядом Перепетуя и с войсками, обложившими восставшую станицу, но Ереме удалось скрыться в малярийных трущобах, откуда каждый год налетают на Кубань тучи комаров. Как он перезимовал — никто не знал. В средине лета появился он среди бурьянных зарослей. К дому тянуло его. Но в доме уже никого из близких Ереме не было, а поселились переселенцы. Однажды ночью поджег Ерема бывший свой дом и пока люди спасали из огня имущество, он прыгал невдалеке и издавал радостный вопль. При приближении Перепетуя с его людьми Ерема исчез в бурьянных джунглях и сколько его не искали там — не нашли.
С тех пор переселенцы, особенно же солдаты из эскадронов Тетерина, с великим любопытством следили за единоборством Еремы с Перепетуем. Судьбе было угодно, чтоб это единоборство завершилось при мне.
Отряд Перепетуя и солдачы Тетерина регулярно «прочесывали» бурьянные джунгли. Пробовали было косить их, да только земля снова с силой страшенной рожала сорняки и гнала их к небу. Выкосят одну улицу, переходят в другую, и пока косят эту, первая опять заросла. Надо было бы огнем сжечь, но тогда сгорят все пустующие дома. Да и другую часть станицы, где люди живут, не легко было бы от огня спасти.
Потому-то и ограничивались «прочесыванием» джунглей.
Однако, так как вражда существовала не только между командирами, но и между бойцами, то операция «прочесывания» производилась не соединенными силами, а по отдельности. Тетеринские красноармейцы при одном виде Перепетуевских молодцов приходили в ярость. И было отчего. Отряд Перепетуя состоял из бывших уголовников, а вы знаете, что значит, когда уголовнику дают оружие и приказывают: действуй!? До самого Ростова доходили слухи о недоброй лихости Перепетуевского отряда. Целым взводом нападали перепетуевцы на редкие дома уцелевших казаков, грабили, насиловали женщин. Люди бежали к Тетерину, посылал тот своих татар и русских, чтоб утихомирить разбушевавшихся урок, но те во-время смывались. Писал Тетерин рапорты, а Перепетуй отписывал по начальству: «Клевета и вылазка классового врага».
Тетеринский дивизион и Перепетуевский отряд представляли два разных и непримиримых мира. В эскадронах были крестьянские сыны, хоть и не одной крови, но одинаковыми нитями к земле привязанные и потому болезненно пережившие насильственную коллективизацию. Картина разоренной Кубани не могла оставить их равнодушными. Их поставили в опустошенной станице, так как власти боялись нового восстания, и они послушно несли охрану. Вероятно, если бы, не дай Бог, случилось восстание, они выполнили бы приказ и подавили его. Сделали бы это не в силу долга, а по чувству необходимости, от которой некуда уйти.
Другое дело Перепетуевский отряд. В него были подобраны парни бывалые, с «мокрым делом» хорошо знакомые. Эти с необычайной легкостью переступали грань необходимого, чужая жизнь, да и своя, для них — «копейка». Им совершенно наплевать, какой общественный смысл имеет их жестокая деятельность, важно, что у них в руках оружие. Для них эта жизнь — сплошная «лафа». Весь мир этой уголовной шпане представляется враждебным и потому она, спаянная профессиональной круговой порукой, с наслаждением пользовалась данным ей оружием.
Как могли примириться эти два мира, один, вырастающий из глубинных народных корней, и другой — ржавчина, разъедающая металл?
В один из дней моего пребывания в станице Перепетуй предпринял очередное «прочесывание» джунглей. Он прислал к Тетерину своего помощника с требованием пройти через заросли второй линией. Это не имело большого смысла, но, всё равно, люди томились бездельем и Тетерин дал согласие, отрядив один эскадрон в пешем строю.
Перепетуевский отряд рассыпался цепью и двинулся в заросли. Нельзя сказать, что при этом специальной целью ставилась поимка Еремы, главным был страх, что по этим бурьянным джунглям подойдут повстанцы, их много в степи бродило тогда. Но и поимка Еремы входила в круг задач, особенно с тел пор, когда перепившийся Перепетуй поклялся «бородой Маркса и бородавкой Энгельса» (была ли у Энгельса бородавка?), что он Ерему поймает и в землю гвоздем вгонит.
Вслед за Перепетуевским отрядом двинулись бойцы Тетерина, с которыми отправился и я. Впереди, в паре сотен метров, раздавались крики и частые выстрелы. Это перепетуевцы забавлялись, стреляя по одичавшим кошкам, расплодившимся здесь во множестве.
Продираться через джунгли было трудно. Грязно-зеленые, толщиной в перепетуевскую руку, стебли бурьяна росли густо, к тому же между ними ползучий сорняк как бы сетку сплел из крепких своих стеблей. Солдаты взмахивали саперными лопаточками, подрубая бурьян, плечом рвали сетку ползуна. Каждый шаг требовал усилия. Непривычный к передвижению в этом зеленом чертополохе, я отстал. Слышал совсем близко от себя голоса бойцов — татар, но угнаться уже не мог.
И вдруг голоса смолкли, что-то случилось. Вместо них послышался впереди хрип, словно стадо запаленных бегом буйволов с шумом переводило дыхание. Донесся приглушенный вскрик, скорее звериный, чем человечий. Я изо всей силы заработал локтями, ногами, плечами, чтобы протиснуться вперед и рвался я с таким самозабвением, что, не заметив, споткнулся о растянувшегося в траве молодого татарина.
— Ш-ш-ш, — зашикал он, призывая меня к тишине.
Я опустился на землю рядом с ним. Внизу, у корней, бурьян не так сплелся и стало видно, что вправо и влево от нас лежат бойцы из Тетеринского эскадрона. Их взгляды были прикованы к тому, что происходило впереди. Там из земли торчал большой серый камень. По какому-то странному капризу бурьянная поросль обежала камень и образовала маленькую полянку, шагов тридцать с одного края до другого. Камень оказался в центре полянки, а под ним темнело отверстие ямы. У самой ямы лежал человек в форме ГПУ. По тому, как он лежал, было видно — мертв: так только мертвые к земле прижимаются.
В десяти шагах от камня, с тяжелым урчанием, катались голый Ерема и Перепетуй. Ерема обхватил Перепетуя своими коричневыми руками. Это объятие было не из легких. Перепетуй хрипел, не в силах закричать. В то же время он душил Ерему за горло, погрузив пальцы в дикую поросль, венчающую низ Ереминого лица. Я потерял представление о времени. Думая после о случившемся, я понимал, что вся эта сцена могла занять одну-две, может быть пять минут. Но тогда я был вне времени и мне казалось, что борьба между Еремой и Перепетуем началась бесконечно давно. Ерема издавал не хрип, а какие-то странные звуки. Может быть, такие звуки издавали наши далекие предки после того, как слезли они с дерева, и с четверенек поднялись на две конечности. Во мне пробудилось какое-то странное ощущение, которое я не могу передать словами Не то, что я почувствовал себя обросшим шерстью, но нечто похожее на это. Оно поднималось откуда-то с неведомых глубин моего существа и порождало во мне не страх, а какую-то радость и желание издать победный крик. При этом мне почему-то казалось, что голый Ерема из моего человеческого рода, а хрипящий Перепетуй из рода враждебных нам с Еремой четвероногих
Перепетуй изловчился и изо всей силы ударил коленкой Ерему. Взвыв от боли, Ерема расцепил руки и схватился на ноги. Торопливо расстегивая кобуру пистолета, вслед поднимался Перепетуй. Но извлечь оружия он не успел, так как Ерема опять набросился на него и с бешенной яростью стал бить в лицо. Они тяжело переступали, рычали.
Я не знал, не знаю и поныне, был ли безумным Ерема, но поступал он разумно. Медленно, шаг за шагом, оттеснял он Перепетуя к камню. Там валялась огромная дубина Еремы и он хотел получить ее в руки. Вероятно, этой дубиной был сражен и тот, что лежал мертвым у ямы.
Перепетуй понял замысел Еремы и отчаянно сопротивлялся. И всё-таки они медленно приближались к дубине, которая могла одним ударом решить их спор. Когда до камня оставалось два-три шага, Ерема, издав торжествующий вопль, освободил Перепетуя, схватил с земли дубину и занес ее над головой, как, вероятно, заносил ее над головой доисторический человек. Но Перепетуй успел извлечь пистолет и дважды выстрелил. Ерема закачался, но дубину всё же на голову Перепетуя обрушил. Тот грохнулся на землю, а рядом с ним медленно осел Ерема, судорожным движением подтянул голые колени к подбородку, потом распрямил их и затих.
Перепетуй был жив. Он повернулся на бок и стал медленно подниматься.
Дубина Еремы не сразила его на смерть. Ослабили силу удара пули, а может быть череп Перепетуя был повышенной прочности и выдержал удар. Для чекиста нет ничего невозможного.
Перепетуй стоял на четвереньках и собирался с силами, чтобы стать на ноги. Он не видел сотен глаз, устремленных к нему из зарослей. Это были чужие, недобрые глаза. Вероятно и мои глаза были наполнены этим недобрым. Бойцов из перепетуевского отряда не было видно. Они ушли далеко вперед и пистолетные выстрелы Перепетуя их не могли привлечь.
Еще миг и Перепетуй поднялся бы на ноги, но в это время из зарослей выбежало человек пять бойцов. Я не успел рассмотреть их лиц, но были там татарские лица и русские. И потом среди них был… Или мне это только показалось? Бойцы приближались к Перепетую с занесенными над головами прикладами винтовок. Чекист стоял на четвереньках и разъяренно хрипел навстречу. Я на миг закрыл глаза. Донеслись глухие удары. Когда я снова посмотрел, Перепетуй лежал, корчась в агонии, а в заросли бурьяна убегали бойцы.
Командир взвода, тот самый татарин, что вышел ко мне навстречу с Козликовым, привалился к самому моему плечу:
— Убила Ерема Перепетуя, убила! — шептал он мне в ухо. Я посмотрел в его коричневые, напряженные глаза, увидел в них ожидание, вопрос — и сказал, почему-то тоже шопотом:
— Ерема безумным был, вот и убил Перепетуя.
На другой день хоронили Перепетуя и солдата из его отряда, убитых Еремой. Самолет доставил из Ростова краевое начальство, а другой — оркестр. В центре станицы была вырыта могила. Перепетуй лежал в красном гробу, лиловая груша носа была печально поднята к небу. Говорились речи, играл оркестр. Я сфотографировал на память мертвого Перепетуя.
Затесавшись в толпу, я стоял, не вслушиваясь в речи ораторов. Мало говорилось о заслугах Перепетуя, зато угрозы расправиться с классовым врагом сыпались беспрерывно. Это было привычно и не об этом думал я. Рядом со мной оказался Козликов. Его маленькое, с мелкими чертами лицо было на этот раз бледнее обычного. Неужели я не ошибся и Козликов был среди тех, что выбежали на поляну с поднятыми над головами прикладами? Впрочем, об этом не надо думать. Перепетуй убит Еремой, это все, что нужно твердо знать.
В два ряда в конном строю стояли эскадроны Тетерина. Я окинул взглядом сосредоточенные лица бойцов. Ближе ко мне был тот эскадрон, который был послан Тетериным на «прочесывание» джунглей. На высоком, поджаром коне комвзвода, смотревший на меня там, в бурьяне, коричневыми, наполненными ожиданием глазами. За ним — ряд солдатских лиц. И ни в одном лице я не вижу волнения. Ерема убил Перепетуя, что можно тут поделать и о чем думать?
И всё-таки я не могу совсем уверовать в то, что Перепетуя убил Ерема. Я видел это. И я почувствовал в тот миг биение во мне самом коллективной души, приемлю-щей убийство Перепетуя. Кем оно совершено? Теми пятью, что бежали с поднятыми над головами прикладами, или нами всеми, смотревшими из зарослей и не сделавшими ни одного движения, чтобы остановить убийство?
Но не это главное. Главным является: почему убит Перепетуй? Есть ли это политическое убийство? И я твердо ответил: нет! Такие люди, как Перепетуй, страшны, а когда они имеют оружие и власть, то они страшны вдвойне. От Перепетуев великое зло на свете происходит. Тетеринские кавалеристы видели это зло. Но могли ли они провести прямую линию от Перепетуя к власти? Вряд ли. Перепетуй оставался для них сам собой, и, ненавидя его всей душой, люди не задумывались над тем, что он — лишь отраженный облик власти. Нет, нет! Об этом не задумывались, как не задумывался тогда и я.
В эскадроне было с десяток коммунистов. Вероятно, были и секретные осведомители. Но они, вольно или невольно, стали участниками убийства Перепетуя. Только упрощенное представление о душе человеческой могло бы сделать обязательным привычную картину: после убийства Перепетуя коммунисты сообщают о нем в свои парторганизации, сексоты пишут доносы, начинают аресты, гибнет Тетерин, который, ничего и не знал о случившемся, за одного Перепетуя, похожего на бурьян, расстреливают половину эскадрона и — пролетарская справедливость торжествует.
Не спорю, бывает и так, часто бывает. Но только в данном случае этого не было. Люди угрюмо молчали. Секретные осведомители, если они были среди бойцов, молчали. Коммунисты молчали. С ними молчал и военный корреспондент, точно запомнивший, что Перепетуя убил безумный Ерема.
Вот и воздвиг я маленький, скромный памятник Ереме, о котором часто и подолгу думал.
Знаю, многие отнесутся к рассказанному скептически. Ведь так, в действительности, трудно сочетать XX век с его автомобилями, атомными бомбами, холодильниками, автоматическими зажигалками — и голого, страшного Ерему, бредущего по голой страшной земле. Мне и самому теперь кажется, что Ерема — лишь плод моей фантазии и требуется сделать над собой усилие, чтобы вернуть себя на двадцать лет назад и увидеть в страшной реальности тех дней вполне реального Ерему.
Два портрета
С. М. Буденный
Во Второй мировой войне сильно изменился облик офицерского состава Красной армии. Пошел в гору молодняк. Безвестные майоры и капитаны стали генералами. Полковников Рокоссовского и Малиновского война сделала маршалами.
Новые цепки и напористы. Они лучше обучены, чем старые. Кое-что почерпнули в школах-девятилетках. Прошли военные училища и военные академии. Лучше вышколены, больше уверены в себе и тоньше ощущают вкус властвования над людьми.
Но в то же время в новых живет дух старых революционных полководцев. Да и сами эти полководцы — поседевшие, обрюзгшие, истомленные жизнью — со сцены не уходят. В молодом армейском офицерстве сочетается бездумность и внутренняя опустошенность старшего поколения с жадной и неразбирающейся в средствах приспособляемостью, привитой новому поколению эпохой вырождающегося коммунизма. «Новые» продолжили традиции «старых» и окончательно низвели военное искусство до немудренного правила: «Бей». Маршал Жуков из «старых», но его тактика приемлется всей армией. Когда, во время Второй мировой войны, надо было преодолеть минные поля, Жуков посылал вперед пехоту. Бойцы взрывались на минах. Человеческими телами расчищали путь через минные поля для танков. Танков было мало и ими дорожили, а людьми на Руси, особенно на советской, дорожить никогда не умели и не хотели.
Дух рационализированной чингисхановщины. В советской армии он не умрет, покуда существует эта армия. Поэтому из плеяды современных полководцев мы выберем двух, в облике которых дух чингисхановщины проявляется в наиболее открытой и выразительной форме.
И первым из них будет Семен Михайлович Буденный, маршал Советского Союза, кавалер множества орденов, лихой рубака в прошлом и лихой гуляка в настоящем, бывший любимец Сталина и, вероятно, покровительствуемый теперь Маленковым.
Представьте себе человека среднего роста с объемистым брюшком, явно обозначившимся под дорогим тонкошерстным кителем. В сочетании с брюшком грудь кажется впалой. По груди — россыпь орденов и медалей. В обычное время эта россыпь исчезает и заменяется колодками орденских ленточек в три ряда. У человека непомерно низкий и узкий лоб, кустистые брови. Глаза коричневатые, почти черные. Длинноватый нос. Рот прикрывается усами, порядком поредевшими к старости. Усы, брови, волосы — иссиня черные. Иногда они приобретают фиолетовый оттенок: это когда парикмахер перестарается.
Таков маршал Буденный.
Живет этот маршал остатками былой своей славы, выпавшей ему в годы гражданской войны и ничем с тех пор не приумноженной. Напоминает он будяк. Возвышается такой будяк над скромной степной травой, царственно покачивает лиловою своей головой, а никому-то он, будяк этот, не нужен. Набредет овечья отара на то место, где растет будяк, объест траву вокруг, но на будяк овцы только с презрением покосятся: живи, бесполезный, красуйся.
Вот так точно и Буденный. Фуражка с золотым шитьем, воротник кителя накладным золотом изукрашен, на шее бриллиантовая маршальская звезда, на груди ордена, а посмотришь на всё это великолепие и невольно о степном будяке вспомнишь. Голова у будяка алая и пушистая, ствол сочный и толстый, земными соками перекормленный.
Из всех маршалов Буденного мне довелось узнать ближе и лучше других. Маршалы народ величественный и малозначительному журналисту до них не добраться. Но Буденный был иным. Его «будячная» натура делала его бесполезным в любом ведомстве, куда его посылали, и потому он занимался чем угодно, но только не делами.
Буденный — человек войны. Не современной войны, когда всё решается машинами и страшными смертоносными снарядами, перебрасываемыми на огромные расстояния, а той войны, которая канула в вечность и олицетворялась в людях, в их личной доблести и бесстрашии. Еще в императорской армии, будучи вахмистром, Буденный обратил на себя внимание своею лихостью. Это качество осталось при нем и тогда, когда революция вытолкнула его на поверхность и сделала командиром красной конницы. К концу гражданской войны стал Буденный одним из самых популярных революционных полководцев, кумиром молодежи, жившей тогда взволнованным предчувствием наступающего царства коммунизма с его великими социальными свершениями. Крепко возлюбил Буденный славу и вряд ли мог бы жить в неизвестности.
После гражданской войны немногим удалось сохранить приобретенную ими славу, но Буденный сохранил и хоть потускнела она, но всё-таки старому маршалу не придется закончить свой жизненный путь в неизвестности. Поистине, Буденный — баловень судьбы, иначе как бы мог он удержаться на верху военной иерархии! После гражданской войны на одних лишь прошлых заслугах жить было не легко. Для высоких постов требовалась хоть элементарная образованность, Буденный же знаниями никогда перегружен не был.
И всё-таки он устоял.
Может быть, его бездумность способствовала этому даже больше, чем мог бы способствовать подлинный талант, имей он его. Блестящая военная карьера Буденного зиждется не на талантах, не на успехах, не на труде, а на простой удачливости. И самой большой, пожалуй, удачей Буденного было то, что Сталин увидел в Буденном законченный образец бездумного служения, нерассуждающей покорности. Таким Сталин неизменно покровительствовал.
После гражданской войны стал Буденный чем-то вроде свадебного генерала, так как никто, даже Сталин, не мог определить, где действительное его место. Усатого полководца можно было видеть на самых различных постах в военных управлениях. Однажды почему-то решили, что Буденный, поскольку он командовал конной армией, должен уметь управлять коневодством и послали его на пост начальника коневодческого управления Наркомата земледелия. Но вскоре и оттуда его пришлось убрать. Об этом эпизоде Буденный рассказывал журналистам в московском доме печати.
На новом посту Буденному опять не повезло. Кони, словно на зло, стали дохнуть в непомерном числе. Это было время становления колхозов, страшное не только для людей, но и для сельскохозяйственного скота.
«Коней в колхозах ни черта не кормили, с чего бы они жили» — рассказывал Буденный.
Однажды Сталин вызвал его к себе. Ну, думаю, держись, готовь чуб, — повествовал он. — Прихожу и вводят раба божьего Семена к Сталину. А у меня в ногах сплошная неуверенность. Иосиф Виссарионович этак с подвохом меня спрашивает:
«Так ты, Семен, в конях толк понимаешь?» — Понимаю — говорю. — С детства к этому приучен. — «А лошади-то дохнут» — тихо говорит Сталин.
— А чорт их знает, — говорю, — чего они дохнут.
Самые подробные инструкции ка места спустили, всё в них расписали — сколько сена и овса давать, как поить и прочее.
«А лошади всё-таки дохнут, — опять говорит Сталин. — Ты им напрасно инструкции шлешь. Они в письменности не разбираются, им корм требуется. Сколько у тебя Заготсено корма для скота имеет? Сколько на севере? На юге? На западе?»
Вижу, гневается Иосиф Виссарионович, и взмолился я тут: отпустите, — говорю, — меня назад в армию. Сил моих нет. В управлении больше двух сотен сотрудников и все пишут-пишут-пишут. Целый день только и делаю, что подписываю. Сам понимаю, что коней инструкциями не накормишь, да только где же я сена возьму, если на местах не заготовляют!
Послушал меня Сталин и говорит: «Да, надо тебя пожалеть. И коней пожалеть». Позвонил Ворошилову и вернулся я в армию.
Из всех советских полководцев, если не считать Ворошилова, Буденный был наиболее заметным. Хитроватый казак весьма ревниво берег свою популярность. От природы он не речист, но вряд ли кто-нибудь другой может сравниться с ним по количеству произнесенных речей. Он выступал перед студентами московских высших учебных заведений и перед детьми во дворце пионеров. Его усатое лицо появлялось во вновь открытом родильном доме для фабричных работниц и на московском ипподроме перед началом скачек. Он неизменный оратор на съездах в Кремле.
Меня косноязычная словоохотливость Буденного волновала лишь потому, что она в некоторой мере отравляла мне жизнь. Перед каждым выступлением своего шефа адъютант Буденного разыскивал меня и предупреждал:
— Приказано вам быть к семи ноль-ноль. Приходилось тащиться куда-нибудь на окраину города, где Буденный произносил очередную свою речь.
Выждав ее окончание, я возвращался в редакцию. Поздно ночью раздавался телефонный звонок. Я ждал его. Знал, что Буденный не успокоится, пока не узнает, будет ли написано в газете о его выступлении. Происходил приблизительно такой разговор:
— Ну, как понравилась тебе моя речь? — спрашивал Буденный.
— Хорошая речь.
— Ты ее всю записал?
— Всю (обычно я ничего не записывал).
— На какой странице завтра будет напечатано?
— Не будет печататься. Редактор говорит, что вам не стоило бы выступать на таком маловажном собрании.
— Слушай, скажи твоему редактору, что это не его дело указывать мне. Если завтра речь напечатана не будет, я перенесу этот вопрос в ЦК партии. Понятно?
Буденный с грохотом бросал трубку на рычаг, а я плелся к редактору и после слезных просьб тот соглашался переверстать четвертую полосу, чтобы выгадать тридцать строк для сообщения о речи Буденного.
В публичных своих выступлениях Буденный почти всегда разыгрывал роль старого рубаки. На всю жизнь разучил он эту роль и уже от нее не отступал. Долго и привычно говорил о лошадях. Это было частью заученной роли. Выступая однажды на совещании по вопросам физиологии при Академии Наук СССР, поучал академиков, как надо чистить, кормить и поить коней и требовал «придумать» такую конюшню, чтобы коням в ней было «светло, тепло и весело».
В печати очень часто появлялись речи Буденного, вполне грамотные и даже не лишенные блеска. Косноязычие Буденного этому не могло помешать, так как в советской пропаганде необычайно разработана технология «причесывания» речей. Вот как, например, родилась речь Буденного о развитии животноводства, которая, вероятно, войдет в посмертное издание произведений маршала.
Во время съездов в Кремле создается специальная группа сотрудников, целью которой является обработка стенограмм. В 1934 году в такую группу был привлечен и я. Как новичку в такого рода делах, мои товарищи подсовывали мне самые тяжелые стенограммы. Однажды положили на стол запись речи Буденного. Она занимала с десяток страниц. Прочитал я стенограмму один раз, прочитал второй, но ничего не понял. Что-то невнятное говорилось о лошадях и о том, что врага будем бить по-сталински. Дальше Буденный делал экскурс в прошлое, но так путано, что разобраться в этом не было никакой возможности.
В перерыве между заседаниями я обходил знакомых делегатов съезда, но не нашел ни одного, который мог бы связно передать содержание речи Буденного. Ничего не оставалось, как написать эту речь заново. Вызванный из Наркомзема специалист по животноводству и я засели за работу. Через два часа дело было сделано. Но чтобы завершить его, надо было получить подпись на «стенограмме».
Вечером я отправился к Буденному и был введен в его обширный кабинет. Тяжелая кожаная мебель. Огромный письменный стол. Образцовый порядок на его блестящей поверхности наводил на мысль, что этим столом для работы не пользуются.
Большой шкаф, заполненный книгами с неизменным полным собранием сочинений Ленина в черном тисненом переплете. Из соседней комнаты доносились громкие голоса. Свободные вечера Буденный заполнял шумными пирушками с друзьями.
Буденный вошел в расстегнутом кителе и с некоторым трудом уразумел причину моего появления. Он погрузился в глубокое кресло, скрестил руки на груди и тоном грустного смирения приказал читать. После нашей обработки речь Буденного занимала четыре страницы и на чтение ушло четверть часа. Кончив, я перевел глаза на Буденного. Он мирно дремал, опустив голову на грудь. Обойдя вокруг стола, я потряс его за плечо. Он очнулся и растерянно уставился на меня. Потом припомнил и потянулся за «стенограммой».
— Ты, я вижу, ничего не исправил, — проговорил он хрипловатым голосом. — Хорошую речугу я загнул?
Я заверил Буденного, что речь вполне хорошая и, дописав по его желанию слова: «Великому Сталину ура!», получил размашистую его подпись.
Буденный всегда развивает кипучую деятельность, но это деятельность особого рода, от которой никто ничего не ждет. Деловой потенциал маршала равен нулю, Долгие годы он занимал пост генерал-инспектора кавалерии Красной армии. Мирное и тихое сидение его в инспекции кавалерии, в которой всеми делами вершил молодой и талантливый С. Ветроградский, впоследствии погибший по делу Тухачевского, разнообразилось частым произнесением речей и еще более частыми буйными пирушками с друзьями.
Буденный всегда был ясен, понятен и скучен. Но однажды он поразил меня необыкновенно. В продолжение недели я ежедневно заходил в инспекцию кавалерии и каждый раз глуповатый адъютант Буденного сообщал мне, почему-то шопотом, что Буденный «всё еще читает». При этом молодой офицер округлял глаза и начинал походить на испуганную сову. Поведение Буденного было столь необычным, столь потрясающим, что весть об этом облетела всю газетную братию в Москве. Буденный читал Шекспира. Среди нас это занятие вызвало полное смятение умов. Почему это вдруг Семена Михайловича «повело на Шекспира»? Так и осталось бы это тайной, не помоги сам Буденный решить головоломную задачу. Однажды, когда я зашел в инспекцию кавалерии, Буденный поманил меня к себе в кабинет. На его письменном столе лежал том Шекспира, открытый на последней странице «Гамлета».
Буденный положил свою небольшую руку на раскрытую книгу.
— Вот, Гамлета довелось на старости лет читать, — проговорил он. — Здорово написал, бродяга.
— Кто написал? — спросил я.
— Гамлет. Он датским принцем был и всякую чертовщину там развел.
Но я понимал, что Буденный позвал меня не затем, чтобы похвалить «писателя Гамлета», одобрительно названного им бродягой.
— Послушай, как ты понимаешь выражение «гамлетизированный поросенок»? — спросил вдруг Буденный.
— Я всю книгу прочитал, а о поросятах в ней ничего не нашел.
Оказалось, что Буденный читал шекспировского «Гамлета» лишь потому, что кто-то из высокопоставленных вождей назвал его «гамлетизированным поросенком». Он хотел знать, не в обиду ли это было сказано. Откровенно говоря, более удачного определения Буденного подобрать трудно. Любил Буденный пожить во всю силу, совершенно не задумываясь над тем, что в море нищеты и обездоленности, затопившем страну, его широкая жизнь содержит в себе нечто поросячье. Но в то же время, подвыпив, Буденный впадал в мировую скорбь весьма определенного оттенка. Однажды в Кремле, на каком-то очередном банкете, он, размазывая по лицу пьяные слезы, сокрушался о судьбе мирового пролетариата. В другой раз его сочувствие вызвали жертвы землетрясения и он кричал, что все должны отправляться на помощь японским трудящимся, под которыми «земля трясется».
«Гамлетизированный поросенок» — очень подходило для Буденного.
Московский дом печати, находящийся в особняке Саввы Морозова невдалеке от Арбатской площади, был многими облюбован для времяпрепровождения. Имелись в этом доме уютные комнаты для интимных встреч, прекрасный ресторан, услужливые лакеи. Частенько появлялся в нем и Буденный, любивший побывать в компании газетного люда. Насколько я могу припомнить, такие встречи с Буденным в доме печати всегда заканчивались хоровым пением. Где-нибудь в дальней комнате вдруг взвивался тенор Буденного и вслед за ним тянулся нескладный хор мужских голосов. Неизменно после пения Буденный говорил журналистам: «Ну, и погано же вы поете, товарищи, не то, что у нас в армии». И почти с той же неизменностью добавлял: «Я, например, с самим Шаляпиным пел». И дальше следовал рассказ о том, как Шаляпин, в голодные времена в Москве, был приглашен в вагон Буденного и как они втроем — Буденный, Ворошилов и сам Шаляпин — пели волжские песни. «А когда Федор Иванович уходил, мы ему окорок запеченный в тесте преподнесли». В то голодное время это была не малая награда и, кажется, Ф. И. Шаляпин не раз вспоминал о ней.
Особенно же любит Буденный распевать песни о самом себе. Из его дома часто неслась залихватская песня, исполняемая многими мужскими голосами:
Никто пути пройденного у нас не отберет, Мы конная Буденного дивизия вперед.
А когда эта песня в народном переложении отобразила перманентный полуголод в стране, то Буденный и новый ее вариант принял:
Товарищ Ворошилов, война ведь на носу, А конная Буденного пошла на колбасу.
Распевал Буденный эту песню и восторженно вскрикивал: «Буденновская-то армия на колбасу. Вот ведь гады!» Слово «гады» в его лексиконе звучало похвалой.
Буденный долго представлялся мне явлением комическим и никаких особых чувств во мне не вызывал — ни любви, ни ненависти. Для моего тогдашнего умонастроения была характерной внутренняя обособленность от того мира, в котором протекала моя работа. Это еще не было отрицанием этого мира, а лишь подсознательным ощущением его случайности и ненужности. Я удерживался на какой-то грани, по одну сторону которой начиналось слияние с этим ненужным и опасным миром, а по другую — отрицание его. Может быть и в партию я не вступал, так как не знал, по какую сторону грани должен я быть. В прессе я занимал пост, который мог бы принадлежать только коммунисту, да при том еще правоверному. Каким-то образом революционный героизм старшего поколения моей семьи восполнил отсутствие у меня партийного билета. Я ясно понимал, что без этого героизма пост военного корреспондента был бы для меня под строжайшим табу. Беспартийность была источником множества самых разнообразных — смешных и печальных — происшествий. Только люди из Советского союза, да и то не все, поймут, в каком нелепом положении я тогда находился.
Странное это положение могло бы быть ликвидировано, вступи я в партию. Не раз высокопоставленные коммунисты предлагали мне свои рекомендации, которые должны были открыть для меня дверь партии. Но я не воспользовался этой возможностью. Модно было бы сказать, что я уже тогда был антикоммунистом, но это было бы модной неправдой. Для меня это был период нарастания сомнений, и если быть правдивым, то надо сказать, что искал я тогда средств сомнения эти рассеять и обрести безмятежную веру в то, что всё идет хорошо и так, как и следует ему идти. В том, что сомнения эти я не убил в себе, а привели они меня позже к крайнему, безграничному отрицанию коммунизма — очень мало моей заслуги. Просто жизнь обнажила язвы коммунистического бытия и заставила прозреть даже тех, кто прозрения не искал.
В какой-то мере этому моему прозрению способствовал и Буденный. Пока я видел его шумную жизнь, я мог воспринимать его в комическом плане. Но после выстрела…
Впрочем, об этом стоит рассказать более подробно, так как эпизод, завершившийся выстрелом в беззащитную женщину — чингисхановщина в самой откровенной форме.
Буденный был женат. Его жена, простая казачка, боготворила своего Семена. Она прошла вместе с ним через гражданскую войну и много ран на телах бойцов и командиров было перевязано ею в госпитале. После гражданской войны Буденный проявил жадную потребность к иной, более привлекательной жизни. Кутежи и женщины стали его потребностью. Жена со многим мирилась, надеясь, что ее Семен «перебродит». Потихоньку бегала в церковь в Брюсовском переулке молиться о муже. Иногда смирение сменялось в ней буйным протестом и тогда разыгрывались некрасивые скандалы.
Однажды сердце Буденного было пленено кассиршей с Курского вокзала в Москве. Эта женщина впоследствии стала его женой. Увлечение оказалось серьезнее и длительнее всех бывших раньше. Жена Буденного стоически переносила и это очередное горе, пока сам Буденный не вызвал ее на открытый бунт. В зимний вечер, когда собралась очередная компания для кутежа, Буденный воспылал желанием показать друзьям свою возлюбленную и приказал адъютанту привезти ее в дом. Жена Буденного не смогла снести такого унижения. С бранью и плачем выбежала она из комнаты, а вслед за нею вышел бледный от ярости Буденный. До гостей донесся выстрел.
Убийство Буденным жены обнажило передо мною подлинное лицо Буденного. А когда после недельного домашнего ареста он снова появился, прощенный Сталиным, я уже видел в нем не столько комическое, сколько трагическое явление в нашей жизни. Ведь, в действительности, страшно жить в стране, где все это может происходить и где в маршалах ходит Буденный, а в вождях Сталин и Маленков.
На этом можно и покончить наш рассказ о Буденном. Черные усы — это подделка. Они уже давно поседели и выкрашены парикмахером. Сурово нахмуренный взгляд — обман, так как за суровостью проглядывает жалкий страх лишиться на старости лет высокого места. Золотое шитье маршальского мундира, золото и бриллианты орденов, — всё исходящее от него сияние, не может скрыть жалкого облика маршала-раба, впряженного в колесницу коммунистической диктатуры и состарившегося в этой упряжи.
О. И. Городовиков
У него крошечный нос, кверху вздернутый, уродливой кочкой над выкрашенными усами возвышающийся. Лицо круглое, скуластое, на печеное яблоко похожее. Голова кажется квадратной, так как волосы на ней в «ежик» подстрижены и, на взгляд, такие жесткие, что прикоснись к ним — и, кажется, уколешься до крови. Квадрат головы на коричневой шейке покачивается — морщинистой и тонкой. Чтобы шея тяжесть головы выдержала, туго стянута она плотным воротником с золотом звездочек и кантов. А ниже воротника мундир тощее птичье тело обтягивает, орденами на груди обвисает, плечами, из ваты сделанными, пошевеливает. Подправленное ватой туловище на тоненьких ножках укреплено; форменные брюки в крошечные сапоги втиснуты. За невозможностью подправить ватой ноги, врожденная кривизна их ясно видна, и эти кривые, в кожу и дорогое сукно затянутые ноги — последнее, что можно сказать о странном человеческом сооружении, именуемом генералом армии Окой Ивановичем Городовиковьм.
Давно это было.
В огромных степях, напирающих на Волгу в том месте, где она, утомленная длинным пробегом по необъятной Руси, заканчивает свой путь и впадает в Каспий, степные косоглазые люди гоняли табуны коней и гурты скота. Люди эти зовутся калмыками, а степь Калмыцкой, и раскинулась она огромным травяным царством с курганами древними и ветрами жгучими, песчаную пыль из пустыни несущими.
Ветрам в степи свободно гулять, ничто не сдерживает их лета, потому и стрел^ятся они сюда, в приволжское травяное царство, сталкиваются между собою, и на том месте, где ветры, прилетевшие с разных сторон, встретятся, пыльный смерч закручивается причудливым веером, столбом к самому небу поднимается.
Время отсчитывает года, десятилетия, века, а степь остается всё такой же пасмурной и всё так же по ней кочуют табуны коней и гурты скота, а за ними вслед кибитки на скрипучих кслесах с места на место переползают. По вечерам притихает степь. В зимний вечер она под снегом на ночевку укладывается, в летний — от солнечного зноя отдыхает, заполняя мир оглушающими травяными запахами.
На каком-то месте становище раскинулось. Белые кибитки издали видны. У кибиток костры горят. В огромных казанах мясо варится и в таких же — чай. Тяжелый «кирпичный» чай, состоящий из смеси каких-то трав, чайных листьев и веточек вишневого дерева в молоке кипит, овечьим жиром заправляется, а особенные гурманы еще и соли в него сыпят. Соленый жирный напиток обжигает горло, пахнет дымом костра и овечьим жиром, но нет в мире лучшего напитка для калмыка, весь день скакавшего в седле вслед за конским табуном.
Меж юрт грязные, косоглазые дети бегают и среди них крошечный Ока. Калмычата ведут жизнь беспечную, в школу им не ходить, умываться их не принуждают и разве какой-нибудь особенно приверженный к гигиене умоется раз в пять дней. Зато привычка к коню впитывается в калмычат с молоком матери. И еще до того, как ребенок ходить научится, взбросит его отец на коня и скажет:
— Скачи!
Настоящий калмык, прежде чем научиться на собственных ногах ходить, должен овладеть искусством езды на коне. Так заведено и так должно быть.
Вечером к какой-нибудь юрте потянутся кочевники. Раньше взрослых у этой юрты стая детей появится. Они окружат старого калмыка, слепого и немощного. Подойдут взрослые и образуется кружок, — в первом ряду мужчины и дети, позади женщины. Когда все затихнут, поднимет старик к звездам сухое, скуластое лицо с пустыми впадинами глаз и скажет голосом, излучающим торжество и радость: «Бумба».
В стране Бумба люди не знают смерти, старости, болезней; доживают до двадцати пяти лет и больше не старятся. Вечное довольство для всех, вечная радость, о которых в плавных стихах повествует старик:
Счастья и мира вкусила страна, Где неизвестна зима, где всегда весна. Благоуханная, сильных людей страна, Обетованная богатырей земля…В этом рассказе-былине всё прошлое. Далеко в темноту веков уходит оно. Ощущение былого могущества монгольского народа воплотилось в торжественном сказании о стране Бумбе. Медленно падало могущество и от великой империи остался Дербен-Ойрат — союз четырех монгольских племен. В 15-м веке последний взлет монгольской славы: калмыцкий вождь Эген взял в плен китайского императора. Потом всё ускоряющееся падение. Дербен-Ойрат остался только в песнях, да в названии, которое сохранило одно из племен распавшегося союза: Ойроты.
Но чем глубже было падение, тем ярче разгоралась мечта о Бумбе, созданной воображением кочующих и воюющих монголов и тем взволнованнее преклонение перед Джангаром, чудодейственным богатырем, бьющимся против «обитателей седьмой преисподней» шуимусов за страну Бумбу и ее обитателей. Перед восхищенными глазами слушателей возникает образ в золото закованного богатыря, скачущего на сказочном коне Аронзале:
Аронзал в крестце собрал Всю грозную красоту свою. Аронзал в глазах собрал Всю зоркую остроту свою. Аронзал в ногах собрал Всю резвую быстроту свою…Так и рос Ока меж коней, детских игр и чарующих представлений о стране Бумбе. Потом началась для него жизнь, обычная для степных людей. В шестнадцать лет отец женил его на девушке, которой он никогда до этого не видел. В спящей душе Оки это не пробудило протеста. Так было, так должно быть. Потом отец, на скупке и перепродаже коней для армии, разбогател, перестал кочевать и поселился на казачьих землях. Оттуда и отправился Ока в армию, царю служить.
Революция вернула его в родные степи. Круг политических представлений калмыка был весьма ограниченным и единственным, что он твердо усвоил к тому времени, было то, что человек вооруженный всегда сильнее безоружного. Собрал Городовиков небольшой отряд, в большинстве из родичей состоявший, и, после нескольких месяцев дикого разгула в степи и набегов на русские села, примкнул к красногвардейским отрядам.
Позже был Городовиков командиром дивизии в буденновской коннице. Кормилась дивизия сама по себе, отнимая продовольствие у населения, о лошади и об оружии каждый заботился сам, а командиру дивизии оставалось водить в атаку свою дикую, землю криком потрясающую конницу. Тем и прославился Ока Иванович Городовиков.
Он и до сего дня плохо владеет русским языком. Маленький калмык, дошедший до высоких генеральских чинов, не глуп, но ум его какого-то особого склада, проявляющийся только в делах практических. В Городовикове даже теперь сохранилось многое от примитивного строя жизни, когда человек действует только в пределах видимого пространства.
Ощущение собственной неполноценности очень характерно для Городовикова, но этот маленький калмык из всего умеет извлечь практическую выгоду. Он уже давно убедился, что его неполноценность — бедность знаниями, отсутствие воспитания, недоразвитость — всё это явление не изолированное, и если умело им пользоваться, то оно может стать даже источником некоторого преуспевания в жизни. Дело ведь в том, что комплекс неполноценности ярко выражен в людях Кремля и классическим его образцом был сам Сталин, поочередно выступавший то гениальным полководцем, то не менее гениальным отцом наук и покровителем искусств. Это самовозвеличение Сталина, несомненно, выражает комплекс неполноценности, помноженный на азиатчину.
Для Городовикова в обожествлении Сталина не было ничего неожиданного. Его народ лишь три века принадлежит к обитателям Европы, а до этого неведомое число веков кочевал в Азии. Для Городовикова Сталин был «найоном» — князем, которому следовало повиноваться и воздавать лесть. Сталин отметил голос Оки в хоре голосов, воздававших ему хвалу, и вскоре Городовиков оказался в Москве, на посту заместителя генерал-инспектора кавалерии Красной армии. Позже он заменил Буденного и стал генерал-инспектором.
Взобравшись на эту вершину, Городовиков надолго затих. Может быть, в это время он впервые убедился, что у него слишком мало данных для высокого военного поста. По выражению генерала Тюленева, военное образование Оки Ивановича равно величине его носа, а нос у него, как мы сказали, крошечный.
Ставши инспектором кавалерии, Городовиков должен был растеряться. Ему предстояло решать проблемы, о которых у него было очень смутное представление. От него требовали ответов на вопросы, которых он решить не мог. Но хитрый и изворотливый ум вскоре подсказал ему, что опасности эти мнимые, на самом же деле всё обстоит превосходно. Предшественник Городовикова на этом посту, Буденный, приучил штаб не искать решений генерал-инспектора и действовать по своему усмотрению. Городовикову достаточно было сохранить этот порядок — и всё придет в норму. Придя к этому, Городовиков стремлению своего штаба требовать от него решений, противопоставил искусство решений не принимать. С тех пор в инспекции кавалерии сохранился незыблемый порядок, при котором штаб принимал решения а генерал-инспектор лишь санкционировал их или отвергал.
К этому времени относится мое знакомство с Городовиковым. Он долго избегал встречи с военными корреспондентами, но когда это стало совсем уже невозможно, пригласил всех нас троих к себе домой. Ему казалось, что в домашней обстановке ему будет легче разговаривать с нами. Об этой первой встрече почти нечего сказать. Ока Иванович принял нас в полупустой просторной комнате и предложил чай. Это, конечно, не был калмыцкий чай. Беседа как-то не завязалась и, отсидев у него полчаса, мы уехали. Хозяин явно был доволен краткостью нашего визита.
С тех пор встречи были короткими и мало заметными. Ока Иванович появлялся в своем уютном кабинете в здании наркомата на два-три часа в день. К его приходу на стол ставилась ваза с апельсинами, до которых он был большой охотник. Обдирая кожу с апельсинов своими желтыми морщинистыми ручками, он выслушивал доклады чинов штаба, подписывал бумаги и к тому времени, когда ваза бывала опорожненной, дела кончались.
Не знаю, по какой уж причине, но Городовиков стал изредка приглашать меня к себе домой. Может быть, такое благоволение было вызвано тем, что я, будучи в Ростове-на-Дону, принял участие в конно-спортивных состязаниях, а так как родиной моей являются те же калмыцкие степи, то к лошадям я был привычен и на состязаниях достиг заметных успехов, отмеченных в журнале «Красная Конница». Бывая у Городовикова, я мог легко убедиться, что и в Москве он остается степняком, в крови которого клубится дым костров. На людях он тщательно скрывал свои привычки, но дома давал им волю. Жил он в том же доме, где и Буденный, на тихой улице, берущей свое начало от Тверской. В его обширной квартире всегда стоял крепкий запах кирпичного чая и вареной баранины. Верил Городовиков, что чай, сваренный с бараньим жиром, продлевает человеческую жизнь.
Маленький калмык-генерал поедал непомерно много мяса. И не того мяса, которое продавалось в московских магазинах, а специально привезенного для него из родных степей. Еженедельно отправлялся для Городовикова баран из Калмыкии и привозили его в роскошный генеральский дом живым. Рано утром начиналось священнодействие. Баран, запертый в ванной комнате, оглашал квартиру жалобным блеянием. Городовиков облачался в широкие калмыцкие штаны и просторную шелковую рубаху. Захватив остро отточенный нож, он уходил в ванную комнату — и вскоре блеяние барана затихало. Подвесив тушу на крюк, Городовиков медленно, с явным наслаждением свежевал ее, стараясь не порезать шкуру. Шкуру он отправлял назад, в родные степи, где земляки тщательно осматривали ее, стараясь найти порезы, которые доказали бы, что Ока разучился свежевать барана.
Московская квартира Городовикова походила на степную юрту кочевника. Та большая комната, в которой принимал нас Городовиков в первый раз, была данью времени. В ней был обязательный шкаф с книгами, письменный стол и несколько мягких кресел. Но в других комнатах на полу лежали белые полости из овечьей шерсти и дорогие тяжелые ковры. В одной из комнат стена была затянута войлоком и по нему были размещены плети самого разнообразного вида. Городовиков собирал их со страстью завзятого коллекционера. Одни плети оканчивались пуком ремешков, другие, сплетенные в толстый квадратный жгут, имели шарик из тяжелого металла. Были плети, сплетенные из женских волос. В одной была заплетена косичка врага — это из времен битв с китайцами. На рукоятках вилась арабская, индусская вязь и китайские иероглифы.
Так и жил Городовиков, перенеся в московскую свою квартиру атмосферу степного кочевья. Молчаливая его жена, старая и запуганная калмычка, постоянно молчала, молчал и Ока, отдыхавший на белой полости после работы.
В средине тридцатых годов семенная жизнь Городовикова вдруг коренным образом изменилась. Молчаливый, сумрачный Ока видел, что его товарищи обзавелись молодыми красивыми женами и в его темной душе проснулось желание последовать их примеру и от старой своей жены избавиться. Вскоре и случай для этого представился. Адъютант Городовикова был женат на очень молодой и очень красивой женщине. По какому-то поводу и, вероятно, не без участия Городовикова, молодой офицер был арестован. Женщина бросилась к Городовикову за помощью и защитой для мужа. Тот принял ее ласково, обещал хлопотать и всё уладить. Женщину, по заведенному тогда порядку, выселили из дома, в котором она жила с мужем. Городовиков помог и на этот раз. Он приютил молодую женщину у себя. Вскоре Городовиков сообщил ей, что мужа расстреляли, так как оказался он виновным в большом государственном преступлении. Упорно поговаривали, что его смерти способствовал сам Городовиков. Своей старой жене Городовиков приказал собираться и уезжать в Элисту, столицу Калмыцкой автономной области. Та безропотно покорилась. Попробуй она протестовать, и Ока равнодушно убил бы ее. Вскоре стало известно, что Городовиков женился на молодой женщине.
Вряд ли надо было доискиваться, как могло случиться, что эта женщина связала свою жизнь с кривоногим шестидесятилетним генералом. Зная, в какой тьме обретается душа Городовикова, не трудно понять, как это произошло.
Только однажды видел я молодую жену Городовикова, и если до нее когда-нибудь дойдут эти строки, то, может быть, припомнит она человека, пришедшего без предупреждения. Городовикова не было дома и меня встретила высокая черноволосая женщина с бледным печальным лицом. Это была она. При взгляде на эту жертву времени до боли сжалось сердце и я тихо спросил ее тогда: «Как это могло быть?». Женщина бессильно опустилась на стул и на ее глазах закипели слезы, а я уже сбегал по лестнице, чтобы никогда больше не вернуться сюда.
Городовиков и поныне играет крупную военную роль в стране. Еще один шаг и он будет маршалом. Идут слухи, что войска берлинского гарнизона поставлены под его командование. Этот не дрогнет и с бездумной легкостью зальет немецкую землю потоками немецкой и русской крови. Ведь не остановился же он перед тем, чтобы умертвить свою собственную родину.
Это было во время войны с немцами. Германская армия, в ее наступлении на Волгу, вошла в Калмыцкие степи. Калмыки имели давние счеты с советской властью и решили, что пора для расплаты наступила. Этот маленький, но мужественный и благородный народ, в семье которого Ока Городовиков был отвратительным порождением времени, не сопротивлялся немцам, распустил колхозы, поделил между собою скот. Потом германская армия покинула степи, уходя на запад. Вернулась советская власть. На бедных калмыков обрушился страшный удар. Вместе с некоторыми другими народами северного Кавказа, отказавшимися защищать дело Сталина, калмыки были отданы на поток и разграбление. Разыгралась кровавая драма. Тысячи калмыков были убиты без суда и следствия. На север, в страну концлагерей, потянулись эшелоны с калмыцкими детьми, стариками и женщинами.
Карательными отрядами руководил Ока Городовиков.
Калмыцкая Автономная Область перестала существовать.
Ока Городовиков существует…
Сиамские близнецы
Однажды комдив Л. Г. Петровский, командовавший в начале тридцатых годов кавалерийской дивизией в гор. Новоград-Волынском на Украине, бросил несколько горьких замечаний.
— Что там, — говорил он, — сиамские близнецы. У нас вся армия управляется такими близнецами. Поручают командовать полком и тут же намертво пригвоздят тебя к комиссару. Тот к тебе прирастает и без него уже шагу ступить нельзя. Приказ отдаешь, комиссар должен знать, с женой поссорился, он и тут нос свой сунет, в гости пойдешь, а он уже там сидит, тебя поджидает, а когда к рюмке с водкой руку протягиваешь, то он в уме подсчитывает, сколько тобой выпито.
Для советских офицеров комиссары всегда были олицетворением всех зол.
Бородатый Ян Гамарник, долголетний шеф политуправления Красной армии, выводил родословную комиссарского сословия от… Козьмы Минина. Князь Пожарский, по его словам, был военспецом, которому народ не доверял и потому поставил его под контроль Минина, первого комиссара на Руси.
Комиссарский корпус в те годы взбухал, словно на дрожжах. В 1936 году в армии и во флоте насчитывалось около 80.000 комиссаров и политработников. На каждых двух командиров — комиссар.
Вряд ли после Второй мировой войны это соотношение существенно изменилось. Комиссары всё так же вершат дела в армии. Под блестящим мундиром советского маршала бьется комиссарское сердце Н. А. Булганина. В генералах оккупационных войск в Германии и Австрии без труда узнаются питомцы ведомства Яна Гамарника. Они постарели, облик их изменился, но остались они всё теми же армейскими комиссарами, бдительным оком коммунистической партии в армии. В молниеносной расправе над Берией, в июле 1953 года, явственно обозначилась рука спаянного партийностью, решительного в действиях комиссарства советской армии.
Сиамские близнецы продолжают жить и довольно усиленно производят потомство.
Комиссарство в Красной армии было цитаделью, подвергающейся постоянным нападениям со стороны высшего командного состава армии, не желавшего делить с комиссарами власти. Всё громче и настойчивее раздавались требования ввести единоначалие, но все эти требования разбивались о несокрушимую стойкость комиссаров и о партийную линию тотального недоверия к людям и многостепенного контроля их. Комиссарский корпус не только не терял своего значения, но всё больше расширял сферу своего влияния, а Ян Гамарник лишь презрительно улыбался, когда при нем заговаривали о единоначалии.
Но в 1936 году комиссарская твердыня как будто дала трещину. Чуткий и наблюдательный Ян Гамарник почувствовал вдруг, что почва под ним колеблется. Генералитет повел наступление на комиссарство. В этом ничего нового для Гамарника не было и не это волновало его. Новым было то, что Сталин на этот раз не оборвал наступления на комиссарство, как делал он раньше, а дал ему развиваться. Не порешил ли Сталин пойти навстречу требованиям командования и не примет ли он концепции единоначалия?
Опасность привела Гамарника в состояние, в которое он не раз впадал и до этого, когда начинало казаться, что он, того и гляди, станет кусаться. В этом больном человеке (он страдал сахарной болезнью в острой форме) сидел бес непомерной злобы. Ярость Гамарника была «затяжного действия», она не утихала днями и неделями. В такое время желтое, худое лицо Гамарника, с горящими недобрыми глазами, — нечто среднее между Цезарем Борджиа и бродячим цыганом, — покрывалось лиловыми пятнами, а высокий узкий лоб превращался в гармошку мельчайших морщинок.
Вот в такое состояние и впал Гамарник в самом начале 1936 года. По обязанностям моей службы, я должен был каждый день являться в политуправление и каждый день, в числе прочих новостей, узнавал, что Гамарник всё еще «пылит», то есть, находится в состоянии крайнего раздражения.
Так и не дождавшись возвращения Гамарника к свойственной ему уравновешенности, уехал я ранней весной в Нижний-Новгород, а оттуда занесло меня в древнее село Теплый Стан, замечательное лишь тем, что упоминание о нем имеется в исторических рукописях. Там была расквартирована стрелковая дивизия.
С обозами, подвозившими продовольствие, добрался я до Теплого Стана. Подводы вязли в грязи, бойцы надрывались в крике, лошади храпели от натуги. Было неизвестно, выбираются ли из грязи подводы благодаря напряжению лошадиных сил или накалу матерщины, висевшей над нами. От железной дороги до Теплого Стана пробирались двое суток, хотя расстояние было километров тридцать или что-то в этом роде.
В Теплом Стане и в деревнях вокруг этого районного села был военный бивак. Штаб дивизии занимал помещение райкома партии, воинские части размещались, как могли-в крестьянских домах, в зданиях школ. Места всем нехватало, и было поставлено много палаток, в которых горели костры. Ранняя весна в тех краях холодная.
В штабе я застал комиссара дивизии, к которому, по правилу, должен был являться прежде всех других. Это был человек лет тридцати пяти, с лицом, которое можно было бы назвать красивым, не будь оно таким замкнутым и холодным. Проверив мои документы, он сухо-официальным тоном спросил меня о цели приезда.
Командир дивизии был моим старым знакомым с КУВС. Человек лет пятидесяти, широкоплечий и весь как будто квадратный, крепыш, с грубым солдатским лицом. Он принял меня радушно, повел в дом, в котором еще сохранился запах кислого хлеба — очевидно крестьяне были выселены, чтобы очистить место для командира дивизии; послал на солдатскую кухню за супом. Пока я управлялся с супом из «шрапнели» (перловой крупы), на редкость вкусным, Крылов — это была фамилия дивизионного генерала — молча курил и ждал.
— Послушай, — обратился он ко мне, когда я отодвинул котелок, — ты не знаешь, на кой черт мою дивизию загнали сюда?
Не получив от меня ответа, Крылов продолжал:
— Стояли мы в казармах, вдруг приказали сняться, грузиться в эшелоны и сгруппироваться в этом гиблом районе. Обещали все инструкции на месте дать, но вот уже две недели прошло, а инструкций нет. Люди и кони мерзнут, солдаты бездельем томятся. Одним словом, наверху кто-то разинтеллигентился и загнал нас сюда.
В лексиконе Крылова «разинтеллигентиться» означало то же, что «надурить».
Я припомнил замкнутое лицо комиссара и подумал, что ему должно быть известно о причинах отправки дивизии в это, действительно гиблое, место, совершенно не приспособленное для стоянки крупной войсковой части.
— Мне кажется, что комиссар должен был бы знать, — сказал я.
— Это не комиссар, а горе мое, — махнул рукой Крылов и его лицо изобразило негодование. — Он месяца три со мной, а толком мы с ним еще и не поговорили. До этого он где-то лекции по марксизму-ленинизму читал, из умных, а больше ничего о нем не знаю. У нас в армии так уж повелось, что комиссар о тебе всё должен знать, а ты о нем — ничего… Этот комиссар с поганой фамилией в печёнки мне въелся.
Фамилия комиссара Плеханов, и почему она казалась Крылову «поганой», я так и не понял. Однако было ясно, что старый-престарый армейский спор докатился и до глухого Теплого Стана. Отзвуки спора между командирами и комиссарами становились слышными повсюду и было сомнительно, чтобы Гамарнику удалось найти средство прекратить борьбу. Еще при Ленине началась она. Красная армия была созданием стихии, но хотя Ленин и чувствовал себя буревестником, когда провозглашал, что «революция — вихрь, сметающий со своего пути всех ему сопротивляющихся», но в действительности он весьма откровенно побаивался этой стихии. Чтобы вогнать разбушевавшийся революционный потоп в русло коммунизма, красная армия, по плану Ленина, была «прошита» корсетными шнурами комиссарского контроля.
Я понимал Крылова. Быть под постоянным комиссарским надзором — дело пренеприятное, а Плеханов, к тому же, принадлежал к наихудшей комиссарской разновидности. За три месяца его пребывания в дивизии Крылова четыре раза чистили на партийных собраниях «в порядке самокритики». Авторитет командира дивизии был подорван, положение стало нестерпимым. Командир дивизии наказывал штабных писарей или командиров за леность и нерадение по службе. Наказанные имели возможность отомстить. Являясь на собрания, они кричали, что у командира дивизии диктаторские замашки. Один уверял, что видел Крылова в нетрезвом виде, другой — что комдив питает слабость к женскому полу, третий критиковал приказы, отдаваемые им.
— Ведь ты знаешь мою Марью Сидоровну, — сетовал Крылов. Я знал его Марию Сидоровну, пожилую женщину с остатками былой красоты на лице.
— Марья Сидоровна женщина добрая, но есть у нее один недостаток, другим не приметный. Ревнива она, как сто чертей. И вот, после того, как какой-нибудь барбос меня бабником назовет, хоть это и полная неправда, начинается у меня дома спектакль. Сколько раз просил я комиссара: не позволяй, мол, клевету на меня взводить, да он свою цель преследует. Критика, говорит, партией, предписана и служит исправлению недостатков…
Пока Крылов рассказывал, я думал о другом. В самом деле, зачем сюда послали его дивизию^ Учений не предвиделось, снабжаться тут трудно, это я видел на дорогах, где обозы вязли в грязи. Ответ на это мог быть только один. Я не сомневался, что Крылов знает его, и наивно хитрит, спрашивая об этом меня. Через минуту он и подтвердил это.
— Я уверен, — сказал он, — что посылка сюда дивизии — очередная комиссарская штучка. Решат почему-то, что в этом районе произойдет восстание, — и шлют войска. Кругом все тихо, постоят войска и уйдут, а у комиссаров опять готово объяснение: бунт, мол, был задуман, но не осуществлен, в связи с переброской в этот район дивизии. Сюда с нами целая шайка уполномоченных особого отдела явилась, три дома арестованными заполнены. Плеханов там днюет и ночует. Доберусь я, однако, до них, ох, доберусь!
Прошло два дня. Мне нечего было делать в дивизии, но я остался еще на один день. Была у меня слабость к солдатскому обществу. На этот раз я, как часто до этого, обходил роты, сидел в палатках у костров, слушая едкие, как дым, солдатские шутки, а так как у меня запас шуток был в то время обширным, то время проходило не скучно. Со мной по ротам путешествовал политрук Гаврилюк, молодой человек, двумя годами младше меня. Он искренно был уверен, что мы с ним ведем «политико-просветительную работу». Входя в палач ку или дом, заполненный солдатами, пропахший потом портянок, сушившихся у огня, он неизменно говорил, представляя меня:
— Товарищи, к нам приехал корреспондент из Москвы, он нам расскажет о международном положении.
Почему Гаврилюк решил, что я должен обязательно рассказывать о «международном положении», в котором всегда плохо разбирался? Из «международного положения» ничего не получалось. Веселые, до нашего прихода, лица солдат становились скучными и безразличными, им политическими беседами старательно портили солдатскую жизнь.
Я начинал говорить совсем о другом. Всегда во мне жило, и поныне живет, преклонение перед русскими путешественниками. Россия, по духу своему, сухопутная страна, а сколько она сделала открытий не только на суше, но и на море. Я выбирал кого-нибудь из русских путешественников и начинал рассказывать о нем. Не буду утверждать, что при этом придерживался точных фактов, но они и не были нужны. Если я говорил о Миклухе-Маклае, то рисовал экзотику далеких стран. Пржевальский у меня получался похожим на коренного степняка и был наделен всеми чертами американского ковбоя. Арсеньев выступал не иначе, как неутомимый охотник на тигров. Врангеля я заставлял влюбиться в чукчанку и потом отправлял их обоих в свадебное путешествие через Ледовитый океан.
Гаврилюк слушал с неменьшим интересом и доверием, чем солдаты После моего рассказа начинался общий разговор, и чем дальше, тем свободнее все себя чувствовали и, наконец, беседа становилась столь красочной, что для печати совершенно не годилась бы.
Гаврилюк, как политработник низшего ранга, вел точный учет своей «работы». Его смущали эти солдатские вечера, которые нельзя было подогнать ни под один из установленных видов политработы в армии.
— Я ведь должен отчет давать в политотдел, а что я напишу? — жаловался он.
— Пишите, что провели беседу по общеполитическим вопросам, — посоветовал я.
— Невозможно! — уверял Гаврилюк. — Требуется указать тему беседы и как реагировали бойцы.
— Тогда пишите так: «Провели беседу на культурную тему о том, как открывалась советская земля», — старался я помочь политруку.
— Вот это здорово, — радовался он. — У нас по плану есть такая тема.
Гаврилюк из полевой сумки извлекал какую-то бумагу.
— «Великий Советский Союз — одна шестая часть мира» — так называется тема. Значит, запишем, что докладывали о великом Советском Союзе. Только вот после этого всякий разговор был, его-то куда деть?
— Да чего вы мучаетесь. Запишите, что после доклада было свободное обсуждение.
— Политрукам запрещено свободные обсуждения допускать, — говорил Гаврилюк, и было видно, что он никогда не рискнет нарушить запрет.
Гаврилюк — на нижней ступеньке комиссарской иерархии, а каждая ступенька имеет свои отличительные особенности. Нижняя заполнена людьми, превращенными в говорильную машину. Уровень знаний у этих людей не велик и очень своеобразен. В политшколе, куда набираются комсомольцы и коммунисты, в них вливают лошадиную дозу политических сведений. Но так как эта доза больше вместимости мозга или памяти, то она не удерживается в будущих политруках и оставляет не само знание, а штампованное понятие о предмете. Политрук способен ответить буквально на все вопросы. Скажет ему солдат: «Семья дома голодает, помочь бы чем надо», — и политрук автоматически произнес: «Это, товарищ боец, болезни роста. Вот разовьем промышленность, укрепим колхозы и всё придет в порядок». После этого солдат не станет уже говорить о том, что пока разовьется промышленность или окрепнут колхозы, его семья с голоду умрет, а если осмелится это сказать, то получит ответ, что в социалистическом обществе смертность самая низкая и в дальнейшем еще больше понизится. Солдат уйдет от политрука злой и разочарованный, а тот в надлежащую графу запишет, что вел «индивидуальную беседу» о колхозном строительстве и падении смертности в СССР.
Так и живут тысячи гаврилюков, начиненных цитатами, поверхностными сведениями, инструкциями, так и творят дело партии. Без этих людей-автоматов — а они есть повсюду: на фабриках, в колхозах, в селах и городах — пожалуй, и коммунизма нельзя было бы строить, так как для коммунизма нужно иррациональное построение ума, а оно достигается чудовищными прививками политических знаний неокрепшим мозгам.
Я, быть может, и еще пробыл бы несколько дней в дивизии Крылова, благо других дел у меня тогда не было, если бы не случилось то, что в армии помечается двумя буквами — ЧП — «чрезвычайное происшествие». Крылова я не видел с первого моего визита к нему, так как мы с Гаврилюком ночевали там, где заставала нас ночь. До небольшого села, где мы спали на ворохе соломы в избе, занятой командиром батальона, весть о ЧП дошла с запозданием. Командир батальона, веселый сероглазый человек с смешным круглым лицом, вернулся в полдень из штаба дивизии.
— Вчера вечером комдив побил комиссара, — сказал он, пожимая мне руку. — В штабе дивизии переполох и «орт знает, что из всего этого выйдет.
Я заторопился в Теплый Стан и перед вечером слез с седла у домика, занятого Крыловым. На этот раз дивизионный командир встретил меня сухо, было видно, что находится он в угнетенном состоянии духа. Вслед за мной в дом вошел дежурный по штабу дивизии с телеграммой. Быстро пробежав глазами телеграмму, Крылов отпустил дежурного и крикнул вестового.
— В Нижний-Новгород еду, — сказал Крылов не то мне, не то вестовому. — Вещи надо собрать. Выедем рано утром.
Я спросил, может ли Крылов взять меня с собой на станцию. Кивком головы он выразил согласие.
По дороге к станции мы молчали. Крепко держались за деревянные борта тачанки, ныряющей то одним, то другим колесом в рытвины, заполненные вязкой грязью. Утреннее небо было серым, безрадостным, отяжелевшим от влаги и потому будто опадающим к земле. Стал падать дождь. Крылов молча натянул на плечи тяжелую черную бурку. Ездовой завозился на передке тачанки, извлек из-под себя тяжелый брезентовый дождевик и молча протянул мне. — У нас еще один есть, — проговорил он, извлекая другой такой же.
Поездка была долгой и утомительной. Гнедые лошади с подвязанными хвостами словно поддались общему настроению и еле переступали ногами. Кучер сидел сгорбившись, похожий в дождевике на мокрую копну соломы. Крылов, пытавшийся закурить на дожде, с раздражением отшвырнул размокшую папиросу.
Штабные офицеры, в избе которых я провел ночь, со всеми подробностями поведали мне о происшедшем. Командир дивизии потребовал от командиров частей докладов о настроениях населения. Потом он явился в дома, превращенные в тюрьмы, и лично опросил арестованных. Их оказалось около ста человек. Никто из них не знал, за что они арестованы. Плакали и просили дивизионного командира «ослобонить». Вызвав к себе представителей особого отдела, Крылов потребовал обвинительные материалы. Те отказались выполнить требование дивизионного командира, не имеющего власти над армейской тайной службой. Тогда Крылов написал доклад, в котором подчеркивал, что никакой опасности в настроениях населения он не обнаружил. В докладе давалась оценка деятельности особого отдела и излагалась просьба расследовать причины, по которым сотня людей заключена в тюрьму, а дивизия поставлена в тяжелые условия.
По существовавшему в армии порядку, командир не имел права обращаться в высшие инстанции без согласия комиссара. Всякое официальное обращение получало силу только тогда, когда оно исходило от командира и комиссара. По такому сугубо политическому вопросу, как арест неповинных людей, Крылов не имел права писать. Он грубо вторгся в чужую область Понимая это, он послал свой доклад на подпись комиссару. Плеханов отказался дать подпись и между ним и командиром дивизии произошло бурное объяснение.
— Это не ваше дело оценивать политические настроения и вмешиваться в дела арестованных, — зло говорил Плеханов.
— Я не желаю обсуждать, что является моим и что не моим делом Всё, что происходит на территории моей дивизии, является моим делом, — кричал вышедший из себя Крылов.
Плеханов мог, конечно, не дать своей подписи под докладом Крылова, пошумел бы дивизионный командир и на том успокоился. Но допустил комиссар ошибку, которая и повлекла за собой всё последующее. Он сказал, что Крылов часто употребляет слова «моя дивизия».
— Словно это хутор или пивная. Даже пивные теперь государственные, а вы дивизию считаете своей, как будто нельзя сделать так, что останетесь вы без дивизии!
В армии Крылов считался одним из лучших дивизионных командиров, прошел большой боевой путь, имел много наград за храбрость. Если он говорил «моя дивизия», то совсем не в том смысле, что она принадлежит лично ему. Он был искренне предан своему делу, любил его той особой офицерской любовью, которая еще не нашла своего певца. Сказанное Плехановым было несправедливо, а угроза отнять дивизию смертельно обидела Крылова. Не помня себя, Крылов бросился на обидчика и нанес ему звонкую пощечину. Комиссар не схватился за оружие, не вызвал особый отдел, чтобы арестовать Крылова, а молча повернулся и вышел из штаба. Через четверть часа с поля, превращенного в примитивный аэродром, поднялся в воздух маленький самолет «У-2», унесший Плеханова в Нижний Новгород. Оттуда и пришло распоряжение Крылову прибыть в штаб военного округа.
Поздним вечером добрались мы до станции и заняли места в полупустом холодном вагоне поезда, идущем в Нижний.
В поезде Крылов стал разговорчивее. Всю дорогу, а ехать надо было часа четыре, наша беседа вращалась вокруг двойного управления в армии. Комиссары и командиры формально были наделены равными правами, но фактически в руках комиссаров оказалось больше силовых линий, и командир находился под постоянным давлением и контролем.
К тому времени я уже уразумел сложную механику двойного управления и знал, что не только в армии применена она. Система дублированного управления пронизала весь советский строй, в армии же она получила наиболее откровенную и законченную форму.
Нижняя ступенька комиссарской лестницы заполнена гаврилюками, делающими свое маленькое дело с точностью выверенных автоматов. Но высшие комиссарские ступени заняты людьми хорошо подготовленными, интеллектуально стоящими несравненно выше командиров. В командирской иерархии верхние ступени были заняты людьми больших заслуг, но малой культуры, тогда как на средних и нижних ступеньках формировался более подготовленный молодой командный кадр. Взаимоотношения командиров и комиссаров на нижних ступеньках лестницы не являлись проблемой, но верхние звенья находились в состоянии постоянной вражды. А так как именно на верхних ступенях была сконцентрирована сила комиссаров и слабость командиров, то борьбу выигрывала политическая иерархия.
С Крыловым мы расстались в Нижнем. На прощанье он поручил мне повидать в Москве Еременко и Апанасенко и рассказать им о случившемся. Но когда я приехал в Москву, нужды в моем рассказе уже не было. Случай в Теплом Стане получил известность и привлек к себе внимание на верхах. Апанасенко, разыскавший меня поздней ночью в редакции, не нуждался в моей информации, но ему нужна была помощь в обработке документа, составленного им и рядом других генералов. Это был доклад, адресованный Ворошилову, но явно рассчитанный на Сталина. Написан он был в спокойных, деловых тонах и, основываясь на случае Крылова и ряде других подобных случаев, предлагал пересмотреть систему двойного управления в армии, подрывающего командирский престиж. Документ не нуждался в большой обработке и после легких исправлений был увезен Апанасенко, взявшим с меня слово никому о нем не говорить.
В том, что Гамарник не был посвящен в содержание доклада, я был уверен, так как дней через пять после его подачи, ко мне в редакцию, уже под утро, неожиданно явился адъютант Гамарника, сумрачный человек по фамилии Карелов.
— Я к вам на минутку, по совсем пустяшному поводу, — проговорил он, опускаясь на стул.
Я молчал. Незначительный повод не заставил бы его ехать под утро в редакцию.
— Товарищ Гамарник приказал спросить, не осталось ли у вас копии доклада, который вас просили отредактировать? Сейчас, понимаете ли, ночь и не хотелось бы беспокоить людей, у которых хранится документ.
Глупо было бы отрицать мою причастность к этому делу, раз Гамарнику известно о ней.
— Копии у меня нет и быть не может, — ответил я. — Моя роль была очень скромной — исправил несколько фраз и только.
— Если нет у вас копии, тогда изложите по памяти содержание, — попросил Карелов и потянулся за блокнотом.
— Как я могу это сделать, когда в докладе трактовались вопросы, мне совершенно неизвестные и мало меня интересующие… Я думаю, что вы можете получить более подробную информацию…
Я снял трубку телефона. Апанасенко долго не откликался, но, наконец, настойчивый звонок пробудил его и я услышал заспанный, хриплый голос. Позабывши в этот момент, что уже утро брезжит за окном, я не очень удачно спросил:
— Вы еще не спите, Иосиф Родионович? Апанасенко узнал мой голос и ответил в духе грубой шутки, всегда ему свойственной:
— В четыре часа утра не спят только проститутки и журналисты.
Выслушав от меня сообщение о приезде Карелова, Апанасенко долго думал, прежде чем ответить:
— Ишь ты, как их пробрало, — почти прокричал он вдруг. Потом, уже спокойно, продолжал: — Будь с ним вежливым, а то они тебя съедят с потрохами. Я этих живоглотов знаю. Скажи, знать, мол, не знаю и ведать не ведаю. А если Карелову требуется наш рапорт, то пусть он приедет ко мне. Уверен, что не приедет, потому и приглашаю.
— Товарищ Апанасенко может вас познакомить с документом, если вы приедете к нему, — сообщил я Карелову, кладя трубку.
Карелов не поехал к Апанасенко.
События развивались. Доносились глухие отзвуки идущей борьбы, но я с удивлением замечал, что даже в армии о ней не знают, не ощущают ее, не говорят о ней. Это одно из поразительных свойств советской системы:
бросать камни в воду и не вызывать при этом кругов на поверхности.
В Москву приехал Крылов. Его не арестовали, но откомандировали в резерв главного командования. Тоска по живой работе бурлила в нем. Иногда он появлялся в моей редакционной комнате, часами просиживал на диване, если я был занят, или рассказывал о своем деле, когда я мог слушать.
Шел жестокий бой. Генералитет наступал. Бородатый Ян понимал, что нестерпимое положение для командиров в армии создано не только его инструкциями, но и господством принципа двоевластия. Торжество этого принципа Гамарник видел повсюду. Являясь членом ЦК партии, он мог вблизи рассмотреть хитроумную механику управления централизованной империей. Когда Постышев был назначен в помощники Коссиору, секретарю партии на Украине, и Гамарника спросили о причинах этого назначения, он отделался коротким ответом:
— Математическое правило: плюс и минус взаимно уничтожаются.
Казалось бы, Гамарнику нечего было особенно волноваться по поводу того, что группа генералов подала доклад, но косвенные признаки показывали ему, что на этот раз дело обстоит серьезно. Ворошилов занял колеблющуюся позицию. Приказ Гамарника об аресте и предании суду дивизионного командира Крылова был им отменен. Гамарник приказал перевести комиссара Плеханова в другую дивизию, но и этот приказ задержали по желанию наркома. Гамарник чувствовал недружелюбие, скоплявшееся вокруг него. Командующие округами, армиями и дивизиями старательно обходили политическое управление. Фридман, начальник управления командных кадров, перемещал командиров, не советуясь с Гамарником. Этого раньше не было. В этих сложных условиях Гамарник допустил роковую ошибку. Он решил, что на этот раз судьба комиссарского корпуса поставлена под вопрос. Если до встречи с Апанасенко он мог еще сомневаться в этом, то после нее места для сомнений не оставалось. Апанасенко принадлежал к числу комиссароненавистников и во всех столкновениях, бывших до этого, играл видную роль. Гамарник уже давно бы разделался с грубоватым мужиком, затянутым в генеральский мундир, но на стороне Апанасенко была поддержка Сталина, с Ворошиловым же он был в личной дружбе. На этот раз Апанасенко точно рассчитал удар. Он приехал в Москву, чтобы требовать снятия с постов трех комиссаров дивизий, входивших в его военный округ. Он так и сказал Гамарнику, появившись в его кабинете:
— Вы, товарищ Гамарник, должны убрать своих молодцов. Они слишком вольничают и мешают командирам.
— Гамарник даже передернулся весь, — рассказывал в тот день Апанасенко. Его жена, робкая женщина, всегда живущая в страхе за своего Иосифа, пригласила меня на ужин и в обширной квартире Апанасенко, в правительственном жилом доме за Москва-рекой, мы были втроем.
— Сидит Гамарник и кусает бороду, — продолжал Апанасенко, — а я ему о делах комиссаров докладываю. Схватился он с кресла и по кабинету забегал. «Вы, говорит, преувеличиваете проступки комиссаров, и я понимаю, зачем вы именно теперь приехали в Москву с вашим требованием. — Комиссаров я не сниму и все ваши материалы прикажу проверить». А я ему: «Нет уж, товарищ Гамарник, вы сначала снимите, а потом проверяйте». Вижу, не соглашается, пятнами красными весь пошел.
В тот же день Гамарник получил приказ отозвать в Москву комиссаров, названных Апанасенко. Это окончательно убедило его в том, что Сталин замышляет изменения в структуре управления армией. А так как Гамарник, кроме всех прочих качеств, был еще наделен не малой долей хитрости, то порешил он пойти навстречу событиям. В политическом управлении было созвано совещание. Гамарник выдвинул совсем новое положение: комиссар — помощник командира. Его обязанность состоит в том, чтобы помогать командиру, укреплять его авторитет, не вмешиваясь в чисто военную сферу.
После совещания политработников, на котором было не менее пятисот участников, я шел, направляясь в сторону редакции. У Арбатской площади меня догнал Плеханов. Среди участников совещания я его не заметил, хотя он там, несомненно, был. При взгляде на этого красивого, но холодного человека мне стало жалко его. Он побледнел, осунулся, но взгляд его был всё так же спокоен. Сравнительно молодой Плеханов поднялся до высокой ступени комиссарской иерархии, чтобы быть сбитым с нее одной пощечиной дивизионного командира.
— Как вам понравилось? — спросил Плеханов, идя рядом.
— Что понравилось?
— Крен, который обозначился в речи товарища Гамарника.
— Я мало в этом смыслю, товарищ Плеханов, — попытался я увильнуть от ответа.
Но Плеханову нужен был слушатель. Мы шли с ним по бульварам, соединяющим Арбатскую площадь с Пушкинской. Говорил Плеханов, а я молчал. Он начал с того, что дело не в нем, Плеханове, и не в Крылове, а в принципе, на каком строится армия, в цели, какая перед армией ставится. Ему не хотелось критиковать Гамарника, но он был убежден, что сказанное там на совещании — большая ошибка. Красная армия не может жить без комиссарского корпуса. Устранение комиссара означало бы, по мнению Плеханова, изъятие из тела армии политического стержня.
— Но разве командиры не могут осуществить политического руководства? — задал я вопрос.
— Что мне вам говорить о том, что красный генералитет — это унтер-офицерский сброд, — воскликнул Плеханов. — Немного подучились, немного отшлифовались, но, в основном, остались всё теми же недумающими службистами. Я не хочу оспаривать храбрости этих людей и их заслуг перед революцией, но им нельзя доверять в силу их примитивности и политической неполноценности. Комиссары именно и нужны потому, что наш генералитет стоит на уровне военных кадров абиссинского негуса. А задача у нас не абиссинская, а мировая. Надо было бы очистить армию от всех этих людей, кичащихся своими прошлыми заслугами.
— Но есть много причин, почему ими надо дорожить, — прервал я его.
— Да, ими дорожат. — Плеханов снял фуражку и провел ладонью по гладко зачесанным волосам. — В этом я убедился еще раз сегодня… Ворошилов восстановил Крылова в командовании дивизией, а меня приказано отчислить в запас… Но это ничего не значит. Идея комиссарства, т. е. политического насыщения армии, останется, и Гамарник ошибается, думая, что партия откажется от нее.
В тот момент я не поверил Плеханову. Выступление Гамарника казалось мне достаточной гарантией, что корпус военных комиссаров будет устранен. Дальнейшее показало, что я тогда еще мало понимал в хитросплетениях советской военной машины. Через некоторое время стало известно, что Гамарник отменил инструкции, данные им об изменении взаимоотношений комиссаров с командирами. Это было странно, и я не удержался, чтобы не спросить об этом Карелова:
— Ведь, казалось, линия поведения комиссаров будет изменена и они потеряют свое руководящее положение в армии. Или я ничего не понял тогда в сказанном Гамарником? — спросил я.
Адъютант Гамарника пристально посмотрел на меня и помедлил с ответом. Он раздумывал, стоит ли отвечать на мой вопрос и заслуживаю ли я ответа.
— Не будьте комиком, — проговорил он после короткого молчания. И дальше он дал ответ, который сделал всё ясным. Он предполагал, что я не понял Гамарника, и советовал «раз и навсегда» запомнить, что партия никогда не ослабит своего контроля над армией. Наступит время, когда наша армия двинется по Европе и по всему миру. Во имя чего? Что она принесет миру? Второй марш русских через Европу, по словам Карелова, будет выглядеть иначе, чем первый, во время войны с Наполеоном. Тогда русская армия вошла в Париж, но у нее не было знамени, которое она могла бы водрузить в Европе. Что могла предложить полуфеодальная, отсталая Россия Франции, после великой французской революции? Теперь всё обстоит иначе. Нам нужна такая победа, которая установила бы коммунизм везде, куда ступил сапог советского солдата.
Напуганный перспективой выслушать длинную лекцию Карелова, я оборвал его:
— Но как всё-таки с речью товарища Гамарника? Ведь в ней определенно говорилось о новых взаимоотношениях с командным составом.
— Забудьте о ней. Это единственно, что я могу вам посоветовать. Можете быть уверены, что товарищ Гамарник уже забыл.
Гамарник, конечно, не забыл, но его речь была ошибкой, чуть ли не стоившей ему его положения. Он неправильно оценил обстановку, решив, что Сталин поддержит на этот раз генералитет. Гамарник поступил так, как ему казалось в тот момент правильным, чтобы сохранить свое личное положение и не допустить слишком сокрушительного разгрома комиссарского корпуса. Между тем, в это время Сталин готовил не снижение роли комиссаров, а дальнейшее ее усиление. В этом и состояла ошибка Гамарника, подорвавшая его престиж. Может быть, она обусловила и тот одинокий выстрел, которым Гамарник, двумя годами позже, покончил счеты с жизнью.
Атака генералитета на комиссарский корпус в 1935-36 годах закончилась ничем. По приказу Сталина, Ворошилов убрал из войск комиссаров, вызвавших наиболее острую неприязнь у командиров, но, в то же время, отдел партийных кадров мобилизовал около пятнадцати тысяч коммунистов для замещения комиссарских постов в армии. Комиссары появились даже там, где их до этого не было — в штабах, в интендантствах, в пограничных отрядах.
С тех пор облик армейского комиссарства изменялся по форме. Перед войной с Германией в армии было известное количество «единоначальников», при которых не было комиссаров, а были заместители по политической части, но с первым выстрелом войны Сталин восстановил комиссарский корпус в полной его силе. Вновь поднялась неприязнь генералов к комиссарам, а так как во время войны это было опасно, то в 1943 году Сталин опять устранил военное комиссарство, вернее, видоизменил его. Комиссары, переодетые в офицерские и генеральские мундиры, остались при войсках всё с той же целью: быть оком партии. Этих комиссаров можно теперь видеть на высоких постах в оккупационных зонах Германии и Австрии, в странах-сателлитах. Они водружают знамя коммунизма в восточной Европе.
В будущих битвах мир еще познает силу организованного и непримиримого комиссарства Красной армии, воспитанного на идее насильственного установления коммунизма.
Огненный вал
Тридцатые годы в Красной армии проходили под знаком суворовского завета: «Тяжело в учении, легко в бою». Штабы изощрялись в постановке труднейших военно-учебных задач. Шло беспрерывное чередование летних, осенних, зимних, весенних маневров. Солдатская служба стала еще более тяжелой и изнурительной. Еще более неприятными стали обязанности военного корреспондента.
Летом 1936 года неожиданное распоряжение погнало меня в Туркестан.
Для далекого путешествия предназначена была «корова», редакционный аэроплан весьма почтенного возраста и угрожающей внешности. По утверждению Карла Радека, ведавшего иностранным отделом нашей редакции, «корова» совершала полеты в нарушение всех законов аэродинамики, так как ее конструкция якобы была весьма остроумно приспособлена не для взлетов, а для падений. Тем не менее «корова» исправно летала и пользовалась нашей общей любовью, которую мы переносили и на Сергея Тарасовича, единственного пилота на этом воздушном корабле. На своем устарелом ТБ (не смейтесь, «корова» была тяжелым бомбардировщиком доисторической авиационной эпохи), Сергей Тарасович ковылял по всем воздушным бездорожьям страны. Однажды он даже приземлился на мысе Уэллен у Берингова пролива, откуда арктические летчики вылетали на спасение потерпевших кораблекрушение путешественников. Хотел было Сергей Тарасович и свою «корову» в спасательных операциях в Арктике испробовать, да начальник гражданской авиации приказал пилота арестовать, а «корову» пришвартовать к радиомачте, чтобы ее ветром в море не сдуло. С тех пор Сергеи Тарасович весьма скептически относился к арктической авиации.
В июне, когда мы вылетали в путь, бывает ранний рассвет. Сергей Тарасович заехал за мною часов в пять утра.
— А ты, того-этого, заправился уже? — было его первым вопросом. Окинув взглядом стол с остатками завтрака, приготовленного матерью (в каждый полет старуха отправляла меня, словно на тот свет), Сергей Тарасович углубил вопрос:
— Горючим-то заправился, спрашиваю? Я посмотрел на пилота и обнаружил, что на этот раз он непростительно трезв. А так как по предсказаниям всё того же Радека, «корова» погибнет со всем сущим на ней в тот день и час, когда окажется Сергей Тарасович трезвым, то поспешил я к буфету и, стараясь не замечать предупреждающих взглядов матери, поставил на стол графин с водкой. Летчик налил чайный стакан. Выпил. — У меня предварительная норма триста, а исполнительная пятьсот граммов, — пояснил он, наливая стакан до половины. Потом подумал и долил до края. — Пусть сегодня будет четыреста.
Выпил. Обтер ладонью рот и повеселевшими глазами посмотрел на меня.
— Понимаешь, чертовщина какая получилась, — проговорил воздушный волк. — Жена совсем рехнулась. Запрещает предварительную, предполетную. Исполнительную, после полета, значит, приемлет, а эту никак. Прикрикнул на нее, да и сам не рад был. Загудела пропеллером, юбка на ширину размаха плоскостей раздувается. Одним словом, отступил я, не получив чарки, каждому доброму казаку перед походом положенной.
Полетели мы с полной коровьей скоростью, немногим больше двухсот километров в час. Раз пять садились на аэродромах. Механики поили «корову». С видом заправских докторов, они прислушивались к ее реву и с сомнением качали головами. «Корова» уже тогда на всех аэродромах знаменита была и по всему Советскому Союзу шел спор. Одни давали ей три месяца жизни, другие полгода. А она всё летала и летала, приводя в смятение авиационный персонал аэродромов.
Порядком потрепало нас над Кара-Кумами, над этой песчаной могилой с редкими островками поселений. Однако же, хоть и сильно трепало ревущую «корову», тревога в душу не закрадывалась. Достаточно было взглянуть на Сергея Тарасовича, лихо сдвинувшего летный шлем набекрень, чтобы сохранить спокойствие. Такая была в этом веселом человеке уверенность, что стыдно было бы тревожиться.
Перед вечером следующего дня мы благополучно сели на большом военном аэродроме. Сергей Тарасович поспешил в столовую за исполнительной нормой, а я стал вызывать по телефону город. Получив от штаба нужные сведения, я отправился к железнодорожной станции, лежащей между городом и аэродромом, и через полчаса, пройдя предварительную проверку у молодца в форме внутренних войск, вышел на станционный перрон. Перрон был заполнен командирами частей, расположенных в Средней Азии. Некоторые проехали сотни верст, но все чисто одеты, выбриты, тщательно причесаны. К этому времени из армии уже был изгнан стиль небрежности в одежде и презрения к ежедневному бритью, который господствовал в ней со времени гражданской войны. Цвет офицерства далекого военного округа встречал правительственный экспресс, идущий из Москвы. Мне удалось опередить его на нашей героической «корове», хотя он покинул Москву за три дня до нашего вылета из столицы.
Раскаленный добела воздух струился над перроном, над невысоким зданием вокзала, струйками уплывал в сторону города. Казалось, что воздух вот-вот вспыхнет синеватым пламенем.
С перрона видны были улицы, берущие начало от вокзала. Доносилось легкое урчание арыков, затененных буйно разросшимися деревьями. Огромные цветы, в поисках прохлады, склоняли к воде пышные тюрбаны. Низенькие дома городского предместья переходили дальше в высокие здания центральной части. Мне не был виден весь город, но я знал, что в другом его конце раскинулся старый город, в котором всё — дома, минареты, крикливые уличные торговцы — напоминает, что здесь — Азия.
Ташкент, столица Узбекистана.
На перроне возникло волнение. Донесся далекий звук паровозного гудка. У края платформы выстраивалась рота красноармейцев. Винтовки с примкнутыми штыками. Руки солдат затянуты в белые перчатки. Почетный караул. В центре платформы сгрудился военный оркестр.
Мимо перрона поплыла черная громада паровоза, а за нею — голубые вагоны правительственного экспресса. Поезд остановился. Из среднего вагона вышел невысокий плотный человек в военном мундире. Ворошилов. Команда почетному караулу утонула в реве оркестра. Следом за Ворошиловым показался Буденный, потом Тухачевский. Это для меня было новостью. В Москве мне сказали, что на маневры в Средней Азии выезжает нарком, но, оказалось, он прибыл со всеми своими помощниками. Из последнего вагона вышел Тимошенко, которого издали легко было узнать по бритой голове, отражающей на своей гладкой поверхности солнце. Рядом с ним на перроне стоял Жуков — приземистый и угрюмый.
Развивалась обычная церемония встречи наркома. Ворошилов торопливо пожал руки командармам, комкорам и комдивам, кивнул головой остальным и покинул перрон. В сторону города понеслась вереница черных автомобилей.
***
Здесь такая земля, что воткнешь в нее сухую палку, а она розами зацветает.
Это сказал мой спутник, Васюков, офицер из артиллерийского управления штаба округа. Мы с ним выехали из Ташкента утром, чтобы переночевать в пути, а утром начать подъем к горному перевалу, за которым лежит благословенная Фергана. Заключительный этап маневров должен был произойти в ферганской долине, куда уже стянуты войска. Туда отправился и правительственный экспресс. До Ферганы можно было бы добраться поездом, но меня привлекала перспектива пересечь горный кряж. А тут как раз и оказия подвернулась: Васюков получил приказ совершить путь через горы, чтобы нанести на карту какие-то рубежи.
До подножия гор нас вез военный грузовик, в который были погружены две наших лошади под присмотром конюха. К вечеру мы были в узкой долине. Дорога вилась по берегу небольшой, шумной речушки. Далеко ввысь уходили каменные отроги гор и казалось, что небо покоится на их заснеженных вершинах. На склонах — ни деревьев, ни жилищ, ни пастбищ — бесконечный каменный хаос. Васюков был прав: земля в долинах взбухает соком плодородия. Хлопковые поля, рисовые посевы здесь такие, что диву даешься.
И всё-таки мы в стране нищих. На нашем пути мы проезжали много кишлаков и повсюду одна и та же картина. Днем, в жару, на полях работают женщины, а мужчины коротают дни в прохладных чай-хана, пьют зеленый кок-чай и о колхозных делах ведут мудрые, бесконечные разговоры. В этих местах восточная леность всегда давала о себе знать, а при колхозах она стала еще более откровенной.
На вечерней заре доехали мы до кишлака Кара-су, что в переводе на русский язык значит Черная вода. В Ташкенте толстый узбек, член правительства республики, советовал мне обязательно побывать в этом кишлаке:
— Первый кишлак в республике, где все женщины чадру сняли, — с гордостью говорил он.
Решили заночевать в камышовых зарослях на берегу реки. Васюков даже слышать не хотел о ночевке в кишлаке.
— В домах узбеков блохи от нас только шпоры оставят. Блох-то там больше, чем волос в бороде Магомета, — говорил он.
Пока Васюков с шофером и конюхом устраивали бивак, я вышел на берег реки. С небольшого пригорка кишлак был хорошо виден. Маленькие глинобитные домики с плоской, из глины же слепленной, крышей, удивительно хорошо гармонируют с окружающей природой. Они и сами кажутся частичкой этой величественной, молчащей природы. На противоположном берегу реки стояли узбеки, повернувшись в нашу сторону. К воде подходили женщины с открытыми лицами. Унося от реки кувшины, наполненные водой, они часто оглядывались на меня и на их смуглых лицах обозначалась белая полоска зубов. Женщины улыбались.
Поужинав кашей, заправленной салом, мы с наслаждением растянулись на земле, подослав под себя конские попоны. Несколько мгновений я распутывал нить какой-то родившейся во мне мысли, но, так и не распутав до конца, почувствовал, что на меня накатывается теплая волна расслабляющего сна. Всё поплыло перед глазами. Пробудился я от неслыханного мною дотоле шума. Долина всё еще тонула в полутьме, но отроги гор уже были освещены. Явственно обозначилась на них линия, разделяющая тьму долины от света, идущего сверху. Пели петухи. Не один, не два, а тысячи горластых петухов. Их то крик и разбудил меня. Васюков недовольно завозился под шинелью, приподнял взлохмаченную голову и сердито произнес, ни к кому не обращаясь:
— В этом курятнике не поспишь, чорт бы их побрал!
Мы были в царстве фазанов. Вслушиваясь в петушиный концерт, я явственно различал кукареканье совсем рядом с нами. Проснувшийся конюх толкнул меня под локоть и кивнул подбородком в сторону реки. В пяти шагах от нас крупный фазан, раскинув веером свой роскошный хвост, самозабвенно кукарекал, а рядом с ним, присев сероватым брюшком на кочку, спокойно сидела скромно оперенная самка, похожая на домашнюю курицу-пеструшку. Она ждала пока ее царственный супруг насытится утренним криком.
Конюх пошарил вокруг себя и нащупал тяжелый ключ, оставленный шофером. Выждав, пока фазан затянет свой голосистый крик, он метнул ключом в фазанью пару. С характерным урчаньем фазан взмыл вверх, на миг застыл в воздухе (вот тут-то и должен охотник не зевать!) и потянул по горизонтали, а подраненная самка билась на земли, не в силах взлететь.
Фазаний шум разбудил кишлак. Донеслось тягучее мычание ослов, словно они хотели присоединиться к петушиному крику, да только не могли сразу подобрать нужный тон. К реке потянулись женщины с кувшинами. Мы с Васюковым умывались в реке, накаленной горным холодом, а женщины с другого берега смеялись, вероятно над нами. Васюков бросал в их сторону сердитые взгляды и, поеживаясь от холода, ворчал:
— Вишь, без чадры ходят. В других кишлаках за такое дело убили бы женщину, а тут узбеки смирились. В прошлом году выбрали этот кишлак для опыта. Агитировали, чтобы женщины чадру снимали, да не помогло. Тогда прислали сюда отряд внутренних войск и чадру с женщин насильно сняли. Муллы объявили этот кишлак заразным и все теперь объезжают его стороной.
Уже затягивая ремень на гимнастерке, Васюков добавил:
— Но, между прочим, дело тут не только в чадре. Вы это скоро увидите.
Позавтракав, мы отправили грузовик в обратный путь. Уехал и конюх. Мы остались с Васюковым вдвоем, а с нами две подседланные лошади. Можно было отправляться в дорогу, но Васюков медлил, что то выжидая. По тропинке, ведущей от кишлака к реке, теперь двигалось много женщин с кувшинами.
— Смотрите! — толкнул меня в бок Васюков, показывая рукой в сторону. Невдалеке вброд через реку переправлялось человек с десять красноармейцев.
— В десяти километрах гарнизон стоит, так эти оттуда притопали, — пояснил Васюков. Не видя нас, солдаты углублялись в камышовые заросли и вскоре их круглые лица показались у самой тропинки, по которой к реке и от реки двигались женщины. Пришедшие показывали проходящим куски мыла, яркую ткань и еще какую-то мелочь. Одни узбечки со смехом проходили мимо, другие же сворачивали на зов в заросли. Потом они опять появлялись на тропинке и показывали подругам полученные за любовь (коротка солдатская любовь!) подарки. Как видно, они не стыдились этой любовной утехи с незнакомыми русскими солдатами. И страха у них не было — знали, что мужья спят на утренней заре крепким сном.
Качаясь в седле и направляясь вслед за Васюковым, я думал о виденном. Женщины, идущие к солдатам с бездумной легкостью. И это на Востоке, где женское целомудрие охранялось всем строем жизни. Не потому ли они с такой легкостью идут в камыши, что с них сняли чадру? Насильно вторглись в привычный для этих людей строй жизни, грубо разрушили его, но ничего взамен не дали. А природа не терпит пустоты и там, где было целомудрие, защищенное чадрой, теперь любовные приключения на окраине кишлака.
Этот день мы провели на горных тропах. Долина, покинутая нами утром, опускалась всё ниже, река стала походить на тонкую серебристую нить. Кишлак перестал быть виден, он слился с окружающим ландшафтом. Кони, привычные к горным дорогам, бойко шли над пропастями, осторожно переходили мостики, перекинутые через щели. Иногда мы шли за конями вслед, но на большой высоте силы быстро иссякали и мы снова взбирались в сёдла.
На исходе дня мы подошли к самому тяжелому участку пути. Под нами зияла пропасть. Через нее можно было пройти по дороге, похожей на качель. К отвесной скале льнула узенькая полоска переплетенного хвороста. Она удерживалась на сваях, вбитых в скалу. Это подозрительное сооружение качалось при каждом шаге, земля, которой прикрыт хворост осыпалась под ногами, в настиле зияли дыры, через которые была видна скала, отвесно падающая вниз.
Лошадиная мудрость еще не нашла настоящего признания среди людей. Тогда, на качающейся дороге, я припомнил и понял изречение древних, говоривших:
«Если Бог желает помочь человеку, он дает ему хорошего коня». Наш караван по плетеной дороге вел старый конь Васюкова. Он шел, широко ставя копыта и низко опустив голову, словно рассчитывая каждый свой шаг. Когда дорога начинала слишком уж колебаться под нами, он останавливался и выжидал. Мы плелись за конями, целиком положившись на их мудрость и осторожность. Некоторое беспокойство причиняла нам моя кобыла Золушка, молодая и вздорная. Избалованную Золушку, предоставленную мне для поездки с конюшни командующего округом, как будто оскорбляло, что она вынуждена идти вслед за беспородным старым конем Васюкова. Из-за этого она часто покусывала коня в круп и даже пыталась протиснуться между ним и каменной стеной. В такие мгновения мы с Васюковым поднимали дружный крик. Другого способа воздействовать на наглую кобылицу у нас не было, ударить ее мы не смели.
Когда мы ступили на твердый камень, оставив плетеную тропу позади, первым нашим желанием было проучить Золушку. Сняв ремни, мы пребольно отхлестали ее и, как мне показалось, рыжий конь Васюкова понимал и одобрял наш поступок.
Заночевали мы на площадке меж гигантских валунов, пристывших на горном склоне. Поужинали консервами, напились теплой неприятной воды из фляжек. Васюков привалился к большому камню, укутал голову шинелью и вскоре стал похрапывать, а я отошел в сторону и присел на камень. Болели натруженные ноги, всё тело как бы звоном было заполнено, но спать не хотелось. Лошади, не получившие воды, лениво жевали овес из торб.
Внизу всё было затянуто мраком. Небо, до которого, казалось, рукой можно дотянуться, с каждой минутой становилось глубже и темнее. Как-то неожиданно на нем вспыхнули звезды. Только что их не было, а при следующем взгляде они уже были видны и на глазах наливались световой силой. Ясно обозначились вершины гор и мне казалось, что они вытягиваются всё выше, словно гигантский магнит звездного неба притягивал их к себе. Я ощутил себя жалким и беспомощным перед лицом царственной вечности и почувствовал нестерпимую обиду от сознания, что я человек, беспомощная, бессильная букашка. Удивленный, я увидел, что всё вокруг заполнилось толпами людей. Я видел эти толпы, чувствовал идущий от них запах немытых тел. Воины великого Тимура. Мне нестерпимо захотелось присоединиться к ним и вот я уже в толпе. Мы идем дорогой завоеваний. Наши кони и верблюды до дна осушают колодцы оазисов. Мы разрушаем города, уводим невольниц, связывая их косами одну с другой. Кровь и пепел пожарищ отмечают наш путь. Тамерлан ведет нас всё дальше. Всё во мне дрожит от ненависти и негодования, но я вместе с другими иду за ним и знаю, что другого пути для меня нет. Голодные, оборванные, но сильные своей яростью и безжалостностью, подходим мы под стены Самарканда, прекрасного города, похожего на восточную сказку.
Навстречу нам город выслал своих старшин со связками ключей от домов.
— Великий, мы отдадим тебе всё, что имеем, но пощади город, — молят они Тамерлана. Жадный и надменный Тимур цедит слова сквозь зубы:
— Вы ничего мне не дадите, так как я всё возьму у вас.
На песок падают отрубленные головы старшин. Это видят жители города и решают сражаться. Долго осаждаем мы упрямый город, потом врываемся в него, предавая всё огню и мечу. Уцелевшие горожане ползут на коленях к шатру Тамерлана:
— Пощади! — вопят они, валяясь в пыли. Молча уходит в шатер великий хромой, чтобы под стоны убиваемых думать о новых походах.
Испуганный, я крикнул в сторону шатра владыки:
— Я не хочу.
И в тот же миг до меня дошел голос Васюкова:
— Вы чего кричали?
Я оглянулся кругом. Видение было сном. Холодные струйки пота сбегали по моему лицу. Васюков, не дождавшись ответа, снова привалился к камню и затих, а я, обессиленный и раздавленный, сидел в неподвижности и казалось, что ни малейшей частицы силы во мне не осталось и попробуй я подняться с камня, мне это не удастся.
Короткая ночь подходила к концу. Небо начинало светлеть, на нем всё явственнее проступали золотые блики, словно кто-то гигантской губкой смывал бледные отсветы луны и чем больше смывал, тем сильнее начинали играть золотые оттенки. Всё вокруг менялось, принимало то голубоватый, то лиловый оттенок. Неведомый художник наносил на полотно мира невероятные, неповторимые сочетания красок и тут же с безумной расточительностью уничтожал их.
В полдень мы спустились в чудесную, взбухающую плодородием долину Ферганы.
Предстоял заключительный этап маневров, в котором главная командная роль должна была принадлежать С. К. Тимошенко.
Тимошенко к этому времени разработал новый тактический прием боя, никогда дотоле в войнах не применявшийся и получивший известность под названием «огненный вал». На средне-азиатских маневрах он должен был продемонстрировать этот прием, к которому многие относились скептически. Существо приема состояло в том, что массированное наступление войск осуществляется не в сочетании с устарелой, как утверждал Тимошенко, артиллерийской подготовкой, а непосредственно за артиллерийским валом, расчищающим путь для наступающих войск. Иными словами, войска должны были идти вслед за артиллерийским валом и на таком расстоянии от него, чтобы только не быть поражаемыми осколками. Нечего и говорить, что такое наступление требовало полной слаженности и безупречной «работы» артиллерии. Насколько я понял, Тимошенко и не рассчитывал с первого раза научить войска наступать таким оригинальным способом. Предвидел он и неудачи, допускал даже гибель некоторого числа бойцов и командиров от огня своей артиллерии, но это его мало смущало или не смущало вовсе. Он верил в свой прием и в его чудодейственную силу, а так как его ум был чужд сомнений, то о возможных неудачах и жертвах он не думал.
Тимошенко устроил свой командный пункт в одиноком домике на берегу канала, совершенно не заботясь о том, как разместятся другие. Сюда я и добрался на Золушке. Вокруг домика раскинулся целый городок палаток. Командиры всех рангов, штабы с многочисленными отделами, столовые, парикмахерские — всё это размещалось в палатках. Одна из палаток была отведена для бильярдного стола и оттуда несся стук шаров. Сдав Золушку и скормив ей на прощанье, в знак примирения, пачку печенья, оставшуюся в моих запасах, отправился я к палатке, предназначенной для военных корреспондентов. Там уже были мои коллеги, отчаянно скучавшие. Всем нам было строжайше запрещено писать что-либо о маневрах и мы не знали, зачем мы тут нужны.
Необычайное скопление людей на командном пункте было вызвано тем, что из Китая прибыла большая группа советских военных советников. Среди этих последних был и старый мой знакомый, комбриг Рыбалко. До поездки в Китай Рыбалко командовал кавалерийским полком, с которым я, в 1934 году, проделал марш через Голодную Степь в Казахстане.
Присутствие Рыбалко помогало коротать время, а его рассказы о Китае и о том, что там делали наши военные советники, рождали во мне изумление и я несколько раз спрашивал Рыбалко:
— Неужели за такие дела вас китайцы в ямы не сажают?
Рыбалко в ответ на мой наивный вопрос только усмехнулся.
Однажды Рыбалко прислал за мною вестового. В палатке, кроме самого Рыбалко, я застал трех человек в штатской одежде. Из слов Рыбалко я понял, что произошла очередная неувязка. Кто-то из власть имущих в Москве пожелал, чтобы самый ответственный этап маневров был записан в звуках. Всесоюзное радио командировало в район маневров бригаду из трех техников и одного радио-репортера, которые и должны были осуществить передачу радио-репортажа на фабрику звукозаписи. Техников на маневры пропустили, а радио-репортера, или, как в Москве их называют, «ведущего» — нет. Трое в штатском и были техники, не знавшие, что им делать.
Рыбалко сказал, что «сам» Тимошенко заинтересован в том, чтобы звукозапись была проведена. То, что особая служба не пропустила радио-репортера в район маневров, могло сорвать весь план. Тимошенко поручил Рыбалко найти выход, а тот решил, что я вполне могу заменить радио-репортера. Мои утверждения, что я в радио ничего не понимаю, были решительно отвергнуты. Рыбалко был уверен, что человек, проехавший с ним верхом через Голодную Степь, всё может сделать. Пришлось согласиться.
План мой был прост и основан на вопросе, который я сам себе поставил, и на ответе, который я сам же дал на этот вопрос. «Что от нас хотят?» — спросил я себя. И ответил: «От нас хотят получить картину маневров в звуках. Человеческие голоса в этой картине — подчиненные детали, самое же главное заставить тех, кто будет слушать звукозапись, ощутить себя в центре событий».
Из этого уже рождался замысел. Его надо было облечь плотью использования в звуках предстоящих событий. В штабе Тимошенко мне сказали, что будет применен «подвижной огневой вал». Шесть дивизий пехоты и две бронетанковых будут наступать на узком фронте, стремясь захватить предгорья. На флангах будет действовать кавалерия. Условно считается, что противник оказывает жестокое сопротивление и его главной силой является пехота, занимающая укрепленные позиции. Наша артиллерия приблизительно равной силы с артиллерией противника. Центр тяжести маневра лежит в прорыве нашей пехоты через линии противника. Она должна дорваться до рукопашного боя. Нашей артиллерии ставится задача расчистить путь пехоте. Танки предназначены для головного эшелона наступающих войск. Артиллерия «пробивает» своим огнем позиции врага. Расстояние между огневым валом и нашими наступающими войсками 300 метров. Стрельба боевыми снарядами. Плотность огня максимальная.
Выслушав всё это, я понял, почему стянуты огромные артиллерийские части. Когда я представил себе, как в действительности всё это будет выглядеть, тревога мохнатым зверьком шевельнулась в моей душе.
Рота связи, посланная в распоряжение радио-техников, тянула провода в ту сторону, куда будет вестись наступление. Саперы врыли в землю стальной колпак, под которым будет скрыт первый микрофон и я при нем. Колпак этот будет находиться всего в сотне метров от линии, на которой взорвутся снаряды первых залпов. Дальше, в глубине, куда артиллерия постепенно будет переносить огонь, установлено еще два микрофона в простых окопах.
Тимошенко, действительно, был заинтересован в том, чтобы звуки маневров были записаны. Он лично проверил нашу готовность. Я показывал ему места, где установлены микрофоны. Стальной колпак он одобрил, но приказал покрыть его несколькими слоями толстой резины. Высаживая меня из своего автомобиля после осмотра наших приготовлений, Тимошенко спросил:
— Страшно?
Я признался, что страшно.
— Это хорошо, что страх в тебе есть, — проговорил Тимошенко, трогая шофера за плечо. Машина унеслась, а я и до сих пор не знаю, что хорошего было в том, что одолевал меня жестокий страх. Не думал ли Тимошенко, что перед его замыслом, как и перед Господом Богом, надо страх и смирение иметь?
На рассвете следующего дня я был на месте. Как я и предполагал, бункер не получил резинового покрытия, — командир саперного батальона приказа Тимошенко не выполнил. Легкий ветерок наносил на бункер запах степных трав, смешанный с запахом махорки. Войска остались позади. Предутренняя тьма делала их невидимыми.
В стальном бункере было довольно просторно. Связисты даже соломы подстелили. Почему-то захотелось пощупать сталь над головой. Ее холодное прикосновение успокаивало. Мне не во что было больше верить, кроме этой стали. Она прикроет меня от осколков. А если прямое попадание? Но об этом лучше не думать.
Послышались шаги. Я нажал динамку ручного фонаря. В отверстие заглянул молодой белобрысый боец, совсем по-детски зажмуривший глаза, когда я осветил его лицо.
— Товарищ командир, — обратился он ко мне, когда фонарик погас. — Чи можно снимать те два поста, що у других матюфонов стоят.
Красноармеец вплетал в русскую речь украинские слова. Вероятно он был откуда-нибудь из-под Воронежа. Но не над этим я засмеялся тогда, а над новым словом. Бойцы уже переименовали микрофоны и по всей армии пошел слух, что установлены матюфоны для того, чтоб Сталин, сидя в Москве, мог через них слышать, как бойцы на маневрах меж собой разговаривают. В прошлый вечер я проходил мимо группы бойцов, залегших в траве и дымящих махоркой. Какой-то паренек пояснял товарищам, что через эти самые матюфоны Сталин завтра всё услышит и если красноармейцы очень густо будут высказываться, то прикажет он запретить в армии словесность, не предусмотренную уставом.
— До третьего этажа можно, а выше запрещается, — уверял он.
— Это ты врешь, пожалуй, — рассудительно отвечал басок другого бойца. — Как же можно запретить крепкие слова произносить? Армия не может без такой словесности воевать, это понимать надо.
Действительно, пора было снимать постовых от микрофонов, расположенных дальше, по линии наступления. Я крутнул ручку полевого телефона и сразу откликнулись два голоса: телефоны были поставлены на одной линии.
— Чего же нас не снимают отседова? — донесся до меня взволнованный голос постового.
Часовые, наверное, обрадовались, что могут уйти от таинственных матюфонов, так как с подозрительной поспешностью они оборвали разговор со мной и, как оказалось впоследствии, оба дружно, не сговариваясь (они в трех километрах один от другого находились) позабыли унести телефонные аппараты с собой, а оставили их погибать под осколками.
Начинался рассвет. Молодой связист сидел на корточках у бункера. Техники телефонировали, что связь с Москвой установлена. Я представил себе, как в невысоком здании фабрики звукозаписи в Москве склонились над аппаратами рабочие. Между мною и этой фабрикой расстояние в пять тысяч километров. Звук будет приходить по эфиру — ташкентская радиостанция пошлет направленную волну на Москву. Одновременно звук пойдет по проводам. Повсюду у аппаратов дежурят люди, чтобы бережно донести до Москвы звуки предстоящего боя, в котором условным является лишь противник, а всё остальное вполне реально и очень опасно.
Через пятнадцать минут это начнется. Зеленая ракета прикажет всем приготовиться. Красная откроет боевые действия.
— А мне с вами оставаться, или как? — спрашивал красноармеец. — Другие стороной к роте потопали.
Я не имел права задерживать бойца, он мог уходить, но лучше, если бы остался. Не так будет одиноко. Я молчал.
— Останусь, пожалуй, — проговорил он. — Не бу-ло приказа уходить. Страшно, а дюже интересно, што тут за спектакля произойдет.
Боец влез в бункер и улегся рядом со мною. Места как раз хватило на двоих. Я высунул голову в отверстие. Войск не видно, знать залегли в траву. За невысокой возвышенностью нудно гудел мотор, проверяли танк.
— Вы, товарищ, голову сховайте в бункер, — предупредил мой сосед. — А то артиллеристы, сукины сыны, завсегда стрельбу не во время зачинают.
— Не могут они раньше срока начать, — успокаивал я.
— Вот и видно, шо вы тех артиллерийских гадов не знаете.
Вдали взлетела пачка зеленых ракет. До срока осталось пять минут. Я приложил телефонную трубку к уху. Техник сообщал, что всё готово. Прошла минута и я услышал слова, которые относились теперь не только ко мне, но и ко всем тем, кто расположен между мною и звукозаписывающими аппаратами в Москве: «Внимание… Включаю микрофон». И через несколько секунд:
«Микрофон включен».
Теперь передо мною не мертвый ящичек микрофона, а нечто живое, к чему надо относиться с великим бережением. Я освещаю фонариком лист бумаги и читаю вступление к радиопередаче. Мой сосед застыл в благоговейной тишине и напряженно смотрит в микрофон. Стараясь быть спокойным, я говорю:
— Внимание, внимание! Говорит район маневров Красной армии. Через радиостанции Советского Союза говорит район маневров Красной Армии. Товарищи радиослушатели! Наша могучая, непобедимая Красная Армия готовится к грядущим боям за родину, за великое дело Ленина-Сталина. День и ночь куется грозное оружие мировой пролетарской революции. Этим оружием является наша славная Красная Армия. Она — оплот мирного труда советского народа, радость и надежда всего трудового человечества.
Я погасил фонарь и замолк, испытывая знакомое чувство досады. Постоянно надо заниматься этой обязательной и никому не нужной лозунговой словесностью. Но без нее нельзя. В политотделе хотели было навязать мне более пространное политическое вступление, но я, с помощью Рыбалко, отбился. Покончив с обязательным политическим минимумом, я стал импровизировать. Обстановка, в какой я находился, создавала приподнятость. Я рассказал о степи, кажущейся мертвой и безжизненной, но потрясаемой глухим шумом моторов, об артиллерии, приготовившейся к залпам, и о полках и дивизиях, замерших на исходных позициях. Всё, что мне было известно об артиллерийском вале, я сообщил невидимым машинам, записывающим мои слова в пяти тысячах километров. Я употребил всю силу воображения, чтобы воспроизвести в словах картину залегших в траве войск, замерших у пушек артиллеристов. Чтобы сделать мои слова еще более убедительными, я решил вовлечь в передачу находящегося рядом со мною бойца, не спускавшего глаз с моего лица, словно он был удивлен тем, что я веду такой гладкий рассказ.
— Первый огневой вал будет воздвигнут нашей артиллерией в сотне метров от того места, где я сейчас нахожусь. Мой микрофон и я прикрыты стальным колпаком бункера. Его соорудили саперы. Со мною здесь находится боец из роты связи… Как ваша фамилия, товарищ?
Связист при моем неожиданном вопросе растерялся, но так как деваться ему было некуда, то он, зачем-то снявши с головы пилотку, приблизил лицо к самому микрофону и не очень уверенно ответил:
— Сопляков. Иван Терентьевич Сопляков моё фамилие будет.
Знал бы я, что такое неблагозвучное имя у моего соседа, не стал бы спрашивать, но теперь этот ответ уже унесся в Москву и его не вернешь. Я продолжал рассказывать о снарядах, которые обрушатся впереди нас.
— Я не знаю, как это будет выглядеть, но будем надеяться, что наш бункер уцелеет, — говорил я. — За артиллерийским валом пойдут в наступление войска… Великое искусство требуется от артиллеристов, чтобы не накрыть их своими снарядами. — Я поднял к глазам часы и сообщил, что осталась еще одна минута. — Постарайтесь, товарищи радиослушатели представить себе чувства бойцов, которые пойдут в наступление вслед за огненным валом. Снаряды будут рваться, разбрасывая снопы осколков. Ошибись артиллеристы, и множество бед произойдет на этом поле, а наш бункер взлетит на воздух…
Говоря это, я видел, что мой сосед начал выползать из бункера. Схватив его за ногу и крепко держа, я продолжал:
— Но мы уверены, что наши славные артиллеристы не ошибутся.
Ивану было страшно, это было видно по тому, как он старался вырваться из моих рук. Может быть, только теперь, прислушиваясь к моим словам, он уяснил опасность нашего с ним положения.
— Пусти, товарищ. К своим пойду. А то из нас тут блин сделают.
— Поздно, — говорю я в микрофон. — Поздно теперь думать о том, что произойдет. Машина маневров запущена и будет идти положенным ей путем.
Ворвались красные отсветы. Через плечо мне были видны гирлянды красных ракет, медленно опадающие вниз. Донесся разъяренный рев — первый артиллерийский залп. Пространство над нами наполнилось тяжелым, угрожающим шелестом, словно сказочная птица прошумела крыльями. Небо над бункером, воздух над бункером, вся вселенная с треском и грохотом разорвались на части. Визжащие звереныши-осколки с пронзительным воем впились в крышу бункера.
Я был оглушен. Лежа на дне бункера, я цеплялся за соседа, который, тоже оглушенный, пытался вырваться из моих объятий и при этом невнятно матерился. Мы оба были на тонкой грани, за которой начинается полная потеря сознания. Всю силу надо было собрать, чтобы оторвать голову от земли и вернуть мысль к маленькой, но полной силовой жизни коробочке микрофона.
— Вы слышите грохот залпов и разрывы снарядов, — говорил я, стараясь прогнать из голоса предательскую дрожь… — Снаряды рвутся очень близко… Опять залп. Это тяжелая артиллерия. Ее снаряды посылаются на двести метров дальше.
Смутно я сознавал, что говорю не только я, но и мой сосед. Вой осколков замер над нами — артиллерия перенесла огонь вглубь. Донесся грохот танков, крики людей. Я продолжал говорить и в то же время через отверстие бункера наблюдал плывшую на меня волну людей в зеленых гимнастерках.
Массовое наступление лишает человека индивидуальности. Лавина людей перекатывалась через бункер, у всех были одинаково раскрытые в крике рты, одинаково расширенные глаза, одинаково потные лица.
Это не была настоящая война — и всё-таки было страшно. Издавая грозное рычание пушек, веером двигались танки. В центре веера тяжелые бронированные машины с короткими рылами пушек. Вокруг них резвились крошечные и какие-то несерьезные танкетки, бросающиеся то вперед, словно желая кого-то напугать, то назад, как будто сами чего-то испугавшись.
Однако, не артиллерия, не танки представились мне в тот момент страшными, а люди, бегущие мимо в каком-то неудержимом порыве. В этом ревущем хаосе люди должны были бы выглядеть жалкими и беспомощными, но по какой-то странной ассоциации мыслей и чувств они-то как раз казались самым главным и самым могучим на этом поле. Каждый из них в отдельности не мог бы вызвать этой ассоциации чувств, но в массе они были не людьми, а одухотворенной машиной войны.
Лавина наступающих перекатилась через бункер. Я сидел на стальном колпаке держа перед собой микрофон и продолжая рассказ. У моих ног валялись еще не остывшие осколки. Крошечная танкетка наехала на бронированный провод, идущий от моего микрофона. К счастью, Иван во время заметил это и разъяренным вепрем ринулся на спасение провода. Танкист приоткрыл люк и высунул веселое и потное лицо.
— Бери свой провод, паучья твоя душа, — прокричал он.
Не в силах снести оскорбления («пауками» именовали в армии связистов), Иван полез на танкетку с кулаками, но танкист опустил колпак и через смотровую щель довершил оскорбление, назвав Ивана «интеллигенцией косопузой». Не имея возможности добраться до забронированного обидчика, Иван изо всей силы грохнул кулаком по стальному колпаку:
— Попадись только мне, крокодила шарикоподшипниковая, я с тобою поговорю, — крикнул он, выдергивая провод из-под гусениц танкетки.
Подскочившая «блоха» подхватила меня, чтобы доставить ко второму микрофону, где наступление должно смениться атакой. Блохами назывались маленькие автомобили ГАЗики, приспособленные для военных нужд. Так как им, в большинстве случаев, приходилось передвигаться по бездорожью, они имели несколько приподнятый кузов и действительно чем-то походили на скачущих блох. Отчаянно подпрыгивая на неровностях почвы, делая крутые виражи у воронок, оставленных снарядами, блоха неслась вперед. Несколько минут в одном с нами направлении двигался автомобиль с Тухачевским.
Сзади донесся отчаянный крик. Крошечная танкетка догоняла нас, а на ней восседал Иван. Когда танкетка поравнялось с нами, боец ловко перепрыгнул в автомобиль. Он, кажется, чувствовал себя ответственным не то за звукозапись, не то за мою жизнь.
Наступление войск приостановилось, как это обычно бывает перед атакой. Складки местности заполнились зелеными гимнастерками бойцов. На пригорке собрались командиры, наблюдавшие в бинокли разрывы снарядов. Пришла весть, что на правом фланге два снаряда сделали недолет и взорвались среди своих войск.
В небе опять вспыхнул фейерверк — на этот раз красные и зеленые ракеты. Теперь войска перешли в атаку. До условных укреплений противника оставалось метров триста. Артиллерия, ведущая беглый огонь, создавала впереди чудовищную пляску смерти, и люди должны были не уходить от этой пляски, а бежать к ней. Снаряды рвались в каменной гряде. Лава атакующих неудержимо катилась вперед.
Я бежал вместе с другими, направляясь к еле заметной седловине, в которой был спрятан третий микрофон. Лавина атакующих затопила гребень каменной гряды и вдруг испуганно заметалась. Справа и слева она скатилась на другую сторону, но там, где я был, бойцы торопливо залегли, а некоторые стали отступать. Случилось непредвиденное: снаряды, рвущиеся в точно намеченной дистанции от пехоты, попадая на камни, вырывали их и разящими осколками бросали назад, навстречу атакующим. Микрофон был поврежден не то осколком, не то камнем. Уверенный, что он бездействует и не видя, что погнутая его коробка от проводов не оторвана, я не защитил микрофон от проникновения в него «нежелательных звуков». У самого микрофона отчаянно матерился командир полка. Камнем ему разбило голову и он полз, оставляя кровавый след. Кругом раздавались проклятия.
Атака была завершена. Смолкла артиллерия, стало странно тихо. Потянулись назад войска. Навстречу им двигались дымящие полевые кухни, разыскивающие свои роты.
А через два дня в Ташкенте, в большом зале театра, подводились итоги маневров. Общий обзор делал Тухачевский. Он говорил холодно и равнодушно. Оживился лишь заговоривши о последнем этапе маневров, когда войска были отданы под командование Тимошенко. Военное новаторство, сказал он, великое дело, но к успеху оно ведет через множество неудач. По мнению Тухачевского, опыт Тимошенко был одной из таких неудач.
Ворошилов сидел молча и ничем не выражал своего отношения к словам Тухачевского.
Тухачевскому возражал Жуков. С первого же слова он стал оспаривать выводы Тухачевского. По его словам, атака за артиллерийским валом вполне себя оправдала. Как и большинство старших командиров, Жуков не блещет красноречием, но его доводы были вескими и убедительными.
Мне не удалось присутствовать до конца на этом собрании. Вестовой разыскал меня и передал распоряжение сейчас же явиться в штаб. Из Москвы пришел приказ: немедленно вернуться в столицу. Теряясь в догадках, что может означать этот приказ, я явился на аэродром, погрузился в военный самолет и через день вышел из него на Московском аэродроме. Шофер повез меня не в редакцию, а на фабрику звукозаписи. Вскоре туда же приехал Б. М. Таль, бывший в то время заведующим отделом печати ЦК партии. Это был невысокий, худощавый человек. Лицо его освещалось большими черными, всегда болезненно блестевшими, глазами. Ходили слухи, что Таль наркоман.
В кабинете директора фабрики звукозаписи Таль объявил причину моего спешного вызова в Москву.
— Во-первых, там вам больше нечего делать. А, во-вторых, у вас чорт знает что происходило. Если верить всей этой звукозаписи, то там на каждом шагу красноармейцев убивали, — сказал он с непонятным раздражением.
— Об этом ведь я ни слова не говорил, — осторожно произнес я.
— Знаю… Однако вы умудрились так подать материал, что получилась не повесть о героической Красной армии, а сплошное издевательство над нею.
Таль впадал всё в большее раздражение.
Не было смысла оправдываться. Суждения высокопоставленных партийных чиновников неоспоримы, эту истину я к тому времени уже довольно хорошо усвоил.
Моя задача была простой. Под присмотром Таля должен был быть смонтирован радио-фильм о маневрах Красной армии. Его хотели продемонстрировать каким то иностранным делегациям, прибывшим в Москву. Прежде чем приступить к работе, надо было прослушать всю запись целиком. Слушая звуки, родившиеся в далекой Средней Азии и попавшие на пленку, я снова переживал всё происшедшее несколько дней назад. Я опять лежал в бункере, слышал над собою свист осколков, гром артиллерийских залпов.
Пока мы слушали, Таль укоризненно смотрел на меня, а мне, признаться, совсем не было стыдно и я мысленно хлопал себя по плечу. Мой рассказ о степи, о войсках, приготовившихся к наступлению, об артиллерии, притаившейся в складках местности, был прост, ясен и, как мне казалось, выразителен. Некоторый диссонанс внесла речь Ивана, когда я его держал за ногу и не давал выскользнуть из бункера, но ведь Иван солдат — и было бы странно, чтобы он заговорил изысканным языком. Когда раздался залп, а за ним грохот взрыва, в глазах Таля мелькнуло что-то, похожее на одобрение. Взрыв он готов был одобрить. Артиллерийские залпы следовали один за другим, от грохота взрывов, казалось, обрушится штукатурка в комнате, в которой мы были, но в грохоте, вое, визге, явственно звучал голос Ивана. Как помнит читатель, я при первом же залпе потерял на некоторое время способность управлять собой и всем телом вжимался в землю. Иван был в таком же, как и я, состоянии, но в то время, как я молчал, он бросал слово за словом и эти ненужные слова впитывались микрофоном. Его речь не была от сознания, у обоих нас оно было тогда подавлено, а от рефлекса, следовательно и речь эта была как бы рефлекторной. Насколько эта бессознательная речь была выразительной, читатель поймет сам. Каждый раз, когда раздавались особенно крепкие слова, Таль делал рукой жест, приглашая прислушаться.
Когда вся пленка была прокручена, Таль нравоучительным тоном заметил, что Чехов писал о мужиках, но ни разу не употребил бранного слова.
— Помните рассказ «Правонарушитель»? — спросил он.
Я, конечно, помнил этот рассказ, но мужик мужику рознь. Чеховский стоял на самой низкой ступени развития, всего боялся, ничего не понимал, задавленный не столько нищетой, хотя и ею, сколько полным и законченным бескультурьем. Иван это не чеховский мужик. Современные мужики многое познали, многому научились и защищают себя иначе, чем чеховский мужик. А что речь солдатская груба, так ведь это от жизни. Солдатская жизнь не менее груба. Я не встречал солдат, которых жизнь не научила бы единственному для них языку: солдатскому. Это относится к немецкому, русскому или китайскому солдату. Разница между их словесностью чисто внешняя, существо же общее.
Из вороха пленки, на которой были записаны звуки маневров, мы смонтировали пятнадцатиминутный радиофильм, который, быть может, припомнят те, кто в те годы жил в СССР. Он несколько раз передавался по радиостанции Коминтерна.
Мне же этот эпизод будет постоянно памятен, так как тогда, на маневрах в Средней Азии, я явственно ощутил машинное начало в советской армии, превращающее людей в частицы того, что мы именуем машиной войны.
Малая война
Ухабы бытия
Стреляющая, ревущая, гудящая военная техника — это лишь частица огромной машины войны. В моем представлении советская армия, олицетворена не в технике, а в худом, одетом в тряпье, обутом в кирзу советском воине. Серые солдатские пылинки, сведенные в полки, роты, дивизии обретают в соединении качества автомата.
В ту зиму, когда советская армия нескончаемым потоком устремилась на север, к Финляндии, чувство автоматичности армии, жившее во мне давно, окончательно оформилось.
Заканчивались тридцатые и начинались сороковые годы. Безжалостно подстегиваемая страна, с великим трудом преодолевая перманентный всесоюзный кавардак, втащила на гору воз индустриализации, дав Кремлю новый козырь — военную индустрию, способную перевооружить Красную армию.
Каждый год происходило много такого, что накладывало суровый отпечаток на истерзанный лик страны. После Тухачевского отвратительная чистка унесла тысячи командиров Красной армии. Не мало героев гражданской войны исчезло в застенках Ежова. Назревали столкновения с японцами, прорвавшиеся потом событиями Хасана и Халхын-Голла. Поэт Демьян Бедный, пребывавший в опале, попытался заслужить отпущение грехов. В «Правде» появились его стихи:
Не трепитесь Сигемицу, Мелко плаваете вы.Сигемицу, тогдашнего мининдела Японии, не устрашили не только угрозы Кремля, но даже стихи Бедного. Пришлось пробовать оружие — испытание, из которого Красная армия вышла хоть и без особой чести, но и без особых жертв.
Под грохот пушек на востоке торопливо заканчивалась расправа власти над народом. До предела распухли концлагери, если только можно говорить о пределе, когда речь заходит о концлагерях. В долгом стоянии за килограммом хлеба «в одни руки» люди могли размышлять о преимуществах победившего социализма. Моя дальняя родственница, женщина простая и бесхитростная, в одной такой очереди высказала то, что думала: «В старое время я была прачкой и трем моим детям дала высшее образование, — сказала она. — А теперь два моих сына инженеры, а дочь музыкантша, я же стою ночами, чтобы получить кусок хлеба для них». Ее на три года отправили в Караганду.
Одним словом, всё шло так, как и положено идти при советской системе.
Зима 1939 года застала меня в Калинине (быв. Тверь), где я отбывал наказание за несовершенные мною, или, во всяком случае, неведомые мне грехи. В мире преследуемых мера наказания, отмеренная мне, почиталась чем-то вроде легкого насморка и всерьез не принималась. Люди, получившие «минус шесть», то есть запрещение на известный срок жить в шести крупнейших городах страны, попадали в какое-то промежуточное положение: не свободны, но и не лишены свободы. Я в эту категорию людей попал тогда, когда Сталин решил, что наступило время Бухарину положить голову на плаху. Бухарина повлекли на казнь, а нас всех, сотрудничавших с ним в «Известиях», где он был редактором, разместили по тюрьмам, чтобы посмотреть, не вложил ли в нас Бухарин своих антисталинских настроений и в соответствии с этим определить наше место под солнцем. В беду после Бухарина попали мы все, начиная от редакционных уборщиц и кончая заместителями Бухарина.
После кратковременного пребывания в Лубянской тюрьме, нас разместили по тем местам, где нам, по мнению власти предержащей, быть надлежало. Несколько человек исчезли в концлагерях, кое-кого отпустили на свободу, а большинству, к которому принадлежал и я, было назначено быть людьми, помеченными «минусом шесть». Так попал я в Калинин.
Облюбовал я этот город по нескольким причинам. Во-первых, по причине упрямства. Во мне жила тогда глубокая, не затухающая обида на несправедливость, учиненную нам. Я искренне считал, что подвергать меня наказанию никто не смеет, раз я не совершил ничего такого, что заслуживало бы наказания. Когда мне определили «минус шесть» и сказали, что я не имею права селиться ближе, чем в ста километрах от таких-то шести городов, я сразу же выбрал Калинин, в ста одном километре от Москвы. Мне казалось, что выбирая этот город, я каким-то образом заявляю свой протест. Мне запрещают жить ближе чем в ста километрах, хорошо, я буду жить в ста одном. Другой причиной была моя привязанность к Москве. Все мои интересы, и не только общественные, были связаны с нею. Я надеялся, что, несмотря на запрещение, смогу бывать в столице — и действительно бывал.
Вся тогдашняя жизнь моя была какой-то беззаконной. Мне запретили работать в прессе, но я был неразлучен с пером, и именно в Калинине моя работа была наиболее плодотворной. Я благодарен нескольким советским писателям — два из них теперь сталинские лауреаты — за то, что они печатали мои тогдашние произведения и аккуратно присылали гонорар. Редко кто может похвастаться таким обилием псевдонимов, каким пользовался я. В самом Калинине для меня находилась работа, которой я не пренебрегал. Года полтора учил я молодежь на курсах репортеров при местной газете «Пролетарская Правда». Этот мой второй педагогический опыт был более удачным, доказательством чего является тот факт, что курсы были ликвидированы. Когда питомцы курсов стали работать в прессе, то обнаружилось, что у них совершенно нет вкуса к политической публицистике, зато яркие проявления жизни они умели описывать увлекательно. Партийное начальство, смотревшее до этого сквозь пальцы на педагогическую деятельность сосланного журналиста, спохватилось и курсы были бесшумно уничтожены, а курсанты отправлены в московский КИЖ — коммунистический институт журналистики, где в них старательно убили любовь к газетному делу.
Осенью 1939 года моя судьба сделала еще один крен. В промозглый день, когда с неба косыми лучами падал дождь, а дым из труб фабрик «Пролетарка» и «Вагжановка» стелился по улицам фабричного пригорода, где мне пришлось жить, плелся я к центру города, невольно замедляя шаги и упорно решая неразрешимую задачу. Она состояла в том, что на этот день меня вызывали в областное НКВД, а это не могло предвещать ничего доброго. Что меня ждет? — спрашивал я снова и снова. Расстроенное воображение рисовало новые кары, которые обрушатся на меня. Подавленный мыслями о собственном моем бессилии, дошел я до высокой каменной стены, через которую деревья тянули свои полуоголенные ветви. Такие стены на старинных гравюрах окружают барские усадьбы. Когда-то за ними и была такая усадьба местного богача и известнейшего кутилы, но в то время, к которому относится наш рассказ, в барской усадьбе помещалось НКВД. Чекисты почему-то очень любят старину и во многих городах управления НКВД занимают старинные дома, окруженные садами.
У ворот с будкой меня задержали. Собралось нас человек пятнадцать: все явились по вызову. Часовой стоял в будке, а мы мокли на дожде и тщетно пытались укрыться под деревьями. Наконец, за нами явился дежурный и, проверив по списку наши имена, повел нас гуртом в барский дом с колоннами. В каком-то темном закоулке дома нам приказали ждать. Сидеть было не на чем и мы стояли, боясь прислониться к стенам, так как они были недавно побелены. Разговаривать между собою мы не решались: в таком учреждении познаешь действительную ценность молчания. Одного за другим нас вызывали из темного закоулка, но вызванные больше не возвращались. Их могли отводить в тюрьму, помещавшуюся тут же, в саду, но могли и домой отпускать. Кто мог это знать?
Дошла очередь и до меня. Дежурный выкрикнул мое имя и, даже не взглянув мне в лицо, повел в конец коридора и молча указал на дверь. В небольшой комнате, за грубым письменным столом, сидел костлявый человек с равнодушными, почти сонными глазами. Мундир был слишком широк и топорщился на его плечах, Сухое лицо со склеротической краснотой на скулах было повернуто в мою сторону, но человек, как мне казалось, не видел меня. Я остановился у стола и ждал.
Чекист был в невысоких чинах, это было уже хорошим признаком. Такие мелкие сотрудники значительных решений не принимают и, может быть, меня вызвали по какому-нибудь пустяшному поводу.
Наконец, чекист заметил меня и его взгляд приобрел осмысленное выражение. «Кокаина ты нанюхался, что ли?» — хотелось мне спросить. Но надо было молчать. Сидящий протянул свою немощную руку к кипе желтых папок, порылся в ней и извлек папку с моим именем. Он быстро просмотрел бумаги и, не поднимая на меня глаз, равнодушно произнес несколько слов. Эти слова привели меня в удивление и я неожиданно для самого себя свистнул. Откровенно говоря, сказанное чекистом заслуживало свиста. Своим деревянным голосом он сообщил, что срок моего «минус шесть» кончается сегодня, так как решение по моему делу пересмотрено. Мой свист вывел чекиста из состояния сонного равнодушия. Он стал кричать, грозно ударяя кулаком по столу. Но потух так же быстро, как загорелся. Опять равнодушно, он подсунул мне подписку о неразглашении каких-то тайн и вялым своим голосом сказал:
— Мы вами больше заниматься не будем. До поры до времени. Вам надо немедленно отправиться в военный комиссариат. Через час вы должны там быть, я проверю.
Путь на север
Ничего не понимая, отправился я в военкомат. На военном учете до высылки из Москвы я состоял в одном из районов столицы. Скромность моего военного чина в сочетании с тем обстоятельством, что я хожу в ссыльных, казалось бы, должна была надежно гарантировать меня от общения с военно-мобилизационными учреждениями. Но в данном случае моя особа зачем-то потребовалась военкомату, и я покорно плелся на другой конец города, где это учреждение помещалось.
В военкомате меня принял человек, сохранивший в своем облике классические черты писарей дореволюционного времени. Он был курносый, гладко причесанный, сурово нахмуренный и раздраженно рыкающий на каждое мое замечание. От него получил я повестку о явке в полк, стоящий в казармах невдалеке от города. Мне давалось два часа срока.
А на другой день я уже сидел в теплушке воинского эшелона, направлявшегося на север в сторону Ленинграда. Командир полка, развеселый человек лет тридцати пяти, объяснил мне ситуацию:
— Финны, понимаете, шебуршить начинают. Наше правительство им добром говорит: «Потеснитесь!», а они вопят. «Некуда, вода кругом». А сигать в воду не хочется. Так вот, мы и двинулись поближе к ним. Как завидят, что мы на них прем, так, не раздумывая, в воду сиганут и «Правда» напишет, что ультиматум они приняли и энтузиазму при этом было предостаточно.
В это время особого движения к границам Финляндии еще не замечалось. Стягивались, главным образом, войска Ленинградского военного округа, в состав которого входила и та дивизия, куда я попал. У всех была уверенность, что предстоит лишь военная демонстрация, до стрельбы дело не дойдет. Странно было представить себе, что Советский союз начнет вести воину с Финляндией. Слон против мухи! Боец Воронов, здоровенный детина откуда-то из-под Курска, весельчак и заводила, так разглагольствовал, сидя в теплушке:
— Нам, мущинам, значит, совсем не к чему воевать с энтой Хвинляндией. Мы вполне можем препоручить это бабам. В Хвинляндии всего-то три миллиона людей. Прикажем мы нашим бабам: «Рожай». В единый тебе год они столько народят, сколько усех хвинов на свете есть.
Однако, еще по пути к Финляндии узнали мы, что пушки уже стреляют и ведутся бои. Поезд шел всё так же медленно и тот же Воронов уверял товарищей, что пока доедем «наши уже хвинской сметаны поедят и хвинских девок пошшупают».
Дивизия наша была введена в состав войск, предназначенных для движения на Выборг. Полк расположился в небольшой деревне. По ночам в той стороне, где была Финляндия, горизонт озарялся вспышками. С каждой ночью этих вспышек становилось больше. Шли бои.
Военная прогулка не удавалась. Все мы, более или менее, страдали самоуверенностью, переданной нам отцами. Нам казалось, что Финляндия не может выдержать и одного дня войны с нами. Однако, проходил день за днем, а сопротивление маленькой страны не только не прекращалось, но требовало с нашей стороны всё больше войск. В газетах, правда, избегали говорить о том, что Советский Союз воюет с Финляндией, но мы-то знали, что воюет. По официальной версии ленинградский военный округ проводил что-то, похожее на полицейскую акцию по усмирению непокорного соседа, а между тем в боях уже принимали участие войска не только ленинградского, но и многих других округов.
В декабре нашу дивизию выдвинули на линию фронта. Стояли лютые морозы. Нужно было маршировать по снежному бездорожью через леса, на место, обозначенное на карте ничего не значащей цифрой «68.1» — высота, долженствующая стать центром боевого порядка нашей дивизии. Колонна нашего полка двинулась в пешем строю по еле заметной проселочной дороге.
С полуротой бойцов меня откомандировали в помощь полковым артиллеристам и пулеметчикам, которым предстояло добраться до ж. д. станции, погрузить в эшелон пушки, пулеметы, лошадей, и доставить всё это по железной дороге до полустанка, невдалеке от того места, куда направлялась наша дивизия.
Путь к железной дороге был не легким. Пушки вязли в снегу и приходилось вытаскивать их соединенными человеческими и лошадиными силами. Тяжелая работа согревала, бойцы расстегивали полушубки, откидывали концы треухов. Кое-как до станции добрались. На этом, однако, наши испытания не кончились. Станция, имеющая четыре рельсовых пути, была забита воинскими эшелонами. Дымили паровозы, переругивались машинисты и составители поездов. Пронзительно скрипел снег под ногами, когда мы направлялись к вокзалу, разыскивая коменданта. Гул людских голосов доносился из вагонов, плотно закрытых и похожих на ульи с укладывающимися на зимовку пчелами.
Коменданта мы нашли у водонапорной башни. Под его наблюдением несколько железнодорожников укутывали в тряпье трубы, по которым подается вода в паровозы. Был это человек в летах и явно из запасных. Новая шинель с петлицами капитана плохо грела коменданта, он всё время пританцовывал, что в сопоставлении с его мрачным лицом и испуганными глазами выглядело довольно забавно. Выслушав нас, комендант снова запрыгал от холода, разводя при этом руками. Ему сообщили по селекторной связи, что порожняк для нас прибудет, но когда?.. И потом, если прибудет, то куда его можно поставить, — все пути забиты эшелонами, а следующая станция отказывается принимать их.
Договорившись с комендантом, что в случае прибытия порожняка, он даст нам знать, мы отправились в пристанционный поселок и «оккупировали» его для стоянки. Стали прибывать батареи и пулеметные роты из других полков нашей дивизии и нам пришлось потесниться. Маленькие домики железнодорожных служащих заполнились бойцами и командирами. Хозяйки приносили солому, закрывали ее ветхими покрывалами, устраивая постели для измученных бойцов. У печей сушились солдатские портянки и валенки.
Тем временем я опять отправился на станцию. Надо было следить за тем, чтобы порожняк, когда он придет, не был кем-нибудь перехвачен. На путях стояло с дюжину эшелонов, все вагоны были заполнены людьми, а станция казалась безлюдной. Цепкий холод держал людей в теплушках. Худощавый, несколько дней не брившийся комбат с острым решительным взглядом, остановился рядом со мною, когда я стоял на краю перрона.
— Какой части? — спросил он зычным голосом. Ответив на его вопрос, я продолжал:
— Вот стою и не понимаю. В вагонах тысячи бойцов, а на станции совсем не видно людей. Неужели мороз такую панику навел?
— Не столько мороз, сколько интендантство, — ответил комбат и злая гримаса исказила его лицо. Одет комбат был не по сезону и поеживался от холода в своей длиннополой шинели и хромовых сапогах в обтяжку.
— Хотите посмотреть? — спросил он.
Мы подошли к ближайшей теплушке и комбат постучал кулаком в ее широкую дверь. Гудение человеческих голосов пошло на убыль, дверь чуть-чуть отодвинулась в сторону, образовав узкую щель в вагон, и в эту щель выглянула круглая солдатская голова в лихо сдвинутой на затылок шапке. Увидев нас, голова исчезла из щели и из вагона донесся свистящий шопот: «Ребята, комбат тут!». В вагоне стало тихо, заскрипела дверь, отодвигаемая в сторону несколькими парами рук.
В центре теплушки дышала жаром раскаленная чугунная печь, а вокруг нее, плотным кольцом, размещались бойцы. Лица были красные, распаренные, гимнастерки расстегнуты. На ногах у всех были одинаковые грязно-белые носки. В то время, как в центре теплушки было жарко, по углам скоплялись снежные хлопья. Вагон был старый, много перевидавший на своем веку, и тепло в нем не удерживалось.
— Опять сожгли нары! — произнес комбат, окидывая вагон взглядом. Ни строгости, ни осуждения в его голосе не было. Действительно, в вагоне, заполненном полусотней бойцов, совсем не было нар, хотя прибитые по бокам планки свидетельствовали, что нары тут недавно были. Солдаты молчали. Потом чей-то притворно-жалобный голос от печки произнес:
— Да, как же, товарищ командир, морозище такой, что селезенка екает, а топки не выдают. Комбат повернулся ко мне.
— Вот, полюбуйтесь. В пятый раз снабжается эшелон досками для нар и в пятый раз их жгут.
— Да вы не о нарах, а об угле позаботились бы, товарищ командир, — раздался тот же голос. — Немыслимо же в такой холод без топлива выдержать.
— Нет угля, — проговорил комбат. — На каждой станции заказываю и не могу получить. И дров нет. Одни только доски для нар. Товарищ отделенный командир Сергеев…
— Есть! — приподнялся с места молодой, гигантского сложения солдат.
— Пройдите к начальнику штаба и передайте приказание во всех вагонах проверить наличие нар и заказать недостающие для них доски. И топливо пусть опять закажет. Топлива, впрочем, не дадут, поэтому пусть закажет двойной комплект досок.
Отделенный Сергеев подошел к двери поеживаясь. Он был похож на купальщика, подходящего к краю трамплина для прыжка в холодную воду. Распахнув дверь, Сергеев выпрыгнул из теплушки и помчался куда-то в сторону. Я в это время рассматривал длинный ряд резиновых сапог. Бойцы поставили их вдоль стен и они поблескивали оттуда своей глянцевитой поверхностью. При одном лишь взгляде на эту резиновую обувь становилось холодно, но другой в вагоне не было. В эти холода солдаты имели только резиновые сапоги да грязно-белые «шерстяные чулки», о которых в интендантствах шутили, что они изготовлены из бумаги с шерстью — вагон бумаги и моток шерсти, оставшийся от бабушки.
Мы шли с комбатом, направляясь к поселку железнодорожников, воодушевленные перспективой выпить чаю из настоящего самовара. По дороге встречались наши бойцы и комбат с откровенной завистью рассматривал их зимнее обмундирование. Я в ту минуту был преисполнен чувством благодарности к нашему командиру дивизии, задержавшему отправку полков, пока интендантство не доставило полный комплект зимнего обмундирования.
— У вас, видно, позаботились, а наша дивизия мается. Обещали по пути снабдить валенками и полушубками, да обещанного надо три года ждать. Нет, определенно всех интендантов надо к стенке поставить. Комбат ускорил шаги, подгоняемый холодом. Поздно ночью от станции донеслись звуки сигнала.
Горнисты трубили боевую тревогу. Издали доносились редкие винтовочные выстрелы. Тьма была кромешная, и я дважды натыкался на телеграфные столбы, пока добрался до станции. На время боевой тревоги, мы все должны были поступить в распоряжение старшего начальника, имеющегося в пределах досягаемости. Поиски старшего начальника, предусмотренного уставом, и были причиной, по которой я пробирался во тьме к станции.
В комнате военного коменданта было шумно. Тут бушевал маленького роста, почти квадратный комбриг с свирепыми серыми глазами. Это был командир той самой дивизии, что растянулась в эшелонах по станциям в ожидании зимнего обмундирования.
Я стоял позади других командиров, стараясь понять, что же произошло и почему горнисты проиграли боевую тревогу.
— Где же ваше боевое охранение, я спрашиваю, — кричал комбриг в лицо командиру полка, стоявшему перед ним навытяжку. — Финны вас могут, как мокрых кур перерезать, а вы даже не успеете глазом моргнуть. Каждую минуту нужно ждать нападения…
Было мало вероятно, чтобы финны оказались поблизости от станции, но комбриг почему-то уверовал в нападение и занят был организаций круговой обороны станции. Всё это делалось с руганью, похожей на стон. Мороз ночью еще усилился и выводить людей из теплушек в резиновых сапогах и шинелях второго срока походило на преднамеренное убийство. От вагонов неслись крики и брань. По перрону торопливо проходили роты, направляясь на отведенные им участки круговой обороны.
Комбриг долго не понимал, кто я, и что хочу от него, но, наконец, уразумел, что со мною до двух сотен бойцов и я явился, чтобы стать под его команду на время боевой тревоги. Быстро окинув меня глазами, комбриг спросил:
— Две сотни, говорите?
— Так точно.
— И все в зимнем обмундировании?
— Да.
— Да вы из какой дивизии?
Выслушав мой ответ, комбриг возмущенно всхрапнул и в его глазах почему-то появилось недружелюбие.
— Командир вашей дивизии, Варфоломеев, всегда пронырой был. Чорт его знает, как он умудрился получить комплект зимнего обмундирования. Послушайте, вы правду говорите, что вся дивизия имеет полушубки и валенки?
Я подтвердил, что это правда, не понимая, что вызывает ярость комбрига. Он вдруг распахнул дверь и громовым голосом стал кричать:
— Послать ко мне дивизионного интенданта. Немедленно пусть явится, я с ним поговорю. Повернувшись ко мне:
— Ваша команда должна выйти на северо-западную сторону поселка и на расстоянии шести километров, на опушке рощи, занять боевой порядок. С левой стороны от вас будет третий батальон… Впрочем, и справа, и слева никого не ищите. Все другие части будут расположены ближе к станции, так как они не обмундированы в зимнее, а ваша команда, поскольку Варфоломеев приодел вас всех, может и дальше от станции прогуляться.
Комбриг еще не закончил давать мне указаний, как в дверь поспешно вошел офицер с интендантскими нашивками. Одет он был, как и другие офицеры дивизии, в шинель и хромовые негреющие сапоги. При виде интенданта комбриг снова впал в ярость.
— Нет, ты видишь? Видишь, я спрашиваю? Говоря это, он тыкал меня пальцем в грудь. Вопросы относились не ко мне, а к интенданту. Комбриг даже присел на корточки и похлопал ладонью по моему валенку.
— И валенки видишь? Смотри хорошенько, как настоящие интенданты о своих частях заботятся. Комбриг забегал по комнате.
— Нет, ты скажи мне, когда обмундирование будет? Ты мне шарики не закручивай, а говори прямо, когда и где будет обмундирование для дивизии? Не можешь сказать? Не можешь?..
Голос комбрига упал до шопота.
— Расстреляю! Расстреляю и всё тут. Вон в тридцать шестой дивизии расстреляли интенданта, так обмундирование немедленно появилось.
Интендант стоял бледный. Он, конечно, ни в чем виноват не был. Базы снабжения оказались полупустыми и зимнего обмундирования нехватало. Его везли из других военных округов. Но комбригу в тот момент казалось, что во всем виноват его интендант, и я не был уверен, что он не расстреляет его. Заметив, что я всё еще стою и, вероятно, находя неуместным разговор с интендантом в моем присутствии, комбриг сухо бросил в мою сторону.
— Исполняйте приказ.
Я вышел на перрон, а за моей спиной снова поднялся крик комбрига. На минуту я остановился на заснеженной платформе. Свет, падавший из окна комендантской комнаты, пересекал перрон и, изогнувшись острым углом, падал на рельсы. Через полосу света проходила рота. Резиновые сапоги вспыхивали холодным блеском. Солдаты сгибались от холода, прятали руки в рукавах шинелей. Когда рота прошла, на перроне остался соломенный след. Чтобы защититься от обжигающей холодом резины, бойцы всовывали в сапоги солому и теперь она высыпалась на ходу из широких голенищ.
Неся на руках пулеметы, наш отряд отправился в указанном ему направлении и добрался до опушки рощи.
Не было никакого смысла развернуться в боевой порядок, никто из нас всерьез не верил, что поблизости есть финские войска. Солдаты пустили в ход саперные топоры и лопаты и вскоре в темноте выросли шалаши, а в них загорелись костры.
Как-то незаметно, ночь перешла в серое, окутанное морозным туманом утро. Проходили час за часом, а никаких известий мы не получали. Подняв воротники полушубков, солдаты сидели в шалашах, протянув к огню руки.
Командир пулеметного эскадрона Тихонов отправился к поселку. Вернулся он лишь под вечер, сопровождаемый бойцами, несущими мешки с хлебом и мясными консервами. Не в силах скрыть раздражения, Тихонов сообщил, что командир дивизии, маленький комбриг, от которого я ночью получил приказ, попросту позабыл о нашем отряде. Тревога оказалась ложной и он снял свои части еще ночью, а нас оставили на опушке рощи.
Может быть, Тихонов ошибался. На обратном пути мы подобрали четырех замерзших солдат, обутых в резиновые сапоги. Не были ли они посланы на поиски нашего отряда? Мы принесли их с собою в поселок и долго ковыряли землю, чтобы вырыть для них могилу.
Комендант лично явился в поселок, чтобы сообщить, что эшелон для нас пришел.
У линии Маннергейма
Оставайся я в той части, куда меня направил военный комиссариат, и вся финская кампания сузилась бы для меня до пределов боевого участка моего полка. А так как дивизия очень долго находилась в резерве главного командования и приняла участие лишь в последних боях советско-финской войны, то мне и рассказать бы было нечего о тех днях.
Но обстоятельства сложились иначе и в полку я пробыл совсем недолго.
Располагался наш полк в лесу. В семи километрах лежало село, населенное угрюмыми лесорубами, постоянно носящими топоры за поясами. Все мы были в те дни заняты поисками спасения от морозов. Изо всех сил зарывались в землю. Замерзшая земля сопротивлялась нам. Она звенела при ударе, словно мороз превратил лесную почву в металл. Надо было оттаивать землю дюйм за дюймом. Даже кухни постепенно исчезали с поверхности и их трубы грозно дымили из-под земли. Шла обычная прифронтовая жизнь. По утрам политруки разносили по землянкам газеты, созывали короткие беседы. Люди привыкли к ровному гулу стрельбы, не умолкавшему ни днем, ни ночью. Наши наступавшие части уперлись в финские укрепления. Среди нас циркулировали фантастические рассказы о линии Маннергейма, о ДОТах (долговременные огневые точки) несокрушимой прочности, о подземных городах под ними.
Приходящие к нам московские и ленинградские газеты укрепляли нас в мысли, что линия Маннергейма трудно проходима и только это в наших глазах могло служить каким-то объяснением того неожиданного факта, что наша армия не может сломить маленькую Финляндию.
В полк пришел обо мне запрос. Политотдел дивизии требовал от командира и комиссара полка сведении обо мне. Не думает ли политотдел, что я сбегу к финнам? Полковое начальство отписалось на запрос обычным манером: командир взвода имя рек проявил себя дисциплинированным волевым командиром, пользуется авторитетом у подчиненных и ни в чем предосудительном замечен не был. Я надеялся, что на этом интерес политотдела ко мне угаснет, но не тут-то было. Вскоре пришел приказ откомандировать меня в политуправление штаба округа.
Снабженный документами и тронутый ласковыми проводами, устроенными мне бойцами моего взвода, отправился я на полковом грузовике к железной дороге и втиснулся в первый попавшийся поезд, идущий в тыл. В это время могло показаться, что вся страна двинулась к северным границам. Вдоль железнодорожного полотна тянулись колонны войск. Лошади с трудом волокли пушки. Крестьянские телеги везли к фронту боеприпасы и продовольствие. На станциях торопливо и неряшливо кормили проезжавших перловым супом. К фронту двигались эшелоны со снаряжением и боеприпасами, а в обратном направлении — санитарные поезда, переполненные обмороженными. То и дело в нашем поезде разыгрывалась ставшая уже обычной картина. Эпилептики бились на полу, а мы наваливались на них, держали их головы, руки, ноги, не давая им покалечить самих себя. Почему-то их отправляли в тыл без сопровождения. Мне вторично приходилось видеть массовую эпилепсию. Первый раз это было на вокзалах во время гражданской войны. Тогда это были в большинстве матросы, теперь — пехотинцы.
Кое-как добрался до Сестрорецка, где было размещено политуправление Округа, но там мне дали новый маршрут и опять я стал колесить в поисках высокого начальства, к которому мне надо было явиться. Наконец, оказался я на небольшой захламленной станции, заполненной людьми. Больше всего тут было людей с интендантскими петлицами. На этой станции временно размещалось интендантское управление.
В небольшом деревянном доме меня встретил старый наш знакомый, Карелов. Он за эти годы изрядно постарел и потускнел, стал еще сумрачнее и напряженнее. На этот раз он сделал для меня исключение и на его лице появилось что-то, отдаленно напоминающее улыбку. После самоубийства Гамарника Карелов некоторое время был не у дел и его судьба висела на волоске. Но каким-то образом он избежал грозы и даже вернул утерянный было пост главнейшего сотрудника в политическом управлении. Спас его Мехлис, ставший после Гамарника фактическим главой комиссарского корпуса советской армии.
— Я доложил Льву Захаровичу, что вы где-то тут обретаетесь, и он сказал, что вам надо дать возможность исправить ошибки вашей биографии, — говорил Карелов.
Почему вдруг Мехлис воспылал желанием помочь мне выйти из положения опального, для меня до сих пор непонятно. Впрочем, даже у людей очень злых бывают иногда добрые побуждения и желание покровительствовать малым мира сего. В глазах таких людей маленькое добро способно прикрыть большое зло. А в данном случае и добра-то никакого не надо было творить. Я охотнее остался бы в полку и предпочел бы с Мехлисом вовсе не встречаться. К этому времени сложилось у меня весьма тяжкое представление о таких, как он.
Но приказ есть приказ.
— Лев Захарович приказал причислить вас к числу своих порученцев, — продолжал Карелов. — Он всегда хорошо к вам относился и считает, что вы сблизились с Бухариным больше по молодости и неразумию, чем по внутреннему убеждению.
Не было смысла говорить Карелову, что никакого особого сближения с Бухариным у меня не было. Невозможно было работать в редакции и не иметь отношений с главным редактором. Бухарин, живший под страхом расправы, был очень заботлив и со своими сотрудниками не вступал в политические беседы. Он хотел их предохранить от опасности слишком близкого общения с опальным членом политбюро. Но говорить о том, что Мехлис, например, имел несравненно больше встреч с Бухариным, чем я, не стоило. Такое напоминание содержало бы в себе что-то оскорбительное для казненного Бухарина, а у многих из нас, работавших с ним, выработалась привычка о Бухарине думать, но не говорить.
Итак, стал я порученцем при Мехлисе, выполнявшем на финском фронте роль специального уполномоченного Сталина и наводившего страх на командование. В то время, когда я прибыл на маленькую замусоренную станцию, Мехлис был занят «наведением порядка» в интендантской службе, хотя вряд ли это помогало снабжению войск. Принял меня Мехлис в станционном помещении. Несмотря на то, что в комнате было жарко натоплено, он был в длинной, до пят шинели и в меховой офицерской шапке. На боку у него висел маузер в деревянном футляре. Таким оружием в годы гражданской войны вооружались старшие командиры, особенно же любили их комиссары. Ношением этого устарелого оружия Мехлис словно хотел напомнить о своей роли в гражданской войне, которую он всегда непомерно преувеличивал, вызывая злые насмешки.
Кивнув мне головой, Мехлис продолжал разговаривать с полковником интендантской службы, разложившим перед ним карту фронтового района. Я ждал и с каким-то самому мне непонятным недружелюбием прислушивался к строгим начальственным замечаниям Мехлиса, которого я несколько раз встречал в Москве и, признаться, побаивался. Было известно, что он близок к Сталину. Мне трудно сказать, почему, но Мехлис, сам еврей, был люто нелюбим евреями-журналистами. Несколько моих товарищей, евреев, иначе не называли Мехлиса, как Левушка Прохвостов.
В газетном мире Мехлис был полновластным хозяином. Единственным человеком, которого сам Мехлис побаивался, был Артем Халатов, соревновавшийся с Карлом Радеком в изобретении острых шуток и почему-то избравший Мехлиса объектом насмешек. Побаиваясь Артема Халатова, Мехлис предпочитал не показываться в Московском Доме Печати, где бородатый и буйный Артем, тоже имеющий свой вход к Сталину, был долголетним председателем правления.
Особенно злые шутки пускал Халатов по поводу воинственности Мехлиса и его роли в гражданской войне. Однажды Мехлис, состоявший редактором «Правды», имел неосторожность пропустить в газете несколько строк, посвященных ему лично. Отмечалась годовщина каких-то боев на Волге и в исторической справке было сказано, что в самый критический момент боев прибыл Лев Мехлис и лично повел в атаку кавалерийские отряды. Это еще было ничего, может быть, и правде соответствовало, но составитель справки, в неудержимом стремлении услужить Мехлису, написал, что Мехлис прибыл на белом коне. Этот-то белый конь и стал источником многих несчастий для Мехлиса. По рукам ходила злая сатира, несомненно, принадлежавшая Халатову и называвшаяся «Исследование о белом коне и всаднике под ним». Среди газетных художников было устроено негласное соревнование на изображение описанного в «Правде» эпизода. Особенным успехом пользовалась серия из четырех маленьких рисунков, сделанная по идее самого Халатова. На первом рисунке дебелая женщина усаживает на белого коня плачущего Мехлиса. На втором конь брыкается и Мехлис еле удерживается на нём, вцепившись в гриву. На третьем — конь скачет, а Мехлис постепенно сползает к хвосту и с ужасом смотрит назад, словно желая видеть, как длинен конь. На четвертом Мехлис повис на самом хвосте скачущего коня и кричит: «Этот конь уже кончился, давай другого».
Говорили, что Мехлис обращался к Сталину с жалобой на Артема Халатова, но тот опередил и повеселил «хозяина» рисунками.
Но то, что было позволено Артему Халатову, не было позволено всем другим. Мехлиса боялись и старались не вызвать его гнева, зная, что одного его слова достаточно, чтобы судьба каждого из нас стала сомнительной.
Полковник свернул карту и ушел, а Мехлис утомленно закрыл глаза. Это была его особенность, подчеркнуто демонстрировать свою усталость. Но на этот раз Мехлис был и вправду утомлен. Покрасневшие веки, мутный взгляд, серый цвет лица — всё подтверждало это. Вероятно, Мехлис мало спал в эти дни, тревожные и напряженные. Молчал Мехлис, молчал и я, думая о том, что этот курчавый человек с хищным носом снова идет вверх. Перед войной с финнами его положение очень пошатнулось. Ему нехватало выдержки и рассчетливой сноровки Гамарника, и поэтому в баталиях с генералитетом он подорвал свой личный престиж. Гамарник, при всех его выдающихся качествах, вынужден был пустить себе пулю в лоб. А как справится с задачей Гамарника Мехлис? И восстановит ли он свое пошатнувшееся положение? Назначение его на роль чрезвычайного уполномоченного Сталина как будто дает ему эту возможность.
Мехлис вздохнул, провел ладонью по глазам и, поднявшись со стула, стал ходить по комнате. Маузер в деревянном футляре неуклюже болтался на боку.
— Карелов сообщил вам причину вызова вас ко мне? — спросил Мехлис. Не дожидаясь ответа, продолжал: — мне нужна группа культурных и исполнительных командиров для выполнения поручений. Я думаю, что вы подойдете для этой роли. Самая главная ваша задача будет состоять в том, чтобы донести до надлежащих лиц точный смысл моих приказаний. Повсюду происходит чудовищная путаница и приходится принимать экстренные меры. Вы должны наблюдать за тем, чтобы смысл приказов воспринимался точно… Для начала вы отправитесь в штаб…
Мехлис назвал штаб корпуса, куда я должен был отправиться. Мне предстояло побывать в полках этого корпуса и потом доложить Мехлису, как обстоит дело с продовольственным и вещевым снабжением.
— Начальник контрольного отдела интендантства, которого вы только что здесь видели, утверждает, что в этот корпус доставлен полный комплект зимнего обмундирования, а я в этом сомневаюсь. Несколько дней назад я имел донесение, которое совершенно иначе рисует картину. Я хочу знать, кто прав и как снабжен корпус обмундированием и продовольствием.
Так попал я на участок фронта, где в это время происходили бои за овладение линией Маннергейма.
В замороженном мире
В бесплодных попытках потеснить финнов прошел декабрь и наступил январь. Ожидаемая военная прогулка превратилась в затяжную позиционную войну. Финская армия мужественно защищала свою маленькую страну. Громада советской армии уперлась в непроходимую линию финских позиций и неуклюже топталась на месте.
Вскоре был я в полках 45-й горно-кавалерийской дивизии, привезенной сюда из горячих полупустынь Туркестана, где она имела постоянную стоянку. Хотя дивизия и продолжала именоваться горно-кавалерийской, но ничего горного и ничего кавалерийского в ней уже не было, кроме шпор на сапогах некоторых командиров. Она была переброшена из Туркестана без своего конского состава, что было лучше для людей, и, особенно, для лошадей. Ее «с ходу» выдвинули на передовые позиции, штурмовала она финские укрепления, понесла существенные потери и, отойдя на исходные позиции, пристыла на них. Единственным ее занятием стал обстрел финских позиций из горных пушек. Их способность бросать снаряды по сильно изогнутой траектории причиняла финнам сильное беспокойство.
В ту пору суток, когда нельзя определить, наступил уже день или всё еще продолжается ночь, мы отправились на боевой участок одного полка горно-кавалерийской дивизии. Командир полка прислал за мной троих бойцов. Днем мы говорили с ним по телефону и хоть разделяло нас расстояние всего километров в пять, но пройти к полку не было никакой возможности. Ближайший тыл кишел финскими снайперами, а дорожки, протоптанные в снегу, были засечены на картах финнов и методически обстреливались их артиллерией. Связь с полком поддерживалась только ночью, да в ранние утренние часы, когда морозный туман делает всё вокруг невидимым.
Мы шли по лесной тропинке, находя ее скорее не зрением, а чувством. Впереди меня еле мерещилась широченная спина солдата и надо было держаться ему в затылок, чтобы не сбиться с протоптанной тропинки и не влезть в сугроб. Иногда это не удавалось и тогда идущий впереди и двое других сзади приостанавливались и молча ждали, пока я выберусь из сугроба. Один из идущих сзади при таких остановках смачно отплевывался и высоким женским голосом говорил: «Ну, и природа, растакую твою». Было непонятно, говорит он об окружающей нас природе или обо мне, не умеющем ходить в темноте по лесной тропе и попадающем в сугробы. «Сейчас светать будет», — откликался тот, что был впереди. Опять было непонятно, почему он это говорил. То ли затем, чтобы подбодрить меня, так как при свете мне легче будет пробираться лесной дорогой, то ли торопил, так как с наступлением дня всё движение по этой дороге замрет.
Изредка, то впереди, то сзади нас, рвались снаряды, но мои провожатые никакого интереса к ним не проявляли. Только в одном случае тот, что шел впереди, проговорил:
— Это они, чтобы по дороге не ходили. Да ведь ночью им не видно и стреляют наугад. А днем у них колбаса поднимается и с нее всё видно. Днем тут не погуляешь.
Ночная муть становилась прозрачнее и солдаты заторопились. Стала видна спина идущего впереди, обозначилась узенькая ленточка тропы. По сторонам высились деревья, но это были деревья-мертвецы. Тропа вилась через огромное лесное кладбище. Снаряды превратили лес в частокол обрубленных осколками, расщепленных до самого корня обезображенных стволов. В рассветной полутьме всё это выглядело чем-то фантастическим, перенесенным из страшных сказок.
В истерзанном лесу располагался полк. Командир полка, Нестеров, которого я встречал в Средней Азии, когда он еще командовал эскадроном, ждал меня в закопченной землянке, вырытой в небольшом лесном овраге.
— А я уже думал, что вам на хвост сели финские кукушки, — весело проговорил он, пожимая руку. Кукушками прозвали финских снайперов, пробиравшихся в советский тыл.
До полудня я сопровождал Нестерова по эскадронам. В траншеях, отрытых на опушке леса, оставались только дозоры, а основная часть полка отсиживалась по землянкам, где горели костры и было хоть и дымно, но тепло.
После обхода полка Нестеров отправился в штаб, находившийся тут же, в землянке, а я пошел вслед за бойцами, пробиравшимися с котелками куда-то вглубь расстрелянного леса. Меня мучил голод и я знал: куда солдат с котелком пошел, ищи там полевую кухню. Так оно и было. На небольшой полянке в лесу дымили несколько полевых кухонь.
Получив от кашевара котелок супа и ложку, я стал оглядываться, ища место, где бы можно было присесть.
По краям полянки сидели бойцы и я направился к ним. Какой-то молодой солдат с лицом, укутанным полотенцем так, что оставался видным только кончик носа и рот, услужливо приподнялся и предложил мне свое место. Я опустился на короткое бревно, но в тот же миг понял, что подо мной не бревно, а что то другое.
— Да вы садитесь, товарищ командир, — раздались голоса, когда я вскочил. — Они этого не чувствуют и им всё равно.
То, на что я опустился, было трупом, смерзшимся и присыпанным снегом. Бойцы сидели и ели суп на трупах своих товарищей, замерзших или убитых. Голод сразу пропал, и я отдал котелок с супом бойцу, уступившему мне место. Он снова опустился на смерзшийся труп и погрузил ложку в котелок, а я стал обходить опушку. Трупы образовали круг и ими были отмечены границы полянки. Они лежали, устремив замороженные лица в небо, или уткнувшись ими в землю. Я перчаткой стряхивал снег с мертвых лиц. Смерть всех делает одинаковыми, но тут было много мертвых, сохранивших черты восточных людей. В горно-кавалерийской дивизии отбывало службу много жителей средней Азии Узбеки, таджики, туркмены. Жители теплых стран, они должны были пасть первыми жертвами суровой северной природы.
У трупов, к которым я направился, пересекая полянку, копошился какой-то боец. На нем был огромный полушубок, носивший следы ожогов у костра. Из дыр высовывался мех, грязный и обгорелый. Боец запускал руку в карманы мертвых и что-то искал в них. Я остановился около него. Он поднял ко мне свое маленькое, обтянутое коричневой кожей лицо с птичьим носом и ждал. На мой вопрос, что он делает, он ответил вопросом же:
— Что ж и покурить уже нельзя, что ли?
В его словах сквозила откровенная враждебность. Боец, видно заядлый курильщик, обшаривал карманы мертвых в поисках махорки. Я хотел было сказать ему, как это в самом деле нехорошо, так бесцеремонно обращаться с мертвыми, но боец вскочил на ноги и вытянулся. К нам подходил Нестеров.
— Опять мертвых потрошишь? — сердито спросил он. — Ведь третий раз застаю тебя за этим занятием, приказывал мертвых не обшаривать, а ты всё-таки тревожишь их.
Боец стоял навытяжку и видно было, что слова командира полка на него никакого влияния не оказывают. Да и сам Нестеров не придавал им значения, так как, сказав это, пошел в сторону дымящихся кухонь. У меня в кармане была пачка махорки и я извлек ее. Руки бойца, сложенные ковшиком, словно он принимал благословение, дрожали, когда я отсыпал ему махорки и он скороговоркой старался оправдать свое поведение:
— Я мертвяков боюсь, будь они неладные, да что ж делать, когда курить совсем не выдают? А так бы я с полным почтением к ним, мне что? Однако же пустое это занятие, табаку не найдешь даже у мертвых. Наши всё по карманам у них шарят. А попадаюсь командиру полка я один. Всю жизню не везет…
— Человек с сотню перемерзло, — рассказывал мне Нестеров. Я ждал пока он покончит с котелком супа. Ему, как командиру полка, кашевар оказал особую честь и подставил пенек, на котором рубилось мясо. Не будь этого пенька и я не поручился бы, что Нестеров, по примеру других, не уселся бы на мертвое тело. Говорил он о замерзших равнодушно.
— Помните, в нашем полку было два эскадрона, укомплектованные узбеками, таджиками и туркменами. Народ к зиме никак не приспособленный. Когда нас привезли сюда, стали они нестерпимо страдать от холодов. Мы их старались получше одеть, выдавали по две и по три пары теплого белья, не посылали в дозоры. Однако же, замерзали. Только когда человек с сотню перемерзло, разрешили нам отправить туркестанские эскадроны в тыл. Собственно, и отправлять-то к тому времени было почти некого, многих в госпиталь увезли обмороженными, других на эту поляну.
Пермский полк
Трагикомический эпизод, связанный с именем пермского полка, был широко известен на финском фронте.
В состав войск, сражавшихся на Карельском перешейке, находилась стрелковая дивизия из Перми, а к этой кадровой дивизии был приписан 111-й стрелковый полк, весь состоящий из колхозников, призванных из запаса. Я попал в этот полк лишь по той причине, что поступало из него необычайно много жалоб и просьб. Мехлис приказал «изучить» обстановку в полку, а тут и изучать-то было нечего. Достаточно было взглянуть на бородатых пермяков, чтобы сразу решить, что у этих людей множество дел, которые зовут их домой. Всё это были люди в летах, по-армейским, конечно понятиям. Завидят бойцы из других частей тридцати-тридцатипятилетних пермяков и обращаются к ним не иначе, как «эй, деды!». Другие части молодежью регулярного призыва были укомплектованы, а этих зачем-то из запаса извлекли, да на фронт послали. У иного из них в деревне куча детей осталась. В колхозах трудно было крестьянским семьям. Без главного кормильца дети голодали.
Вот и писали пермяки жалобные прошения об отпуске из армии, слали их «по инстанции», попадали они в штаб дивизии и дальше не шли, а в штабе их рассматривать было некому и некогда.
В 111-й Пермский я приехал как раз тогда, когда новая забота стала одолевать полк — снайперы. Они пробирались в тыл полка и такого страха нагнали, что днем всякое движение по тылу прекращалось, питание не подвозили, почта не приходила. Полк был расположен на спокойном участке фронта и особой боевой активности не проявлял. Командир полка, пожилой офицер из подпоручиков царской армии, не скрывал, что вверенный его командованию полк мало приспособлен для боевых операций. Показывая мне видимую вдали темную лощинку, он рассказывал, что дальше этой лощинки полк не смог наступать. Наступали четыре раза и всё только до этой лощинки.
— Как дойдут до нее, так и поворачивают назад. Никакими приказами не остановишь, — сетовал командир полка.
Оказалось, что пермяки и сюда, на финский фронт принесли свое особое отношение к явлениям. Когда их в первый раз повели в наступление, они пошли. Но когда приблизились к лощинке, финны ударили по ним из пулеметов и минометов и заставили торопливо отступить к лесу.
— Отступать-то, собственно, незачем было, но как их удержишь? Бежит такой боец, борода от ветра по груди стелется, из-под валенок, как из-под конских копыт, снег летит — останови его, попробуй!.. После каждого наступления посылаю младших командиров брошенные винтовки собирать, — говорил командир полка.
За первым наступлением было второе и третье. Но дальше лощинки — ни ногой. В последнем наступлении, бывшем за три дня до моего приезда в полк, финны шутку над пермяками сыграли. Полк наступает, а финны молчат. Дошли до лощинки и пермяки стали назад поворачивать. Командиры пистолетами грозят, а пермяки вперед не желают идти. Дальше путь для них незнакомый. А в это время страшный вой вокруг поднялся и так этот вой бойцов напугал, что они в двадцать пять минут на свои исходные позиции вернулись.
— До лощины наступали три часа, а обратный путь покрыли меньше, чем в полчаса, — иронически говорил командир полка. — Да еще при этом отчаянно кричали, что противник «новую оружью» применил.
Посланные командиром полка разведчики из числа младших командиров доставили «новую оружью» финнов. Это были обычные ручные сирены, если крутить их ручку, они издают пронзительный вой. Десятком таких сирен финны отбили наступление пермского полка. Надо думать, что веселились они при этом немало.
И вот этот полк был облюбован финскими снайперами. В этом тоже ничего особенного не было — по всему фронту снайперы проникали в наш тыл и приносили беспокойство. Но расстроенное воображение пермяков наделило снайперов какими-то особенными, почти нечеловеческими качествами.
Что меня поразило, так это деловитость, с какой полк устроил свою стоянку. Окопы были укреплены бревнами, землянки имели два входа, а внутри довольно удобные нары из бревен, покрытые толстым слоем веток и кусками брезента. Повсюду были шалаши, землянки, высились пирамидки аккуратно напиленных и наколотых дров. Дальше, в глубине леса, пермяки даже баньку в яме устроили.
Одним словом, вполне можно было бы жить, не появись в тылу полка снайперы-финны, которые отравляли жизнь пермяков. Прежде всего они перестреляли все кухни, не в чем стало не то, что суп, даже чай согреть. Передвигаться в расположении полка стало опасно. Боец портянки снегом отстирает, на дерево проморозить повесит, а подойти потом не может. Как сунется за портянками, снайпер начинает пули в дерево всаживать. По лесу команда охотников за снайперами бродила, да найти никого не могла. Снайперы бездымным порохом стреляли и в ветвях деревьев прятались. Одетые в белые халаты, они становились неприметными.
Напуганные снайперами, пермяки как-то не замечали, что хоть и стреляют те, а убитых нет, только несколько легко раненых. Обыкновенно, снайпер, заметив кого-нибудь на тыловой дороге, начинал класть пули под ноги идущему, и тому приходилось с большой скоростью искать укрытия. При этом иногда и ранили бойцов, но в количестве, которое должно было бы почитаться небольшим, так как соседним полкам снайперы причиняли значительно большие потери. Однако же, в пермском полку заговорили о том, что, почитай, половина полка снайперами уже перестреляна.
В первый день моего пребывания в полку совершилось нечто из ряда вон выходящее. Рано утром, еще до рассвета, трое бородатых пермяков отправились в баню, вырытую в лесу. Они рассчитывали до наступления дня попариться и вернуться. Натопили баню. Раздеваться надо было снаружи, а потом голым в яму лезть и там из ковшика горячей водой поливаться. Одеваться опять наружу вылезай и, надо сказать, одевание на морозе всегда было молниеносным.
Не рассчитали бойцы времени и, когда закончили париться, уже было довольно светло. Полезли они было наружу, да не тут-то было. Как кто голову из ямы высунет, так пуля рядом снег фонтаном поднимает. Приметил снайпер любителей бани. Держал он их в яме часа два. Бойцы орали дикими голосами, да банька далеко в лесу вырыта была и голоса до расположения полка не доносились. А тем временем вышли все дрова и яма стала остывать. Мороз был трескучий и предстояла бойцам лютая смерть в могиле-бане. Тогда бросили жребий, кому вылезать и пытаться вызвать помощь. Тот, кому ради товарищей приходилось жизнью рисковать, выпрыгнул из ямы, но в это время пули стали у его ног ложиться. Не до одевания тут было и ударился боец нагишом в сторону расположения полка. Он бежал, а снайпер пулю за пулей ему под ноги клал и каждая пуля повышала резвость голого бегуна.
С диким ревом промчался голый бородатый человек по расположению полка и со всего разбега прыгнул в землянку, до смерти напугав ее обитателей. Сотни бойцов видели бегущего и это им показалось признаком надвигающейся на всех беды. Побежали бойцы в тыл, а те, которые ничего не видели, завидев бегущих, помчались вслед. Началась паника. Бородатые бойцы скакали на конях, принадлежавших пулеметной роте. Дико хлестали бока коней кашевары, бросившие свое хозяйство.
Я находился в штабной землянке, когда всё это произошло. Мы услышали крики и топот многих ног. Командир полка, а за ним и мы все, выбежали наружу. Перед нами предстала совершенно новая картина. За четверть часа до этого, когда я шел в штабную землянку, вокруг было безлюдно. Люди прятались от мороза и от снайперов, которые могли оказаться поблизости. Теперь же я видел толпы убегающих бойцов. Все направлялись в тыл. На меня набежал бородатый пермяк с налитыми безумием глазами.
— Всех под чистую-та вбивают, — прокричал он. Командир полка и командиры рот пытались задержать бегущих, но паника охватила бойцов и они, услышав крики командиров, только подбавляли скорость.
Километров пять мы бежали вслед за полком и, наконец, настигли его на большой лесной поляне. Бойцы стояли сгрудившись, а вокруг них цепью расположились автоматчики из отряда войск НКВД. За день до этого я ночевал в расположении отряда, который, как мне говорили, находится в резерве корпусного командования. Теперь ясно стало для чего стоял тут этот отряд.
Полк был разоружен. Винтовки были свалены горой в стороне. Командир отряда НКВД по-видимому серьезно считал, что в данном случае имеет место бунт полка и по его приказу на сгрудившийся полк были направлены пулеметы.
Появилось напуганное дивизионное начальство. Выслушав доклад командира полка, оно повеселело. Не бунт, а паника, это уже не было так страшно для начальства, которому, случись настоящий бунт, было бы несдобровать.
Комиссар дивизии устроил митинг.
— Как же это, товарищи, родина в опасности, а вы покинули боевой пост! — кричал он с пенька. А бойцы в это время орали ему в ответ:
— Половину полка у нас, чай, перебили.
— Мы-то воюем-воюем, а другие в тылу стоят. Какой-то бородатый боец взобрался на пенек и загудел басом в сторону комиссара дивизии:
— Как же, товарищ, Рассея вон она какая большая-то, а воюют одни пермские.
Пермякам и на самом деле казалось, что вся война сконцентрировалась на участке их полка, а так как их участок был изолированным, то откуда же пермякам было знать, что не одни пермские воюют?
Полк вернули на позицию и случай постарались предать забвению, но с тех пор на всём фронте можно было услышать шутливое утверждение, что воюют одни пермские.
Пока разыгрывался весь этот эпизод, два бойца, оставшиеся в бане, замерзли насмерть.
Но снайпер был пойман в тот же день. Комиссар дивизии приказал послать несколько отрядов на его поимку и перед вечером его всё-таки нашли. Он пристроился на дереве и выдал себя неосторожным движением, при котором с дерева посыпался сухой снег. Сдался он без сопротивления и его привели в пермский полк.
Оказался он совершенным юнцом, лет восемнадцати. В Выборге остались его мать и сестра. Готовился к мирной профессии дантиста, а когда началась война, напросился в снайперы и после трехнедельной подготовки был послан в тыл красной армии. Я увидел его, когда он стоял у полевой кухни и с аппетитом поедал разогретые мясные консервы. Молодое, худое лицо с резко выделяющимися скулами, поросло рыжеватой порослью. Оно было настолько обычным, что многим бойцам становилось не по себе от мысли, что этот мальчишка наводил страх на весь полк. Пленный уверял, что ни одного другого снайпера в тылу этого полка нет, а всё делал он один. Юнец довольно хорошо говорил по-русски, во всяком случае много лучше, чем пермяки. Извлекая из банки консервы, он дружелюбно озирался вокруг и в его глазах светилось любопытство. Бойцы окружали его тесной толпой.
— Да невжели же этот шпингалет?
Этот и другие возгласы раздавались вокруг, а «шпингалет» с явным удовольствием ел консервы и вежливо говорил ближайшим к нему бойцам:
— Вы знаете, господа, я две недели не имел горячего.
— Ишь ты, господами именует нас, — с каким-то удивлением прокричал высокий костлявый солдат.
— А чего же, он вполне нас господами может называть, раз он. из капиталистического окружения. Он этим господам, можно сказать две недели скипидарил под хвостом, так что господам небо в овчинку казалось. Контра разнесчастная.
Это проговорил тот солдат, которому пришлось утром бежать голым от бани. Но в ответ сразу раздалось несколько голосов.
— Ты его не трожь!
— Он-та салдат и его дело-та сопливое. Куда послали, туда-знать и идет.
Когда снайпер покончил с консервами и вытер грязные пальцы о свой белый маскхалат, к нему протянулось несколько солдатских рук с кисетами. Это уже было знаком особого уважения, так как табак был в то время самым дефицитным товаром.
Снайпер отрицательно покачал головой, давая понять, что он не курит.
Через неделю я видел в наших газетах портрет юноши-снайпера. Сообщалось, что он обратился к финским солдатам с призывом прекратить сопротивление. Я не поверил, что этот юноша предал своих. Я помнил, как он ответил политруку, подошедшему к нему в Пермском полку и сказавшему:
— Страна наша передовая, социалистическая. Мы растем, а ты против нас сражаешься.
— Ну, и росли бы куда вам угодно, а нас оставили в покое, — ответил тогда юноша и в глазах его я увидел холодность и решительность. Нет, такой легко не мог быть сломлен. В этом я был убежден.
Жизнь и смерть Сергея Стогова
Воина и связанные с ней лишения, беды, усталость притупляют чувства людей, вселяют равнодушие ко всему на свете и даже собственную жизнь делают не столь уж значительной.
Сергей Стогов, солдат 92-го саперного батальона, как могло показаться, мало дорожил собственной жизнью и потому прославился он храбростью. Под огнем финнов, волоча за собой салазки с взрывчаткой, подобрался он к финскому ДОТУ и взорвал бы его, если бы не помешала собственная артиллерия, открывшая в это время огонь по финским позициям и ранившая смелого сапера-подрывника. Ночью приполз он назад к своим позициям. После недельного пребывания в госпитале, вернулся он в строй. На груди его красовался орден красного знамени.
Но если Сергей Стогов был, более или менее, равнодушен к собственной своей жизни, то жизнь его родителей, жены и детей, оставшихся в селе Кривое Колено, Воронежской области, переполняла всего его жгучей тревогой. Из села приходили письма, повергавшие солдата в великое смятение. Отправители писем, за неимением конвертов, посылали их сложенными треугольником и обернутыми в газетную бумагу. Каждое такое письмо заставляло Стогова снова идти к командиру роты, к политруку всё с той же просьбой — отпустить его на побывку.
Но все просьбы бойца разбивались о несокрушимое упорство политрука роты.
Это был молодой коммунист, студент Института красной профессуры. В начале финско-советской войны, напросился он на низовую политическую работу в армии, принадлежал он, следовательно, к редкой уже в то время породе коммунистов-энтузиастов. Молодой политрук слыл в дивизии образцовым работником, неутомимо «воспитывал» бойцов и потому вызывал к себе неприязнь и вражду. Справедливости ради, надо сказать, что был он нё лишен личной храбрости и неизменно в наступлениях был впереди своей роты. А саперный батальон, о котором идет речь, занимал участок передовой линии и выполнял роль обыкновенной пехотной части. Саперных работ на фронте было мало.
Я в то время был занят непривычным для меня делом расследования. В частях той дивизии, к которой принадлежал 92-й батальон, солдат убил младшего командира. Такие случаи происходили и до того. Мехлис заинтересовался происхождением такого рода убийств и приказал своим порученцам изучить вопрос.
Солдат, убивший младшего командира, был арестован и содержался при штабе дивизии. Мне позволили ознакомиться с делом и несколько раз беседовать с убийцей. Ко мне приводили неуклюжего, похожего на медведя великана. До войны он был рабочим судоремонтной мастерской в Ростове на Дону, но, насколько я мог понять, это была лишь часть его биографии. Сидел он в тюрьме за ограбление кассира. Потом был арестован по подозрению в убийстве. В разговоре он пользовался жаргоном и слова «блат», «мокрое дело», «шмара» постоянно срывались с его языка. Медведеобразный гигант принадлежал к обширному миру урок, это было совершенно ясно. Достаточно было посмотреть на его огромный череп с узким лбом и приплюснутыми ушами, чтобы все сомнения на этот счет отпали.
Даже при моей неопытности в такого рода исследованиях, я мог сделать безошибочный вывод, что в данном случае имеет место убийство уголовного характера. Беседа с бойцами того взвода, в котором был Симоненко — это фамилия убийцы — лишь укрепила меня в этом выводе. Убитый им отделенный командир пользовался уважением бойцов. Колхозник из Ленинградской области, он ничем не отличался от бойцов своего отделения. Но Симоненко люто возненавидел отделенного командира. Родилась эта ненависть после того, как отделенный командир обнаружил в вещевой сумке Симоненко ручные часы, украденные у другого бойца. Случай ничтожный, часы были старые и испорченные, но Симоненко почувствовал в отделенном своего личного врага и называл его не иначе, как лягавым.
Вражда развивалась, а в солдатской жизни, если она уже завелась, причин для нее всегда найдется много. Отделенный командир посылал в наряд, Симоненко спорил и поносил отделенного последними словами. Долго терпел отделенный, а потом доложил по начальству. Дали Симоненко пять дней ареста, отбываемого при части. Командир батальона посылал Симоненко на самые тяжелые работы и в самые тяжелые наряды. Жизнь в отделении должна была показаться ему раем. Потом его вернули. Затаил Симоненко лютую ненависть к отделенному командиру. Когда батальон был послан в наступление, отделенный командир погиб. Его убил Симоненко выстрелом в спину. Разъяренные бойцы, на виду у которых это произошло, связали Симоненко и доставили в штаб батальона, а оттуда его перевели в штаб дивизии.
Казалось бы, дело Симоненко совершенно ясное. На лицо было убийство своего командира, вызванное личной ненавистью к нему. Убийство вероломное, отвратительное по своей природе. За это преступление в условиях войны, когда оружие в руках преступника становится страшным для окружающих, следут только одно наказание: расстрел. Но тут обнаружилось, что такого простого подхода в этом случае не может быть. То ли кто-то научил Симоненко, то ли сам он додумался, но на следствии он стал уверять, что убил отделенного командира, так как тот хотел увести их в плен к финнам.
Устав красной армии тогда представлял любопытную аномалию. Требуя от бойца безусловного послушания приказам командира, он в то же время, делал оговорку: кроме случаев, когда командир отдает контрреволюционное приказание.
У Симоненко не было никаких доказательств, что убитый им хотел увести бойцов в финский плен, но он упорно стоял на своем и уверял, что отделенный отдал ему приказ перебежать к финнам и предупредить их, что всё отделение сдается в плен. Эта неуклюжая выдумка парализовала военно-следственные власти и они не знали, как им поступить. Военно-полевой суд над Симоненко назначен не был до получения инструкций.
Только что я закончил ознакомление с делом Симоненко и еще не написал рапорта о нем, как в штабе дивизии получилось донесение, что в 92-м саперном батальоне боец Сергей Стогов убил политрука роты. Так как такие донесения молниеносно доходят до самых верхов армии, то в тот же день я получил приказ Мехлиса ознакомиться и с этим случаем.
Стогов был привезен в штаб дивизии и содержался отдельно от Симоненко. Его привели ко мне в лесную сторожку, занятую начальником штаба дивизии. Два часовых остались за дверью. В лесном домике было почти темно. Растущие у самых окон ели затемняли внутренность домика. Стогов стоял у двери и молча ждал, а я силился рассмотреть его. На мое приглашение подойти поближе, Стогов сделал несколько шагов в мою сторону и опять остановился. Теперь мне было видно его тонкое, измученное усталостью лицо. Беловатые волосы и брови как бы еще сильнее подчеркивали бледность молодого солдата. Он был худощав, мал ростом, узкоплеч.
— Садитесь, Стогов, — предложил я, подвигаясь на скамейке, чтобы освободить для него место.
— Ничего, я постою, — тихим голосом откликнулся Стогов.
Пришлось взять его за рукав полушубка и усадить рядом о собой.
Тихим голосом Стогов рассказывал, а я слушал и передо мной раскрылась пропасть потерянной жизни. Сергей Стогов, всё образование которого закончилось в школе первой ступени, скромный и застенчивый деревенский паренек, рано женился. Есть люди, у которых неутолимая жажда любви преобладает над всеми другими чувствами. Сергей был из таких. В каждом его слове звучала боль и тревога за родных. Родила ему жена двоих малышей. Чтобы лучше было жене, детям, родителям, работал Сергей в колхозе не покладая рук и числился ударником. Прошлым летом призвали его на военную службу. Ушел он встревоженным за семью. Его несколько успокаивало лишь то, что в колхозе он заработал три сотни трудодней. Осенью семья получит по ним хлеб от колхоза и как-нибудь перебьется до его возвращения.
В тот год в Воронежской области произошла одна из обычных неурядиц. Государственный комитет заготовок наложил такие налоги, что, после их выполнения, для колхозников ничего не оставалось. Ошибка была вскрыта, но, вместо того, чтобы вернуть крестьянам неправильно отобранный у них хлеб, областное начальство решило выдавать в ограбленных деревнях по полкилограмма хлеба в день на едока. Выпекать хлеб было негде, мука разворовывалась и в ряде районов начался голод. Особенно в тяжелом положении оказался родной район Сергея, Кривоколенный.
Жена писала Сергею письма и из них он знал, что семья голодает. Эти письма я читал еще до того, как увидел Сергея. Они были у него отобраны при аресте и приобщены к делу.
«А еще отписываю тебе, родной Сергуня, что Ксюша засовсем распухла и уже не плачет. А сегодня она спросила чи приедет батя, чи не».
Эта фраза из письма жены Сергея мне запомнилась на всю жизнь. В письмах малограмотной крестьянки описывалась трагедия крестьянской семьи. Сообщалось сначала о смерти матери. Потом умер отец. За ним следом письмо принесло весть о смерти сына. Ксюша было последним, что привязывало Сергея к жизни.
Сергей был уверен, что получи он отпуск хоть на один месяц и семья будет спасена.
— На коленях просил политрука, не помогло, — тихо и печально рассказывал он.
Студент Института красной профессуры был очень хороший политрук. Поэтому всё человеческое ему было чуждо. Он видел в Сергее не страдающего человека, а заблуждающегося гражданина Советского союза, который в минуту «грозной опасности» смеет думать о своем личном. Для него бойцы были прежде всего исполнителями высшей воли и выразителем этой воли был он, политрук роты и коммунист. Все обращения к нему Сергея шли вразрез с усвоенными политруком книжными представлениями. Когда командир роты, внемля мольбам солдата, обратился по начальству с просьбой дать Стогову отпуск, политрук не только не допустил, чтобы эта просьба была исполнена, но и добился смещения командира роты.
Сергей Стогов стал искать подвига. Он думал, что за проявленный им героизм, его обязательно отпустят в отпуск и семья будет спасена. Он даже не возражал против того, чтобы быть раненым, но только рана должна быть «подходящей», дающей право уехать на родину для излечения.
— Они думают, что я за орден старался, а в самом деле я думал, что после того, как храбрость покажу, домой меня отпустят, — рассказывал Сергей.
Но не повезло. Рана оказалась такая, что не давала права бойцу домой попасть, а вместо отпуска наградили его орденом.
Стогов тихим своим голосом рассказывал, а я мучительно искал для него выхода из мертвого круга. И не находил. Мелькнула было мысль, рассказать ему о Симоненко и о его способе самозащиты, не воспользуется ли этим приемом Стогов? Но мысль эту пришлось отбросить. Примерный политрук, убитый Стоговым, проверенный коммунист и никто не поверит, в то, что он отдавал «контрреволюционные приказы».
— Конечно, убивать нельзя и я жалею, что сделал это, — говорил Стогов, поникши головой. — Однако же, должен был политрук внять моему горю или нет?
Стогов строго смотрел на меня своими ясными, печальными глазами, словно ждал ответа на его вопрос.
— Расстреляют меня, — еще тише произнес он, снова поникая головой.
Да, выхода не было. Единственное, думал я, что могло бы спасти солдата, это признание его психически ненормальным. В моем рапорте Мехлису я, словно утопающий, держался за соломинку этой надежды. Я высказал в рапорте два соображения. Первое: семья, погибающая от голода, должна была бы дать солдату право на отпуск для ее спасения. Если нет, тогда должны были быть приняты другие меры для спасения семьи. Политрук обязан был обратиться в политотдел дивизии, а тот — к местным властям в Воронеже, которые должны были помочь семье солдата. Политрук этого не сделал, как не сделали и другие командиры и политработники, к которым обращался Стогов.
Второе мое Предположение было совсем уже шатким. Я высказывался в том смысле, что письма семьи могли привести Стокюва в состояние невменяемости и прежде чем предавать его военно-полевому суду, следует устроить врачебно-психиатрическую проверку.
Мой рапорт я вручил Мехлису лично. Пока он читал, я сидел и чувствовал, как во мне всё дрожит от нервного ожидания. Судьба Стогова как будто стала моей собственной судьбой. Всё зависело от Мехлиса, который равнодушно читал мой рапорт.
— Я с вами не согласен. Боец не виноват в убийстве, — проговорил Мехлис, откидываясь на спинку стула.
На какую-то долю мгновения во мне вспыхнула радость. «Боец не виновен в убийстве» — сказал Мехлис. Но радость, не успев вспыхнуть, погасла. Я так был взволнован судьбой Стогова, что совершенно не думал о первой части рапорта, относящейся к делу Симоненко. Мехлис продолжал читать. Перевернул последнюю страницу. Барабанил пальцами по столу. Долго молчал.
— Вы мало осмыслили это явление, — проговорил он. — Вы не уяснили принципа нашей армии, построенной на взаимном контроле. Командир отдает приказы, но бойцы их контролируют. Боец Симоненко типичный случай советского патриотизма, вы же в нем усмотрели лишь мелкого убийцу. И, напротив, Стогов, убивший политрука, совершил тягчайшее преступление, за которое… Вы понимаете?
— Но ведь многое говорит за то, что Стогов совершил убийство в невменяемом состоянии, — попытался я возразить.
— Это деталь, не заслуживающая внимания, — равнодушно махнул рукой Мехлис. — В военно-полевых условиях мы не можем заниматься такими тонкостями, как психиатрия. К тому же существует потребность показать всей армии, что жизнь политработников неприкосновенна. Я жалею, что поручил это дело вам. Вы совершенно ложно истолковали оба случая.
Через несколько дней в фронтовой газете появился рассказ о бойце-патриоте Симоненко. С газетного листа нагло ухмылялась рожа убийцы с узким лбом и приплюснутыми ушами. А на последней странице газеты было помещено короткое сообщение о том, что боец М-ного саперного батальона, Сергей Стогов, за убийство политрука, приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение.
Мне довелось потом встретить командира комендантского взвода той дивизии, где был Сергей Стогов. Он командовал нарядом бойцов при расстреле Сергея.
— Я виноват, товарищи, но только я прошу партию и правительство спасти Ксюшу.
Это были последние слова Сергея Стогова.
Был ли он виноват?
***
Последнего этапа финской кампании я не видел. Мотоциклист, везший меня в одну из дивизий, не заметил предупреждающего сигнала и мы вкатили в пределы видимости финской батареи. Снаряд разорвался вблизи от нас. Мотоциклисту раздробило осколком ногу, а я отделался контузией. К тому времени, когда в военном госпитале в Москве меня избавили от болезненного подергивания головой и беспрерывной тошноты, финская кампания была закончена.
Серошинельный поток устремился назад, растекаясь по стране и разнося славу о маленьком, но героическом финском народе, который имел силу и мужество противостоять лавине наших полков, дивизий, корпусов и армий.
Большая война
Ожерелье бурь
Если окинуть взглядом всё вокруг, то увидим мы океан жизни, взрыхленный бурями, кружащими в безумном хороводе человеческие судьбы.
Ожерелье бурь, тянущееся страшным серпантином, перевалило через границу времени, обозначенную огненной датой: «1941».
Прошло больше десяти лет с тех пор, как мир упал за эту огненную черту, но до сих пор начало советско-германской войны воплощено, для многих из нас, не столько в фактах, сколько в чувствах.
Такое восприятие тех дней рисует передо мной картину, отчасти воспроизведенную в моем романе «Когда боги молчат», вышедшем на английском языке:
…Над миром нависла тишина. Меж облаками воровато пробирается луна, протягивающая к земле голубоватые щупальца лучей.
На западе, где кончается империя, осененная красными, словно брызги крови, звездами Кремля, стоят вдоль границы часовые. По другую сторону границы лежит притихшая чужая земля и часовые всматриваются туда, словно стараясь найти ответ на тревогу, разлитую вокруг. Кругом тишина, как вчера, как десять дней назад, а часовым не по себе, и сторожевые собаки жалобно повизгивают и жмутся к их сапогам. Им, как и людям, тревожно в эту теплую ночь, напоенную пьянящими запахами отдыхающей земли.
За пригорками, за перелесками на чужой земле идет бесшумная, торопливая жизнь. Опадают к земле развесистые кусты, обнажая ряды танков, выставивших вперед короткие рыла пушек. У танков стоят молчаливые, как и машины, люди в черной одежде.
Чуть подальше, из замаскированных зеленью палаток, выбегают солдаты, торопливо затягивают пояса. Будь посветлей, можно было бы на бляхах поясов увидеть короткое, как выстрел, заклинание: «Gott mit Uns»[2].
Еще дальше — аэродромы. Люди с большими кожаными шлемами на головах, похожие на марсиан из фантастического романа. На рукавах их кителей — орел, хищно изогнувшийся для стремительного нападения. Молчащие лопасти пропеллеров устремлены в небо. Отягощенные бомбами тела самолетов тяжело распластались на земле.
А в это время, человек, с внешностью заурядного торговца, отбрасывает с потного лба нависшую прядь коричневых волос и в глазах его загорается нездоровый блеск — азартный игрок делает страшную ставку:
«Мои армии войдут в Россию, как нож входит в масло… Наступать!».
На огромном пространстве эти слова азартного игрока привели в движение людей, люди привели в движение моторы — и предутренняя тишина взорвалась бешеным грохотом. Ринулись вперед танки. Вслед за ними — потоки людей в зеленых мундирах и касках. В грохоте и дыме на русскую землю ворвалась армия Гитлера. Ненужно прозвучали выстрелы пограничников. Коротким, никем не замеченным был отчаянный визг сторожевых собак, гибнущих вместе с часовыми под гусеницами танков. С аэродромов взмыли вверх эскадрильи, взявшие курс на восток. Понеслись над самой землей воющие штурмовики. Запылали советские самолеты, так и не успевшие взлететь в небо навстречу врагу. Словно неуклюжие чудовища, умирали под бомбами советские танки. Расстреливаемые с воздуха и земли гибли западные советские армии и вскоре жалкие их остатки побежали на восток.
Воина!
Грохот, родившийся на границе, не пробудил спящих городов. Над ними было спокойное, безмятежное небо. Но покой и безмятежность — всё обман. В небе зарычали моторы. Забегали лучи прожекторов. Они испуганно задрожали, вырвав из темноты силуэты чужих воздушных кораблей с большими крестами на крыльях. Растерянно тявкнули зенитки. Ревущий поток бомб обрушился вниз. В грохоте рушащегося мира метались полуодетые, обезумевшие от страха, люди.
Воина!
Утро солнечное, радостное спустилось на Москву, затопило светом улицы, веселыми бликами забегало по глади Москва-реки. И вдруг над Москвой, на всей страной раздался заикающийся голос Молотова, разносимый радио: «Братья и сестры! Коварный враг напал на нашу землю…».
Стало тревожно и показалось, что солнце померкло. Ожерелье бурь потянулось через годы великой войны…
Звонок
Обыкновенный звонок у двери был для меня сигналом еще одного поворота судьбы.
После финской кампании я получил разрешение жить в Москве, но печать опалы оставалась на мне. Советская система с идеальной точностью исключает людей из бытия, превращает их в живые трупы. Человеку с «пятнистой» биографией необычайно трудно найти место под советским солнцем. Нужно иметь философский склад ума, чтобы оставаться спокойным, когда прежние друзья пугливо сторонятся тебя, а любимая девушка, под мощным натиском родителей, рвет с тобой отношения, присылая письмо, закапанное слезами.
У меня такого спокойствия не было и пламенное осуждение жило в душе. Надо было, чтобы прошло много лет, прежде чем я понял, что ни друзей, ни девушки, ни даже ее родителей осуждать нельзя. Горькое и тяжелое, пережитое тогда, исходило не от людей, а от чего то другого, внечеловеческого.
В те полтора года, которые прошли между концом «малой» и началом «большой» войны, я стучался во многие двери, не открывавшиеся передо мной, и во многие сердца, не откликавшиеся на мой зов. Я был один в мире одиноких людей. Это было страшно. Но я всё-таки продолжал верить. Если перестать верить в людей, что же тогда останется? Я глушил в себе волну горечи и, словно скряга, подбирал крохи человеческого, встречавшиеся на пути одиночества. Может быть сам я тогда не понимал, насколько органичной и неубиваемой была моя жажда веры в людей. Я бы мог рассказать много тяжелого и недоброго о моих соотечественниках, но зачем? Не тому надо удивляться, что среди подсоветских людей есть хапуги, подлецы, трусы — этого добра на Руси всегда было в избытке, а удивляться надо тому, что страшнейшее обезличивание людей властью не способно было развеять потенциал добра, заложенного в народе.
Я был ущемлен жизнью и болезненно переживал это. Вся страна превращалась тогда в землю обездоленных. И мы не знали, как остановить это превращение. В нас тогда уже жило ощущение идейной пустоты. В вихрях чисток, в лавине насилия над людьми и в постоянном страхе за будущее, умерла идея, когда-то поднявшая на борьбу наших отцов, — другой же не было. Мы ощущали жгучую жажду новых откровений, мы были почвой, на которой семена этих откровений могли бы взойти, но сеятель, равный Христу, не приходил, и нашим уделом была пустота.
В таком состоянии скрываемой душевной ущемленности дожил я до того дня, когда ранним утром у моей двери раздался настойчивый звонок. Старенькая мать моя, вся жизнь которой была соткана из страха за сыновей, открыла дверь и впустила ко мне совсем юного офицера с сиротливым кубиком на петлицах интендантских войск. Пришедший сообщил, что через полчаса я должен быть готов покинуть дом, захватив с собой «личные вещи». На мой вопрос, что случилось, он ответил одним словом: мобилизация.
В моем воинском билете стояла пометка, что я подлежу мобилизации в первый день объявления страны на военном положении. Значит, этот день настал. Торопливо собирая вещи и успокаивая мать, я напряженно думал о случившемся. Несомненно, мы воюем. Значит правда, что Сталин решился напасть на Германию. Циркулировали упорные слухи, что такое нападение готовится. К западным границам страны шли эшелоны с войсками. Казалось, Сталин перехитрил Гитлера и лишь выбирает момент, чтобы нанести ему смертельный удар в спину. Он дал Гитлеру хлеб, масло, нефть, металл. Гитлер развязал воину на западе. Теперь же Сталин совершит предательский ход и поставит Германию на колени.
Так думали многие из нас.
Через полчаса неуклюжий военный грузовик вез нас через город. Всходило солнце, озарявшее почти пустые улицы. Ожесточенно взмахивали метлами дворники.
Было больно видеть Москву, спящую и не ведающую, что над ней уже скопилась гроза. Долгие годы, проведенные мною в столице, сделали меня москвичом, и Москва казалась мне живым, одухотворенным существом, нуждающимся в моем предупреждающем крике.
Тем же чувством были охвачены и мои соседи. Нас в грузовике было человек пятнадцать. Все спешно мобилизованные. Сидевший рядом со мной человек с глубоким шрамом, обезобразившим левую сторону лица, тихо, словно сам для себя, сказал, что знай Москва, о войне, она не спала бы так спокойно.
— Не спала бы, а в очередях стояла, — откликнулся другой наш спутник — высокий худощавый человек. На его синем пиджаке алели два боевых ордена красного знамени. — Ох, плохо сегодня будет. Народ, как о войне узнает, озвереет.
— Да, судьба родины всех взволнует, — проговорил сопровождавший нас интендант.
Человек с двумя орденами засмеялся:
— Не судьба родины, а жратва, — проговорил он. — Люди опытом научены, что раз война, так обязательно голод. Вот увидите, что сегодня в магазинах будет твориться.
— Не обязателыно-же-голод, товарищ. Ведь столько лет готовились к войне. Запасы создали достаточные.
Интендант явно не хотел уступить. Орденоносец посуровел в лице и уже зло проговорил в сторону молодого интенданта:
— Вам, конечно, лучше знать. Технику-интенданту всё доподлинно известно. А я всего-то директор московских баз пищеснабжения. Куда уж мне знать, сколько в Москве имеется продовольствия?
Нас привезли в казарму одной из частей московской пролетарской дивизии. Здесь был организован приемный пункт для командного состава запаса, призываемого в первую очередь. В широкие ворота въезжали грузовики, доставлявшие группы мобилизованных. Техники-интенданты, почему-то все на одно лицо, сдавали свою добычу по списку. Нас принял маленький хлопотливый капитан, до крайности возбужденный и совершенно неспособный стоять на одном месте. Сыпя словами, словно рассеивая мелкий горох, капитан в одну минуту сообщил нам о том, что мы мобилизованы, будем сегодня же отправлены в части и еще до отправки снабжены обмундированием и личным оружием. Цейгхауз там-то, оружейный склад там-то, а если мы голодны, то нас накормят в офицерской столовой, находящейся в другом конце казармы.
— Но только, товарищи командиры, не расходитесь, держитесь в пределах моей видимости. Очень, очень прошу об этом.
С этими словами пожилой капитан исчез из пределов нашей видимости и мне удалось встретить его только перед вечером.
На мобилизационном пункте было шумно и бестолково. Военные писаря сбились с ног. Кого-то вызывали на отправку. К казарменным воротам подходили женщины и дети. Радио начинало выкрикивать имена мобилизованных, которым разрешалось иметь с семьями последнее свидание. В полдень прибыла артистическая бригада. Я обрадовался, увидев хоть одно знакомое лицо. Крошечная Шура Л., начинающая тогда певица, а теперь известная исполнительница лирических песен, крепко уцепилась за мой рукав и, округляя глаза, отчего всё ее лицо становилось напуганным, торопливо рассказывала, что в Москве «ужас, что происходит». Как только узнали о войне, так все ринулись к магазинам. «Моя соседка, — говорила Шура, — принесла два преогромных бидона керосина и вылила их в ванную. Побежала опять в магазин, а у нее мальчик-ползунок, такой чудный мальчуган Петюнька, подполз к ванной, стоявшей на полу, вцепился за нее ручками, и упал в керосин. Мать вернулась, а Петюнька уже мертвый… Моя мама побежала в магазин, но ей в толкучке руку вывихнули. Всё-таки пять килограммов муки она принесла. А в соседнем доме у нас заведующий магазином живет. Он машину с продовольствием к дому привез, но другие увидели и накинулись на машину. Всё растащили… А меня по мобилизации взяли, призывные пункты обслуживать. Неужели вас совсем отправляют на войну? Какой ужас. Вы знаете, военная форма вас совершенно меняет»…
Шуру позвали в клубный зал, где сцена была уже готова для представления. Радио приглашало мобилизованных посмотреть выступление артистической бригады, но почти никто не шел. Не до того было людям.
Во второй половине дня, решив, что у меня еще есть возможность провести несколько часов с матерью, я отправился получить разрешение на отлучку с мобилизационного пункта. Но в это время радио громогласно выкрикнуло мое имя. Мне приказывалось немедленно явиться в штаб части, помещающейся в небольшом домике, окруженном подстриженными акациями.
В длинном коридоре штабного домика меня поджидал капитан, принявший нас утром. Он пританцовывал от нетерпения.
— Ах, товарищ командир, я же просил вас не отрываться от меня, а вы куда-то исчезли, — укоризненно говорил он, подталкивая меня к двери. Я вошел в просторную комнату.
— Вот и он, — проговорил генерал, сидящий у стола. Вокруг него стояло несколько офицеров, как видно только что надевших военную форму. Это был Рыбалко. Его появление было для меня неожиданным. Я ведь думал, что он всё еще находится в Китае.
— Хотите ехать со мною? — спросил Рыбалко, протягивая мне руку. Я не знал, куда меня зовут, но так как куда-то, всё равно, надо было ехать, я ответил кислой шуткой:
— Если харчи будут хорошие, то можно ехать.
— Харчи будут, — засмеялся Рыбалко. — Но не одним хлебом жив человек… Вы знаете, я совсем случайно обнаружил ваше имя в списке находящихся на этом пункте. Мне нужно подобрать группу для выполнения специального поручения и вы как раз для этого подойдете… Вы имеете чин старшего лейтенанта? — Я молча показал на свои петлицы с тремя кубиками. — Ничего, мы вас повысим, — уверенно произнес генерал-майор. — Быть вам завтра капитаном. Уверен, что не будет возражений и против того, чтобы я забрал вас в свою группу. Сейчас же утрамбуем все эти вопросы, а вас я прошу через час быть готовым к отправке.
День, начавшийся звонком у двери, шел к концу. Я не знал, где встречу день грядущий.
Западный маршрут
— Нам предстоит тяжелый западный маршрут, — сказал Рыбалко, когда мы построились на товарной платформе станции Москва-Сортировочная. — Подробности узнаете в пути, а сейчас — по коням!
Рыбалко указал нам на два классных вагона, сиротливо стоявших у платформы. Я окинул взглядом выстроившихся в ряд офицеров группы генерала Рыбалко. Старшим в чине, после Рыбалко, был полковник Прохоров, единственный кадровый командир Красной армии. Все остальные, как и я, были запасные. Нас было около полусотни человек: кроме Рыбалко и Прохорова — два подполковника, шесть майоров, четырнадцать капитанов, остальные в лейтенантских чинах.
Вскоре наши вагоны были прицеплены к воинскому эшелону особого назначения. В закрытых и запломбированных вагонах перевозилось новое оружие, получившее впоследствии известность под названием «Катюши». Эшелон шел тихо, подолгу задерживался на станциях. Мы не спали. Пролетали немецкие бомбардировщики, пробиравшиеся воровскими ночными путями к Москве.
Поезд шел в кромешной тьме. В полночь нам приказали перейти в тот вагон, где находился Рыбалко. Мы толпились в коридоре, а Рыбалко, невидимый нами в темноте, рассказывал о маршруте на запад. Говорил он отрывистыми, резкими фразами. Нам дан приказ в прифронтовых районах, а если будет нужно, то и по другую сторону фронта, собрать остатки разбитых советских войск. Немцы нанесли такой чудовищный удар, что западные армии генерал-полковника Павлова стали разваливаться… Рыбалко не знал, как мы выполним нашу задачу.
— Но сделаем всё возможное, — говорил он. — Успехи немцев основаны не на их силе, а на слабости нашей организации. Известно ли вам, что немцы начали наступление, имея меньше танков, чем имел их генерал Павлов сегодня утром?
Многое из сказанного Рыбалко было нам в новость. Незадолго до этого началась перегруппировка советских войск. Немцы выбрали этот момент. Танковые соединения нашей армии оказались оторванными от баз горючего. Стрелковые дивизии находились в движении, направляясь к новым местам расположения. Они оторвались от своей артиллерии. Кавалерийские войска встретились лицом к лицу с танковыми соединениями противника.
— Мы не знаем в полном объеме того, что произошло, но рана нанесена, и пройдет много дней, прежде чем ее удастся зализать. Если это, вообще, удастся…
Под утро поезд стал двигаться, словно спотыкаясь. Видно было зарево пожаров — германская авиация постаралась в первую ночь войны. Потом поезд и совсем остановился. На маленькой станции были разрушены все пути. Дымилось станционное здание, обращенное бомбой в развалины. Голосила какая-то женщина, припав к телу убитого мужа-железнодорожника. Рыбалко деловито осмотрел станцию и вскоре его властный голос разносился вокруг. Железнодорожники принесли лопаты, ломы, кирки. Мы засучили рукава и взялись восстанавливать путь. К нам присоединились бойцы из охраны вагонов, заполненных «Катюшами». Невдалеке остановился еще один воинский эшелон и оттуда прибыло сразу две роты бойцов. Путь был восстановлен.
В этот день нам еще дважды приходилось останавливаться и браться за кирки и лопаты. Полковник Прохоров, прислушиваясь к крикам и брани Рыбалко, спросил меня, доставая папиросу:
— Что является движущей силой нашего эшелона?
— Паровоз, — ответил я.
— Не верно, товарищ капитан. Не паровоз, а ругань генерала Рыбалко. Без этой ругани мы и при десяти паровозах с места не тронулись бы.
Чем дальше, тем хуже. Немецкая авиация была занята разрушением мелких станций и полустанков. Рыбалко решил отказаться от мысли пробраться на запад по железной дороге и приказал нам покинуть вагоны. Ушли мы налегке, поручив охране эшелона доставить наши вещи на первую железнодорожную станцию и там сдать их военному коменданту.
Мы направились к темнеющему лесу. Проселочная дорога шла между зеленеющими посевами. Солнце, склоняющееся к закату, придавало всему вокруг мягкие, ласкающие глаз оттенки. Отчаянно стрекотали кузнечики. Жаворонок пролетел над нами, потом, словно желая получше рассмотреть нас, повернул и еще раз пролетел. В стороне, на пригорке, виднелся дом с колоннами. От него, вниз по пригорку, сбегал старый сад. Помещичья усадьба стала тракторной мастерской. Об этом не трудно было догадаться, так как у самых колонн темнели неуклюжие туши тракторов. Но о тракторах не хотелось думать. Если сделать над собой усилие, то останется лишь дом с белыми колоннами, старый сад и… Впрочем, тургеневская девушка у изгороди была уже плодом воображения.
У опушки леса начинался глубокий и широкий ров со скошенными краями. На зеленом ковре травы ров походил на кровоточащую рану. Мы шли молча, но все думали об одном. Помогут ли нам эти глубокие канавы, на рытье которых сгоняется население сел и деревень?
Немецкие танковые клинья вбиваются в живое тело страны, а мы по-настоящему-то и не знаем, как противостоять танковому нападению.
Вдоль опушки леса, насколько хватало зрения, шевелился людской муравейник. У дворянской усадьбы не оказалось тургеневской девушки, но ее потомки были собраны рыть противотанковый ров. Тут представлены были все сословия. Рядом с колхозницами работали учительницы, врачи, актрисы. Поразительно, как быстро удалось собрать эти толпы людей с лопатами.
— Словно сбесились, — проговорила пожилая колхозница в ответ на вопрос лейтенанта Переверзева, состоявшего адъютантом у полковника Прохорова. Она опиралась на лопату. Необъятная ее грудь мерно колыхала рваную кофту. Вытирая концом головного платка загорелое лицо, колхозница смело смотрела на нас и в ее глазах было что-то, похожее на осуждение.
— Всех из деревни погнали эту могилу копать, — она кивнула головой, показывая на ров. — Нам то еще ничего, мы к труду привычные, а каково им?
Снова кивок головой, но уже в другую сторону. На самом дне рва работали девушки городского вида. Переверзев наполовину сошел, наполовину сполз в ров.
— Знаете, товарищи, — рассказывал он, догнав нас через несколько минут. — Эти девушки все медички, с последнего курса медфака. Они в этот район попали из Москвы на врачебную практику, а тут их мобилизовали на рытье рва. Еле на ногах держатся. Пищи почти не выдают.
Лицо Переверзева было негодующим. Я посмотрел на сумку в его руках. Он носил в ней продовольствие для себя, Прохорова и Рыбалко. Теперь сумка была пустой.
Табор казался нескончаемым. Те, что не работали, лежали под деревьями, молча провожая нашу группу глазами. Другие, когда мы проходили мимо, вовсе не поворачивали голов в нашу сторону. Нам пришлось обойти довольно большую площадку, занятую лежащими на земле женщинами. Они отработали свою смену и теперь отдыхали.
— Из Брянска, — сухо бросила худощавая женщина с красивыми чертами лица в ответ на вопрос неугомонного Переверзева — откуда они? Лежащая рядом юная девушка лет семнадцати приподняла голову, обвела нас строгими глазами и проговорила:
— Может быть, товарищи командиры, возьмете нас в боевые подруги?
Ее вопрос звучал горькой иронией.
Мы прошли молча, а сзади раздавался невеселый смех женщин.
Навстречу нам попался военный инженер в чине полковника. Завидев среди нас генерала, он подошел и представился Рыбалко. Инженер доложил, что на его участке работает пятьдесят тысяч человек. Маленький Рыбалко, слушая инженера, переступал кривыми ногами, словно лошадь, которой не терпится бежать. Сдерживаясь, голосом тихим, почти шипящим, Рыбалко спрашивал:
— Вы верите, что немецкие танки остановятся перед этими египетскими сооружениями?
Инженер даже поперхнулся от неожиданного вопроса.
— Я думаю, что всей этой затее — грош цена, — ответил Рыбалко на свой собственный вопрос.
— Не скажите, товарищ генерал-майор, не скажите… Доказано, что такие рвы для танков непроходимы.
Инженер говорил, а уверенности в его голосе не было.
— Ерунда! Полнейшая ерунда. — Рыбалко злился. — Если танки не пройдут через эти рвы, то немцы в пятьдесят минут наведут мосты.
— Да, возможно, — согласился инженер. — Но надо сочетать противотанковые рвы с огневой силой наших позиции. Огневая сила должна быть достаточной, чтобы не допустить перехода танков через рвы.
— Если огневая сила достаточна, тогда на кой же чорт нужна вся ваша яма? — окончательно рассвирепел Рыбалко. — И зачем вы мучаете всех этих баб, которые с трудом поднимают лопаты.
От крика Рыбалко лицо инженера посерело, как будто даже осунулось. Стало видно, что это просто старый, смертельно уставший человек, которому надо бы лечь в постель, а не размышлять об огневой силе и проходимости сооружения, которое ему приказали рыть и до которого ему нет никакого дела.
Но, как мы скоро убедились, не один Рыбалко был уверен в ненужности противотанковых рвов. Были уверены в этом и немцы. Не успели мы дойти до деревушки, в которой размещался штаб инженера, как над нами появилось три немецких мессершмидта. Один из них выпустил густую белую струю, начавшую оседать к земле.
— Листовки, — вялым голосом сообщил инженер. Вдоль противотанкового рва раздавались испуганные крики. Люди потоком вливались в ров, ища в нем укрытия от мессершмидтов. Но появился новый звук. На этот раз летел советский истребитель, прозванный ишачком. Он держался у самой земли и немцы его не заметили. Ишачок пронесся над нашими головами, сделал крутой вираж над лесом и вдруг взмыл вверх. Он уходил в небо почти по вертикали и вскоре оказался над немецкими истребителями. Оттуда он перешел в пике. Донесся захлебывающийся треск пулемета. Немцы перестроились так, что ишачок оказался между ними. Он бросался из стороны в сторону, стрекотал пулеметом, а «мессеры», не нарушая треугольника, деловито расстреливали его. Струя черного дыма оторвалась от ишачка, потом он вдруг весь превратился в летящий сноп огня. Судорожно рванулся ишачок в сторону и ударил в бок «мессера». Самолеты, охваченные огнем, упали вниз. Два немецких истребителя поспешно улетали на запад.
Генерал Рыбалко вытер с круглого лица пот и его небольшие глаза обожгли всех нас:
— Десять лет талдычили об авиации, а теперь наши герои-летчики вылетают навстречу немцам на картонных самолетах, которые от одной пулеметной очереди загораются. Эх, вы…
Это «эх, вы», брошенное в нашу сторону, относилось не к нам — мы еще в меньшей мере были ответственны за происходящее, чем сам генерал Рыбалко, но в горьком этом восклицании прозвучал тот упрек, который каждый из нас носил в себе.
Сцена гибели ишачка была короткой, хотя и показалась она нам мучительной и долгой. Горящие самолеты упали где-то за лесом. Стали оседать на землю листовки. Крошечные листки бумаги и на них — четверостишие:
Советские дамочки Не ройте канавочки. Через те канавочки Пройдут наши таночки.Это всё.
Через три дня на двух военных грузовиках, присланных в распоряжение Рыбалко, мы добрались до Березины. В те дни эта скромная река делила мир на две части. На востоке всё еще существовал какой-то порядок. Работали мобилизационные пункты. Шли поезда. Двигались густые колонны войск. Сновали автомобили. А по другую сторону реки находился мир великого крушения. И чем дальше углублялись мы в этот мир, тем явственнее проступали черты катастрофы. За Рогачевым наши автомобили остановились у моста через безымянную речушку. Огромный танк загородил въезд на мост с западной стороны. На башне сидел лохматый лейтенант танкист. Он равнодушно озирал беснующуюся и воющую у танка толпу штатских людей — мужчин и женщин. Легковые автомобили «эмочки», «газики», «ЗИС»ы растянулись длинной чередой. Между ними возвышались грузовики, заполненные каким-то скарбом.
Рыбалко приказал мне выяснить, что происходит. Лохматый лейтенант испытывающе глядел мне навстречу, когда я шел к нему. Подойдя ближе, я увидел, что лейтенант бос, не подпоясан и выглядел так, словно решил лечь спать. На мой вопрос, что случилось, лейтенант ударил босой ногой по броне танка:
— Горючее кончилось.
— А зачем же вы проезд через мост закрыли?
— На этом самом месте и кончилось, — повел плечами лейтенант. В его глазах был озорной блеск. Что могло заставить лейтенанта загородить проезд? Ведь не думал же он провести свой многотонный танк через деревянный мостик? Значит, сделал он это нарочно, из озорства.
Меня окружили пассажиры легковых автомобилей. Какой-то толстяк кричал мне в ухо, словно думал, что я глух и не слышу его:
— Товарищ командир, я секретарь горкома партии. Он называл большой город на западе страны. Тут собрались «бегуны» — партийное и правительственное начальство, удирающее от наступающих немцев.
— Послушайте, товарищ лейтенант, ведь надо же дать людям проехать, — обратился я к лейтенанту.
— Надо, — спокойно согласился он. Лейтенант посмотрел в сторону наших грузовиков, ждущих на другой стороне моста и приподнялся с башни. Он стоял лохматый, широко расставив ноги. Его молодое, обросшее неряшливой растительностью, лицо было злым.
— Ну, хорошо. Езжайте, бегуны. Секретарь горкома говоришь? Подумаешь, птица!.. Город бросил, а сам удираешь, да еще грузовик казенного имущества с собой прихватил. Вожди и учителя, чтоб вас чорт побрал.
Лейтенант плюнул в сторону и полез в люк. Те, кого лейтенант назвал вождями и учителями, стояли молча. Они готовы были снести любое оскорбление, только бы им дали проехать и снова нестись на восток, подальше от наступающего врага.
Загрохотал мотор, лязгнули гусеницы, и неуклюжая громада танка шевельнулась. Легковые автомобили, словно боясь, что танк снова закроет дорогу, ринулись вперед. Тяжелый ЗИС секретаря горкома сцепился с «эмочкой». Образовалась пробка. Неслись крики, ругань. Плакали женщины. А лейтенант опять появился на танке и стоял, широко расставив босые грязные ноги. Он равнодушно смотрел на всю кутерьму, разыгравшуюся на мосту.
После ночевки в каком-то крошечном селе, через которое непрерывно шли беженцы, мы двинулись дальше и обогнули горящий Минск. С каждым часом всё явственнее ощущалось дыхание войны. Иногда в небе происходил воздушный бой. Падали вниз горящие самолеты. Откуда-то доносился гул бомбардировок. По дорогам двигались толпы военных и штатских. Женщины несли на руках детей. Жены командиров из пограничных гарнизонов. У них были печальные, отягощенные слезами глаза. Мужчины, одетые в рваную крестьянскую одежду. Бегуны не высоких рангов. Для них не нашлось автомобилей и они уходили пешком. Встречались легко раненые командиры и бойцы. Но больше было таких, что потеряли свои части, бросили оружие и теперь брели неведомо куда. Автомобили, тракторы, танки, пушки, зарядные ящики — всё это стояло брошенным по обочинам дорог. Армия распадалась.
Трудно было понять, что вокруг происходит. Фронта не было вовсе. С каждым часом немецкие танковые войска, действующие подвижными клиньями, углубляли фронтовой район, походивший на слоеный пирог. В одном случае немцы оказывались восточнее советских войск, в другом, они окружали их, в третьем немецкие и советские армейские слои чередовались, а между ними образовалась пустота, в которой мы бродили, иногда даже не зная, находимся ли мы перед немецкими войсками или же позади их.
Рыбалко не давал времени на размышления. В этом маленьком генерале сидел бес неукротимого упорства. Будь во главе нашей группы кто-нибудь другой, мы поступили бы просто: собрали несколько тысяч уходящих от фронта солдат и офицеров и тем закончили наш западный маршрут. Но Рыбалко, встречая бредущих командиров и бойцов, раздраженно махал рукой:
— Эти сами дойдут и их в тылу подберут. Нам надо найти остатки боевых, понимаете, боевых войск. Так нам приказано.
Эти поиски завели нас в немецкий тыл. Мы и сами не заметили, как оказались в нем.
Наш западный маршрут весь состоял из неизвестности.
Лесная сторона
Рыбалко распустил нас «веером» и мы растворились в царстве белорусских лесов.
В мирные годы проезжал я по большим и малым дорогам, тянущимся через эти леса, но в 41-м все дороги для нас были заказаны. Мы подолгу изучали карты местности, но не для того, чтобы найти пути-дороги, а чтоб надежнее потерять их и уйти дальше в лесную глушь.
Лес был молчалив, словно хранил тайну великую. По дорогам грохотали моторы, лязгали гусеницы, проходили войска, а в глубине леса копилась тишина. Немцы занимали дороги, но громада леса пугала их и они в нее не смели углубляться. В лесных чащах, на берегах озер, у редких колодцев шла своя, неприметная жизнь, порожденная войной.
Я держал путь к лесному селу Выселки. На закате солнца я подошел к шоссе. Надо было ждать, пока стемнеет и только потом пересечь его. По шоссе двигался поток немецких войск. Я не видел их, но грохот моторов и людские голоса доносились до того места, где я лежал под деревом, куря папиросу за папиросой. В вечерней полутьме я подошел к самому шоссе. Как раз в это время проходила пехотная часть. Солдаты высекали из булыжников искры подковами своих сапог. Слышалась немецкая речь.
Позади меня, среди деревьев, проплыли три силуэта. Немецкий дозор. Надо было затаить дыхание и прижаться к земле. Сознание говорило, что дозор не может заметить человека, лежащего в темноте под кустом, но страх не покорен сознанию.
Неожиданно с шоссе донеслась русская речь. Удивленный, я вновь приподнял голову. Пехота уже прошла и теперь, в противоположном направлении, двигалась темная колонна. Я не ошибся, в колонне говорили по-русски. До меня явственно донесся запах махорки и характерное шуршание. Его могут издавать только сапоги с кирзовыми голенищами, трущимися одно о другое. Советские солдаты обуты в такие сапоги. Немцы ведут советских пленных.
В полночь, когда движение почти замерло и лишь изредка пробегали бронированные автомобили, я пересек шоссе и, ориентируясь по компасу, зашагал через лес.
Утро застало меня вдалеке от шоссе. По лесным тропам до меня прошло много людей. Об этом можно было судить по брошенным в кусты винтовкам и каскам, рассыпанным то тут, то там патронам. Иногда тропу перегораживала брошенная пулеметная тачанка с новеньким станковым пулеметом на ней и с полным комплектом боеприпасов. В одной лощинке я наткнулся на три небольших пушки. Около них аккуратно были сложены ящики со снарядами, словно кто-то готовился здесь вести бой.
У лесного колодца, к которому меня привела карта, увидел я бойца, поящего из брезентового ведра тяжелого артиллерийского коня. Может быть, этот боец был из той артиллерийской части, что бросила пушки в лесной лощинке. Он пристально смотрел мне навстречу. Был он молод, рябоват.
— Из какой части? — спросил я, протягивая руку к ведру, чтобы напиться.
Он назвал неизвестную мне часть. Я пил из ведра тепловатую, пахнувшую илом воду, а боец внимательно рассматривал меня. Конь уныло стоял, опустив вниз голову и по обычным признакам я видел, что болен конь желудочной болезнью.
— Ты коня поберег бы, — сказал я.
— Берегу, — солдат пригладил ладонью челку коня. — А вы, товарищ капитан, не знаете чем его лечить? Понос у него открылся… Наши все ушли, а я с конем остался. Жалко бросать.
— Куда ушли?
— Да, кто куда. Одни к фронту подались, а другие совсем даже наоборот.
— А вы?
— А я с конем остался.
— А дальше что думаете делать? Приказ Сталина знаете?
Лицо солдата покраснело, отчего рябины проступили еще явственнее.
— Так у Сталина, товарищ капитан, тоже понос открылся, как у моего коня. Только разница в том, что коня мне жалко, а Сталина нет. Вот ведь какая штуковина.
Солдат мне понравился и я предложил ему отправиться со мною. Это было нарушением приказа Рыбалко, запретившего мне до достижения Выселок «обрастать» людьми.
Солдата звали Кузьмой. Он охотно рассказывал о себе. Обыкновенная история молодого колхозника, родившегося уже при советской власти.
— В колхозе жить было бы можно, да уж очень долгов у нас много. Хлеба растут богатые, а нам остается с гулькин нос. Еще и не вызреют хлеба, а мы уже знаем, что государству да эмтээсу из десяти колосков приходится семь. Потом, конечно, всякие делимо-неделимые фонды. Взаймы государству должен дать, на осоавиахимы, на борцов революции, на постройку самолета всё должен, должен и должен.
Кузьма засмеялся, что-то вспомнив:
— Был у нас в деревне дед Сипунов, въедливый такой старик. Он как-то на собрании речь держал. Агитатор до него говорил и всё кричал, что должны мы государству хлеб вовремя сдать, ну, и всё такое. После него дед Сипунов слово попросил. Скажите, говорит, товарищ из района, а много мы еще чего должны? Вот, к примеру, у меня советская власть, всё хозяйство забрала, остались на мне только портки. А вы говорите, что я опять должен. Так что, извините, придется портки снимать… И что бы вы думали? Начал, старый лешак, брюки расстегивать. Крик тут, конечно, бабы подняли… Потом деда судили и в Сибирь на пять лет засобачили.
Кузьма рассказывал, ведя за собой коня, и нет-нет взглядывал на него жалостливыми глазами. Из крови мужичьего сына колхоз не вытравил привязанности к коню, которая издавна жила среди крестьян.
Тропа сделала крутой поворот и перед нами открылась обширная поляна, засеянная рожью. На другой ее стороне, прячась меж деревьев леса, виднелись дома. Это и были Выселки.
У крайнего дома стояла группа людей, наблюдавшая за нашим приближением. Когда мы подошли ближе, от нее отделился лейтенант, в лихо сдвинутой на затылок фуражке. Он подошел с обычным вопросом:
— Из какой части, товарищ капитан?
— Проводите меня к генерал-лейтенанту Ракитину, — вместо ответа попросил я лейтенанта.
Удивленный лейтенант развел руками, но спрашивать об источнике моей осведомленности не стал.
Кузьма с конем остался у первого же двора, а меня лейтенант повел дальше. В просторном, пропахшем лекарствами доме, в который мы вошли, стояла мертвая тишина. На длинной скамье, тянущейся вдоль стены, в неудобной позе спала девушка. Одна нога в хромовом сапоге свесилась со скамьи.
Между печью и стеной протянута была ситцевая, цветастая занавеска. Из-за нее раздался негромкий мужской голос:
— Нюра, кто это пришел?
Девушка вздрогнула и быстро встала со своего твердого ложа. Увидев нас, она смущенно улыбнулась, подошла к занавеске и раздвинула ее. На кровати, покрытый лоскутным одеялом, лежал седоволосый великан с круглым лицом. Это-и был генерал-лейтенант Ракитин, которого мне приказано разыскать.
Я назвал себя и доложил кто я, откуда и зачем прибыл.
— Генерал-майор Рыбалко приказал явиться к вам, чтобы сопровождать вас в место, намеченное для сбора личного состава войск, оставшегося в немецком тылу.
— Это все?
— Все.
Ракитин пошевелил пальцами, словно они помогали ему о чем-то думать.
— Как далеко до этого места? — спросил он.
— Немногим больше пятидесяти километров. Но опасный участок, который мы должны пройти ускоренным маршем и ночью, не длиннее десяти километров. Нам надо пересечь шоссе.
— Насчет ускоренного марша — не знаю, — вяло проговорил Ракитин. Видно было, что он думает о чем-то другом. — Ходок из меня теперь никудышный.
Рука лежащего поползла вдоль тела. Только теперь я заметил, что одеяло плотно облегало правую ногу генерала. Левой не было.
— Вот, всё ищу свою ногу, — жалко улыбнулся генерал. — Всё кажется, что мозоль на мизинце левой ноги болит.
Девушка стояла у изголовья генерала — строгая и словно за что-то осуждающая меня.
— Папе нельзя много разговаривать, — проговорила она.
— Ничего, доченька, я уже в полном порядке. Это «доченька», произнесенное грустным голосом генерала, отозвалось во мне волнением. Странно, что Ракитин оказался в этой лесной глуши с дочерью, но спрашивать об этом было бы не к месту.
— Скажите, капитан, вы совершенно уверены, что сказали мне всё?
В глазах Ракитина, обращенных на меня, было откровенное ожидание, но я не знал, чем оно вызвано. Я, действительно, сказал всё, что должен был и мог сказать.
— Хорошо. Мой начальник штаба находится где-то поблизости. Согласуйте все вопросы с ним. Ракитин отвернул лицо к стене.
— У командарма было раздроблено колено и начиналась гангрена. Пришлось ногу отрезать, — рассказывал лейтенант по дороге к соседнему дому, где помещался начальник штаба танковой армии, которой командовал Ракитин. От всей этой армии осталась только часть штаба, добравшаяся до Выселок, да какое-то количество солдат и офицеров, бродящих теперь в лесах.
— Хорошо, что с вами были врачи.
— Врачей не было. Нюра отрезала. Мы держали, а она резала.
Я внутренне содрогнулся, представив себе всё это. Сколько силы должно было быть у Нюры, чтобы отрезать отцу ногу!
У начальника штаба, сутулого генерал-майора с лысым черепом, как и у Ракитина, появилось в глазах тревожное ожидание, когда я докладывал. Не позабыл ли я, в самом деле, чего-то важного, что должен сказать этим генералам? Кажется, нет. Тогда чего же они ждут от меня?
— Оставьте нас с капитаном наедине, — приказал генерал лейтенанту. Тот молча вышел.
— Вы всё сказали? Ничего не упустили? — спросил меня генерал.
— Всё. Мне кажется, что вы ждете от меня еще каких-то сообщений, но я, право же, не знаю, что я мог бы еще сказать. Мне лишь приказано разыскать вас и обеспечить безопасное, насколько это, вообще, возможно, передвижение к месту, назначенному генерал-майором Рыбалко.
— А откуда Рыбалко известно, что мы находимся здесь?
Это уже начинало походить на допрос.
— Не могу сказать.
— Не можете или не знаете?
Генерал пристально смотрел мне в глаза и я видел, что он придает какое-то особое значение моему ответу.
Генерал вынул из кармана грязный кисет и стал неумело вертеть козью ножку. В коробке у меня оставалось еще несколько папирос и я протянул ему их. Подумав, он взял одну, а остальные вернул.
— Отдайте Ракитину.
Закурив, долго молчал. Думая, что меня отпускают, я приподнялся со скамьи.
— Сидите! — приказал генерал, затягиваясь папиросным дымом. — Вы не должны обижаться, что я вас допрашиваю. Положение, видите ли, очень… ответственное. Пожалуй лучше, если вы будете знать.
И генерал-майор рассказал мне, что в Москве отдан приказ о расстреле Ракитина, допустившего разгром танковой армии, которой он командовал.
— Меня, как начальника штаба, ждет та же участь, — печально улыбнулся генерал-майор. Об этом приказе Сталина сообщили штабные радисты, которые потом сбежали, бросив радиостанцию. Последнее сообщение, которое удалось передать в Москву, указывало на Выселки, как на место, куда остатки штаба могли дойти, неся на носилках раненого Ракитина.
— Вполне возможно, что из Москвы были даны указания вашему генералу… Во всяком случае, кто-то должен был появиться.
Теперь я понял. Ракитин и его начальник штаба ждали появления исполнителя приговора над ними. Приказ расстрелять Ракитина мог быть дан любому офицеру. В этом смысле и было истолковано генералами мое появление в Выселках. Начальник штаба заметил впечатление, произведенное на меня его словами, и бледная старческая рука его легла на мое колено.
— Дорогой мой капитан! На войне всё надо рассчитывать, всё предвидеть, всё допускать.
— Вы всё это лучше меня знаете, товарищ генерал-майор, — я изо всех сил старался быть спокойным. — Но если всё надо допускать, тогда почему же вы находитесь здесь, в Выселках? Почему вы сообщили о своем местопребывании в Москву? Почему вы не ушли в другое место, куда к вам не могли бы послать людей для приведения приговора в исполнение?
— Всё сказанное вами не лишено логики, — печальная улыбка скользнула по лицу генерала. — И именно потому, что существует логика, мы остаемся здесь. Логикой же является то, что ни Ракитин, ни я, ни все другие наши генералы не повинны в гибели западных советских армий… Об этом долго надо было бы рассказывать. Но могу вас заверить, что перед любым военным судом, я, с математической точностью, докажу, что поражение на западе есть результат ошибочных стратегических концепций, предписанных сверху.
Я хотел было сказать, что в нашей стране математически точные доказательства собственной невиновности многих приводили в подвалы НКВД, но смолчал. Какое значение, в этих условиях, могли иметь мои слова! В конце концов, генералы лучше меня должны знать, как им следует поступать.
Была уже ночь, когда я вышел от начальника штаба. После избы со стенами, покрытыми копотью и с неистребимым запахом махорки, лесной воздух охватил бодрящей волной. Было необычайно тихо и, казалось, что весь мир скован этой тишиной. Далекие взрывы, слышные днем, теперь замерли. Я стоял под деревьями, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки, но кругом было мертвое безмолвие, осененное темным куполом неба с гирляндами звезд.
Ноги, давно не знавшие отдыха, были налиты свинцовой усталостью, но спать не хотелось. Я медленно брел по тропинке, удаляясь от домов. Мне нужно было быть в ту минуту одному, хотя я и не знал, что мне делать с моим одиночеством. Огромный дуб, состарившийся на корню и рухнувший на землю, перегородил тропинку. Он мне напомнил Ракитина.
Присевши на поваленный ствол, я думал о Нюре. Знает ли она о том, что отец обречен? Вряд ли. Начальник штаба просил никому об этом не говорить. «Нюра только и мечтает о том дне, когда мы выберемся из окружения и отца можно будет поместить в больницу», — сказал он.
В неясных думах о девушке и ее отце прошел час. Пора было идти искать место для ночлега. С трудом поднялся я на ноги, но в это время послышались шаги. Донеслось ритмичное клацанье. Это, несомненно, был конь Кузьмы. Я еще днем заметил, что подкова на одном копыте отстала.
На меня надвинулся силуэт человека с конем.
— Вот животину вожу, — отозвался Кузьма на мой окрик. — Тут в одном доме старик живет, на лесного колдуна похожий. Так я к нему коня водил. Спереди и сзади накачал коня каким-то лекарством и велел всю ночь водить А я, товарищ капитан, постельку вам на сеновале сообразил. Идемте, покажу.
Мы медленно брели назад, к Выселкам. Говорить не хотелось. Все мы были тогда необычайно молчаливыми.
В ранний утренний час позвали меня к Ракитину.
— Нюра может предложить вам вареной картошки, но масла и соли не спрашивайте, — проговорил Ракитин. Он полулежал на кровати, но теперь на нем был китель с тремя орденами. Девушка подала мне миску с дымящейся картошкой. На ее лице было написано волнение и она даже не старалась его скрыть.
— Всё-таки, я должна спросить его, папа, — звенящим голосом проговорила Нюра.
— Но ведь капитан не знает. Ему приказано разыскать нас. Это всё.
— И всё-таки я спрошу, — упрямо повторила девушка.
Худощавое лицо Нюры было, как и вчера, суровым, а глаза горячими и требовательными. Темные, коротко подстриженные волосы, как у мальчика, были влажными. Она только что умылась и капельки воды остались не стертыми на розовых мочках ушей.
— Скажите, капитан, правда ли, что есть приказ о… наказании моего отца за то, что он потерял армию?
— Нюре кто-то сказал, что меня ждет строгое наказание за развал армии, вот она и тревожится, — проговорил Ракитин. — Подтвердите, капитан, что это всё выдумки. — В голосе генерала слышалась просьба.
— Я такого приказа не читал, — ответил я.
— Ну вот, видишь, — обрадовался генерал. — Я же говорил тебе, что всё это кем-то придумано.
Голос Ракитина был уверен и бодр, а в глазах светилась печаль. Он-то знал, что такой приказ есть.
День прошел в хлопотах. Начальник штаба разослал во все стороны нарочных. Нужно было собрать тех, кто пришел с Ракитиным в Выселки, человек около полутысячи. Кроме комендантской роты, где-то поблизости бродили, в поисках пропитания, остатки штаба армии, и сотни три солдат и офицеров из полевых войск. В Выселках не оставалось ни одной коровы, овцы или курицы, — всё было съедено и людей пришлось отправить в другие лесные селения, где они могли кое-как прокормиться.
Вместо ожидаемых пятисот человек, явилось человек двести. Командир комендантской роты, тот самый лейтенант, что встретил меня на околице Выселок, растягивая рот в улыбке, говорил:
— Они по селам да по лесным заимкам под боком у молодых баб-солдаток греются. У меня в роте половина личного состава бабами из строя выведена. За тридцать верст приходят сюда, мокрохвостые, бойцов в примаки сманивать.
— Надо бы надлежащие меры принять, — говорил начальнику штаба майор с круглым рыжеватым лицом. С первого взгляда он вызвал во мне неприязнь, нетрудно было догадаться, что он «из органов».
— Оставьте, — морщился начальник штаба. — В этих условиях ничего сделать нельзя, а если попробуем взять примаков силой, то мужики с кольями на нас пойдут. Им молодой рабочий народ сейчас позарез нужен.
Что касается меня, то я считал за благо, что с нами будет не пятьсот, а всего лишь двести человек. Чем меньше, тем незаметнее проскользнем мы в лесной массив, лежащий по другую сторону шоссе.
Прошла еще одна ночь.
Наутро, построившись колонной, тронулись в дорогу. Впереди шли остатки комендантской роты. Бойцы поочередно несли носилки с Ракитиным. Жители Выселок стояли у своих домов и молча провожали нас глазами. Они не имели причины сожалеть о нашем уходе. Колонну замыкал Кузьма, неразлучный с конем.
В полдень мы добрались до села, заброшенного в самые лесные дебри. Хоть находилось оно глубоко в немецком тылу, но немцы в нем еще не бывали и царило здесь полное безвластье. Сельсовет распался, колхоз развалился, колхозный скот крестьяне развели по домам.
Мы проходили по единственной улице села, а крестьяне стояли у своих дворов. И опять это гнетущее молчание. В центре села остановились отдохнуть. Я стоял в тени дома, обсуждая с лейтенантом дальнейший маршрут. Через открытые окна из дома доносились голоса. Бойцы из комендантской роты получили от хозяйки несколько кувшинов молока.
— Коров-то у тебя, тетка, сколько же теперь? — приставал к хозяйке кто-то из бойцов.
— Ох, милый, нету коровы, — отвечала певучим голосом крестьянка.
Бойцы заливались смехом.
— Кого же ты доишь, тетка? Коровы нет, а молоко есть, — не унимался всё тот же голос. Женщина поняла, что попала впросак и рассердилась.
— Какого тебе лешего надо, — закричала она. — Пей молоко, раз дают. Может я мужика своего дою. В доме захохотали.
— Они весь скот угнали в лес и тал! прячут от нас, — сказал лейтенант. — Правильно делают. По лесу сейчас много голодного люда бродит, подчистую грабят крестьян… Как мы ограбили Выселки.
Лейтенант засмеялся, словно сообщил что-то чрезвычайно веселое.
У одного из домов разыгрался скандал. Круглолицый, рыжеватый майор из особого отдела, который предлагал принять надлежащие меры против дезертиров, увидел в одном из дворов молодого парня в крестьянской одежде. Короткая стрижка под машинку ясно свидетельствовала о том, что парень этот солдат, решивший остаться в селе. Чекистское сердце майора не выдержало и он попытался арестовать парня. Но не тут-то было. В наступление на майора ринулась молодая крестьянка весьма свирепого вида.
— Ты что же, лиходей, опять над нами измываться пришел, — визжала баба на всё село. — Тебе муж мой понадобился, собачья твоя душа.
Майор, не ожидавший такого нападения, сначала было растерялся, но потом ринулся к женщине и нанес ей пощечину. Женщина от изумления окаменела на миг, а потом вдруг вцепилась в рыжеватые волосы майора. Тот, бранясь, отталкивал ее от себя, а она царапала ему лицо и ее визгливый крик разносился далеко вокруг. Оказавшиеся поблизости бойцы оттащили обезумевшую женщину. Тем временем парень, из-за которого поднялась вся эта кутерьма, исчез. Вытирая платком кровь с расцарапанных щек, майор кричал толпе крестьян, собравшейся у дома:
— Партию и правительство защищать надо, а вы дезертиров по своим домам прячете.
Молодайка вырвалась из рук бойцов и ее голос заставил майора умолкнуть.
— Защищать? — кричала женщина. — Пусть твоя партия поцелует меня сюда, а правительство вот куда…
Женщина сделала непристойное движение и перед изумленной толпой мелькнули части ее тела, обычно прикрываемые одеждой. В толпе засмеялись.
Майор готов был смириться с нанесением ему лично оскорбления, но тут уже оскорблялись партия и правительство. Побледнев до того, что на рыжей коже его лица явственно проступили крупные веснушки, майор потянулся за пистолетом.
— Ну, это вы, товарищ майор, бросьте! — тихо проговорил боец из комендантской роты, став между женщиной и майором. Его рука покоилась на спуске новенького автомата. Но не рука и автомат бойца были внушительными, а лицо, хмурое и решительное. Майор взглянул в это лицо и, кажется, побледнел еще больше. Повернувшись, он молча пошел вдоль улицы. Ожидая, пока колонна построится, я прислушивался к разговору крестьянок, оставшихся у того дома, у которого был посрамлен майор из особого отдела.
— Он ведь Костика хотел забрать, — певуче говорила молодайка. Столько было в этом «Костика» нежного женского тепла, что я с удивлением оглянулся: та ли это женщина, что за полчаса до этого выкрикивала бранные слова. Это была она.
— А всё-таки перед столькими мушчинами заголяться не гоже, — поучала старуха молодайку. — Могут что нехорошее подумать.
Наш расчет оказался нарушенным. Я надеялся, что нам в этот же день удастся дойти до лесной сторожки, с тем, чтобы под утро пересечь шоссе. Но приходилось часто останавливаться, так как движение причиняло Ракитину нестерпимую боль. Остановились на ночевку, пройдя немногим больше половины пути до лесной сторожки.
Выставив охранение, я присел под лиственницей, немного в стороне от нашего бивуака. Темнело. Небо еще было совсем светлым, а под деревьями уже копилась тьма. Мне казалось, что она струится от корней деревьев и медленно ползет снизу вверх. Опять пришла мысль о Нюре. Как хватило у нее силы ампутировать ногу у отца. Днем, когда она шла рядом со мною, я невольно смотрел на ее полудетские руки, расширяющиеся в локтевом суставе. Она заметила мой взгляд и недовольно нахмурилась. Натянула поверх кофточки солдатскую куртку, которую до этого сняла из-за жары. Пришлось оправдываться.
— Это, действительно, было ужасно, — рассказала Нюра, поверив моим оправданиям. — Но другого выхода не было. Я должна была спасти папу. Вы знаете, я учусь на медицинском, еще через год могла бы стать врачом, не случись этой войны. Приехала к папе, чтобы провести каникулы. Мама с сестрой и братом должны были приехать позже. К счастью, они не успели выехать из Москвы… Папу ранили… Начиналась гангрена, надо было быть сильной…
От одного лишь воспоминания об операции Нюра побледнела и стала походить на испуганного подростка.
В кустах прошмыгнул какой-то лесной зверек. Прокаркала над головой ворона, укладывающаяся на ночевку. Потянуло сыростью — невдалеке было болото. Захотелось курить. Рука по привычке шарила в кармане, но табаку не было. Стороной прошли два темных силуэта.
— Гречневая каша хороша с гусиными шкварками, — донесся до меня голос.
Все говорят о пище. О войне — ни слова, а всё больше о пирогах. А этот — о гусиных шкварках. Изголодались люди. Более предприимчивые кое-как добывают себе пищу, а робкие — превращаются в доходяг. Днем я рассмотрел наше воинство. Много таких, что идут с трудом и могут по дороге сдать. Но думать об этом не стоит.
Мне показалось, что я спал всего лишь одно мгновенье, но когда я открыл глаза, уже светало.
Пробудился я от людских голосов. Из-под моего дерева мне было видно, как на небольшой поляне Кузьма отбивался от наседающих на него бойцов. Здесь же была Нюра и начальник штаба.
— Не дам, гады, — кричал Кузьма, загороживая спиной коня, уныло понурившего голову.
Человек пять бойцов наседали на Кузьму со всех сторон.
— Что же, тебе конь дороже товарищей? — визгливо кричал один из нападающих.
— Не подходи, застрелю! — размахивал Кузьма наганом.
— Сидор Евгеньевич, прикажите им не убивать. Ну разве же можно? — Нюра говорила требовательным тоном, а начальник штаба беспомощно топтался на месте и растерянно твердил:
— Но поймите, Нюра, людям надо есть. Поймите, Нюра.
Кузьма взвел курок нагана и разъяренно прохрипел в сторону осаждающих:
— Ну, гады, подходи по очереди. На всех хватит…
Дело принимало плохой оборот. Начальник штаба поступил правильно, приказав убить коня и дать его в пищу. Всё равно это пришлось бы сделать в следующую ночь, когда надо будет пробираться через шоссе и конь может всех нас выдать. Но разумный приказ натолкнулся на солдатскую любовь к коню.
Медлить было нельзя. Подсознанием я почувствовал, что слова тут не нужны, и молча подошел к коню. Сизый зрачок коня отражал в себе деревья. Волнуясь, я выдернул из кобуры пистолет. Конь тяжело, с храпом опустился на колени, сраженный моим выстрелом в ухо, потом повалился на бок. Ответит ли Кузьма на мой выстрел? Эта мысль пульсировала во мне и порождала озноб.
Когда я обернулся, Кузьма стоял, закрыв ладонями глаза. Наган он выронил. Нюра смотрела на меня.
— Зачем вы так? — с укором сказала она. Я поднял наган и вложил его в кобуру Кузьмы.
— Пойдемте, Кузьма! — сказал я ему.
Он покорно поплелся за мной.
Мы оба, каждый по-своему, пережили гибель коня.
Переход наш был труден, но счастье не изменяло, и через два дня мы были в урочище, обозначенном на картах названием Мертвый лес. Когда мы явились сюда, урочище было заполнено людьми. Расчет Рыбалко был правилен, со всех сторон офицеры нашей группы приводили толпы окруженцев.
Выслушав мой рапорт, Рыбалко сокрушенно покачал головой.
— Я надеялся, что вы не найдете Ракитина, — проговорил он угрюмо. — Вы, ведь знаете, что его ждет на той стороне фронта?
— Генерал-лейтенант утверждает, что есть приказ о его расстреле, но я об этом ничего не знал.
Послышались голоса. В отверстии шалаша появилась голова часового.
— Товарищ генерал-майор, тут вас спрашивают. Рыбалко вышел из шалаша.
— Позвольте доложить, товарищ генерал-майор, — послышался знакомый голос. Я выглянул наружу. Перед Рыбалко стояло человек шесть из колонны, которую я привел. Говорил рыжеватый майор.
— Я помощник начальника особого отдела. Товарищи (он кивнул головой на других, пришедших с ним вместе) сотрудники Особотдела. Более подробный доклад я вам сделаю позже, а сейчас я хотел довести до вашего сведения, что мною доставлен сюда генерал-лейтенант Ракитин…
— Я знаю, — сказал Рыбалко.
— Генерал-лейтенант, по личному приказу товарища Сталина…
— Тоже знаю.
— В таком случае я прошу вас отдать приказ о передаче особому отделу генерала Ракитина.
— Зачем?
— Видите ли, в тех условиях, в каких мы находились, мы не могли выполнить приказа товарища Сталина.
— Почему?
— Нас бы всех перебили… Настроение антисоветское. Из моего доклада вы узнаете, что капитан, например (кивок в мою сторону), не оказал мне поддержки, когда я попытался арестовать дезертира.
— Это не входило в его обязанности, — угрюмо проговорил Рыбалко. — А условия тут такие же, как и там. И вам никто не позволит вводить тут ваши чекистские порядки. Понятно? Рыбалко кричал на майора, а у того на лице опять заметными стали веснушки. — Имейте в виду, если вы хоть пальцем тронете Ракитина, я поставлю вас перед строем и расстреляю к чортовой матери… А теперь, кругом и марш.
Рыбалко повернулся и вошел в шалаш.
— Чорт возьми, неужели Ракитин решил изображать из себя овцу, которую каждому дано право прирезать, — бросил он мне сердитым голосом.
— А что он должен делать? — спросил я. Но у Рыбалко, как и у меня, ответа на этот вопрос не было.
— Хоть бы вы потеряли Ракитина на дороге, — воскликнул Рыбалко. — Убить его тут, я не позволю. Этой сволочи, что была сейчас здесь, руки поотрублю. Но таскать его с собой, чтобы потом отдать той же сволочи, тоже счастье небольшое. Вы говорили с ним, что он сам-то думает обо всем этом?
— Говорил. Никаких желаний он не выражал… Начальник штаба рассчитывает доказать, что Ракитин не виноват.
— Идеалист.
Рыбалко произнес это слово с презрением. Носилки с Ракитиным принесли в шалаш Рыбалко. Пришел начальник штаба Ракитина. Нас всех, в том числе Нюру, Рыбалко попросил оставить их втроем. Часовому было приказано отойти на пятнадцать шагов от шалаша. Часа два мы ждали, когда кончат беседу генералы. Потом из шалаша вышли и направились в нашу сторону Рыбалко и начальник штаба.
— Это ваше дело, каждый по-своему с ума сходит, — донеслись до нас сердитые слова Рыбалко. — Но только не верю я, что вам это удастся. Не верю, и всё тут…
— Ракитин надеется, что Сталин отменит приказ, — говорил Рыбалко, когда мы шли на поиски нового шалаша для него. — А я думаю, что какой-нибудь барбос поторопится исполнить приказ. Вот что. Подберите взвод из хороших ребят. Командира взвода я сам назначу. Объявите им, что они головой отвечают за Ракитина… Надо помочь ему уцелеть.
Ночью, в конце июля, немцы, должно быть, были встревожены неожиданным и на первый взгляд бессмысленным наступлением советской дивизии на Десне. Стоявшие здесь небольшие немецкие заслоны были атакованы с фронта. В то же время незамеченные немцами советские войска бешено атаковали с тыла. Не оказав сопротивления, германские части отошли вверх по течению реки. Германский штаб хотел видеть, во что выльется это странное наступление, ничего советским войскам не обещавшее.
Но к утру всё затихло. Атакующие советские части отступили. Июльское наступление на Десне вошло в ряд непонятных мелочей войны, так как немцы, естественно, не знали, что оно было предпринято лишь затем, чтобы помочь ген. Рыбалко вывести из немецкого тыла его отряд. На рассвете мы уже двигались вместе с другими отступающими советскими войсками. Командование отрядом перешло к тучному генерал-майору из управления формирований, а Рыбалко собрал офицеров, проделавших с ним западный маршрут. Нас было теперь меньше сорока человек, — двенадцать офицеров погибли.
— Спасибо, товарищи, — сухо сказал нам Рыбалко. — Вы сделали всё, что могли.
Два военных грузовика, каким-то образом полученные нашим генералом, везли нас в сторону Москвы. Рыбалко приказал мне сесть с ним в кабину переднего автомобиля. Попался нам необычайно пугливый красноармеец-шофер. Всё его внимание было направлено не на дорогу, а на небо. Вверху пролетали германские эскадрильи, изредка появлялись одиночные самолеты; дальность мешала определить, свои это или чужие. Шоферу казалось, что каждый самолет занят лишь тем, что разыскивает наш грузовик. Между тем ехали мы по лесистой местности и заметить нас из поднебесья было трудно. Когда над нами раздавался гул пропеллеров, шофер нажимал газ и автомобиль начинал бешенную скачку на ухабистой лесной дороге. В таких случаях Рыбалко сердито кричал. Но никакой генеральский окрик не мог вернуть самообладания солдату, смертельно боявшемуся гула самолетов. Может быть, он уже побывал под ударами с воздуха и теперь не был в силах совладеть со своим страхом.
Кончилось тем, что наш грузовик попал в канаву и поломал рессоры. На этот раз Рыбалко даже не ругался. Ему было жалко молодого бойца, испуганно бегавшего вокруг поломанного грузовика. Мы ждали полчаса, но второго автомобиля не было. Может быть, он свернул на другую дорогу.
Пришлось продолжать путь пешком.
— Удачно начавшийся день, — сказал я Рыбалко, — полезно закончить пешей прогулкой.
— Что вы нашли удачного в этом дне? — спросил он.
Еще утром я заметил, что наш генерал необычайно раздражен.
— Как же, товарищ генерал-майор. Мы вышли из немецкого тыла почти без потерь. Я даже думаю, что потерь и вовсе не было. Ведь немцы покинули позиции еще до того, как мы пошли в наступление.
— Вы плохо знаете, — хмуро ответил Рыбалко. — Сколько вчера, при последнем подсчете, было у нас людей?
— Восемнадцать тысяч с хвостиком.
— Ну, а сегодня я сдал управлению формирований семь тысяч двести бойцов и командиров.
— Да не может быть? — воскликнул я.
— Это вам кажется, что не может быть, а я нечто подобное предвидел. Не в таком, правда, размере.
— Значит…
— Значит одиннадцать тысяч человек воспользовались ночной темнотой, чтобы уйти от нас. Из этого факта и исходите, определяя степень патриотизма и готовности воевать за советскую власть.
Мы долго шагали молча.
— А Ракитин? — спросил я.
Круглое лицо Рыбалко осветилось улыбкой.
— Нет Ракитина, — почти весело сказал он. — Был и нет его.
Рыбалко подумал и закончил:
— Не идиот же он, в самом деле, чтобы совать голову в петлю. У него, в последние дни, появился чудесный план.
Я ждал, что Рыбалко еще что-нибудь скажет, но он молчал. Какой у Ракитина появился план, я не узнал, хотя был уверен, что план этот подсказан ему самим Рыбалко.
— А как же дочь Ракитина, Нюра? — спросил я.
— Ну, дорогой мой, об этом я вам ничего не могу сказать. Думаю, что идет сейчас за носилками отца где-нибудь в лесу.
Мне стало не по себе при мысли о девушке. Любовь к отцу повела ее суровой дорогой, пролегающей через неизвестность.
Выдержит ли она или девичья ее судьба, вместе с другими безвестными судьбами, растворится в лесной стороне?
Москва моя…
Даже в песнях, написанных по казенному заказу, встречаются слова и образы, рождающие в душе волнение. Советская молодежь часто распевала популярную песенку:
Страна моя, Москва моя, Ты самая любимая-Составитель песни, может быть, и вкладывал в свое творение ортодоксально-советский смысл, но многих, и меня в том числе, оно волновало просто потому, что мы любили Москву. Что она — «столица мирового пролетариата», право же, касалось нас мало. Мы просто так, без политики, любили наш город, часто рассудку вопреки.
Поэтому, когда вернулся я в Москву, то первое, что меня до боли поразило, был новый, невиданный мною дотоле лик города. Москва, за два месяца войны, как будто нахмурилась, посуровела. Ночью, в подворотнях домов, стояли группы москвичей. Стояли часами, почти молча. Ночные улицы были похожи на черные траншеи. По утрам артерии города медленно, с трудом оживали. Ветер разносил пепел и полуобгоревшую бумагу. Сжигались архивы. Уходили поезда специального назначения, увозившие правительственные ценности. Правительство перекочевало в один из городов на Волге. Демонтировались военные заводы. Был введен двенадцати, а кое-где и четырнадцати-часовой рабочий день. Магазины встречали людей пустыми полками. Только неизменное кофе «Здоровье» имелось в продаже. Паек с каждым днем урезывался. Его стали называть мистификацией. До войны москвичи с великим упорством старались сохранить достойный облик обитателей столицы, а теперь вдруг все потеряли интерес к одежде и даже женщины как-то опростились, словно каждая из них старалась быть незаметней.
Вернувшись в Москву, мы поселились в Хамовнических казармах, в это время полупустых. Рыбалко вскоре отправился формировать мотомеханизированную дивизию, впоследствии ставшую знаменитой Кантемировской гвардейской дивизией, а мы остались ожидать назначений.
По улицам Москвы днем и ночью двигались войска. Они разгружались на подмосковных станциях и через столицу проходили в походных колоннах. Может быть, в Кремле думали, что вид этих войсковых масс поднимет настроение столицы. Но оно не поднималось, а падало. Это была уже не та армия, которую москвичи привыкли видеть на парадах. Там была молодежь, а эта, перекатывающаяся через Москву, состояла из людей зрелого возраста, одетых в зелено-грязную рвань, в ботинки с обмотками, вооруженных трехлинейками. Могла ли такая армия воодушевить своим видом москвичей?
Нескончаемый поток войск двигался на запад и словно растворялся там, превращаясь в ничто. Враг перемалывал этот поток и всё ближе подходил к столице. В Москве появлялось странное воинство. «Ты записался в ополчение?» — орали плакаты со стен домов и общественных зданий.
Партийные организации изощрялись в придумывании способов понудить москвичей вступать в ополчение. Эта новая беда обрушилась, прежде всего, на московскую интеллигенцию. Рабочие были нужны на заводах, шоферы водили автомобили, машинисты паровозы, а зачем во время войны нужна интеллигенция? В ополченские части, правдой и неправдой, завлекались университетские профессора и врачи, литераторы и педагоги. Все были уверены, что ополчение создается для охраны складов, дорог и для поддержания порядка в столице. Кое-как с этим еще можно было мириться и люди шли в него. Полумиллионом ополченцев командовали партийные секретари вверху и безусые лейтенанты досрочного выпуска внизу.
Однажды, я долго стоял у школы на улице Кропоткина. Во дворе маршировала рота пожилых людей, к строю совершенно не привычных. Одеты они были в какую-то смесь штатской и ветхой военной одежды. Многие носили очки. Какой-то человек, с тонким интеллигентным лицом и, по-видимому, глуховатый, каждый раз, когда подавалась команда, останавливался и растерянно спрашивал лейтенанта, командовавшего ротой:
«Простите, что вы сказали?».
Я задержался у ворот, так как заметил в строю знакомое лицо. Вначале я не поверил, что это проф. Кудрин, но, присмотревшись, убедился, что это он. Только ему свойственно было так, склонив на плечо голову, рассматривать окружающий мир через выпуклые стекла очков. Лет десять назад проф. Кудрин читал в университете лекции по истории античного мира, но потом был причислен к уклонистам и потерял кафедру. Теперь я увидел его в строю ополченческой роты.
Командовал юнец-лейтенант. Ему могло быть не больше двадцати лет. В те дни много таких лейтенантов встречалось на улицах Москвы. Военные училища досрочно выпустили своих питомцев, а для приобретения командирского опыта направили в ополчение. Лейтенант, в отличие от своих подчиненных, был одет в полную военную форму и перепоясан ремнями во всех направлениях. Он очень серьезно относился к своим обязанностям и вкладывал много энергии в дело переобучения профессоров и врачей в солдат. Потный, распаренный, метался он перед строем. «Справа по два!» — подавал он команду. Немедленно раздавался вопрос маленького человечка с умным лицом: «Простите, что вы сказали?». Строй неуклюже начинал распадаться на колонну по два, ополченцы не знали, где их место, лейтенант вопил и, наконец, приказывал остановиться. В выражениях он не стеснялся и в его словах сквозило откровенное презрение к людям, которые не могут построиться по два.
— Вы, товарищи ополченцы, счет до двух знаете?
— спрашивал лейтенант. — В Красной армии служить
— это вам не в микроскопы глаза пялить.
Почему-то лейтенант вспомнил о микроскопе, хотя вряд ли в прошлом он имел к нему какое-нибудь касательство.
— Это же позор, товарищи. Хвастаетесь, что интеллигенты, а повернуться не умеете!
Ополченцы внимали речи лейтенанта, а глуховатый всё время спрашивал соседей: «Простите, что он говорит?».
Лейтенант перешел к изучению строевого шага. Незадолго до войны такой шаг был введен в армии для торжественных случаев. Отличает его то, что он совершенно не соответствует строению человеческого тела. Надо поднимать ногу под прямым углом, ставить ее на землю, не сгибая в колене, отчеканивать шаг и закидывать голову вверх. Советская пехота на парадах похожа на стадо гусей именно потому, что ее заставляют идти этим шагом допавловских времен. Лейтенант стоял, а ополченцы должны были по очереди подходить к нему строевым шагом, прикладывать ладони к пилоткам и рапортовать: «Ополченец такой то явился по вашему приказанию». Это была не столько смешная, сколько грустная картина. Дошла очередь до проф. Кудрина. Он старался, как только мог, но строевого шага у него не получилось. Что угодно, но только не строевой шаг. Он вскидывал короткие ноги в белых парусиновых туфлях, погромче ставил ступни ног на землю, склонив голову на плечо, вопросительно смотрел на лейтенанта, что должно было изображать поедание глазами начальства. Лейтенант был взбешен нелепым видом человека в очках.
— Ты что же, труха интеллигентская, издеваешься над командиром! — заорал он на проф. Кудрина. Лейтенант начал употреблять нецензурные слова. Я вошел во двор и отозвал его в сторону.
— Вы, товарищ лейтенант, не по чину ругаетесь, — сказал я ему. — В Красной армии употреблять матерные выражения могут только генералы. Даже полковникам это запрещено, а вы всего лишь лейтенант.
Командир ополченской роты растерянно моргал глазами, но не возражал.
— Понятно? — спросил я.
— Понятно.
И он, в точном соответствии с уставом, повторил:
— В Красной армии матюкаться могут только генералы, а другим запрещено.
Может быть, он и всерьез думал, что где-нибудь есть такой приказ, да только ему о нем не сказали, так как выпуск из школы был произведен досрочно.
Я увел проф. Кудрина и мы долго сидели на Зубовском бульваре.
— Вы понимаете, неудобно было отказаться. Партийная ячейка вызывает, профсоюз вызывает, и все спрашивают: «Записались вы в ополчение?». Не запишешься — подозрение вызовешь, работы лишат. Записался. Говорили, что это только так, запишут, и всё на этом кончится. Но вот, забрали в эту школу и учат. Я, конечно, не против послужить, могу же я, в конце концов, какие-нибудь склады охранять. Это, знаете, даже интересно.
— Но требует кое-каких данных. Что вы будете, например, делать, если в склады, когда вы на посту стоите, полезут грабители? — спросил я.
— Зачем же они полезут, если будут видеть, что я имею ружье?
— А всё-таки? — приставал я. Профессор задумался.
— Если уж случится такой невероятный случай, то я крикну им, уговорю их не грабить. Слово великая сила, — уверенно произнес Кудрин. — Помните, как сказано у Горация? И профессор процитировал Горация. Разговор перешел на анархию, следы которой были видны повсюду.
— Нечто подобное было во времена похода спартанцев…
Кудрин блестяще знал историю Спарты и можно было подумать, что военная организация — его призвание. Но всё-таки строевым шагом он ходить не умел и когда я напомнил ему об этом, он засмеялся:
— Но ведь в Спарте так не ходили. Там было всё рациональным и подобный шаг мешал бы спартанцам воевать.
Опасность надвигалась на Москву. Военные поражения тщательно скрывались, но о них все узнавали. Маршалы Тимошенко и Буденный потеряли гигантские армии во второстепенных операциях. В Москве полз слух, что Сталин встретил незадачливых полководцев по-отечески: побил палкой.
Поток вновь сформированных войск плыл на запад. Гигантская мясорубка войны перемалывала этот поток и надо было снова посылать полки, корпуса, армии навстречу врагу. Сдача в плен немцам стала тем секретом, о котором все знали. «Последний патрон для себя» — требовал Сталин в приказе по армии. Но легче написать такой приказ, чем пустить себе пулю в лоб, и немцы уводили всё новые колонны пленных советских воинов, чтобы погубить их в голодных лагерях. «Сдача в плен является изменой родине» — писали газеты. Но кого это могло остановить? Полковник К. из штаба воздушных сил рассказывал: «Приказано бросить советскую авиацию на бомбежку лагерей пленных в германском тылу». Рассказывая, морщился: «Представьте, что там произошло?».
С полковником Прохоровым меня направили инспектировать пункты формирования. Дыхание войны мертвило не только столицу, но и всю страну. В глазах людей появилось новое выражение — ожидание.
Прихода немцев ждали и страшились его. Это уже в крови — боязнь иностранного нашествия. Даже советская власть не могла убить эту боязнь. На какой-то станции я делил котелок супа, полученного на пищепунк-те, с хитрым мужиченком, типичным подмосковным огородником. Чинно блюдя очередность погружения ложек в жидкий перловый суп, он говорил присказку:
…И вот, значит, у мужика тот мозоль болит нестерпимо. А приходит Никола Чудотворец и говорит: «Давай я мозоль сниму, а тебе дам другой, може он полегче будет». Мужик подумал и ответствует: «Ежели бы совсем без мозоля, тогда ясное дело, а так чтобы на обмен, я не согласен. К своему мозолю я привык, а к другому еще привыкать требуется».
Кто в то время не уразумел бы сути этой присказки?
В Иваново-Вознесенске работницы разгромили пустые продовольственные магазины. Отряд милиции врезался в толпу. Раздались отчаянные крики женщин. С пункта формирования на помощь женам ринулись их мужья. Разгорелся форменный бой. Милиция поспешно отступила.
На станциях люди спали вповалку. Вокзальные помещения, перроны, привокзальные площади были заняты спящими. Бродили беспризорники в поисках добычи. Девушки с накрашенными губами и подведенными глазами. Смотрят зазывающе, а у самих в глазах тоска лютая. Прохоров отдавал весь наш паек таким девушкам. «Дочь у меня, может быть, так же по вокзалам ходит», — говорил он.
Потом нас вернули в Москву и опять наши имена появились в списке офицерского резерва.
Каждый день я забегал к матери, принося ей свой хлебный паек. Она грела чай и мы пили его с сахарином. Как-то получалось так, что большую часть принесенного хлеба я съедал сам. Давал себе слово на другой день не есть, но мать так ловко и незаметно подсовывала мне куски хлеба, что результат опять получался тот же.
Лик Москвы менялся с каждым днем.
Военные заводы были вывезены, оставшиеся подготовлены для взрыва.
Через городские заставы катился поток отступающих. Шоферы обезумели от сказочных заработков. Им платили по 20–25 тысяч рублей, чтобы только увезли они пассажиров за полсотни километров от Москвы, где те могли втиснуться в поезда. Бежала сталинская элита, у нее были деньги. Те, у кого денег не было, но кому надо было бежать, проводили недели на привокзальных площадях, надеясь попасть на поезд.
Рабочие завода «Серп и молот», несущие охрану на заставе, остановили грузовик и произвели обыск. Обнаружили чемодан, набитый деньгами и ценностями. Убегающего с ценностями ответственного товарища забили кулаками на смерть. На другой день на всех заставах рабочие отряды останавливали автомобили и производили обыски.
Мы жили словно в военном лагере. Ополчение, коммунистические и комсомольские отряды, женские ударные бригады двигались по улицам. У генерала А. А. Власова, незадолго до того назначенного командующим обороной столицы, светилась тоска под большими роговыми очками, когда он принимал парад этих отрядов на площади Маяковского. Перед Власовым, ставшим к тому времени очень популярным в Москве, проходили отряды, составленные из рабочих, комсомольцев, коммунистов, девушек, ополченцев. Обмундирования не-хватало, и защитники Москвы были наполовину в штатской одежде. Они шли неровным строем, вяло кричали «ура» и, хотя гремела музыка и площадь была украшена алыми стягами, оживления не чувствовалось.
Мне приказали проверить боеподготовку в ударном женском отряде имени Доллорес Ибаррури. Отряд размещался в театре ленинского комсомола, на Малой Дмитриевке. Насчитывалось в нем что-то около пятисот солдат-девушек и молодых женщин. Командовала Ирма, испанка, участвовавшая в гражданской войне в Испании. То, что отряд располагался в центре города, а в его формировании приняли участие партийные организации центральных учреждений, наложило на него известный отпечаток. Больше всего в нем было девушек, к которым издавна приклеилось название «совбарышень» — машинистки из наркоматов, сотрудницы библиотеки имени Ленина (быв. Румянцевской), маникюрши, стенографистки, почтовые служащие.
Ирму я застал за странным для командира отряда занятием: она кормила грудью ребенка.
По широкой мраморной лестнице мы поднялись в театральный зал, превращенный в казарму. Навстречу нам попадались женщины, одетые в военную одежду. В отличие от других отрядов такого рода здесь все были снабжены полным комплектом обмундирования.
Все носили на головах пилотки, были коротко, но всё-таки не по-солдатски подстрижены.
Обширный театральный зал был заполнен двухярусными кроватями, покрытыми одинаковыми серыми одеялами. При входе, как в заправской казарме, стояла девушка-дневальный. Завидев нас, она звонким голосом подала команду: «Встать, смирно!».
Ирма несколько раз просила меня идти потише, ей трудно было поспевать за мной. А мне казалось, что самое важное для меня — поскорее пройти через огромный зал и вырваться из-под насмешливых глаз, отовсюду направленных в нашу сторону. В душе я проклинал полковника из отдела формирований, который послал меня инспектировать этот отряд.
Мы вернулись в комнату Ирмы. Я стоял, отирая пот с лица, когда услышал тихий, веселый смех. Смеялась Ирма. Всего за минуту до этого была строго-официальной, а теперь заливалась смехом, и стало вдруг видно, что она молода, стройна и даже военный мундир не очень обезображивает ее.
— Вы у нас не первый, — сквозь смех говорила она. — До вас несколько офицеров приезжали инспектировать наш отряд, но все они, как и вы, бегом пробегали через зал, ничего не видя… Вы даже не заметили, что позади шла девушка из второго взвода с хронометром в руке.
— Это еще зачем? — спросил я.
— Видите ли, девушки любят позабавиться. Заметив, что все офицеры попадающие в нашу казарму, стараются поскорее пробежать через нее, они решили определить, кто из них будет развивать наибольшую скорость. До сих пор, рекорд принадлежал полковнику Ватанину. — Это было имя полковника, пославшего меня в отряд Ирмы. — Он прошел через зал за полторы минуты или что-то в этом роде. Думаю, что теперь рекорд перейдет к вам, так как вы даже не шли, а бежали, и я по-настоящему устала, сопровождая вас.
С наигранным смирением Ирма вздохнула и села у стола.
— Послушайте, товарищ Ирма, — сказал я. — Не потому ли послал меня к вам Ватанин, что его обременял рекорд скорости, принадлежавший ему здесь?
— Очень странное явление, — Ирма задумчиво посмотрела на меня. — Каждая женщина прекрасно себя чувствует в обществе многих мужчин. А мужчины становятся несчастными, как только оказываются в одиночестве среди женщин.
— Видите ли, товарищ Ирма. Дело тут в другом. Мы не в силах привыкнуть к тому, что женщина оказывается в одинаковом положении с нами, я сказал бы, в одинаково плохом. В какой-то мере каждый из нас виноват в этом… развенчании, что ли, женщин. Поэтому мы и развиваем скорость, как вы говорите, когда оказываемся среди женщин, которых мы поставили в положение, в котором преклонение перед ними становится невозможным.
Я окончательно запутался и умолк.
— Удивительно, — проговорила Ирма. — Вы говорите то же самое, что мой муж. Я привыкла считать его передовым человеком, настоящим коммунистом. Мы с ним в Испании встретились. Поженились мы уже тут, в Москве. Сергей Семенович никогда не вмешивался в мои дела и считал, что испанская революционерка должна заниматься политической работой… Но вот началась война и первым, кто запротестовал против моего поступления в отряд, был Сергей Семенович… Он, видите ли, женился на женщине, а не на солдате, — так он говорит… У вас, у мужчин, слишком развито то, что вы, русские, называете мещанством. Вы на словах признаете равноправие женщины, но отводите ей известные области, где она свое равноправие может проявить. Вы кривитесь, видя нас в военной одежде…
— Но поймите, товарищ Ирма! Ведь, невозможно же любить женщину, у которой наган на боку и граната за поясом!
— Какие вы все… отсталые, — устало проговорила Ирма. — В вас над всем превалирует мужское начало, которое затмевает гражданский долг.
И потом вдруг, безо всякой связи с предыдущим, Ирма сообщила, что пять дней назад ее Сергей Семенович отправился на фронт.
В глазах Ирмы появилось тревожное выражение. Командир отряда, коммунистка Ирма, всё-таки была женщина.
Во дворе строились два взвода женского отряда.
— Хотите проверить строевую подготовку? — спросила Ирма, вставая от стола.
— Нет, не хочу!
Ирма опять улыбнулась.
— Что же вы скажете полковнику Ватанину, пославшему вас инспектировать?
Женская полурота довольно хорошо перестроилась в колонну по четыре и с песней зашагала на улицу. Сквозь закрытые окна звуки песни доходили приглушенными.
Мы красная кавалерия и про нас
Былинники речистые ведут рассказ.
О том, как в ночи ясные,
О том, как в дни ненастные
Мы смело, мы гордо в бой идем…
«Мы красная кавалерия», — повторил я слова песни. — Какая всё-таки нелепость!
— Да, песня звучит немного странно для женского отряда, — проговорила Ирма. — Но мы сейчас ставим задачу иметь женские военные песни. В следующую субботу мы соберем к нам композиторов, мобилизуем их на творчество женских песен войны.
Полковник Ватанин внимательно посмотрел на меня, когда я входил в его кабинет, но ничего не сказал.
— Должен я писать рапорт об отряде имени Ибаррури? — спросил я.
— Не стоит, — зевнул Ватанин. — Товарищ Ирма уже была у меня и рассказала. Вы не справились с возложенной на вас задачей, товарищ капитан.
— Зато я побил рекорд скорости, принадлежавший до этого полковнику Ватанину, — отбил я нападение.
Ватанин усмехнулся и отпустил меня.
На улице Горького, когда я проходил по ней, меня окликнула женщина, закутанная по самые глаза в черный платок. Надо было подойти совсем близко, чтобы узнать жену известного тогда очеркиста Сергея Р. До войны была она модницей и блистала на горизонте Дома Печати звездой первой величины. Теперь же нужда, тревога за сына, отправленного еще до войны в Крым, страх за мужа, раненого и лежащего в госпитале, состарили женщину.
В тот же день я зашел в Пироговскую больницу навестить Сергея Р. Он лежал в палате у самого окна. Был ранен в ногу.
— Что за странный ход ты сделал? — спросил я, пожимая его горячую руку. — Пойти в ополчение, когда у тебя такое имя и положение, это, знаешь ли, выше моего понимания:
— При чем тут твое понимание? — пожал плечами раненый. — Все шли и я пошел. Чем я лучше или хуже других?
Мне было жалко Сергея, но я не удержался, чтобы не съязвить:
— Энтузиазм одолел? — спросил я.
— Замолчи! — рассердился вдруг Сергей. — Ты всегда был удивительно… колючий. Ведь ты знаешь, что энтузиазм в наше время явление точно регулируемое… В ополчение пошел потому, что понял — не напишу ни одной строки после того, как война началась. Ты ведь тоже улизнул от чернильного долга!
— Я не улизнул, а был мобилизован.
— Не лги! — тихо проговорил Сергей. — Ты знаешь пути, которые могут привести тебя назад в прессу, если ты этого захочешь. Но тебе, как и мне, нечего сказать. Время бездумных писаний прошло, а мы с тобой — дети этого времени. Другие придут и будут писать, мы же нет. Слишком много лгали, слишком много обманывали себя и других, чтобы иметь и теперь еще силу лгать.
Москва стала осажденным городом. Немцы были на подступах к столице. Стал доноситься далекий гул артиллерийской канонады. Никто не сомневался, что Москву придется отдать врагу. Город голодал.
В эти дни произошло событие, никем не отмеченное, хотя о нем стоило бы поведать в каких-то особенных словах. Впервые я узнал о нем от Прохорова. Поздно ночью он вернулся в казарму. В обширном помещении, в котором раньше помещалась рота бойцов, мы жили вдвоем. Прохоров стал трясти меня за плечо. После тяжелого дня, заполненного беготней, криками, руганью (я в то время руководил минированием Поклонной горы на Можайском шоссе), не так-то просто было стряхнуть сон. Сопротивлялся я, как мог, но когда Прохоров бесцеремонно сдернул шинель, которой я укрывался поверх одеяла, и взялся за самое одеяло, я вынужден был открыть глаза. Мы с Прохоровым крепко подружились и субординации не блюли.
— Послушай, пошел к дьяволу, — сердился я. — Что ты не даешь спать?
— Видишь это? — Прохоров подносил к моим глазам круглый металлический предмет, который вначале показался мне миной нового образца. И только окончательно продрав глаза, я увидел, что это не мина, а большая консервная банка.
— Ну, консервы выдали, что тут особенного? — злился я, снова натягивая на себя одеяло и шинель.
— Нет, ты читай, несчастный, что на банке написано.
Я взял консервную банку. Она была довольно увесистой, килограмма два. По ее белой поверхности крупно было написано: «Свиная тушонка», а чуть ниже, крошечными буквами, сказано самое важное: «Made in USA».
Это было настолько неожиданным, что я даже приподнялся с постели. Мы уже свыклись с мыслью о нашем одиночестве, а тут банка консервов, появившаяся словно привет из другого мира.
— Я, знаешь, царский памятник возвел бы, — возбужденно говорил Прохоров.
— Кому памятник? — не понял я.
— Ну, памятник той американской свинье, из которой сделана эта банка консервов… Ведь ты подумай только: Америка присылает свиную тушонку. И название-то какое… аппетитное.
— Может быть случайно попала сюда эта банка, — всё еще сомневался я.
— Я всегда говорил, что писатели и журналисты насчет смекалки очень слабы. Ведь ясно же сказано:
«Свиная тушонка». На русском языке сказано. Значит, для нас это делают, для русских. Понимаешь теперь?
— Понимаю.
— А раз понимаешь, то можешь и дальше соображать. Сегодня мне дали консервы из Америки, а завтра я получу от американцев танк и самолет. Свиная тушонка это вроде передового отряда, а армия идет позади и мы ее еще увидим. Не веришь?
— Не знаю. Всё-таки это всего лишь консервы.
— Ну, брат, ты сегодня в минорном настроении. Ложись спать и не морочь мне голову.
Но спать уже не хотелось. Я наблюдал за Прохоровым. Он вскрыл перочинным ножом банку и опять заговорил.
— Посмотри только, что за мясо. Тю-тю! — воскликнул он, вдруг, нюхая мясо.
Я подумал было, что консервы испорченные.
— Да они даже лаврового листа сюда положили, — сообщил Прохоров.
Действительно, до меня донесся запах лаврового листа. Во рту набегала слюна и голодные спазмы щекотали горло. Но я еще держался.
— Советский полковник, а возрадовался свиным консервам. Национального достоинства ни на грош. Ставить памятник американской свинье собирается.
Прохоров насмешливо посмотрел в мою сторону, но ничего не сказал. Он стал раскладывать мясо на шесть ровных порций. Взял четыре порции и отнес их в соседнюю комнату, где жили четыре офицера, как и мы, причисленные к офицерскому резерву. Вернувшись, он соединил две оставшиеся порции и снова разложил мясо, но теперь уже на три доли. Одну долю отдал мне, вторую взял себе, а третью аккуратно завернул в чистый лист бумаги и сунул в мою полевую сумку.
— Матери отнесешь, — сказал он.
Я знал, что Прохоров частенько забегает к моей матери, принося ей свой хлебный паек, но результат у него получается тот же, что и у меня. Мать греет ему чай и потчует хлебом. Она стирает ему белье, штопает носки и выслушивает его бесконечные рассказы о войнах и походах, в которых он участвовал. У меня на это терпения не было и военные рассказы, как и охотничьи, я переношу плохо.
Прохоров присел на мою кровать. У меня в столике лежала краюха хлеба, полученная от каптенармуса «по блату». Мы намазывали мясо на ломти хлеба и ели.
— Вкусно? — спрашивал Прохоров таким тоном, словно он собственноручно приготовил эту тушонку. — А что касается национального достоинства, дорогой мой, так это уже из другой оперы будет.
Полковник стал суровым в лице и, размахивая перочинным ножиком, веско, словно отрубая каждое слово, произнес:
— Самое страшное для нас в этой войне — одиночество. Я всё это время думаю о нем. Мы не можем рассчитывать на помощь. Двадцать лет мы грозим кулаком всей загранице, помогать им нам не за что, это нужно признать. А не помогут, и мы погибли. Немец по всей России пройдет. Вот потому-то и казалось мне всё безнадежным. А вот эта банка свидетельствует, что, может быть, и не так всё плохо. Понимаешь, старина?
Прохоров был прав. Ожидание американской помощи на время даже затмило опасность, надвигавшуюся на Москву. Молодой, похожий на подростка, солдат из части, остановившейся на ночевку в наших казармах, уверял товарищей:
— Американцы два парохода с махрой шлют. Вот покурим!
Табак в то время не выдавали и курильщики были обречены на страдания. Пожилой боец, он, быть может, был не курящим, насмешливо посмотрел на паренька и рассудительно сказал:
— Дура ты, американцы и знать не знают, что такое махра. Они все трубки курят.
Молодой опечалился:
— Неужели не знают? Вот ведь беда. К трубке-то мы непривычные… Однако, не верю. Американцы дома под самое небо строят и не может быть того, чтобы они в махре соображения не имели.
Наивная вера солдата в американцев, о которых он знал только то, что они «дома под самое небо строят», рассмешила меня и я протянул ему последнюю папиросу, оставшуюся у меня.
Немцы подошли к самой Москве. Дачные подмосковные городки, куда мы летом выезжали на дачу, были теперь по другую сторону фронта. С Поклонной горы, начиненной минами, словно пирог начинкой, по ночам видны были вспышки артиллерийской стрельбы. Торопливо увели из Москвы ополчение, послав его навстречу врагу. Окраинные улицы перегораживались баррикадами. В домах устраивались снайперские гнезда. Красную площадь огородили деревянные забором и поставили часовых. У храма Василия Блаженного стояли несколько самолетов, готовых к полету.
По радио каждый день, под разными предлогами, сообщалось, что Сталин в Москве. Давалось понять, что он, при любых условиях, не покинет столицу.
А самолеты стояли, готовые к полету…
Всему командирскому резерву было приказано явиться в дом союзов. Попутный грузовик привез нас на Манежную площадь. До назначенного нам срока оставалось больше часа.
Я и Прохоров медленно брели по Александровскому саду. Пронизывающий ветер рвал с деревьев почерневшие листья. Низко над деревьями висело серое, наполненное влагой небо. Безрадостными, тяжелыми складками опадала вниз красная кремлевская стена.
Вышли к Москва-реке. Налево тянулась всё та же угрюмая стена Кремля, а направо — жилые кварталы, уходящие к тому холму, на котором когда-то стоял Храм Христа Спасителя. Так и не удалось на месте взорванного храма построить дворец советов. Над серой рекой нависали мосты. Беспорядочным скоплением больших и малых домов набегало Замоскворечье. Всё кругом выглядело таким жалким, подавленным, приниженным, что я невольно высказал то, что больно отдавалось во мне:
— Москва моя…
Прохоров внимательно посмотрел на меня и молча двинулся вдоль набережной, а я поплелся за ним. Больше мы не проронили ни слова.
Чудо под Москвой
В военной истории отмечено много чудес. Иисус На-вин остановил солнце. Это одно из ранних чудес. Пилсудский в 1920 году спас Польшу от захвата Красной армией. Это позднее чудо — чудо на Висле. Но самое позднее, не описанное военной историей — чудо Подмосковное.
Офицерский резерв главного командования Красной армии был последним, что могло быть брошено навстречу врагу. Полевые войска армии испытывали острый недостаток в командном составе, но нас не послали в войска. Кто-то припомнил годы гражданской войны, когда офицерские полки и отряды не раз спасали положение Белой армии, и порешил, что нечто подобное может иметь место и теперь. В резерве были оставлены только генералы, а все остальные офицеры включены в офицерские ударные батальоны. В связи с этим многие получили повышения в чине. Я стал майором. Возникло тогда три офицерских батальона, человек по четыреста в каждом. На Советской площади, против здания московского совета, Жуков производил смотр. На тротуарах толпились москвичи, а мы стояли по трем сторонам площади и Жуков медленно проходил вдоль наших рядов. В то время всё кругом менялось, а Жуков оставался неизменным, — был всё таким же кряжистым человеком с каменно-неподвижным лицом.
Закончив обход отрядов, он вышел на средину площади и остановился у обелиска свободы, с недавнего времени преобразованного в памятник сталинской конституции. По этому поводу, москвичи шутили: «Ликвидировали свободу, чтобы очистить место для конституции». Жуков выкрикивал слова, уносимые ветром и из всей его речи мне удалось услышать лишь то, что Москва в критическом положении, что враг рвется к столице и что мы должны отстоять ее.
В колонне по шести проходили мимо здания московского совета. С его фасада на нас пристально смотрели прищуренные холодные глаза Сталина. Огромный портрет вождя закрывал почти весь дом. Дожди размыли краску на полотне и она стекала по лицу Сталина. Хрящеватый нос почти был смыт, усы потекли вниз. Но глаза смотрели всё так же холодно и беспощадно. Они словно контролировали наши движения, грозили и повелевали. Какой-то неисправимый энтузиаст распахнул боковое окно во втором этаже и зычно выкрикнул:
— За Сталина, за родину, вперед, товарищи! Мы молчали. Человек, словно напугавшись нашего молчания, поспешно захлопнул окно. Глаза Сталина стали как будто еще острее и подозрительнее. А во мне билась мысль:
«Идущие на смерть приветствуют тебя»… Мы были гладиаторами нового времени и в нас, как и в гладиаторах времен Нерона, бурлило то же чувство ненависти, подавленной сознанием неизбежного. Мы отбивали шаг, упорно приковавшись глазами к затылку идущего впереди. Люди на тротуарах останавливались и подолгу смотрели нам вслед, словно удивленные нашим угрюмым молчанием. На Пушкинской, которую мы по привычке продолжали именовать Страстной площадью, большой, забрызганный грязью автомобиль с разбега остановился у тротуара. Он рычал, словно угрожая чем-то. Из него вышел генерал с тремя звездочками — Городовиков. Он поднял руку и крикнул приветствие. Мы прошли мимо, не ответив. Краем глаза я видел растерянность на лице Оки. Он махнул рукой и юркнул в автомобиль.
На Страстной площади наши батальоны разделились. Полковник Прохоров повел нас вдоль бульвара, в сторону Никитских ворот. Другие батальоны ушли вдоль Тверской, направляясь к Белорусскому вокзалу.
В лицо нам бил колючий ветер. В спину снова смотрел Сталин. На этот раз он был в свете неоновых трубок. Мне не надо было поворачиваться, чтобы видеть лицо Сталина, направленное в нашу сторону. Оно светилось с темного фасада высокого здания, с которым у меня было связано столько лет жизни. «Известия». Из прошлого память вырвала эпизод. Я знаю, что с правой стороны дома, на самом верхнем этаже, есть круглое окно. За ним когда-то работал Бухарин. В просторном кабинете редактора устраивались приемы для почетных гостей. Здесь когда-то я с надеждой и отчаянием вопрошал у Леона Фейтвангера, бывшего для меня почти пророком: «Скажите, во что должен верить человек?». И Фейтвангер ответил мне одним словом: «В Сталина». Короткий ответ, а сколько горького опыта надо было пережить молодому советскому журналисту, чтобы понять его великую и злую неправду.
Жизнь столицы переместилась на окраины. По Арбату двигались рабочие отряды. Шли женские батальоны. Дребезжали колеса санитарных двуколок и кухонь. В тихих арбатских переулках устраивали привал войска. Бойцы заходили в дома погреться. Какие-то сердобольные старушки разносили вареную картошку и соленые огурцы. Может быть, последнее, что у них еще оставалось.
За Смоленской площадью улицы были перегорожены баррикадами. Женщины, дети и старики разбирали кирпичный дом — кирпичи были нужны для баррикад. Беременная женщина везла тачку, нагруженную цементом. Она остановилась, пропуская нас. Согнулась, чтобы поставить тачку, но разогнуться не могла. Держалась за живот и молча глядела на нас. В глазах ни осуждения, ни требования, а только печаль. Может быть, не о себе, а о нас думала она. Прохоров молча взялся за ручки тачки и перевез ее через улицу. Мы стояли и молчали. Молчали рабочие, строившие баррикаду. Они на миг прекратили работу и смотрели на нас, словно ждали от нас какого-то особого слова. Но такого слова у нас не было. Мы ушли дальше.
У села Фили, почти слившегося с окраиной Москвы, тянулись окопы. В окопах были люди. Они сидели сгорбившись на земле или медленно бродили вдоль окопов. Невдалеке от дороги, у пулемета, стояла группа рабочих в коротких куртках и в шапках-ушанках. Встречались какие-то бледные юноши в парусиновых летних туфлях. В другом месте позиции были заняты женским отрядом. Не отряд ли это Ирмы? Девушки в пилотках протягивали к кострам покрасневшие руки.
Десятка два больших грузовиков ждали наш батальон у церкви. Мы переглянулись с Прохоровым и поняли друг друга без слов. За неделю до этого мы со взводом разминировали здание церкви. Может быть, эта церковь переживет нас и не взлетит на воздух. Всё-таки наши предки были стоющими людьми и стыдно было бы разрушать памятники их подвигов. А церковь в Филях — это ведь 1812 год, битва при Бородине, пожар Москвы, победа Наполеона, обернувшаяся для него гибелью, это, наконец,
…были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы…
Потому-то и нарушили мы с Прохоровым предписание штаба обороны Москвы и порешили минирования церкви в Филях не производить, а когда оно было проделано другой группой, мы ночью, потихоньку, унесли мины и ящики со взрывчаткой.
Шоферы, изучившие проходы между минными полями, бойко погнали автомобили в сторону Можайска. Откуда-то плыл гул артиллерийской стрельбы. В воздухе внезапно появился германский штурмовик. Он летел над самым лесом и поэтому гул его пропеллера мы услышали почти одновременно с тем, как увидели его. Мы еще и не поняли толком, в чем дело, а штурмовик уже, пронесся над нами, рыча и воя. Раздались крики. Грузовики на полной скорости рванулись к роще. Штурмовик снова пронесся над нами. Нам был виден пилот, склонившийся над бортом и высматривающий добычу. Он долго кружил над рощей, но, не обнаружив нас, улетел. Один грузовик пылал там, где его настигли крупнокалиберные пули штурмовика. Мы перенесли раненых под деревья. Убитых отнесли от горящей машины и оставили на земле. Раненые покорно лежали, провожая нас глазами.
— Подберут санитары, — мрачно буркнул им Прохоров. — Помогите друг другу.
Мы пересекали район, подготовленный для обороны. На пригорках торчали указательные пальцы зенитных пушек, устремленные в серое небо. Возле них плясали от холода бойцы. В рощах стыли неподвижные танки. Во время какой-то остановки я протянул танкисту пачку папирос. Нам почему-то выдали в этот раз длинные румынские папиросы. Танкист долго рассматривал коробку.
— Американские, — произнес он с удовлетворением и закурил. — Легкие, а так ничего — добавил он.
— Румынские, — разочаровал я танкиста.
— То-то я смотрю — не серьезные какие-то. Танкист отшвырнул сигарету и полез за кисетом.
Нас привезли к санатории. Знакомый дом. До войны я несколько раз проводил в нем воскресные дни. Старая барская усадьба, окруженная рощей, была превращена в однодневный санаторий. Теперь в ней помещался штаб укрепленного района. К нам вышел комиссар с тремя ромбами. Вся армия снова была пронизана корсетными шнурами комиссарства. Лицо комиссара было мне знакомым. При Гамарнике он был начальником одного из отделов. Потом его имя появилось в списке ответственных хозяйственников. Только я никак не мог припомнить, в каком наркомате он работал. Кажется, в последнее время он был заместителем наркома, но какого наркома? Я так упорно думал над этим, что не слышал первых фраз комиссара, обращенных к нам. Так и не решив, где пребывал он в последнее время, я стал вслушиваться в его слова. Опять та же словесная мякина из казенного оптимизма, лозунговой бессмысленности и откровенного страха перед будущим. Когда комиссар, увлекшись, выкрикнул лозунг, имевший хождение до войны, но поблекший в самом ее начале, то в наших рядах пробежал смех.
— Ни одной пяди своей земли не отдадим никому… — снова повторил комиссар. Смех стал сильнее, и хоть невеселый был это смех, но от него как-то становилось легче. Из дома вышел низенький генерал-майор. Он стал рядом с комиссаром. Жалкий и растерянный. Потирал маленькие ручки и почти с робкой улыбкой озирал нас. Это был начальник укрепленного района. Когда комиссар умолк, он вдруг сорвался с места и старческой иноходью пробежался вдоль строя. При этом он выкрикивал тонким голосом, взмахивал ручками и даже хватался ими за голову:
— Только чудо может спасти нас, только чудо. Потом, словно опомнившись под свирепым взглядом комиссара, он остановился и тихо, почти просительно произнес:
— Я очень надеюсь на вас, товарищи офицеры… Личный пример очень нужен войскам.
С этими словами генерал-майор исчез за дверью дома. Комиссар развернул лист бумаги, который он до этого держал свернутым.
— Вы будете рады, товарищи, узнать, что сам Сталин возлагает на вас большую надежду.
Нам в то время было это более или менее безразлично, но мы всё-таки внимательно прослушали приказ Сталина о создании офицерских ударных батальонов. В нем говорилось что-то о нашем долге показать пример в бою, воодушевить Красную армию и весь советский народ на новые подвиги. Суворовское искусство побеждать не позабыто нашим народом. Это уже было что-то новое.
Мы долго ждали, пока Прохоров получит инструкции. Наконец, он появился. За ним семенил генерал-майор:
— Я жду от вас чуда, товарищ полковник, — говорил старенький генерал.
— Мы не чудотворцы, — огрызнулся Прохоров и подал команду строиться.
Было уже за полночь, когда мы добрались до брошенной жителями деревушки Конино. Она находилась в непосредственной близости от линии фронта. Где-то невдалеке вспыхивали ракеты. Немцы освещали местность. Горели стога сена. Изредка доносилась винтовочная стрельба, еще реже — пушечные выстрелы.
На фронте в те дни царило спокойствие.
Половину изб в Конино занимал саперный батальон, другая половина была отведена нам. Саперы, за отсутствием саперных работ, заняты были, главным образом, поисками брошенного колхозного скота и поеданием его. Нам с Прохоровым досталась самая маленькая из изб, зато мы могли оставаться вдвоем. В избе нашлись сухие дрова: пехотинцы, обигавшие тут до нас, разобрали сарай на топливо, но сжечь всех заготовленных дров не успели. Вскоре большая русская печь наполняла избу нестерпимым жаром, но мы были рады теплу.
Под утро на улице послышались голоса и мимо окон потянулась какая-то воинская часть. Мы лежали с Про-хоровым на ворохе соломы и ждали, пока часть пройдет. Но послышалась команда и колонна остановилась. Я подошел к окну, но за ним была непроглядная тьма. Нащупав на скамейке полевой телефон, поставленный саперами, я крутнул ручку. Сразу послышался голос телефониста:
— Сорока слушает.
— Вызовите мне третьего.
— Есть, вызвать третьего.
Телефон нудно гудел, пока кто-то на другом конце провода снял трубку. Третьим был начальник штаба саперного батальона, разводивший нас по домам.
— Это остановился штрафной батальон… Я предложил командиру батальона поместить штрафников с нашими людьми, но он отказался…
— Штрафной батальон пригнали, — сообщил я Прохорову.
Тот помолчал. Послышалось шуршанье соломы, вспыхнула спичка, осветившая низ прохоровского лица. Он закуривал.
— Какая это скотина занимается всем этим? — вдруг зло проговорил Прохоров. — Ну, я понимаю, офицерский ударный отряд может быть, хотя при недостатке офицеров в армии это тоже порядочная глупость. Но штрафные батальоны? Хватать людей и за малейшую провинность включать в эти батальоны — ведь это же издевательство.
Я думал про себя, что Прохоров ошибается. Почва под сталинским режимом так явственно заколебалась, что в Кремле придумывают отчаянные меры, чтобы не допустить всеобщего развала. Старые средства устрашения перестали действовать на людей и нужно придумать новые. Точно так же, как перестали действовать старые методы поощрения. «За родину, за Сталина» никого не волнует, но может быть взволнует Суворов? Сталин уже обращается к народу: «Братья и сестры». Если не действует страх перед концлагерями, то, может быть, подействует штрафной батальон? Постоянная система кнута и пряника. В приказе о штрафных батальонах сказано, что присужденные к ним бойцы и командиры должны кровью искупить свою вину перед родиной. Боец натер ногу и отстал от своей части, а его в штраф-батальон. Командир вывел свою роту из-под артиллерийского обстрела без приказа — штраф-батальон. Искупайте кровью вину. Сталину всё равно за что карать людей, лишь бы эта кара вселяла страх, обезволивала всех нас.
— Штрафной батальон пойдет с нами в наступление? — спросил я.
— Нет. Ему поставлена задача провести разведку боем… Необходимо нащупать узловые пункты неприятеля.
Кряхтя, Прохоров натянул сапоги. Мы вышли из избушки. Рассвет еще только намечался. На востоке появилась светлая полоска. Земля под ногами гулко отвечала на наши шаги. Лед, сковавший грязь, не ломался. Кругом было тихо и, казалось, спокойно. Трудно было поверить, что в нескольких километрах в окопах лежат солдаты, в окружающих рощах стынут танки, а на недалеком кладбище стоят готовые к стрельбе пушки. Неуютная, холодная эта ночь всё-таки была напоминанием о мире. О войне напоминали люди.
Улица была заполнена ими. В темноте с трудом можно было рассмотреть их неясные силуэты. Прохоров опять закурил и около нас сразу же выросло несколько человеко-теней. Лиц разобрать было нельзя.
— Товарищи, угостите закурить, — произнес хриплый голос.
Прохоров протянул несколько папирос.
— Разве вас табаком не снабжают? — спросил он.
— Зачем тратить табак на штрафников? — саркастически произнес всё тот же хриплый голос. — Табачное довольствие полагается только особо отличившимся в бою, а мы еще не отличались.
В словах штрафника была горечь.
— За что вы попали в штрафной батальон? — спросил опять Прохоров.
— У нас все одинаковы… Наш батальон офицерский, окруженцы.
Мы знали, что офицеров, потерявших свои войска в первые дни войны и вышедших из окружения, Сталин приказал включить в штрафные батальоны.
— Нам сказано, что мы должны кровью искупить свою вину. Был бы человек, а вина у него всегда найдется.
Штрафники хотели еще что-то сказать, но к нам приблизился кто-то, начальственно закричавший, чтобы все заняли свои места.
— С посторонними разговаривать запрещено. Сколько раз вам об этом говорить?
Штрафники покорно отходили от избы, у которой мы стояли.
— Кто такие? — надвинулся на нас человек, приказавший штрафникам с посторонними не разговаривать. Прохоров закуривал папиросу. При свете спички я увидел стоящего перед нами парня. На груди у него висел автомат. Парень был одет в короткий полушубок. Тогда такие полушубки выдавались солдатам и офицерам внутренних войск НКВД. Охранник, пока я его рассматривал, успел заметить на петлицах Прохорова четыре «шпалы».
— Они, товарищ полковник, никак не желают дисциплину блюсти, — проговорил он. — Раз наказан, так и веди себя, как полагается штрафнику.
В голосе охранника не было теперь ничего угрожающего.
— Занимайтесь своим делом, — зло бросил Прохоров. Охранник повернулся и молча ушел в темноту.
— Барбос, — тихо проговорил Прохоров. Он был вне себя.
Яснее обрисовались избы на противоположной стороне улицы — стало светлее. В свете наступающего дня бледные пятна лиц штрафников приобрели очертания. Мы с Прохоровым несколько раз уходили в избу, но нам не сиделось в ней и мы опять выходили наружу, словно наше присутствие могло чем-нибудь помочь этим людям.
Посреди улицы остановились две полевые кухни. Штрафники построились в очередь. Кашевары разливали черпаками коричневую воду. Чай. Каждому выдавалась пайка хлеба в полфунта весом.
Послышалось тарахтенье колес. На этот раз появились две подводы, груженные винтовками. Одна винтовка с двумя обоймами патронов пришлась на троих. На опустевшую телегу взобрался комиссар штрафного батальона. Снова лозунговая словесность, никому не нужная и никого не воодушевляющая.
— Вы должны кровью доказать верность родине и родина простит вас, — кричал комиссар.
— Если кровью, тогда прощать уже не к чему, — ворчал Прохоров. — Мертвым прощение нужно так же, как капли от насморка.
В рядах штрафников возник крик. Из многих голосов выделился хриплый бас. Может быть, этот голос принадлежал штрафнику, подходившему к нам закурить.
— Ты нам речей не говори, а скажи толком, куда нас гонят? — хрипел голос.
— Наш батальон сегодня пойдет в бой… Вам, товарищи, дана возможность искупить вашу вину, не гнить по тюрьмам, а на поле битвы доказать свою верность делу партии Ленина-Сталина.
Комиссар выкрикивал эти слова, а в его голосе не было бодрости.
После его слов, штрафники заволновались. Снова вспыхнули крики:
— Без оружия в бой!
— Одна винтовка на троих.
— Оружия больше нет, — упавшим голосом ответил комиссар. Потом, словно в нем развернулась невидимая пропагандная пружина, он закричал:
— Кто предан родине, тот у врага добудет оружие! Если твой товарищ пал, возьми у него винтовку и иди вперед!
— Возьми сам! — кричали штрафники. — Не имеете права без оружия посылать.
— Не пойдем!
Молодцы в полушубках молниеносно построились в шеренгу и щелкнули затворами автоматов. Протестующие голоса смолкли.
Батальон построился в колонну и потянулся вдоль улицы. Штрафники шли молча, не глядя по сторонам. Начал падать легкий снег. Он оседал на лицах людей, на шапках и шинелях. Это был первый снег приближающейся зимы. Позади батальона двигался отряд внутренних войск НКВД. Один из солдат нес флаг штрафного батальона. На нем желтой краской было написано:
«За родину, за Сталина!».
Этот клич очень подходил к заградительному отряду, который останется позади и будет расстреливать тех штрафников, которые посмеют повернуть назад. «За родину, за Сталина!».
— Гады, вот ведь гады! — хрипел Прохоров. — На смерть послали людей, прямо-таки на смерть! Знал бы…
Прохоров не договорил, но я понял, о чем он думал. Это по его предложению была назначена разведка боем.
Происходило что-то странное. Армия, защищающая Москву, корчилась в предчувствии немецкого наступления, а немцы молчали. Ожидание этого наступления повисло кошмаром над войсками и штабами. К обороне готовы не были. Войска московского участка фронта наполовину состояли из необученных резервов и наскоро сколоченных отрядов. В штабах ясно отдавали себе отчет, что немцев нечем удержать. Это и порождало эпидемию страха перед немецким наступлением, которое, по всем предположениям штабов, должно было уже давно начаться.
Ожидание стало, наконец, нестерпимым и на том участке, куда был послан наш батальон, решено было прощупать противника наступлением. В нем, кроме офицерского батальона, должны были принять участие две пехотных дивизии, одна из них ополченческая, и небольшое танковое соединение. Размеры этого соединения никому не были известны, так как танковые части стояли без горючего, а последний его запас хранился для того, чтобы, в случае немецкого наступления, отвести танки в Москву и приспособить там для уличных боев.
В штабе укрепленного района Прохоров высказал мысль о необходимости выяснить узловые пункты немецких позиций. Ему было обещано выделить специальную часть для проведения разведки боем.
Если бы Прохоров знал, это в такое предварительное наступление пошлют штрафников, он не осмелился бы сделать свое предложение.
Весь этот день от линии фронта неслась стрельба. Когда по нашим расчетам штрафной батальон должен был появиться у немецких позиций, оттуда донесся грохот артиллерии и лихорадочный треск пулеметов. Потом стрельба потеряла свое напряжение и стала какой-то методической и спокойной. С нашей стороны артиллерия стреляла лишь изредка. Во-первых, у нее было очень мало снарядов, а во-вторых, ей было приказано себя не обнаруживать.
К вечеру штрафники вернулись в село. Уходило полторы тысячи человек, вернулось не больше тысячи. Ночной мороз не сдавал, земля не оттаяла. Штрафники плелись, спотыкаясь о смерзшиеся кочки грязи. Прохоров увидел кого-то в рядах и рванулся к нему:
— Вася! Василий Герасимович! — закричал он. Идущий с краю маленький штрафник с огромной трехлинейной винтовкой повернул в нашу сторону лицо, обросшее седой щетиной. Он кивнул Прохорову головой, улыбнулся, но из строя выйти не посмел. Прохоров отправился к командиру батальона и вскоре вернулся в сопровождении штрафника, названного им Васей. Это был полковник, старый друг Прохорова, попавший теперь в беду. Вблизи его лицо оказалось изрытым морщинами, а глубоко запавшие глаза смотрели так, словно человек этот ждал удара.
Отправился я к кухне саперного батальона и принес полный котелок жирного супа из кур — саперы доедали «куриное поголовье» брошенной колхозной птицефермы. Но наш гость отодвинул котелок.
— Шесть раз ходили в атаку, — продолжал он рассказ, начатый еще до моего прихода. — И шесть раз нас разгоняли пулеметами и минометами. Подавить огневую мощь противника живым мясом нельзя… Много полегло. Странно, что нет раненых… Позади всё время был заградительный отряд. Эти ребята с автоматами могли бы пригодиться в бою, но их задача была другой: стрелять в тех из нас, кто не выдерживал и бежал назад. Командиры тоже назади остались, так что в атаку мы шли сами, по своему разумению. Может быть, это и правильно, ведь в батальоне одних полковников человек с полсотни наберется… Странно, однако, что нет раненых.
Мысль о раненых занимала ум штрафника и он к ней то и дело возвращался. Я понимал, о чем он думает. Не добивает ли, в самом деле, заградительный отряд раненых? Словно отвечая на этот вопрос, Прохоров тихо сказал, что раненых подбирает специальный санитарный отряд и что все они свезены в соседнюю деревню.
— Ты уверен в этом? — спросил полковник.
— Да!
— Ну слава Богу, слава Богу, — оживился полковник. — А то прямо не знаешь, что подумать. Убитых много, а раненых ни одного.
— Неужели, Вася, ничего сделать нельзя? — спросил Прохоров. — Ведь у тебя было столько друзей…
— А что тут можно сделать? — опять упавшим голосом отозвался штрафник. — Полный автоматизм действует. Ты думаешь, меня кто-нибудь присуждал к штрафному батальону? Ничего подобного! Даже не спросили, как была разгромлена наша дивизия. Командир дивизии погиб и мне, как начальнику штаба, пришлось спасать остатки дивизии. С ними я и вышел из окружения. Какой-то… очень молодой парень из особого отдела штаба фронта всё кричал на меня и потрясал перед носом наганом. Однако, не расстреляли, а направили в этот штрафной батальон. Я думаю, что это последнее место, занимаемое мною в армии.
Полковник потянул к себе котелок со стынущим супом и взялся за ложку. Прохоров молчал, опустив на грудь кудлатую голову.
После разговора с полковником из штрафного батальона Прохоров уехал в штаб укрепленного района выяснить обстановку. Вернулся под утро. Контуры предстоящего наступления становились более отчетливыми. Не ясной была лишь цель, преследуемая задуманным наступлением. Создавалось впечатление, что наше командование не могло дальше выдерживать неизвестности и хотело знать, как примут немцы нашу активность.
— Боюсь, что немцы надают нам в загривок и на нашем хвосте до Москвы дорвутся, — угрюмо говорил Прохоров. — Кстати, в штабе мне сказали, что танковые войска немцев захватили аэродром. Если это правда, то им ничего не стоит дойти до Белорусского вокзала, а там и весь центр Москвы попадет под прямой обстрел… Получается, что наш участок как бы в полукольце. Тысяча и одна опасность возникает для нас. Отрезать нас совсем плевое дело.
Но наступление всё же произошло. Две пехотные дивизии наступали на узком семикилометровом участке. Наш батальон был как бы острием клина, направленным в сторону противника. Справа от нас шла стрелковая дивизия, слева ополченческая. Впрочем, ополченцев нам так и не довелось увидеть. При нас остались только связные от этой дивизии. Но и они не могли найти своих частей и возвращались к нам с сообщением, что дивизия «потерялась».
Ошибка выяснилась на рассвете. Так как наступление началось в темноте, то ополченческая дивизия оторвалась от нас и ушла вперед. Командование дивизии не исполнило настойчивого требования Прохорова «не зарваться» и двигаться по точному графику, им составленному. В результате, мы еще были на половине пути, когда ополченская дивизия завязала бой с передовыми немецкими частями, а к тому времени, когда мы подошли, с нею уже было покончено. Навстречу нам бежали бойцы. Какой-то пожилой ополченец с трясущимися губами, потерявший пилотку, винтовку и, как видно, смертельно напуганный, подбежал к группе офицеров, окружающей Прохорова:
— Представьте себе, там ужасно стреляют, — выкрикнул он в нашу сторону.
Прохоров невнятно выругался и отвернулся, а его адъютант, всегда веселый лейтенант Коля, не мог удержаться, чтобы и тут не позубоскалить:
— Неужели? Впрочем, товарищ ополченец, насколько нам известно, на войне всегда стреляют, — сказал он, вызывая улыбку на наших лицах.
Ополченец почувствовал к Коле доверие. Он снял и протер полой шинели очки, потом снова водрузил их на нос:
— Как вы думаете, что мне полагается теперь делать? — спросил он дружелюбно.
— Бежать дальше, — ответил Коля. — Бежать — так бежать.
— Вы серьезно?
— Вполне.
Ополченец засеменил ногами с бугра, на котором мы стояли, совещаясь, а Коля кричал ему в спину:
— Бегите марафонским стилем… Если задержат, скажите, что посланы полковником Прохоровым с донесением о победе.
Ополченец приостановился, оглянулся, но потом махнул рукой и засеменил дальше. Белая холщевая сумка неуклюже болталась на его спине.
Прохоров строго посмотрел на Колю и тот перестал балагурить. Положение, по словам Прохорова, было ясным «на все сто». Он и не надеялся на ополченческую дивизию. Неприятно то, что она своей поспешностью уничтожила элемент внезапности, который входил в расчеты Прохорова. Но, в общем, задача остается неизменной.
На пригорок пришел капитан-танкист. Обещанное танковое соединение на деле оказалось всего лишь танковой ротой не полного, к тому же, состава.
— Я имею четыре Т-34, - доложил капитан Прохорову.
— И это всё?
— Всё… И прошу вас, товарищ полковник, учесть, что горючего у меня на двадцать пять километров.
— Что же, вас на пикник послали, что ли? — рассвирепел Прохоров.
— Ни один идиот не поедет на пикник, имея столько горючего, сколько имеем мы, — не менее Прохорова рассердился вдруг капитан. — Я всю ночь добивался горючего и не получил его. Со всеми перелаялся, словно пес…
— Ну, ладно, не будем горевать, — примирительно произнес Прохоров. — Будем брать на авось.
Танкист молча приложил руку к замасленному шлему.
Пехотная дивизия, имея наш батальон на оголенном левом фланге, пошла в атаку. Перед этим наша артиллерия сделала несколько залпов, что должно было изображать артиллерийскую подготовку. Снарядов у артиллерии было в обрез. Предположение Прохорова сбылось. Преждевременное появление ополченской дивизии, почти целиком попавшей в плен, предупредило немцев о нашем наступлении и нас с далекого расстояния немцы встретили шквальным огнем артиллерии и минометов. Появились первые убитые и раненые. Прохоров рассыпал батальон в две цепи. Атака наша задохнулась, разбившись об огонь немецких позиций. Но Прохоров упорно вел батальон вперед. Судя по тому, что с правого нашего фланга неслась лихорадочная стрельба, пехотная дивизия наступала.
Эпизоды боя почти не запечатлелись, как это часто бывает. Под прикрытием большого камня, одиноко торчащего у края оврага, я наскоро перевязал Колю, раненого в живот. Он смотрел на меня помертвевшими глазами и тихо, задыхаясь, спрашивал: «Насмерть?». Я не знал, выживет ли он. На животе у него была маленькая дырочка, вздувающаяся синеватой пеной, а на спине рана величиной в кулак.
— Ерунда… Простая рана, — говорил я. Но когда я кончил перевязывать и перевернул Колю с живота на спину — он был мертв. Мертвые глаза всё так же, казалось, спрашивали: «Неужели смерть?». Мы попали под обстрел минометов. Немцы занимали позиции уже давно и имели время пристреляться. Капитан Туманов, угрюмый офицер из артиллеристов, упал впереди меня. Из оторванной ноги ударила струя крови. Испуганный, я приостановился. Но еще больший ужас обуял раненого. Каким-то судорожным движением он извлек пистолет и выстрелил себе в лоб. Один из наших взводов в сомкнутом строю бросился на немецкие позиции. Теперь уже были видны немцы, припавшие к пулеметам и хладнокровно расстреливавшие нас. Отчаянно кричал Прохоров, приказывая залечь. На правом фланге майор Иващенко — огромный украинец, необычайно сочно сквернословящий, пытался вывести свой взвод из-под минометного обстрела. Но немецкая артиллерия отрезала ему путь. Торопливо уходили от нас четыре танка Т-34. Они уже, казалось, вырвались из-под обстрела, но вдруг повернули назад и снова направились к нам. Вспыхнувшая было надежда погасла. В нашем тылу показались танки незнакомых очертаний.
— Конец! — прохрипел Прохоров и мне казалось, что он стал равнодушным ко всему тому, что происходило вокруг.
Это был конец. Немецкие танки обошли нас и теперь приближались, раскинувшись веером. Вспыхнул один, а за ним другой танк Т-34. Два оставшихся приблизились к нам и остановились.
— Конец, — прокричал капитан танкист, высовываясь из башни своего танка. — Горючее кончилось.
Он снова скрылся в башне и дуло пушки обволоклось дымом. Он стрелял в сторону приближающихся немецких танков.
Но взять нас немцам не удалось. Прохоров уводил нас по глубокому оврагу в ту сторону, где должна была быть пехотная дивизия. Советская артиллерия с опозданием открыла огонь, чтобы помочь нам. Немцы затихли, вероятно они ожидали нового наступления с советской стороны. Это короткое затишье спасло нас. К нам пристал взвод радиосвязи.
— Всю дивизию немцы взяли в плен, — говорил лейтенант, командовавший взводом. — Командир дивизии убит.
— Многие отступили, — поправился связист. — Взяли в плен только один полк, а другие полки побежали в тыл. Я сам видел.
Овраг вывел нас в лес. Наступила ночь. Прохоров остановил отряд. Теперь нас было не больше ста человек.
— Всё пропало! — вяло проговорил Прохоров. Мы молчали. Никто из нас даже не думал о будущем. У нас его не было.
Ночь и весь следующий день мы провели в овраге. Радиовзводу удалось найти связь со штабом фронта и оттуда поступил приказ уводить отряд глубже в немецкий тыл. Это была единственная возможность, оставшаяся еще у нас. Вырваться назад нечего было и думать.
Ночь выдалась необыкновенно холодная. Мороз обжигал щеки. Казалось, всё в мире — смерть, плен, ранение лучше, чем эта пытка холодом. Семья, обитавшая в глухой сторожке, была напугана, когда толпа окоченевших вооруженных людей ворвалась в дом. Отчаянно плакали дети. Испуганно крестился старик, а мы наполнили домик до отказа. Оставшиеся на улице ждали, пока первая партия немного отогреется и уступит им место. В коровнике каким-то чудом уцелела корова. Мы обнимали ее, чтобы согреться ее теплом. Отчаянно визжала свинья. У солдата из взвода связи нашелся тесак и Прохоров старался им прирезать ее. Старый лесник помогал ему и при этом приговаривал: «Ножом бы надо, мучается бедная».
К утру многих разобрал понос. Желудки отказывались принимать жирную, наспех сваренную свинину. В домике стало просторнее, зато в коровнике было тесно. Между деревьями бродили одинокие фигуры, о которых капитан-танкист сказал, что они — индивидуалисты.
Перед вечером дозоры донесли: к домику направляется немецкий отряд. Было страшно уходить в холодный лес, но старик, как будто проникшийся нашей тревогой, взялся провести нас к глухой заимке.
Мы подошли к шоссе и залегли в кустах.
— Как стемнеет, так мы перейдем, а сейчас ни-ни! — говорил старик.
Мы послушно ждали. Нам было видно шоссе, по которому двигались немецкие войска. Я наблюдал в бинокль за прохождением пехотного полка. Это было странное шествие. В деревнях солдаты награбили теплую одежду — а какая же у колхозников одежда? Шли в женских полупальто с меховыми воротниками, в рваных полушубках. Некоторые походили на баб, укутанных тяжелыми деревенскими шалями. Какой-то счастливец был одет в огромный тулуп. Этому я позавидовал. Как хорошо было бы иметь такой тулуп!
Связисты «поймали» Москву.
— Товарищи, немцы отступают, — захлебываясь говорил лейтенант, присосавшийся ушами к наушникам радио-приемника. — Советские войска взяли в плен больше ста тысяч немцев… Захвачено двести двадцать танков… около тысячи пушек и пулеметов… Пятьсот автомобилей.
Лейтенант продолжал передавать нам сообщения Москвы, а мы плясали вокруг него, дули в кулаки, терли щеки и носы. Это было похоже на чудо. Чудо под Москвой! Всего неделю назад мы были в столице и положение казалось всем безнадежным. Но вот пришла первая победа.
— Подумайте, товарищи, первая ведь победа, — вдруг весело проговорил Прохоров. Сообщения Москвы снова вернули ему силу и бодрость. — Значит, товарищи, не всё еще потеряно.
— Есть еще порох в пороховницах, — откликнулся майор Иващенко, раненный в руку.
— И мороз на Руси, — в тон ему произнес капитан танкист. — Не будь этого мороза, немец нас из Москвы выковырнул бы. Не сомневайтесь.
— Всё равно, мороз или нет, а Москва как будто пока спасена. — Прохоров стал отчаянно тереть обмороженный подбородок.
Мы все хотели верить, что Москва спасена. В какой-то мере это могло оправдать наше наступление, завершившееся разгромом, и устранить то ощущение бессмысленности, которое давило на всех нас. И хоть у всех нас жило недоверие к сообщению из Москвы, никто его не высказал. Мы хотели верить в чудо.
Под утро мы были уже далеко от шоссе. В лесу, в стороне от всех дорог, стояла заимка, совершенно пустая и холодная. Дед, приведший нас сюда, растопил печь. Не уместившихся в довольно-таки просторном доме, он отправил в зимовник, в котором когда-то зимовали пчелы.
— А насчет пропитания, товарищи, соображайте сами, — развел он руками. — Тут невдалеке деревенька есть, не знаю только, бывают там немцы или нет. Пойду туда, разведаю и если германцев нет, так мужики продовольствие вам представят. В этом не сомневайтесь.
Под утро человек пять молчаливых колхозников принесли и сложили на заимке мешки с продовольствием. Но мы в это время, затаив дыхание, прислушивались к словам лейтенанта-связиста. Он принимал приказ штаба фронта: «По лесам пробраться в район Красный Луч. Найти связь с генералом Безноговым… Поступить в его распоряжение… Пытаться выйти назад запрещаю… Жуков».
При свете лучины, горящей на столе, люди казались похудевшими и суровыми. Мы молчали. Словно почувствовали, что эта одинокая заимка лежит на границе нового и неведомого.
* * *
Мы пошли в неведомое. Безвольные пылинки, несомые ветром. Наш путь лежал через великую пустоту, начинающуюся в наших собственных душах.
Много месяцев прожил я жизнью лесного человека. В угрюмых лесах Белоруссии за нами охотились, словно за дикими зверьми. По нашим следам брели отряды немецкого SS, равнодушно, с легкостью привычных убийц, пристреливающие тех из нас, кто попадал им в руки. Серые мундиры полевой жандармерии и черные — эсэсовцев были знаком нашей смерти. Зеленые мундиры немецких солдат сулили плен. Но самым ужасным было не это, а то, что у нас не было друзей, а лишь враги. Наши соотечественники боролись с нами с таким же ожесточением, как и немцы. Мы невольно стали оплотом ненавистного народу режима, прогнанного немцами. В сердцах людей зажигались тогда огни великой веры в будущее. Мы мешали этим огням разгораться, тушили их. Наиболее смелые и, вероятно, наиболее честные — уходили от нас. Ушел и Прохоров. Немецкие самолеты разбрасывали над лесами его письмо к нам:
«Братья, товарищи! Бросьте оружие. Народ не желает больше власти Сталина. Пойдете ли вы против народа?.. Немцы пришли и немцы уйдут, Россия же останется. Она имеет право на свободу и счастье…».
Инерция борьбы, страх и отчаяние вели нас всё дальше. Наши отряды рассыпались. Убегали бойцы. Но приходили другие. Если не приходили сами, мы заставляли их приходить. Над нами висело какое-то проклятие, толкающее нас по нашему пути.
В холодный зимний день, который мог бы быть последним моим днем, власть этого проклятия надо мной была оборвана немецким пулеметчиком, настигшим меня своим обжигающим свинцом. Дико всхрапнув, покатился по земле конь, раненый в шею. Уносились среди деревьев мои товарищи, не заметившие моего падения. Я полз к коню, оставляя на снегу широкую кровавую полосу. Необыкновенно тяжелой и ненужной была левая нога. Голенище сапога наполнялось теплой кровью. Конь жалобно, по-человечески стонал. Он смотрел на меня синими тоскующими глазами. В обойме пистолета оставался последний патрон.
«Последний патрон для себя», — пришли вдруг на ум слова сталинского приказа.
«Нет уж, хватит!» Мне казалось, что я выкрикнул эти слова в низколобое лицо Сталина. Может быть, это было первое свободное мое решение, принятое в условиях полного отречения от всего, даже от самой жизни.
Дуло пистолета вошло в мохнатое конское ухо. Выстрел заставил коня задрожать всем телом.
Теперь всё для меня было кончено. Можно было привалиться к вздрагивающему боку коня и ждать.
Среди деревьев замелькали люди в зеленых мундирах. Это очень много значило — зеленые. Черные и серые мундиры несли смерть, зеленые — оставляли надежду на жизнь. Немецкий солдат увидел меня и испуганно остановился. Крикнул товарищам. Они подходили ко мне осторожно, зорко следя за мной.
Немецкие санитары перевязали мне ногу и помогли взобраться на носилки.
От трупа моего коня брали начало новые дороги. Дороги через безвременье.
Примечания
1
«Конармейской» она именовалась потому, что состояла из командиров, вышедших из рядов 1-й конной армии Буденного.
(обратно)2
«С нами Бог»
(обратно)


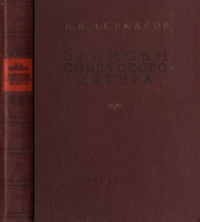




Комментарии к книге «Записки советского военного корреспондента», Михаил Соловьев
Всего 0 комментариев