Д.С. Альперов НА АРЕНЕ СТАРОГО ЦИРКА
Предисловие
Мысль о создании книги «На арене старого цирка» появилась у меня три года назад, после того, как в режиссерской секции Всероссийского театрального общества, руководимой В. Г. Сахновским, был заслушан доклад артиста 1-го Госцирка клоуна Д. С. Альперова — «Цирковая режиссура».
Большая осведомленность докладчика, его знание всех отраслей циркового искусства, наблюдательность и память, вмещающая огромное число лиц и событий, связанных с жизнью цирка, уже одни могли служить основанием для создания книги.
Во время дальнейших встреч и бесед на эту тему выяснилось, что дед Дмитрия Альперова был балаганщиком, а отец его с десятилетнего возраста начал работать в цирке. Далее оказалось, что Д. Альперов является обладателем записных книжек, принадлежавших его отцу и охватывающих период с 1898 по 1922 г.
С удивительной педантичностью изо дня в день отец артиста Сергей Алперов заносит на маленькие листки записной книжки-календаря бесхитростно и просто все, что занимает, огорчает или радует его. Над ним подсмеиваются друзья, жена доказывает вредность, даже опасность записей (в 1905 г. С. Альперов упорно отмечает все основные события семейного, профессионального, общественного и бытового характера).
Сергей Альперов — прекрасный рассказчик, и вот по его рассказам, личным впечатлениям и по рассказам деда-балаганщика Дмитрий Альперов дает в первой главе книги очень любопытные сведения о работе и быте балаганов второй половины XIX века.
Но основное в книге — цирк, его работа, жизнь артистов в нем.
Не вполне грамотные строки записных книжек помогли нам восстановить хронологическую канву, по которой протекала жизнь цирковых артистов, а острая память и наблюдательность Дмитрия Альперова дали возможность нарисовать жизнь цирка конца XIX и начала XX века. Мы поставили себе задачу воссоздать картины цирковой жизни, охарактеризовать приемы работы выдающихся мастеров циркового искусства, дать наиболее характерные образцы их репертуара и в то же время развернуть социальный фон, нарисовать широкую картину столичной и, провинциальной жизни, протекавшей около цирка.
Материальная необеспеченность, зависимость от директоров цирка, частая безработица, преследования полиции проходят перед глазами читателя, знакомя его попутно с бытом и укладом жизни самых отдаленных углов дореволюционной России.
Пестрой толпой проходят деятели цирка — этой крайне слабо освещенной печатью части театрального производства. Говорю «производства» потому, что так сами работники цирка относятся к своей деятельности на манеже, и слова «работать» и «работа» не сходят со страниц книги.
Обрабатывая материал, я старалась сохранить стиль и языковые особенности автора. Некоторые главы записаны мною по рассказам Дмитрия Альперова, большая же часть книги составлена по его записям, записным книжкам отца и устным дополнениям при просмотре черновых набросков отдельных частей книги.
Фамилии и имена артистов проверялись нами по уцелевшим печатным материалам (афиши, листовки, журналы) или устанавливались старыми артистами цирка по памяти. Что касается профессиональных терминов, то произношение их варьируется. Корень слова искажается, руссифицируясь. Разные, артисты по-разному произносят целый ряд связанных с их профессией слов. Смысл терминов мы старались вскрыть в самом тексте книги, в редких случаях сделаны короткие сноски.
В конце книги нами даны указатели, составленные так, чтобы облегчить будущим историкам цирка в России пользование материалом книги.
В. БЕКЛЕМИШЕВА
ГЛАВА I
Детство. Первые впечатления. Отец. Смоленск. Дед-балаганщик. Программа балагана. Оркестр. Глотатель огня — Емельянов. Съемка места на площади для балагана. Раус. Отсекновение головы. Закликалы. Увлечение отца цирком. Кража утюга. Смоленские сапожники. Бегство из дому.
Помню я себя рано, лет с двух — так устанавливает мать. Первое же самое сильное и сознательное впечатление относится годам к четырем и связано с цирком. Мы жили в это время в Москве. Отец работал в цирке Саламонского. Однажды мы c матерью попали на представление пантомимы «Карнавал в Венеции».
Помню большое здание, много людей, круг, посыпанный песком. Я сижу на коленях матери. Какие-то люди ходят, машут руками, что-то делают. Меня особенно занимает большой белый гусь, который ходит по песку. Я слежу за ним со вниманием. На круг выбегает человек в белом. Я сразу узнаю его это отец. Я говорю матери: «Папа, смотри, папа». Отец ходит, тоже машет руками. Меня удивляет, что они не говорят. Затем отец схватывает гуся и бежит с ним. За ним гонятся, отец убегает. Я смеюсь, радуюсь, что он такой ловкий. Но вот отца нагоняют. Я начинаю волноваться. Отца догнали, бьют, и — тут я первый раз испытал, что такое ужас — на моих глазах его убивают.
Я заплакал, стал вырываться из рук матери и закричал на весь цирк: «Папу!.. Папу убили!..»
Меня с матерью вывели. Я долго не мог успокоиться и вздрагивал, и всхлипывал даже тогда, когда отец целый и невредимый нес меня на руках домой.
Так произошло мое первое знакомство с цирком и пантомимным представлением.
С пяти лет отец ежедневно берет меня в цирк. Так поступали все артисты, у которых были дети. Молодежь с ранних лет приучалась жить жизнью Цирка и постепенно совершенно незаметно вовлекалась в его работу.
Двух-трехлетнего ребенка отец, цирковой артист, ставил на ладонь и приказывал ему: «Туже держись, туже…» или «Крепче корпус…» И ребенок невольно начинал ощущать свое тело и учился управлять им. Пятилетние дети ходили на руках и стояли на голове, а семилетки выступали в пантомимах и отдельных номерах.
И детские игры наши всегда были играми в цирк. Мы подражали нашим отцам. Устраивая наши игры-представления, мы, дети цирковых артистов, собирали детей соседних дворов и улиц и брали с них плату «за вход» — две, три копейки. Я обычно исполнял роль клоуна.
Поэтому я не преувеличу, если скажу, что рос в цирке и всю жизнь прожил его интересами. Дни протекали в снятых для жилья комнатах, в каменном или деревянном здании цирка, в вагонах поезда во время переездов цирка из города в город, переездов, длившихся нередко дней пять, шесть, а то и неделю.
Жизнь в вагонах мне особенно памятна. При финансовом благополучии, то есть при хороших сборах, переезды эти бывали настоящим праздником. Чтобы понять это, надо знать повседневную трудовую жизнь циркового артиста.
Настроение в цирке, когда он осел где-нибудь, всегда рабочее. Репетиции начинаются рано. В жаркие летние дни акробаты часто выходили репетировать еще до восхода солнца. Лошадиные репетиции обычно начинались в восемь часов утра и продолжались иной раз до часу дня. Все время до обеденного перерыва, то есть до трех часов, было расписано, и манеж простоя не имел. С часу дня шли репетиции с животными или проводились те номера, для которых был необходим манеж. Остальные актеры: акробаты, мелкие гимнасты, жонглеры — репетировали на площадке позади цирка или у конюшен на навозе. Первые, кучи навоза, которые образовывались на дворе, как только в цирке водворялись животные, дирекцией огородникам не продавались. Этот навоз служил подстилкой для акробатических упражнений. Во время постройки цирка обращалось особое внимание на то, чтобы крайняя балка навеса крыши конюшни была особенно крепка и устойчива. На нее вешались трапеции, кольца и другие приспособления для упражнений. С крыши конюшни совершались прыжки, причем некоторые артисты расстилали коврик, другие клали мешок, большинство же прыгало прямо в навоз и на нем упражнялось. Окончив репетиционную работу, артист тащил ведра два воды и тут же во дворе окатывался водой, смывая грязь.
Ежедневные упражнения для большинства артистов цирка (особенно акробатов и жонглеров) необходимы потому, что мускулы от бездействия становятся вялыми, слабеют и в них при последующей напряженной работе появляется боль, На цирковом языке это болевое явление называется «корпотурой». Нужна бывает усиленная тренировка, чтобы эту боль в мускулах разогнать.
Итак, все утренние часы заняты были репетициями. В три часа (не позже) артисты шли по домам, обедали, затем наступал короткий отдых и начинались приготовления к представлению. Понятно, что при таком трудовом дне переезды из города в город в вагонах бывали и для взрослых и для детей днями отдыха.
Хозяйки готовились к ним, как к празднику. Напекали на дорогу пирогов, нажаривали мяса, запасались провизией. Если переезжал цирк с большой труппой, то занимали десять, двенадцать вагонов подряд. В двух, трех классных вагонах размещались дирекция и артисты, в товарных перевозились животные и обслуживавший их персонал. Вагоны, занимаемые цирком, прицеплялись большею частью к товаро-пассажирскому поезду. Между вагонами устраивалась посредством веревок сигнализация. Сигнализация особенно важна была для сообщения с теми вагонами, в которых везли животных. При больших переездах во время длительных остановок артисты выходили из вагонов и тут же на перроне к удовольствию публики устраивали репетиции. Живущие близ станции люди сбегались смотреть диковинное зрелище. Иногда к таким репетициям прибегали как к средству ускорить прицепку к следующему поезду или получить вне очереди паровоз, так как коротенькая фраза «цирк едет»; или «цирк представляет» побуждала к деятельности станционное начальство.
Во время переездов суровый режим, в котором воспитывались мы, дети, невольно смягчался. Не то, чтобы мы получали меньше тумаков и подзатыльников, на которые взрослые всегда бывали щедры, но на нас обращали меньше внимания, с нас меньше требовали. А в играх (лото, домино, шашки), которыми увлекались все мы становились уже партнерами, то есть приобретали положение взрослых. Только карты были для нас под запретом, и если у взрослых шла карточная игра, то это отделение завешивалось простыней, и нас туда не пускали.
В длительные переезды вагон обживался так, что становился для нас домом. В пути бывали и случаи родов и смертей.
Чего только не нагляделись и не наслушались мы, дети, во время переездов, когда взрослые начинали свои бесконечные рассказы о других временах, о случаях в других цирках, о происшествиях в дорогах. Хорошие рассказчики бывали нередко, и одним из них был мой отец.
В моей памяти он стоит, как живой. Среднего роста, хорошо сложенный, с правильными чертами лица, бритый по-актерски, он невольно обращал на себя общее внимание.
Он не получил никакого (даже начального) образования, читать выучился по вывескам, а к двадцати пяти годам говорил и писал по-французски, немецки, английски и итальянски, причем итальянский язык больше всего любил и лучше всего знал.
Учился он у иностранных артистов и кучеров, приезжавших в Россию. Выспрашивал у них названия предметов, русскими буквами записывал слова в тетрадку и в свободное время заучивал их.
По отношению к нам он был строг и требователен. Несмотря на суровость и скупость на ласку, мы его любили. Он никогда нам ни в чем не отказывал, всегда настаивал на том, чтобы мы учились, не жалел денег на учителей и всегда приглашал их к нам, как только мы обносновывались в каком-нибудь городе на более длительный срок.
Интересы большинства цирковых артистов не шли дальше цирка. Отец же, увлекался театром, дружил с драматическими артистами, знал и любил литературу, интересовался политикой. Он был одним из немногих артистов цирка, выписывавших газету. Был занимательным собеседником и прекрасным рассказчиком. После него остались записные книжки, которые он вел изо дня в день в течение почти двадцати пяти лет. Книжки эти говорят о широте интересов отца, о его замечательной памяти, — по ним я проверяю то, что сохранила мне моя память.
Вровень с отцом по культурности я могу поставить немногих, — таким был Юрий Костанди, клоун; такими были Никольский, управляющий Труцци и Злобина, и Бом-Станевский.
Все, что я буду говорить в этой главе о старых балаганах, о старых цирках, я слышал от отца, от старика-деда и запомнил из тех разговоров и споров, которые возникали среди цирковых артистов в свободное от репетиций время или ночью после представлений. Я «встревал» во вое разговоры, прислушивался ко всем спорам и часто получал за свое любопытство затрещины и от отца, и от его приятелей.
Жизнь отца сложилась очень занимательно. И, прежде чем приступить к «повести моей жизни», я хочу попытаться по красочным рассказам отца и росказням деда и бабки описать работу деда в балагане, детство отца, бегство десятилетнего Сережи Альперова из дому и его многолетние скитания по России.
Родился отец мой, Сергей Сергеевич Альперов, в Смоленске. Отец его, мой дед, был сначала шарманщиком, потом ему удалось подработать немного денег, и он открыл балаган.
Деда своего я хорошо помню. Это был высокий, бодрый, белый, как лунь, старик с длинной седой бородой. Большею частью он бывая угрюм и молчалив, но стоило ему только выпить — и откуда что бралось: перед вами был балагур, весельчак, человек, которому «море по колено». Зимой и летом он ходил в валенках. О балаганах и работе в них он рассказывал с увлечением. У него был заветный сундучок, в котором сохранялись его балаганные костюмы (трико и корсажи) и лежала подвязная борода.
Несколько раз мы ездили к нему и бабке в Смоленск. Раз он приехал к нам в Москву, и отец повел его в цирк. Цирк ему не понравился: «Расфуфырены все… мудрено», — качал он головой.
Часто он с укоризной говаривал: «Ну, что вы с вашими цирками! В наше время мы, бывало, по четырнадцать представлений в день отхватывали. Нет, вас еще жареный гусь в зад не клевал!»
Балаган он любил и гордился, что работал в нем, а о своей бродячей жизни шарманщика рассказывал неохотно. Когда в наших поездках с цирками по глухим уголкам страны я видел шарманщика и рядом с ним жонглера или акробата в трико, мне всегда вспоминался дед. В звуках шарманки для меня, до сих пор есть притягательная сила, а ребенком я, заслышав шарманку, бросал все и бежал во двор. Помню, в Баку я до того вошел в азарт, что принял участие в представлении: стал на голову, ходил на руках и потом собирал в шапку «тринкгельд» для шарманщика и жонглера. Бродячие артисты неоднократно рассказывали мне, сколько ссор, и драк бывало среди них из-за дележа тринкгельда. По давнему обычаю сбор делился на три части: одна часть шла шарманщику, другая — шарманке, третья — жонглеру или акробату. Шарманщик не мог отойти от своей шарманки, сбор денег всегда выпадал на долю его партнера, а партнер старался утаить часть выручки, прятал деньги в трико, подмышку или за щеку. Из-за этого-то и возникали ссоры и драки.
Первый свой балаган дед построил в Смоленске. Подвыпив, он хвастливо рассказывал, из каких замечательных номеров состояла его программа. В балагане работала и бабка. Обычно балаган обслуживала вся семья балаганщика. По непонятной для меня до сих пор причине дед нe хотел, чтобы сын его Сергей (мой отец) стал балаганным артистом. Он определил отца в булочную к дяде. В булочной отец должен был помогать взрослым при развеске, разноске и развозке хлеба.
Бабка была кассиршей в балагане. Дед был фокусником, глотал горящую паклю, играл в пантомимах, выступал на раусе[1]. В труппе деда были отец с сыном Емельяновы. Старик Емельянов был закликалой на раусе, гармонистом, «глотателем огня». Сын его, акробат, выступал в номере «Человек без костей».
Представления бывали дневные, более короткие, для приезжавших на базар крестьян, и вечерние, более длительные, для горожан. Дневные шли минут двадцать пять, тридцать, вечерние — минут сорок.
Начинал программу дед. Он выходил в трико и корсаже поверх трико и жонглировал тремя круглыми предметами. Зимою и весною это бывала картошка, летом и осенью — яблоки. Затем дед брал три длинных кухонных ножа, перебрасывал их, ловил и в конце номера с торжеством втыкал в пол. Жонглировал тремя зажженными факелами, балансировал на носу горящей лампой. Главным номером деда было выступление с кипящим самоваром. Самовар он держал на двухаршинной палке с дощечкой наверху. Перед номером самовар на глазах публики раздували, и, когда из него валил пар, дед проделывал свои упражнения. По окончании номера кипяток тут же на сцене выливался и угли вытряхивались.
После деда, вторым номером, выступал старший Емельянов — «балагур-дед» с балалайкой.
Прибаутки таких балалаечников были очень несложны, рассчитаны на «простую» публику, часто нецензурны. Емельянова-старика я не видал, сын же его Костя (третий номер дедовой программы) впоследствии совершенно спился, ходил грязный, оборванный, валялся пьяный под заборами.
Костя Емельянов после своего номера обходил публику, собирая тринкгельд. Опять появлялся дед, но уже в пиджачке прямо поверх трико, и делал фокусы. Лучшим номером его был фокус с кредиткой. Фокус этот я хорошо знаю, так как видел его не раз в больших цирках. Дед просил у кого-нибудь из публики кредитку. Получив кредитку, дед просил записать ее номер, после чего заворачивал ее в газету, встряхивал несколько раз, разворачивал газету — кредитка исчезала. Приносили из-за кулис две зажженных свечи, дед спрашивал, какую свечу оставить, и вставлял, конечно, ту, какая ему была нужна. Брал пистолет, стрелял в подсвечник и предлагал публике разломить свечу. Свечу разламывали — в ней оказывалась кредитка.
После фокусника выходил «глотатель огня» Емельянов.
Я интересовался, как цродельввается этот номер. Дед рассказывал, что рот и губы промываются квасцами и что это предохраняет от ожогов.
На «глотании огня» дневная программа заканчивалась. Вечерняя пополнялась еще тремя номерами: глотаньем шпаги, танцем мальчика и танцем деда, причем дед проделывал цирковой номер «танец на лопатке».
Мне хочется привести в дополнение к программе деда текст одного из закликаний, который сохранился в моей памяти
Закликала выходил на раус в красной кумачовой рубахе, зимою в тулупе и зазывал публику, сновавшую мимо балагана или глазевшую на пестро размалеванную балаганную афишу.
— Эй, сынок! — кричал закликала невидимому публике «сынку», —
Давай первый звонок.
Представление начинается.
Сюда! Сюда! Все приглашаются!
Стой, прохожий! Остановись!
На наше чудо подивись.
Барышни-вертушки,
Бабы-болтушки,
Старушки-стряпушки,
Солдаты служивые,
И дедушки ворчливые,
Горбатые, плешивые,
Косопузые и вшивые,
С задних рядов проталкайтесь,
К кассе направляйтесь.
За гривенник билет купите
И в балаган входите.
А ну-ка, сынок, — с новым жаром начинал второй куплет закликала, —
Давай второй звонок.
Купчики-голубчики,
Готовьте рубчики.
Билетом запаситесь,
Вдоволь наглядитесь.
Представление на-ять —
Интереснее, чем голубей гонять.
Пять и десять — небольшой расход.
Подходи, народ.
Кто билет возьмет,
В рай попадет,
А кто не возьмет, —
К чорту в ад пойдет,
Сковородку лизать,
Тещу в зад целовать.
— А ну-ка, сынок, покрывал смех и шутки толпы третьим куплетом закликала, —
Давай третий звонок.
Давай, давай! налетай!
Билеты хватай!
Чудеса узрите —
В Америку не захотите.
Человек без костей,
Гармонист Фадей,
Жонглер с факелами,
На лбу самовар с углями,
Огонь будем жрать,
Шпаги глотать,
Цыпленок лошадь сожрет,
Из глаз змей поползет.
Эй, смоленские дурачки,
Тащите к нам пятачки!
Пошли начинать.
Музыку прошу играть.
Текст этого закликания подлинный (выпущены только два нецензурных слова).
Дед рассказывал, что закликале приходилось зазывать публику раз по пять-шесть подряд, пока, наконец, балаган не наполнялся народом. А в балагане играл в это время слепой Андреич, гармонист. Его я помню, он делал нам, детям, превосходные свистульки и сам прекрасно играл на них.
При хороших сборах дед приглашал трех музыкантов. Они играли только на раусе.
Инструменты были духовые: — корнет-а-пистон и кларнет; к ним обязательно добавлялся барабан.
Таков был балаган деда.
Своеобразным моментом была съемка места для балагана на ярмарочной площади. Иногда площадью владела городская управа, тогда она объявляла торги, назначала цену, и покупал тот, кто давал больше. Купивший уже от себя продавал места на площади балаганщикам, панорамщикам, карусельщикам, силомерщикам, ларечникам, пышечникам, квасням и другому торговому люду.
Иногда площадь покупалась в складчину, и прибыль делилась по паям.
Если же илощадь принадлежала местному богатею, то происходило предварительное «чаепитие с полотенцем». О таком чаепитии красочно рассказывав нам дед. Вернее не рассказывал, а разыгрывал, изображая в лицах и купца, торгующего площадью, и себя, и своего случайного спутника.
Дед приехал поздно ночью в небольшой городок бывшей Смоленской губернии. В этом городке в скором времени должна была происходить ярмарка. Остановился дед в трактире. Трактирщик ему сказал, что базарная площадь уже сдана, но что деньги еще не уплачены. У деда же было с собой триста рублей денег и две ренты по пятьдесят рублей каждая.
Утром oн проснулся, видит: сидит человек в поддевке с золотой цепочкой через все пузо и пьет чай. Дед подсел к нему с разговором. А «заговаривать зубы» был он мастер. Человек оказался торговцем валенками. Спросил дед водчонки. Скоро оба опьянели порядком, и вот «под рюмкой» стал дед просить валенщика дать ему на подержание за три рубля поддевку и часы с цепочкой. Валенщик упирался. Тогда дед рассказал ему, что держит балаган и приехал, откупить площадь. Что деньги на это у него естъ, а вот «вида» он не имеет. А для «вида» нужны ему поддевка и часы. Предложил валенщику, если он ему не верит, пойти с ним вместе к купцу торговать площадь.
На том и порешили. Переоделись. Пошли к купцу. Подошли к дому. Дом хороший каменный в два этажа. Зашли с заднего хода. Вошли, перекрестились на все иконы. Видят: сидит купец в задней комнате, чай пьет. Гостей ни о чем не спрашивают, а сразу без опроса приглашают «почаевничать». Сели. Пьют. Подали один самовар. Выпили. Подали другой. Купец велел полотенце принести: пот утирать. Чай пили молча друг за другом наблюдение вели. А дед все на часы посматривает. Валенщику это не нравится, — боится, чтобы дед пружинку у часов не сломал. Он деда раза два в бок толконул. Дед на него внимания не обращает. Наконец, купец спрашивает, зачем дорогие гости пожаловали. Дед ему объяснил, что хочет снять площадь, слышал, что она уже сговорена, да деньги еще не уплачены. Сказал, что любит платить наличными, Вытащил свои три «катеринки», показал и ренты.
Купец просил прибавить. Дед обещал. Купец послал за приказчиком. Пришел приказчик, написал записку, дает деду читать. А дед неграмотный, но виду не подает. Глаза прищурил, смотрит.
Что же ты, — говорит, — не прописал, что деньги от меня получил?
Как не прописал? Извольте видеть, вот прописано: триста рублей и две ренты.
— Так, — говорит дед, — а я по слепоте и не вижу.
Расписался приказчик за неграмотного хозяина, деду передает. Дед видит, что делать нечего и говорит:
— Ставь теперь и за меня три креста.
Вышли они от купца. Переоделись, дед часы вернул, дал валенщику три рубля и «скорым лётом» полетел к надзирателю. Показал расписку, вложил в расписку «барашка». Надзиратель «барашка» взял.
— Дед, какого «барашка»? — спрашиваю я.
— «Барашка»?.. казначейского, — улыбнулся дед, — пятишницу.
От надзирателя пошел дед к околоточному — тому уж двух «барашков» сунул. От околоточного — к приставу. Отвалил приставу трех. — Без «барашков» на ярмарку не суйся.
Пошел на площадь, видит: купец, что до него площадь сговорил, колышки разбивает.
Начали они спорить чья площадь.
Дед пошел за надзирателем, показал расписку. Надзиратель удостоверил все дедовы права.
Узнал дед, что площадь хотел снять тоже балаганщик и уже место себе для балагана лучшее отметил. Загнал его дед на самый край площади, а сам свой балаган на им намеченном месте поставил. Позвал дед попов, отслужили молебен. Начались представления. И опять на этом дело не кончилось. Пригласил дед к себе в балаган своего нового приятеля — валенщика. Тот в полный восторг от представления пришел, а как стал Костя Емельянов «человека без костей» показывать, валенщик так разошелся, что ему пятирублевый золотой кинул. Дед это видел. Костя же хотел деда надуть и пятирублевик проглотил. Дед его спрашивает, а он отказывается: не было никакого золотого. Спросили валенщика.
— Бросил, — говорит, — как пить дать, бросил.
— Постой, — думает дед, — я тебя перехитрю.
Послал дед за касторкой, велел Косте выпить. Тот сначала отнекивался, потом видит, что делать нечего, — выпил. Дед его после того от себя на шаг не отпускал.
— Ну и что же? — спрашиваем мы.
— Палкой пошарил, нашел, — торжествующе оканчивал дед, — меня не проведешь, не на дурака напал.
Дед умер в 1903 году. Чтобы дорисовать его портрет, расскажу о нем еще одну историю.
Однажды, когда мы гостили в Смоленске, поругался дед с Костей Емельяновым. Тут вдруг бабка вмешалась и говорит:
— Чего ты Костю вором ругаешь! Сам ты хорош был. Помнишь, как у меня из кассы деньги воровал! Только мне куда по надобности отлучиться надо, ты в кассу сядешь; в балагане народу полно, а денег нет… Врешь ты…
— Чего там врешь, — разошлась и осмелела бабка, — по три копейки публику пускал, лишь бы денег побольше нахватать, пока я не вернулась. И все на водку.
Мне не раз еще придется говорить о балаганах, особенно когда я буду описывать нашу работу на Нижегородской ярмарке. Сейчас мне хочется рассказать только о том, как строились старые балаганы и как шла работа в них.
По рассказам отца, деда и знакомых балаганщиков выходило так, что наиболее благополучным было существование балаганов на зимних ярмарках. Зимою разгуляться людям было негде. Трактиры бывали переполнены приезжими, в балаганы же можно было притти с закуской и выпивкой.
Строились балаганы из досок «лапша». Дыры зашивались разломанными чайными ящиками. Крыша (смотря по состоянию балаганщика) бывала или из полотна, или из сшитой рядины, или из старых мешков. Внутри строилась сцена, вешался кумачовый занавес на кольцах. Перед сценой врывались в землю два столба с железными кронштейнами. В эти кронштейны с тремя гнездами вставлялись лампы-молнии. Роль ламп-молний в балагане была велика: они и освещали, и согревали, на них можно было разогревать пищу.
В зрительном зале устанавливались простые, грубо сколоченные скамейки. Передние скамейки бывали всегда, ниже, задние же иногда так высоки, что сидящий не доставал ногами пола.
Случалось, что особые любители балаганов покупали билеты под ряд на шесть-семь представлений и приходили в балаган со своими стульями.
Тут же в зрительном зале шла бойкая торговля семечками, орехами, маковниками, пышками, кислыми щами и другой снедью.
Перед входом в балаган строился помост — раус, о котором я уже упоминал. На раусе работал закликала. Закликалы вербовались большею частью из местных балагуров и трактирных завсегдатаев. От закликалы часто зависел сбор балагана. Хорошие закликалы так ценились, что балаганщики переманивали их друг от друга, с другой стороны среди балаганщиков существовали свои традиции. Например, закликалы работали поочередно, чтобы один балаган не мог сорвать представление другого. Я приводил текст закликания в балагане деда. Таких закликаний было множество; они постоянно изменялись в зависимости от программы, но общий характер их был один и тот же.
На раусе кроме закликал выступали иногда артисты с номерами. Сначала показывались мелкие номера, потом давался крупный трюк. Таким трюком было, например, «отсекновение головы» живому человеку.
Зазывался из толпы парень, свой, заранее «сговоренный». Парень подымался на раус, приносилась плаха. Голову парня клали на плаху. Он упирался. Палач в кумачовой рубахе показывал топор, рубил им дерево в доказательство того, что топор острый. Во время возни с парнем топор подменялся. Палачу давали жестяной бутафорский топор. Плаха была устроена так, что середина ее была пуста, пустота маскировалась материей в цвет дерева. Материя держалась на резинке. Парень клал голову на плаху там, где была натянута резинка. В момент удара он натягивал резинку, голова попадала в пустое выдолбленное пространство, а от нажима на резинку сверху выдвигалась крепкая доска, на которую и приходился удар бутафорского топора. Публике же внизу казалось, что голова отваливается, а тело продолжает стоять на коленях. Палач, ударив, бросал топор и вытаскивал из стоявшего на полу ведра бутафорскую голову, до того времени плававшую в клюквенном соку. Голова была вся в крови, по волосам из пакли текла кровь-клюква.
Палач потрясал головой, а закликала кричал: «Представление начинается. Сынок, давай третий звонок. Кто хочет смотреть оживление мертвеца, — полезай в балаган с того конца». И закликала торжественно указывал на вход в балаган.
Я так хорошо знаю технику этого балаганного номера потому, что указанное здесь «отсекновение головы» проделывалось нами в цирке в пантомиме «Стенька Разин».
День всех работников балагана продолжался с утра до вечера. Подбадривались и в холодные дни согревались «водчонкой» и хозяйской едой. Жалованье артисты получали сразу за всю ярмарку. Если лето бывало благоприятно в смысле сборов, то зимою уже не работали, так как в зимнее время работа в холодном, насквозь промерзающем балагане очень трудна.
В такой обстановке протекало детство отца. Домашняя жизнь, балаган деда, булочная дяди, смоленский базар — вот его первые впечатления. Если дед уезжал из Смоленска по делам, то моего отца он с собой не брал. Отец дружил с Костей Емельяновым («человек без костей») и от Кости выучился ряду акробатических упражнений. Лет в восемь отец умел уже ходить на руках, стоять на голове, делать рундат, фифляк[2], кульбит[3].
Балаган он любил и, несмотря на противодействие деда, хотел работать в нем.
Легко себе представить, какое впечатление на деда, отца, Костю и на друга отца, Петю Васильева, их соседа, произвело появление на столбах и заборах объявления о скором приезде в город цирка Фюрера. Заволновались все; конечно, особенно волновались дети. Отец говорил, что ни о чем другом не думал и несколько дней подряд бегал на вокзал узнавать, когда приедет цирк. Наконец, цирк приехал. Когда отец попал на базарную площадь, его удивило, что балаган, который начали строить, был не четырехугольный, а круглый. Посредине врыт был высокий и толстый шест, от которого позже натянули полотняную крышу.
Появление в Смоленске цирка создавало для балаганщиков угрозу конкуренции, и потому понятно, что не только дед, но и другие балаганщики со вниманием следили за работой и сборами цирка.
Отец попал на первое представление с дедом и Петей Васильевым.
Впечатление было ошеломляющее, мальчики только о цирке и говорили, только о нем и мечтали. Каждую свободную минуту они проводили у цирка, стараясь попасть на его представления, а если им это не удавалось, то смотрели в щели.
Деда особенно поразила женщина-жонглерша, которая жонглировала, стоя на большом деревянном шаре. Шар этот она передвигала ногами с разной быстротой, сообразуясь с выполняемым ею номером или с оркестром.
Отец и Васильев были в восторге от наездника. Номер этот проходил так:
Выводили лошадь, на спине которой (как казалось тогда отцу) была продолговатая деревянная крышка, покрытая богатой скатертью. Позже отец понял, что это было панно, прикрытое чепраком. Подавалась лесенка, по ней наездник взбирался на панно. К панно, у холки лошади, была приделана ручка, похожая на руль. Наездник объезжал два-три круга, держась за ручку двумя руками. Лошадь останавливалась, наездник садился на панно, обтирал пот платочком, вынимал из панно руль и вместо руля прикреплял поводок. Пускал лошадь и объезжал круг, держась за поводок. Затем поводок отцеплялся, лошадь пускалась галопом, наездник вскакивал на панно и скакал четыре-иять кругов без руля и поводка. Последний номер вызывал бурные овации зрителей.
Разговоров о номере наездника было много. Одни говорили, что панно намазано клеем, Другие утверждали, что наезднику помогают ездить магниты, которые наводятся на него. (Арена освещалась лампами-молниями с круглыми жестяными рефлекторами для концентрации и усиления света.)
Цирк пробыл в Смоленске около месяца.
Каждую свободную минуту отец и Петя Васильев проводили около цирка. В конце месяца стало известно, что цирк скоро уезжает. На заборах появились афиши о последнем прощальном представлении. Существование в Смоленске без цирка казалось отцу немыслимым. А ему не на что было даже купить билет на прощальное представление. Он ходил угнетенный и подавленный. За месяц он узнал все и всех в цирке, начиная с директора Фюрера, кончая расклейщиком афиш.
В день последнего представления отец все утро толкался около цирка. Днем он зашел к Пете Васильеву, чтобы обсудить с ним, как попасть вечером в цирк. Пети дома не было. В пустой кухне на плите стоял горячий духовой утюг. Отец, не раздумывая долго, схватил утюг и помчался с ним на базар. Угли из него он вытряхнул по дороге в канаву. На базаре он продал утюг первой подвернувшейся бабе и полетел в цирк за билетами.
Вечером они с Петей наслаждались пантомимой «Смоленские сапожники».
Гораздо позже я сам играл в этой пантомиме в одном из провинциальных цирков, и хорошо знаю ее содержание. Любопытно, что название пантомимы меняется в зависимости от того города, в котором она идет. Работает цирк в Туле, — появляется пантомима «Тульские сапожники». Едет цирк в Воронеж, — на афише красуется «Воронежские сапожники».
Содержание этой пользовавшейся большим успехом пантомимы несложно. На арене устанавливается задник домика сапожного мастера. Главные действующие лица: муж и жена — владельцы мастерской, и барон и баронесса — заказчики. Интрига двойная. В то время как муж снимает мерку с ножки баронессы и любезничает с ней, барон ухаживает за женой сапожника. Жена назначает барону свидание. Муж назначает свидание баронессе, Подмастерья-подростки, на глазах которых происходит обмен любезностями, доносят мужу на жену и жене на мужа. Происходит свидание жены с бароном. Внезапно появляется муж. Жена прячет барона в люльку. Приходит баронесса. При появлении жены сапожник прячет баронессу за ширму. Потом по забытым на комоде цилиндру и трости муж открывает барона, а по висящей на ширме шляпке жена обнаруживает баронессу. Начинается всеобщая потасовка, которая кончается общим камаринским.
Когда отец после представления вернулся домой, дед встретил его бранью и побоями. Оказалось, что отец второпях продал утюг женщине, жившей на одном дворе с Васильевыми. Отца сильно избили.
Утром, чуть стало светать, он ушел из дому. Несмотря на ранний час, у цирка шла возня. Отец увидел наблюдавшего за разборкой балагана Фюрера. Невдалеке стояли подводы с цирковым имуществом. Медлить было нечего. Сильно волнуясь, отец подошел к Фюреру и, так как не мог произнести ни слова, неожиданно для самого себя проделал перед Фюрером несколько акробатических упражнений, которым научился от Кости Емельянова. Фюрер поглядел на него с удивлением. Отец так же молча сделал еще несколько фифляков и фодошпрунгов[4]. Фюрер спросил его, где он этому научился. Отец ответил, что перенял упражнения от балаганных и цирковых акробатов, любит цирк и хочет работать в нем. Просил Фюрера взять его к себе.
Фюрер спросил, кто его родители. Отец ответил, что он сирота. Тогда Фюрер сказал, что берет его в ученики и послал отца за вещами. Отец домой не пошел, а стал караулить отъезд цирка у вокзала. Когда же имущество цирка стали грузить в вагоны, отец вместе с другими учениками попал в вагон с лошадьми. Поезд тронулся.
С этого момента началась скитальческая цирковая жизнь отца.
ГЛАВА II
Труппа Фюрера. Калека Анатоль. Обучение грамоте. Цирк Тюрина. Пантомима «Рекрутский набор во Франции». Макс Высокинский. Антре «Бабочка» и «Кукла». Цирк Тюрина в Ростове. Дебют в балагане. Цирк Таурика. Васильямс Соболевский. Обучение игре на разных музыкальных инструментах. Бегство от Таурика. Цирк Черного Кука. Номер с зубником на трапеции. Пантомима «Разбойники». Антре с яблоком и с пирожным Антре «Лошадка». Апач. Шамбарьер. Столкновение Кука с полицмейстером Акробатическое антре со свечами. Прощание с Куком. Отъезд на родину.
Труппа цирка Фюрера без особой радости приняла в свою среду новичка. В первые месяцы отцу пришлось пережить много тяжелого. Пришлось испытать и голод, и холод, и побои.
Фюрер был очень суровый человек. От него нередко попадало не только ученикам, но и артистам и даже его жене. Надо сказать, что подзатыльники, пинки и затрещины в цирковой жизки были явлением обычным, Артисты, занимаясь со старшими учениками, били их, несмотря на то, что те уже выступали в самостоятельных номерах. Ученики же постарше били тех, кто был поменьше и послабее.
Пословица «за битого, двух небитых дают» считалась основой циркового обучения. Колотушки вкоренились так, что уже двадцать лет спустя я и мой брат в полной мере испытали все прелести этого обучения, получая затрещины и от отца, и от других учителей.
В цирке Фюрера, по рассказам отца, ученики вставали в шесть часов утра и работали до поздней ночи. В их обязанности входила помощь домашним Фюрера, репетиции и тренировка в цирке. Они же несли и ночные дежурства в цирковой конюшне. Дежурили они по двое через два дня в третий. Надо было всю ночь наблюдать за лошадьми, следить, чтобы они не запутались ногами, не вырвались из стойла, не попали в стойла кобылиц.
Когда лошадь вырывалась из стойла, ученики бежали будить служащих. Лошадь загоняли в стойло палками. Больше же всего помогали три-четыре ведра воды, которыми ее окатывали.
Отец любил дежурить, так как в эти ночные часы он мог осматривать реквизит цирка. По окончании представления в цирке тушили все лампы, кроме одной, которую ставили (во избежание пожара) на середину манежа на опрокинутое ведро. В конюшне зажигался безопасный шахтерский фонарь. С этим фонарем можно было ходить и в уборные артистов.
Зимою цирк не отапливался, и в нем бывало иногда очень холодно. Тогда ученики раскладывали на середине манежа костер и грелись у костра всю ночь, убегая в конюшню только тогда, когда начинали беспокоиться и шуметь лошади. Дежурства после воскресных и праздничных дней бывали даже выгодны. Утром подростки-ученики обшаривали весь цирк и часто находили в местах для публики оброненные конфеты, пряники, иногда деньги. На деньги покупались молоко и ситный хлеб и устраивался пир.
Во время этих дежурств на конюшие отец мой научился читать и писать. Учителем отца был бывший артист, калека, Анатоль. Когда-то он упал с трапеции, сломал себе руки и из артиста превратился в расклейщика и разносчика афиш. Его обязанностью было брать вечером в типографии отпечатанные афиши и рано утром, с первыми солнечными лучами, расклеивать их в городе на столбах и киосках. Во время же представления он ходил вокруг цирка и кнутом отгонял от стен цирка бесплатных зрителей, которые отдирали доски от стен и ножами прорезали брезентовую крышу цирка (так называемое шапито).
Бедняга Анатоль был предметом насмешек для окружающих. Кисть руки у него висела, как плеть, другой рукой он владел с трудом. Расклеивая афиши, он помогал себе головой, клеил афиши плечами. Немудрено, что он ходил весь вымазанный картофельным клеем, и за ним вечно вился целый рой мух. Как-то в одном городке он решил избавиться от мух и придумал такой способ. Взял на конюшне мешок, прорезал в нем отверстия для глаз и для рук, надел на себя, подвязался веревкой и отправился с афишами по городу. Было раннее утро; шедшие на базар женщины, увидев человека, так странно одетого, решили, что это грабитель и заорали. На их крик прибежал городовой. Анатоля забрали в участок. Ведро с клеем, кисть и афиши выручили арестованного.
Анатоль был очень добрый человек. Иногда лавочники, которым он заносил афиши, давали ему кусочки хлеба или обрезки колбасы. Он никогда не ел их один, а всегда делился с учениками. Если перепадало что-нибудь в сыром виде, то тут же за цирком раскладывали костер, варили и съедали.
В ночные дежурства на конюшне Анатоль учил отца грамоте. Утром, когда отца посылали за покупками, он проверял усвоенные ночью буквы по вывескам. Часто его ругали, что он слишком долго ходил за покупками. Писать отец научился от того же расклейщика афиш.
В цирке Фюрера учеников обучали «каучуку», т. е. умению так изгибать свое тело, чтобы казалось, что у акробата нет костей[5]. Обучали балету, верховой езде, вольтижу. Каждый ученик специализировался в том, что ему больше удавалось. Удачные номера включались в программу. Отец хорошо стоял на руках и выступал в номере, который назывался «пирамида». На арену выносили стол. На стол ставили четыре бутылки
На бутылки ставили стул. На спинку стула отец становился на руках вверх ногами. Подавали еще стул, и так — до шести стульев. Отец стоял на шести стульях, опирающихся на бутылки. Затем выносили двенадцать кубиков, ставили их в два столбика по шести штук, отец становился на них и сбрасывал кубик то с одной стороны, то с другой, балансируя так, как будто спускался на руках с лестницы.
Выступал отец под псевдонимом «юный Адольф».
Отцу не нравилась его работа. Он мечтал о работе на трапеции. Однажды во время дежурства, едва только рассвело, отец по веревке взобрался на трапецию, подвязанную под куполом цирка, и стал раскачиваться на ней. Дежуривший с отцом Анатоль увидел это, стал кричать на отца и требовать, чтобы он слез. Отец послушался. Когда он был уже иа середине веревки, Анатоль нечаянно дернул ее. Отец упал на манеж; упал благополучно, но от волнения потерял сознание.
Об этом случае узнал Фюрер. Ое позвал отца к себе, расспросил и велел повесить трапецию в конюшне, чтобы отец мог упражняться на ней. Отец быстро научился работать на трапеции, так как по утрам до репетиции в пустом еще цирке с ним занимался Анатоль.
В те времена под большие, двунадесятые праздники представления не разрешались полицией, и после репетиции учеников отпускали гулять. В шесть часов все собирались обратно к обеду.
Отец рассказывал, что, уходя днем на прогулку, ученики разбивались на группы в четыре-пять человек, тайком отправлялись на городские окраины и ходили по дворам, давая представления. Собранные в шапку деньги делили на равные части. На них покупали какую-нибудь еду и сладости. Поэтому к обеду приходили не очень голодные и на хозяйскую еду не набрасывались.
До пятнадцати лет ученики жалования за свою работу не получали. Владелец цирка одевал и кормил их. Но как только ученику исполнялось пятнадцать лет, хозяин цирка дарил ему костюм, ботинки, пальто, пару белья, и с этого времени ему полагалось жалованья десять рублей в месяц. Пищу молодой артист попрежнему получал хозяйскую, одеваться же должен был на свой счет.
Трудно сказать, было ли это материально выгодно ученикам. Но переход с ученического положения на артистическое давал известные преимущества, и, конечно, ученики ждали этого момента. К пятнадцати годам отец уже выделялся среди учеников. Умел делать партерные прыжки, исполнял два номера — «пирамиду» и гимнастику на трапеции, хорошо вольтижировал на лошади, участвовал в пантомимах, исполняя комические роли, и при всем том был грамотен, что в те времена было редкостью.
Отец исколесил с цирком Фюрера всю Россию, кочуя с ярмарки на ярмарку. Переезды делались на лошадях. Перед поездками цирковые лошади подковывались и становились обычными лошадьми, возящими тяжести. Как только переезд кончался, они становились неотъемлемою частью циркового представления. Обычно, когда шли представления, лошади были подкованы только на передние копыта. Ковали их так во избежание несчастных случаев на манеже: отрыв подковы мог быть смертельным как для артиста, так и для кого-нибудь из публики.
В одном из городов цирк Фюрера встретился с цирком Тюрина. Этот цирк был богаче и имел сильную труппу. Остановился Тюрин в центре города.
Фюрер работал на ярмарочной площади, у него перед цирком был раус, его артисты наряженными разъезжали на лошадях или с оркестром проходили через площадь, зазывая публику на представления. Представления в цирке Фюрера начинались с десяти часов утра и длились до пяти часов вечера. За эти часы успевали дать пять, а иногда и шесть представлений специально для ярмарочной публики. Программа шла полностью при большом количестве зрителей. Если публики было мало, из программы выкидывали ряд номеров.
Цирк Тюрина давал только вечерние представления; по праздникам устраивали утренники. Артисты Тюрина приходили смотреть представления фюреровского цирка, артисты Фюрера в свою очередь интересовались их работой.
Отец попал на представление в цирк Тюрина и увидел там такие номера, о каких до того не имел и понятия. Особенное впечатление произвел на него клоун Макс Высокинский[6].
В цирке Фюрера клоун выступал на раусе, и потому отец считал клоуна раусным балагуром. У фюреровского клоуна были только два номера. Один из них было антре «Охота». Два артиста изображали волков, клоун играл роль охотника. Волки завывали. Клоун, возгласом подражая выстрелу из ружья, хлопал их по щекам.
Антре кончалось тем, что охотник хватал волков за ноги и валил нх на землю под хохот публики.
Это антре я видел в 1914 году перед войной на ярмарке в балагане.
Клоун Макс был любимцем публики. Метод и приемы его работы были очень интересны.
Макс знал, чем и как сразу захватить публику. На арену он выходил всегда или с плачем или со смехом. Отец говорил, что он за всю свою жизнь не встречал клоуна, который бы умел так заразительно смеяться, как Макс.
«Шпрехом»[7] во время номеров Макса был сам директор цирка Тюрин. Клоун звал его «хозяином», а директор величал клоуна «Иван Ивановичем». Диалог строился на путанице. Выносили клоуну в подарок ходули, — он благодарил за дули. Директор объяснял, как надо пользоваться ходулями, и Макс изображал человека, первый раз ходящего на ходулях. Спотыкался, падал, бегал через весь манеж под хохот всего цирка, пугая сидящую в первых рядах публику. Затем музыка начинала играть «камаринского»; директор предлагал Максу станцовать за бутылку коньяку. И неуклюжий человек внезапно превращался в изумительно ловкого плясуна, проделывающего на ходулях такие замысловатые антраша, такие трудные па, какие впору только самому отменному танцору.
Пораженная публика награждала его аплодисментами, от которых дрожало здание цирка.
После танца директору подавали коньяк. Директор предупреждал Макса, что коньяк действует на ноги; Макс выпивал его, провозглашая тосты. Затем изображал на ходулях пьяного, спотыкался падал. Директор гнал его с арены, угрожая ему сторожем, городовым, урядником, наконец — тещей. Теща производила такое впечатление, что пьяный вскакивал и убегал.
Макс в каждом своем выступлении обнаруживал какое-нибудь мастерство. Он, например, прекрасно исполнял танец на обыкновенной лопате. Проделывал, становясь на нее обеими ногами, самые замысловатые па. У него был номер с павлиньим пером. Он выдувал его из длинной деревянной трубки, оно поднималось высоко в воздух, Макс ловил его кончиком носа и балансировал. Перед публикой был ловкий жонглер.
Основным приемом его работы был прием контраста. Выходил он с плачем и почти непосредственно переходил на смех. Или, как описано, начинал с того, что изображал неуклюжего, неловкого человека и вдруг сразу перерождался в мастера.
Этот прием очень доходчив. На западе он применяется также на эстраде в малых формах. Им пользуются и классики-драматурги.
В номере с пером, чтобы рассмешить публику, Макс сначала втягивал перо в себя, изображал, что проглотил его, вытаскивал перо с комическими жестами из штанов и только потом выдувал, ловил и необычайно ловко им балансировал.
Любопытно отметить, что на таком же методе контраста была основана работа непревзойденного мастера буффонно-клоунского искусства музыкального клоуна Грока, известного Европе и Америке[8]. Оба клоуна никогда друг друга не видали, и оба остановились на приеме, наиболее действующем на зрителей.
У Фюрера не было ни одного артиста, равного Максу, да и программа его представлений была не слишком разнообразна: вольтиж на лошади, человек-змея, «пирамида», клоун, шпагоглотатель, дрессированная лошадь — были обычными номерами. Брат Фюрера был наездник.
Исполнялся у Фюрера очень трудный, исчезнувший впоследствии номер: хождение по слабо натянутой проволоке. Отец рассказывал, что артист ходил, лежал, стоял на коленях и проделывал ряд эволюций на висевшей полукольцом проволоке. Выступал у него также «человек со стальной челюстью». Этого номера мне никогда не приходилось видеть. Исполнитель его зубами перекидывал стулья через себя назад, зубами же поднимал десять поставленных друг на друга стульев, а в конце номера поднимал стул с сидевшим на нем человеком. Кончалось представление пантомимой «Мельники» или «Сапожники».
Труппа Фюрера состояла из его семьи, нескольких учеников и трех-четырех наемных артистов.
В цирке Тюрина, кроме семьи самого Тюрина и учеников, работало пятнаддатъ-восемнадцать человек артистов. Его цирк был обширнее, места для публики были обиты кумачом. На арене расстилалась не подстилка, а большой ковер. Оркестр помещался наверху, над местом входа и выхода артистов.
На арену выпускали одновременно четырех лошадей, они брали барьер, танцовали вальс. В труппе был атлет, работавший с гирями. В конце номера он покрывал голову полотенцем, и на ней разбивали молотом кирпичи. Эквилибрист ходил по туго натянутой проволоке, что было тогда новостью. Наездница работала без руля и стремени, прыгала через ленту или через обруч, заклеенный бумагой. Артисты работали на турнике. Был номер гимнастических упражнений на перше. Так назывался двенадцати аршинный шест, который укреплялся на поясе взрослого гимнаста, Подросток гимнаст взлезал на него и делал на нем ряд упражнений.
В конце программы шла пантомима «Рекрутский набор во Франции»
Слова «во Франции» прибавлялись в афише для цензуры. На самом же деле действие пантомимы происходило в России, солдаты выходили на арену в военной форме екатерининских или павловских времен. Одним из основных лиц пантомимы был урядник.
Эту пантомиму не раз ставили в провинции, мне приходилось участвовать в ней, поэтому я ее хорошо знаю.
Декорация изображала избу старика Горбоносова. Шесть сыновей старика уходят на работу. В их отсутствие приходит урядник с солдатами, чтобы забрать всех шестерых на войну. Старик идет звать сыновей. Те решают обмануть урядника. Один изображает слепого, другой — хромого, третий — немого и т. д. Сначала проделка удается. На радостях сыновья зовут своих невест и танцуют с ними. Урядник раскрывает обман. Старик откупается от него деньгами. Кончалась пантомима кадрилью, которую исполняли сыновья и их невесты.
Цирк Тюрина произвел на отца такое впечатление, чго он решил просить Тюрина взять его к себе. Помог ему опять тот же Анатоль, расклейщик афиш. Он отправился к Тюрину, поговорил с ним, и так как у Тюрина не было артиста, работающего на трапеции, то он решил притти в цирк и посмотреть работу отца. На беду отца Фюрер поставил на афишу «пирамиду». Просить Фюрера о замене было невозможно. Тогда по совету Анатоля отец выкрасил стулья, и работать на них было немыслимо. Фюрер рассердился, но делать было нечего: он включил в программу номер на трапеции.
На другой день Тюрин через Анатоля позвал отца к себе.
Отец был очень рад, но уйти незаметно ему было трудно, и он попал к Тюрину только на следующий день. Тюрин долго расспрашивал отца, — видимо, колебался, — и в конце концов предложил отцу поступить к нему на жалованье в сорок пять рублей на всем своем: свои харчи, квартира, одежда, свой костюм для выступлений и свои ботфорты для пантомим. На переход отца к нему в цирк Тюрин потребовал письменного согласия Фюрера.
Отец не решился сам пойти к Фюреру. Помог ему и на этот раз Анатоль. Фюрер велел отцу притги к нему. Отец отправился на объяснение ни жив, ни мертв. Фюрер расспросил его, какие условия ему предлагает Тюрин, и сказал, что даст отцу те же сорок опять рублей, с тем чтобы он остался у него.
Отец отказался, признавшись, что в другом цирке он рассчитывает большему научиться. Фюрер согласился отпустить его по окончании ярмарки, через три дня.
Фюрер отпустил «Адольфа» с подарками, которые показал собравшимся ученикам.
— Пусть не говорят, что у Фюрера ученики — босяки, — гордо сказал он, поцеловал отца и, расчувствовавшись, расплакался.
Переход из маленького цирка в цирк, работающий в губернских городах, сыграл в жизни отца громадную роль. Правда, ярмарочные цирки, по рассказам отца, были материально более обеспечены, но работать в них было очень тяжело. В весеннее, летнее и осеннее время давали по десять представлений, ели в перерывах, ночью усталые добирались до своих углов и засыпали, как мертвые. Зимою в таких цирках было меньше работы, зато донимал холод. Не помогал ни костер, который жгли посредине арены, ни то, что две артистические уборные (мужская и женская) оклеивались толстым слоем старых афиш, ни то, что досчатые стены цирка засыпали снегом или навозом, чтобы защитить их от ветра. Брезентовая крыша цирка не держала тепла.
Перед своим номером отец с зажженным факелом в зубах взлезал по веревке, согревал огнем трапецию, вытирал ее тряпкой, чтобы не вымазаться во время номера и только после этого начинал работу. Трапеция была железная, и в двадцатиградусные морозы влажные от работы руки подчас прилипали к ней так, что отодрать их можно было только вместе с кожей.
Работая позже в больших цирках, отец увидел, что трапецию плотно обматывали материей. Он удивлялся, как сам он не догадался сделать это. На такой обмотанной трапеции можно работать в любой мороз, обмотка предохраняет и от мозолей.
В ночные дежурства у Фюрера ученики согревались, кто как умел. Заворачивались в ковер, брали с собой для тепла собаку, забирались в ларь с овсом, наворачивали на ноги старые афиши или мешки из-под овса. За пять лет жизни у Фюрера отцу пришлось много перетерпеть от зимней стужи и холода.
В цирке Тюрина были свои порядки. Дневные представления бывали только по воскресным и праздничным дням. Свободного времени было много. В часы же репетиций и представлений вся труппа работала на совесть. Каждый день в цирк в десять часов утра являлся Тюрин и репетировал с лошадьми. Окончив конную репетицию, директор садился в первый ряд, вызывал на арену кого-нибуд из артистов или учеников и, заставляя их проделывать номер, делал им указания.
На другой день после поступления к нему отца Тюрин велел выдать отцу униформу, сам написал на ней его фамилию и сказал, что за целость униформы отвечает отец, и если она пропадет, то стоимость ее вычтут у него из жалованья. Обязанностью каждого артиста было в незанятое его номером время стоять на арене в униформе и помогать своим товарищам. Только клоун Макс Высокинский был освобожден от этого.
Первые десять дней Тюрин не ставил отца на программу. Трапеция была уже повешена, под наблюдением Тюрина отец репетировал каждый день, а на афише имя отца не значилось. Отец был в смущении. Наконец, он решил подойти к Тюрину и спросить его, в чем дело. Тюрин ответил, что торопиться с выступлением не надо что он придумывает для его номера эффектный конец. Так прошло еще несколько дней. Наконец, однажды после представления Тюрин велел отцу надеть трико и выполнить свой номер. Отец исполнил приказание, закончив работу «мельницей» на мускулах. Тюрин подозвал отца и сказал, что придумал для его номера другой финал. Приказал принести из своей уборной два факела, велел отцу взлезть на трапецию, там привязать факелы к ногам, поджечь их, а уже потом проделать на мускулах «мельницу», стараясь вертеться как можно быстрее.
Отец проделал номер, закончив его так, как указал Тюрин.
Когда он, кончил, раздались дружные аплодисменты всей труппы. Тюрин объявил, что через день поставит его на афишу. Артисты хвалили выдумку Тюрина: когда отец крутился, делая мельницу, от зажженных на ногах факелов получалось впечатление огненного круга.
Через день на афише стояло: «Первый выход воздушного гимнаста Адольфа, прозванного «Огненное солнце».
После репетиции отец поблагодарил Тюрина и попросил у него на намять афишу. Тюрин подарил отцу два экземпляра афиши и посоветовал выспаться хорошенько перед представлением.
Отец пошел к себе на квартиру и заснул. Проснулся он от раскатов грома, быстро оделся и иод проливным дождем побежал в цирк. Оказалось, что бурей разодрало на полотнища шапито цирка, а сам цирк залит водой. Спектакль был отменен. Весь следующий день артисты сшивали крышу и убирали цирк. Вечером состоялось представление и первый выход отца. Выход был не совсем удачен. Весь номер прошел хорошо, но когда отец стал делать мельницу с факелами, то отсыревшие от воды факелы горели плохо и того эффекта, какой был на репетиции, не получилось.
На другой день было воскресенье, и номер отца прошел блестяще.
В цирке Тюрина были свои обычаи. Так, все молодые холостые артисты получали вечером, после представления, из кассы пятьдесят копеек на обед. Полтинник этот записывался в счет артисту, и в конце месяца образовавшаяся сумма вычиталась из жалованья. Тогда же удерживались и штрафы, которые налагались за невыполненную работу. При хороших сборах Тюрин уменьшал сумму штрафа, при плохих — увеличивал.
Стараясь разнообразить цирковую программу, Тюрин сам выдумывал новые трюки или создавал номера. Когда он получал предложения от артистов других цирков перейти к нему, он хитрил, писал, что согласен на предлагаемые артистом условия, только просил предварительно подробно сообщить, что делает артист. Получив подробное описание приемов работы, он выбирал то, чего у него не было, и предлагал на репетиции то тому, то другому артисту выполнить новый трюк. Если кому-нибудь удавалось таким образом разнообразить номер, Тюрин задаривал его мелкими подарками, подносил жетоны, что было тогда модным.
Из артистов труппы отцу особенно нравился Макс Высокинский. Он всячески старался сблизиться с ним, оказывая ему ряд мелких услуг. Но Макс был очень неразговорчив и скрытен, и отец стал его побаиваться.
Ни одной репетиции, ни одного выступления Макса отец не пропускал, следил за ним во время его работы, изучая каждое его движение. Репертуар Макса был обширен. Отцу особенно нравился номер с бумажкой и со змеей. Макс выходил на манеж с шамбарьером и спрашивал, что это такое. Ему говорили, что это шамбарьер. Макс начинал хлопать им, делал вид, что концом шамбарьера[9] попал себе по носу, плакал, бросал шамбарьер. Незаметно ему привязывали к концу шамбарьера бумажку в виде бабочки. Макс начинал ловить бабочку, держа шамбарьер одной рукой, а другой пытаясь схватить бумажку-бабочку; при этом он проделывал такие уморительные движения, что цирк не смеялся, а стонал от смеха. Наконец, Максу удавалось поймать воображаемую бабочку. Он держал ее в руке, смотрел на нее наивно и разочарованно говорил: «Бумажка…» и начинал плакать.
Слово «бумажка» он произносил, по словам отца, с какой-го особой неповторимой интонацией.
Выходил, шпрех-шталмейстер, спрашивал, о чем он плачет. Макс отвечал. «Я думал — это бабочка, а это бумажка летает». Шпрех-шталмейстер начинал уверять, что бумажка летать не может. Тогда Макс требовал, чтобы принесли его большой бумажный змей. Брал змея, старался запустить его и запутывался в нитках. Змей не поднимался; тогда Макс просил кого-нибудь из публики подержать змея, пока он распутает нитки. А змей был нарочно сделан тяжелым, фунтов на восемь. Державший очень быстро уставал и невольно опускал руки. Макс приказывал ему держать змея выше, а сам, распутывая нитки, то говорил всякие прибаутки, то сердился, то плакал, то смеялся. Державший змея человек, наконец, не выдерживал, под хохот публики и крики галерки бросал его на арену и уходил на свое место. Вмешивался опять шпрех-шталмейстер и говорил, что он был прав и змей не полетел. Макс отвечал, что ему не нужно было, чтобы змей полетел: единственно чего он добивался, это — чтобы тот господин (он указывал на державшего змея человека) обалдел.
Мастерски исполнял Макс антре с куклой.
Шпрех-шталмейстер сообщал Максу, что его спрашивает какая-то дама. Макс просил пригласить ее на манеж. Выносили на стуле куклу в шляпке и вуали. Макс извинялся перед нежданной гостьей, что заставил себя долго ждать, и спрашивал ее, чем он может ей служить. Кукла в ответ молчала. Макс, продолжая извиняться, целовал у куклы ручку и вдруг, поняв, что это кукла, хохотал и кричал:
— Да это чучело!.. Ха-ха-ха… Хорошо! Я понимаю. Вы надо мной подшутили. Ничего. Теперь я сам подшучу над вами и покажу вам, как кто из вас танцует.
Он схватывал куклу в объятия и под вальс изображал сначала застенчивого гимназиста, в первый раз попавшего на бал, потом купца, танцующего польку после двадцати самоваров и дюжины пива. Имитировал военного, лихо танцующего польку-мазурку; «траченого молью» чиновника и, наконец, дирижера танцев, «много танцующего, но ни черта в танцах не понимающего». Под звуки галопа, выкрикивая французские слова, он бешено носился по арене, падал за барьер, схватывал куклу за ноги и тащил ее через манеж, причем у куклы шея втягивалась аршина на два.
В этих двух номерах Макс проявлял себя как исключительно талантливый мимист. И номера эти заслуженно пользовались огромным успехом у публики.
Наблюдая и обдумывая работу Макса, отец заметил, что Высокинский никогда не заканчивает своего выхода эксцентрико-буффонадными трюками. В конце он всегда давал акробатический номер. Отца это очень заинтересовало, и позже, когда они стали друзьями, он спросил у Макса, почему после «куклы» или «змея» он обязательно возвращался на арену и проделывал мастерски какой-нибудь акробатический номер.
Макс сказал, что «акробатический финал легче запоминается публикой. Смех, по его мнению, иногда может вызвать жалость, а ловкость всегда приводит в восторг. Лучше, когда публика, уходя из цирка, говорит: «какой клоун ловкий» чем, когда она замечает: «какой клоун смешной…»
Приходил Макс в цирк раньше всех и уходил последним. Придет в свою уборную задолго до начала представления, сидит, о чем-то думает. А то загримируется, смотрит на себя в зеркало и то заплачет, то засмеется. Иногда пройдет в конюшню и делает упражнения на кольцах. Ему уже выходить, а он все упражняется и только в момент выхода на арену, как угорелый, бросается в уборную. Часто он опаздывал к выходу, но Тюрин его никогда за это не штрафовал. Иногда Макс забывал нужный реквизит и потом потихоньку от публики просил принести его.
Следя так упорно и внимательно за работой Макса, отец знал все его номера и тайком стал подражать ему, плакать и смеяться, как Макс. Однажды Тюрин заболел, и некому было выступать с Максом. Отец несмело, очень волнуясь, подошел к Высокинскому и сказал: «Господин Макс, я думаю, что я смогу отработать с вами. Я изучил все, что вы делаете».
Мякс предложил ему прорепетировать один из номеров. Убедившись, что отец номер знает, Макс просил его говорить громче.
Отец вышел на арену в большом волнении. По окончании номера Макс похвалил его, но спросил: «Зачем только ты так орал?»
Оказалось, что от волнения отец не говорил, а кричал и так натрудил себе горло, что на следующий день не мог говорить.
После этого случая Макс стал относиться к отцу с видимой симпатией. Когда в одном городе отцу не сдавали угла для жилья, так как у него не было никаких документов, Макс предложил ему ночевать в его уборной. Тюрин не возражал. В лице отца в цирке всегда был ночной дежурный. (У Тюрина ученики не сторожили, в цирке был специальный сторож и по очереди дежурили кучера.)
Отец, поселившись в уборной Макса, стал наблюдать за его реквизитом, подновлял его, красил, упаковывал и распаковывал при переездах. В свободное время он оклеил уборную Макса старыми афишами, выложил ему пол досками и досками защитил крышу от дождя.
Постепенно все артисты, раньше уносившие домой свои костюмы, стали оставлять их с разрешения Макса в максовой уборной.
В дни, когда не было представлений, Высокинский звал отца на прогулку, потом уводил его домой, где жена Макса кормила их обедом. Во время одной из таких прогулок отец чистосердечно покаялся Максу, что знает все его номера и очень хотел бы перейти на амплуа клоуна. Тут же в лесу он показал Максу все, чему он научился от него.
Макс очень смеялся и предложил отцу поговорить с Тюриным, чтобы отца выпускали в дневных представлениях. Сказал отцу, что ему надо будет придумать свой номер, чтобы артисты не говорили, что он копирует Макса и что Макс работает лучше.
На другой день после репетиции Высокинский позвал отца и предложил ему обдумать и проработать клоунско-акробатический номер без слов. Недели через две номер с помощью Макса был готов и прошел с успехом. Макс воспользовался тем, что отец хорошо работал на руках, заставил его проделать «пирамиду» в костюме клоуна и под музыку. Номер отца, как клоунско-акробатический номер, был включен в первое отделение вечерней программы. Сам Макс выступал во втором отделении.
С этих пор Высокинский все чаще стал привлекать отца к своей работе, причем отец исполнял обязанности шпрех-шталмейстера. Отцу этого было мало, — он стал копить деньги и мечтать о том, чтобы летом перейти в другой цирк на амплуа клоуна.
Зимой Тюрин обычно выбирал большой город и строил цирк с деревянной крышей. Стены такого цирка бывали из двойных досок, в промежуток насыпалась земля. В боковых проходах ставились две печки, третью печку ставили на конюшне. За два часа до представления печки топились, для сохранения тепла в них клались кирпичи. Несмотря на это, работать все же было очень холодно. Иногда Тюрин снимал большой пустующий сарай для засыпки хлеба. Публика сидела тогда не вокруг манежа, а по бокам его. В таком здании было теплее, но для работы оно было менее удобно, и артисты не любили цирков-сараев.
Макс советовал отцу учиться играть на одном из музыкальных инструментов. Отец с детства хорошо играл на губной гармошке. Случайно ему удалось купить подержанный корнета-пистон, и он стал учиться играть на нем.
Прозимовав в Елисаветграде, Тюрин решил к пасхе переехать в Ростов. Там к этому времени должна была открыться ярмарка. По приезде в Ростов Тюрин построил свой цирк между городом и ярмаркой, усилил ламповое освещение, купил новый ковер, увеличил оркестр. Этот цирк по размерам своим был гораздо больше елисаветградского; но крыша у него была брезентовая.
Первое представление в Ростове состоялось на второй день пасхи в час дня.
Для завлечения публики перед зданием цирка играл цирковой оркестр. В программе участвовала вся труппа. Цирк был переполнен. Второе представление дали с таким же успехом в три часа. Хотели в пять часов дать третье представление, но по настоянию архиерея в эти часы были запрещены всякие увеселения, так как шла церковная служба. Полиция предупредила Тюрина, что на вечернее представление прибудет наказной атаман, который приказал оставить для него целый ряд мест в партере. К восьми часам вечера все билеты на вечернее представление были проданы, а желающих попасть в цирк было много.
Собравшаяся публика хлопками и топанием ног выражала нетерпение. Оркестр играл одну вещь за другой. Наконец, явился атаман и несколько человек военных.
Все артисты имели шумный успех. Отец выступал как клоун с акробатическим номером, и ему сильно аплодировали.
Во втором отделении выступал Макс Высокинский. По словам отца, он был в большом ударе. Работал так, что цирк стонал от смеха. Когда он кончил, публика потребовала биса.
Тюрин думал, что публика похлопает и успокоится и приказал вывести лошадь для наездницы. Но публика неистовствовала, требуя Макса. Лошадь увели. Вышел Макс и под несмолкаемые аплодисменты проделал антре на ходулях.
Едва началось третье отделение, как публика начала кричать: «Макса!.. Макса!..».
Тогда, по соглашению с Максом, вышел Тюрин и заявил, что, идя навстречу желанию публики, артист Макс согласился выступить и в третьем отделении.
Во втором антракте отец с женою Макса сбегали к ним на квартиру и принесли ему другой костюм. Макс вторично загримировался и исполнил номер «пародия на танцы».
Этот номер был триумфом Макса. По окончании этого номера публика никак не могла успокоиться и требовала новых номеров. Тогда Макс снял парик, вышел на арену и сказал:
— Господа, простите, больше я выступать не могу, я устал, — и убежал в свою уборную. Отец бросился за ним следом. В уборной Макс залпом выпил топленого молока, которое всегда для него приготовляла его жена, и сказал:
— Ну и публика. Прямо с ума сошла. Правда, что сегодня и я был в ударе.
Тюрин был в восторге и от удачных спектаклей и от полных сборов. Он усиленно благодарил Макса.
На третий день Тюрин выпустил громадную афишу, извещавшую о том, что клоун Макс выступает только в вечернем представлении, и поднял, цены на билеты. Макс все больше и больше завоевывал симпатии публики, и по Ростову шли о нем усиленные толки. В день его бенефиса, по словам отца, его буквально закидали цветами. После бенефиса Тюрин устроил в честь Макса ужин всей труппе. По инициативе отца, труппа в складчину преподнесла Максу серебряный жетон с надписью: «Нашему любимцу». На ужине растроганный Макс сказал, что подарок артистов ему так дорог, что он с ним никогда не расстанется. Тюрин объявил на ужине, что по желанию Макса цирк из Ростова переедет в Новочеркасск, а оттуда поедет в Оренбург и, далее, в Закаспийский край. Предупредил, что по Закаспийскому краю они поедут сухим путем. Если же кто из артистов труппы ехать не пожелает, то пусть заявит об этом еще в Ростове,
Как раз в это время в Ростове был директор большого провинциального цирка Таурик. Свое пребывание в Ростове Таурик объяснял тем, что он набирает себе труппу на Кавказ. Настоящей же целью, которую он скрывал, было переманить к себе Высокинского. Оказывается, что о клоуне Максе знали, и как только цирк Таурика приезжал куда-нибудь, публика спрашивала, будет ли выступать клоун Макс. На Кавказе Макс был любимцем циркового зрителя, Таурик предложил Высокинскому большее жалование, но Макс не согласился перейти в другой цирк, потому что Тюрин по его просьбе ехал в Туркестан, куда Максу давно хотелось попасть.
Разговоры Макса с Тауриком происходили в присутствии отца на квартире Макса. Отец набрался храбрости и предложил Таурику свои услуги: в качестве клоуна. Макс со своей стороны рекомендовал Таурику взять отца.
В один из последующих дней Таурик пришел в цирк посмотреть, как работает отец. Отец выступал только в том акробатическом номере, который ему составил Макс. После представления Таурик сказал, что это не то, чего ему хотелось бы. Отец ответил, что может исполнять номера «танец на лопатке» и «хождение на ходулях». Таурик захотел посмотреть, как отец делает эти номера.
Отец пошел к Максу, рассказал ему о своем разговоре с Тауриком, признался, что последние полгода только и делает, что репетирует все номера Маиса и что очень хотел бы показать их ему и Таурику.
Макс долго молчал, потом сказал:
— Пойми, если ты будешь показывать работу только мне и
Таурику и при этом не будет публики, ты провалишься. Публика — залог успеха. Почему у меня в Ростове такой успех? Цирк большой. Публики — море. Она заражает. Смех — вещь необходимая. Человек любит смеяться, и когда он видит, что кто-нибудь смеется, то старается сам пристроиться к чужой веселости. Не знаю, что тебе придумать. Знаю, что из моего репертуара ты умеешь танцовать на лопате, ходить на ходулях, делать номер с пером. Умеешь все, кроме танца с куклой.
Отец ободрился его дружеским тоном и признался Максу, что он уже зимою сшил себе такие же костюмы, в каких выходил на работу Макс, и сделал реквизит.
— Ну что же — сказал Макс, — завтра воскресенье. Мы тебе устроим дебют. В цирке сделать этого нельзя, неудобно. Я не хочу, чтобы над тобой смеялись, если ты сработаешь плохо.
А выступить тебе надо непременно перед публикой. Так я вот что надумал: мы с Тауриком пойдем в один из балаганов на ярмарке, и там ты нам покажешься.
На этом и порешили. Отец не спал всю ночь, обдумывая предстоящий дебют. На рассвете он встал, взял ходули и лоиатку и пошел в цирк. Там надел костюм и загримировался под Макса. Затем разбудил кучеров, дал им рубль и попросил посмотреть, похож ли он на Макса. Он проделал перед кучерами все номера. Работа отца им понравилась. Отец, радостный, пошел в уборную Макса, лег и заснул. Вдруг чувствует, его толкает кто-то. Раскрыл глаза — Макс. Зовет: «Иди, иди скорее, Таурик уже ждет».
Отец быстро вскочил, схватил свои костюмы и реквизит и пошел за Максом. Втроем они двинулись на ярмарочную площадь к балаганам. Вокруг шумела толпа зевак. Они едва могли пробиться ко входу в балаган. Хозяин балагана встретил их приветливо. Макс рассказал ему, в чем дело. Балаганщик пригласил их за кулисы и предложил отцу «разговаривать» с ним во время номера, т. е. быть его «шпрехом». Отец просил выпустить его во втором представлении, чтобы он мог обдумать, как вести номер и подготовиться.
Когда отец во втором представлении вышел на сцену, он растерялся. Он привык к манежу; и на сцене ни разу не выступил. Публика, же, увидев его, закричала: «Макс! Макс! Браво! Бис!»
Это придало отцу храбрости. Он проделал поочередно все номера, вводя в них им самим придуманные трюки, основанные на акробатике. Когда он кончил, его костюм был мокрый, как после купанья. После каждого номера публика: кричала: «Браво, Макс! Браво!»
Макс обнял отца, поцеловал его и сказал:
Не думал я, что ты такой способный. Я бы с тобой раньше занялся. Вижу, что ты себе сам дорогу пробьешь.
Таурик сказал, что берет отца и предложил ему восемьдесят рублей в месяц жалованья. Макс заметил, что за такую работу этого жалованья мало и что надо отцу положить сто рублей. Сошлись на ста рублях. Отец был в восторге. Таурик спросил отца, есть ли у него деньги на дорогу. У отца было рублей шестьдесят сбережений. Таурик дал ему еще двадцать пять рублей и велел через три дня приехать во Владикавказ.
Таурик уехал.
На другой день отец купил за десять рублей жетон, выгравировал иа нем: «Дорогому учителю от Адольфа-Сережи» и преподнес Максу.
Отец не знал, как ему быть с Тюриным, как сказать, что он через три дня уходит от него. Макс советовал отцу уехать тайком ночью. Отец не хотел делать этого, тем более, что у него» не было паспорта. Тогда Макс предложил говорить с Тюриным при нем. Вечером после представления Тюрин стоял с Максом. Отец подошел к ним и сказал Тюрину, что хочет уйти от него. Тюрин рассердился: — Мне теперь нужны холостые артисты для Закаспийского края. Я тебя к себе не звал, ты сам ко мне в труппу напросился. Не пущу тебя никуда, а удерешь, вытребую тебя обратно этапом через казачьего атамана.
Отец испугался и ушел от Тюрина со слезами на глазах.
Во время объяснения отца с Тюриным Макс молчал, но из цирка ушел вместе с Тюриным.
Отец всю ночь проплакал. Утром пошел к Максу. Оказалось, что Макс ушел с женою гулять за город. Отец еще больше расстроился. Пошел в цирк. В это время Тюрин репетировал с лошадьми. Он прервал репетицию, подозвал отца и, спросил его:
— Когда хочешь ехать?
Отец растерялся, молчит.
— Благодари Макса. Он уговорил меня отпустить тебя. Когда едешь?
— Послезавтра, — сказал отец.
— Хорошо. Тогда завтра твой бенефис. Будешь работать в трех отделениях все, что умеешь.
У отца от волнения подогнулись коленки. В шесть часов вечера вернулся Макс. Отец бросился к нему с рассказом. Макс сказал, что обо всем знает и что это ему удалось уговорить Тюрина дать отцу бенефис.
На другой день появилась афиша: «Бенефис клоуна-гимнаста Адольфа».
Но отцу не повезло в его первый бенефис. С утра лил сильный дождь. Прекратился он только к шести часам вечера. Сбор был неполный, хотя и неплохой. Макс настоял, чтобы отец проделал номер на ходулях. Во время этого номера Тюрин и все артисты вышли смотреть и по окончании номера хвалили отца.
В третьем отделении Тюрин преподнес отцу серебряный жетон с надписью. «Прилежному молодому артисту от директора цирка», а Макс подарил ему серебряные часы с цепочкой и надписью «Славному Адольфу, будущему знаменитому клоуну от Макса Высокинского». После представления Тюрин дал отцу семьдесят пять рублей и сказал:
— Это тебе с бенефиса. Пусть тебе Таурик столько даст.
Макс устроил на манеже ужин для всей труппы. Беседа шла до утра.
— Пьянки не было, — вспоминал об этом ужине отец, — так как сам Макс не пил ни водки, ни вина. Все было очень, очень скромно.
На ужине была даже жена Макса, которая вообще редко бывала в цирке. Она подарила отцу ею самою вышитую рубашку. Утром отец пошел в город и купил себе брюки, тужурку и шляпу того фасона, какой носил Макс. Обедал он у Высокинских. На прощанье Макс дал отцу много ценных советов и спросил его, как он назовет себя, выступая у Таурика.
— Адольф-Макс, — ответил отец.
Впоследствии, когда отца уже считали хорошим клоуном, про него так и говорили: «Это клоун Адольф-Макс». Максов же в подражание Максу Высокинскому развелось очень много. Едва ли не каждый клоун называл себя Максом.
На другой день вечером отец уехал. Провожали его Макс с женой. Жена Макса принесла отцу целый сверток еды, а Макс подарил ему два своих старых клоунских костюма.
Расставаясь, все трое так плакали, что отца потом его шутники по вагону спрашивали: «Вас кто провожал? Отец с матерью?»
Отец приехал во Владикавказ и прямо с вокзала отправился в цирк. По дороге он увидел афиши, извещающие об открытии цирка. На афише крупными буквами извещалось о выступлении клоуна Макса. В самом цирке шла суета. Первое представление было назначено на следующий день. Таурик обрадовался его приезду и сразу познакомил его с некоторыми артистами. Отец заметил Таурику, что именовать его в афишах Максом неудобно, и просил писать «Адольф-Макс». Таурик обещал изменить имя, ио обещания своего не исполнил. Отцу помогли найти комнату. Он взял с вокзала свой багаж и отвез его в цирк. В цирке ему указали уборную артистов, и он приготовил все, что было нужно для выступления на следующий день.
Рано утром он проснулся, пришел в цирк тогда, когда в нем еще никого не было, прошел в уборную, проверил весь реквизит и решил проверить еще раз всю свою работу. Надел старенький костюм Макса, загримировался и начал проходить номер с ходулями. Неожиданно в цирк пришел Таурик. Он очень одобрил работу отца и сговорился с ним до спектакля прорепетировать все его номера, так как шпрехом на представлении должен был быть сам Таурик.
Во время репетиции он велел отцу звать его не «хозяин», а «господин директор». Отца же сам называл «господин клоун». Отец долго не мог привыкнуть к такому обращению и все ошибался. Тогда Таурик вечером перед выходом крепко перевязал отцу тоненькой бечевкой палец. Палец отекал и неприятное ощущение напоминало отцу, что надо говорить «господии директор».
Первое представление дало хороший сбор, но аншлага не было. Отец выступал во втором отделении последним номером. Он так волновался, что не помнил потом, как шло представление. Перед его номером объявили, что выступает клоун Макс. Отца встретили бурными аплодисментами.
Выход свой отец начал полечкой иод музыку, проделал под аплодисменты акробатические упражнения со стульями и с кубиками. Затем вышел Таурик и подал ему ходули. Номер этот отец провел очень хорошо под дружные аплодисменты и крики «бис». Только от волнения он несколько раз ошибался и называл Таурика «хозяином».
Когда он вернулся в уборную, незнакомые еще с ним артисты поздравляли его с удачным выступлением. Таурик пригласил его к себе ужинать. Отец, понятно, принарядился, надел часы с жетонами. Когда ему за ужином предложили выпить, он отказался. Ему налили пива. За ужином разговор шел только о цирке. Артисты расспрашивали отца об условиях работы в цирке Тюрина. На рассвете разошлись, большинство артистов было сильно навеселе. Оказалось, что отцу до квартиры было по дороге с наездником-жокеем Васильямсом Соболевским (впоследствии Соболевский гремел за границей и был собственником цирка, в котором служили отец, брат Костя и я).
Соболевский предупредил отца, чтобы он не был «шляпой», так как Таурик любит платить мало. Говорил, что отец нужен Таурику, и хвалил его за выступление. Рассказал, что он ученик Таурика, а теперь получает сто двадцать рублей жалованья. Отец рассказал ему о себе.
На другой день отец пришел в цирк, когда все были уже в сборе. Таурик предложил ему денег и сказал, чтобы за всем, что ему будет нужно, он обращался прямо к нему, Таурику, а не к артистам. Назначил на следующий день репетицию с отцом, сказал, что покажет ему несколько новых номеров.
Вечером отец решил посмотреть представление и спросил Таурика, нужно ли ему одеть униформу. Таурик ответил, что на первое время освобождает отца от униформы, а в дальнейшем видно будет. Отец пошел смотреть в места для публики.
Сбор был хороший, но аншлага опять не было. В программу входили номера, которых отцу еще не приходилось видеть. Выступал дрессировщик с двадцатью собаками. Они ходили на задних лапах, прыгали через барьер и т. д. Понравилась отцу наездница. Сначала она протанцовала на спине лошади, затем на манеж принесли и доставили по обе его стороны два мостика. Лошадь пробегала под мостиком, а наездница вспрыгивала на него и, пока лошадь делала круг, проделывала на нем гимнастическое упражнение. Как только лошадь опять приходила к мостику, наездница соскакивала к ней на спину и неслась к другому мостику, на котором опять становилась на руки и изгибалась.
В труппе Таурика была женщина-геркулес Мария, работавшая с двухпудовыми гирями не хуже мужчины. Она поднимала и носила по арене трех униформистов. В конце номера ей клали на грудь доску, и она держала на себе двадцать человек из публики, Исполнялся в цирке номер «хождение через весь цирк по проволоке». Артист взбирался с зонтиком в руках по наклонной проволоке и, когда добирался доверху, то спускался оттуда, скользя назад. Нарочно делал вид, что теряет баланс, потом выравнивался. Ловили его в ковер у конца проволоки четыре унинформиста. Предохранительных сеток внизу в то время еще не было.
Отец выполнил свой номер с успехом и работал увереннее и спокойнее, чем накануне. Окончив номер, он быстро разгримировался, чтобы пойти посмотреть, как будет выступать Васильямс Соболевский. Впечатление было ошеломляющее, отец, по его словам, впервые увидел первоклассную жокейскую езду.
Соболевский выехал на белой лошади. На ходу он снял с нее жокейское седло и сделал несколько кругов на неоседланной лошади стоя, держа седло в руках. Его высокий рост и красивое сложевие усиливали эффект. В конце номера оркестр играл галоп в быстром темпе, лошадь выбегала неоседланная, без уздечки, с распущенной гривой и быстро неслась по кругу манежа. Соболевский бежал к ней, хватался за гриву, вскакивал на нее и, сидя спиной к публике, лицом к середине манежа, мчался, придвигаясь все ближе и ближе к крупу лошади. Лошадь неслась уже в карьер, казалось ездок сейчас упадет. Было такое впечатление, что он держится за воздух. Наконец, он соскакивал на землю, перерезал бегом манеж и опять вскакивал на лошадь сразу обеими ногами. Так он вспрыгивал и соскакивал раз шесть подряд под гром аплодисментов.
Отец был в восторге.
На другой день на репетиции Таурик спросил отца, на каких инструментах он играет. Отец сказал, что играет на губной гармошке, сопелочке и корнет-а-пистоне. Таурик посоветовал отцу как можно скорее выучиться играть хотя бы еще на четырех инструментах. Обещал, как только он сделает это, проработать с ним интересный номер. Отец купил маленькую гармошку, флейту, балалайку, и окарину[10], и очень быстро научился играть на этих инструментах народные мелодии.
Новый номер Таурика заключался в следующем. Отец выходил на арену, играя на балалайке. Подходил Таурик, запрещал отцу играть и отнимал у него балалайку. Отец плакал. Когда же Таурик отходил от него, отец вынимал из кармана сопелку и начинал играть на ней. Таурик возвращался и отнимал сопелку. Отец плакал опять и вынимал флейту. Так происходило со всеми инструментами. Под конец отец вынимал из кармана маленького оловянного петушка, хлюпал себя по бедрам и кукурекал. Как только Таурик подходил к иему, он делал вид, что бросил петушка в публику, отбегал на другую сторону манежа и там опять хлопал крыльями и кукурекал. Директор бросался к нему. Отец убегал от него и прятал петушка под колпак. Тогда директор миролюбивым тоном спрашивал у него, что это у него за игрушка, и предлагал играть вместе в «петушка и курочку». Отец соглашался и, подражая петуху, ухаживал за курочкой, кружился вокруг нее, кукурекал. Затем роли менялись, директор изображал петушка, отец — корочку. Кукурекнув один раз, директор уходил с арены, унося с собой оловянного петушка. Отец продолжал изображать курицу, потом, заметив, что петуха– директора нет, начинал плакать. Приходил униформист и спрашивал, о чем он плачет.
— Петушок улетел!., отдайте петушка, — плакал отец. — Не отдадите?., не отдадите?., хорошо… у меня еще есть.
Вытаскивал из кармана трещотку и бегал по манежу, потрясая ею, а за ним гналась вся униформа, наконец, убегал и в дверях делал сальтомортале[11].
Номер этот имел успех у публики. Обрадованный отец написал Максу подробное письмо о своей жизни и работе. В конце письма он благодарил Макса за доброе отношение к нему.
Цирк Таурика пробыл во Владикавказе до осени. Однажды отец пришел к цирку и видит, что у цирка стоит много повозок, запряженных лошадьми. Оказалось, что у цирка Таурика расположился цирк «Черного Кука», только что сделавший переход от Тифлиса до Владикавказа и теперь направлявшийся в Полтаву.
Труппа Кука с директором во главе пришла на представление цирка Таурика. От артистов отец узнал, что Кук после Полтавы летом едет по маршруту Брянск, Вязьма, Минск, Смоленск. Когда кто-то из артистов произнес слово «Смоленск», у отца забилось сердце. Он вспомнил мать, отца. Стал раздумывать о том, живы они, или нет. Ни номера дома, ни фамилии хозяина дома, где они жили, он не знал и потому не мог написать им. После представления он ушел домой, но спать не мог, полез в свой сундук, пересчитал деньги. Денег у него оказалось около ста рублей. Тут же ночью отец бесповоротно решил ехать домой к матери.
Утром отец побежал к цирку. Лошади уже ушли на вокзал. Кук с частью труппы закусывал в буфете, другая часть артистов еще спала в местах для публики. Кук подозвал отца и на ломаном русском языке похвалил его работу. Жена Кука, знаменитая наездница Мария Годфруа, была немка, в труппе было несколько артистов, говорящие по-немецки. У Таурика по-немецки говорил один только дрессировщик собак. Отец попросил дрессировщика спросить Кука, правда ли, что он летом собирается ехать в Минск и Смоленск. Кук ответил утвердительно.
Отъезд труппы Кука назначен был на вечер.
Отец ходил по цирку и не знал, что ему делать. Состояние было такое, что он поехал бы домой, чего бы это ему ни стоило. В это время пришел Соболевский, с которым отец успел подружиться. Отец рассказал Васильямсу, как мучительно хочется ему повидать отца с матерью.
— Я слышал, что Кук едет в Смоленск, — сказал Соболевский, — ты бы попросил его взять тебя к себе в цирк. Я увереи, что он возьмет с радостью.
Отец ответил, что сам не рискнет заговорить с Куком. Соболевский предложил отцу свои услуги для переговоров. Отец обрадовался. Соболевский ушел. Через короткое время Соболевский вернулся и сказал, чтобы отец через час был на вокзале, так как Кук с охотой берет его к себе на службу.
Отец пошел на вокзал. Кук встретил его очень любезно, сказал, что с удовольствием возьмет его к себе и жалование ему даст большее, если увидит, что отец старательный работник; но что цирк в Полтаве будет готов только через месяц. Пока же ему нужно честное и твердое обещание отца, что он не надует его и действительно приедет через месяц в Полтаву. Отец дал требуемое обещание, но со своей стороны поставил условием, чтобы на афишах стояло не «Макс», а «Адольф-Макс». Кук подумал и сказал коротко: «Хорошо. Пусть будет Макс-Адольф».
Отец не возражал. Кук предложил отцу денег на дорогу. Отец отказался. Тогда Кук повел его в буфет и для крепости договора заставил отца выпить две рюмки коньяку и дать честное слово, что он его не подведет. Отец дал слово и выпил коньяк.
Прошла неделя. Началась дождливая осень. Сборы были неважные. Таурик предложил артистам тянуть жребий, кому первому устраивать бенефис. Соболевский отказался от жеребьевки, отмазался и отец. Первые бенефисы были отданы артистам, пользующимся меньшим успехом у публики. Бенефисы Соболевского и отца прошли при полных сборах. Отец получил от Таурика в подарок серебряные вызолоченные часы, а от Соболевского и от труппы — жетоны.
На бенефисе отец первый раз выступил в номере «Пародия на танцы». Номер этот был не из удачных. Соболевский сказал отцу откровенно, что танцует он неважно, и номер исполняет не свободно, а как-то натянуто. Отец очень огорчился и решил во что бы то ни стало заняться обработкой номера.
Таурик решил через десять дней дать прощальное представление и переехать в Тифлис. Отец не знал, говорить или не говорить Таурику, что он уходит от него. Вася Соболевский («Васильямс» ставилось на афишу для красоты) советовал отцу уехать тайком, говорил, что добром Таурик отца не отпустит, а из-за отсутствия паспорта может повести все дело так, что отца отправят на родину этапом мак беспаспортного.
Порешили они на том, что в один из дней к вечернему представлению отец пришлет письмо, что он внезапно заболел, а сам в это время поедет на вокзал к восьмичасовому поезду, на котором и уедет. Утром он будет уже далеко от Владикавказа, а днем Соболевский скажет, что Сережа тосковал по дому и собирался домой.
За два дня до прощального представления отец утром унес из цирка костюмы и реквизит, днем уложился и попросил хозяйку свезти вещи на вокзал. К представлению послал письмо о своей болезни и покинул комнату, оставив на виду на всякий случай старенький клоунский костюм.
В большом волнении ждал отец отхода поезда. Успокоился только тогда, когда порядком отъехали от Владикавказа. Жаль отцу было расставаться с Васей Соболевским, очень они с ним сошлись. Расставаясь, дали они слово писать друг другу.
В Полтаве на вокзале отец хотел нанять извозчика, но тот, не зная слова «цирк», никак не мог понять, куда, в какую «церковь» надо везти. Отец был в недоумении и начал уже волноваться, как вдруг другой извозчик понял, в чем дело, и сказал, что на базарной площади строят «большую комедию», которую, вероятно, и нужно отцу.
Подъезжая к площади, отец увидел, что здание, цирка еще без крыши. В цирке он сейчас же наткнулся на Кука. Тот рассказал, что цирк откроется только через пять-шесть дней. Отец познакомился кое с кем из артистов, потом нанял себе комнату и отправился осматривать город.
По дороге ему попалась на глаза театральная афиша. Отец ни разу еще не был в театре. Вечер у него был, к счастью, свободен, он купил билет и вечером с восторгом смотрел спектакль. К сожалению, я не помню, какая шла пьеса, но игра артистов так понравилась отцу, что он хотел тут же купить билет на завтрашний спектакль; это ему не удалось, так как касса была закрыта. Дома его ждала неприятность: хозяин комнаты спросил у него паспорт для прописки. Паспорта не было. Не обнаруживая своей тревоги, отец сказал, что паспорт у него в багаже на вокзале. Утром пошел в цирк и узнал, что плотники поссорились с подрядчиком. Кук бегал по цирку, ругался, грозил, но его никто не понимал. Плотники же наотрез отказались работать.
Наконец, в полдень нашли шестерых плотников, и по просьбе Кука артисты стали помогать им пилить доски, поднимать их на крышу и прибивать. Вся труппа работала так целый день. Вечером условились, что молодежь придет на работу с рассветом, а старики к девяти часам утра. Отец так устал, что проснулся только в восемь часов. Когда он пришел в цирк, работа была в полном разгаре. В двенадцать дня на пролетке к цирку подъехал полицмейстер. Вызвали Кука. Полицмейстер осмотрел постройку и велел сделать ложу для начальства. Узнав, что нехватает плотников, он пообещал на другой день с утра прислать для работы арестантов. Действительно, утром, под конвоем пришли тридцать человек арестантов, которые и выполнили оставшуюся работу.
Отец отправился искать себе комнату и нашел такую, где у него не потребовали паспорта.
Через несколько дней цирк был готов. Отцу еще не доводилось видеть цирк таких размеров. Оркестр помещался наверху. В первом ряду партера скамьи были со спинками. Во втором ряду с обеих сторон устроили по три ложи. Против оркестра наверху сделали ложи для начальства. Галлерея шла амфитеатром, и вход в нее был с улицы. Пол цирка был деревянный. Под галеркой устроили проход для артистов. При цирке был буфет. Три первых ряда скамеек покрыли коврами, остальные обили кумачом. В цирке было четыре печки. Одна печка согревала фойе. Большая конюшня отапливалась двумя печками. Уборные для артистов были удобные и обширные.
Открытие состоялось при полном сборе. Очень многие ушли, не получив билетов. Присутствовал полицмейстер с целой свитой полицейских чинов.
Первое отделение началось с того, что артисты в очень красивой униформе выстроились в два ряда. Директор Кук вышел во фраке и раскланивался при дружных аплодисментах публики. Отец должен был выступать в третьем отделении, а в первом он стоял в униформе. Программа была прекрасная. Выступала превосходная плясунья на канате. За ней выходил ловкий гимнаст, работавший на швунговых кольцах (этого номера сейчас уже не знают). Под купол цирка вешались на длинных веревках кольца. На край барьера клали большую подушку, диаметром в четыре аршина. Гимнаст повисал на кольцах, раскачивался, проделывал в воздухе различные эволюции, затем отрывался от колец, делал сальтомортале и попадал на подушку ногами. Так как кольца были на длинных веревках, то выходило, что он перелетал через всю арену и сальто делал в воздухе. Зрелище это было очень эффектное.
В труппе Кука была прекрасная наездница, которая не только перелетала через ленты и обручи, но в такт музыки, стоя на лошади, прыгала через скакалочку и подражала другим детским играм.
Клоуны Кука выходили в полосатых костюмах, в париках с тремя чубами. Клоунов было двое. Сделав несколько клоунских упражнений, они перекидывались шестью клоунскими колпаками, ловя колпаки головой. Наконец все колпаки попадали к одному из клоунов, он бросал их другому, а тот ловил на голову, на руку, иа ногу и, наконец, на зад. Окончание ловко проделанного номера всегда вызывало смех у публики.
Этот (несправедливо забытый) номер я сам видел в очень хорошем исполнении.
В цирке Кука отец впервые познакомился с работой на турнике. Работало на нем трое артистов, причем один выступал в клоунском костюме. Клоун сначала неуклюже подражал своим ловким товарищам, срывался с турника, влезал на него со спины униформиста, падал, а затем делал на нем замечательно ловко ряд упражнений, кончая, мельницей. Цирк, по словам отца гремел от рукоплесканий. (Любопытно, что в этом номере — опять прием контраста.)
В цирке Кука отец увидел впервые номер на трапеции с зубником. В конце номера гимнастка прицепила к трапеции крючок, к которому была приделана маленькая кожаная подушечка. За эту подушечку артистка ухватилась зубами, повисла на ней, потом стала быстро крутиться вокруг трапеции.
Кук выступал в первом отделении с дрессированными лошадьми. Лошади у него были очень красивые и прекрасно дрессированные. Кончил он свое выступление четырьмя пони, которых расставил симметрично по манежу друг против друга головами к барьеру. Выпущенная затем на манеж лошадь перепрыгивала через них. Она же принесла Куку в зубах, как собака, брошенные им хлыст и платок.
Во втором отделении Кук выехал на арену в жокейском костюме, как Соболевский. Отец говорил, что он не был так красив, как его друг Вася, но показал огромное жокейское искусство, прыгал через свой жокейский картузик, держа его в руках, вспрыгивал на рсем ходу на круп лошади и т. д.
Кук считался в то время знаменитым наездником, его знали почти во всех мировых цирках. Кончал он свое выступление прыжком через человека, стоявшего на табурете в цилиндре. Кук разбегался, делал рундат-салътомортале: перелетал через человека, во время прыжка снимал с артиста цилиндр и надевал его себе на голову.
Какой же нужно было делать прыжок, чтобы сальто было в полтора раза выше его собственного роста! Публика же стоном стонала от восторга, тем более, что выступал сам директор цирка.
Выступление отца было в третьем отделении. Он имел успех, но к его удивлению «камаринский на лопатке» не произвел такого впечатления, как во Владикавказе. Отцу советовали заменить камаринского гопаком, потому что «камаринского в Полтаве не любят». Когда на следующий день отец последовал этому совету, галерка бурно зааплодировала и застучала одобрительно ногами.
Представления в Полтаве шли с большим успехом. Кук решил поставить пантомиму и назначил репетицию «Разбойников». Это необычайно распространенная, можно сказать, классическая пантомима в цирковом репертуаре. Гораздо позже, когда я был уже взрослым артистом, она не сходила с репертуара провинциальных цирков. Клоуны ставили ее в свои бенефисы, так как в ней центральное действующее лицо — артист-комик, и роль его очень выигрышная. Шла пантомима обычно так.
К барьеру прибивалось несколько кустов, — арена должна была изображать лес. Атаман разбойников выходил под музыку, свистал. Сбегались разбойники. Атаман мимикой сообщил им, что по лесу должен проехать богач. Разбойники прятались по кустам. Выезжал экипаж с богачом и его красавицей-женой. По свисту атамана шайка выбегала и убивала богача. Красавицу атаман щадил и поручал надзор за ней старухе-разбойнице. Шайка уходила, унося убитого богача и уводя в поводу лошадей. На арену выходили двадцать солдат под командою офицера. Последним идет комик-солдат, денщик. Офицер отсылает солдат, оставляя только своего денщика. У входа на арену ставится декорация избы. Через манеж проходит еврей-торговец с большим чемоданом в руках. В дверях избы появляется старуха. Еврей просит ночлега, старуха ведет его в избу. Декорация поворачивается, обнаруживая внутренность избы. Униформа приносит стол, стул, кровать. Когда все готово, в дверь входит старуха с торговцем. Старуха приносит еду и угощает гостя. Торговец ставит около себя чемодан и садится есть. Старуха хочет украсть чемодан, торговец хватает ее за шиворот и чемодан отбирает. Старуха убегает. Врывается в комнату атаман с разбойниками; они убивают торговца. За кулисами шум. В дверь стучат. Вбегает старуха и сообщает, что пришел офицер с солдатами. Разбойники прячут тело торговца под кровать и скрываются.
Входит офицер с солдатами. Офицер ругает старуху, что она долго не открывала дверей. Денщик вырывает из рук старухи метлу и ударяет ее сзади. Офицер требует еду и постель. Старуха уходит и приводит жену богача, наряженную горничной. Начинают стелить постель. Офицер ухаживает за мнимой горничной. Старуха не позволяет ей говорить с офицером и прогоняет ее. Уходит и приносит поднос с едой. Офицер приглашает старуху за стол, та отказывается, денщик хватает ее за шиворот и сажает силком за стол спиной к кровати. Офицер угощает старуху вином. Та отказывается. Денщик выплескивает вино ей в лицо. В дверь, крадучись, проходит красавица и сует под подушку письмо офицеру, делает ему знак, чтобы он прочел письмо. Офицер угощает старуху макаронами, та отодвигает их, денщик швыряет макароны в лицо старухе, берет ее за шиворот и выталкивает вон. Старуха по дороге к двери успевает схватить с кровати шапку офицера. Денщик отнимает шапку и прогоняет старуху пинком. Офицер идет к кровати, ложится, достает письмо, велит зажечь свечу, читает письмо и вскакивает. Объясняет денщику, что они попали в разбойничье гнездо, что в двенадцать часов ночи их убьют. Велит денщику оставаться в избе, сам же решает выпрыгнуть в окно, чтобы привести солдат. Денщик не хочет оставаться один, плачет. Офицер бьет его шашкой, прыгает в окошко и скрывается.
В оркестре бьет одиннадцать часов. Денщик считает, загибая пальцы. Садится за стол и для храбрости залпом выпивает несколько стаканов вина, хмелеет. Хмельной ложится спать. Ему холодно, он берет со стола сковородку, зажигает на ней бумагу, нагревает, кладет к себе в постель. Через полминуты ему становится жарко. В оркестре бьет двенадцать часов. Денщик считает по пальцам. Начинает дрожать от страха и ищет, куда бы ему спрятаться. Лезет под кровать и видит, что там лежит торговец. Вытаскивает его из-под кровати, предлагает выпить, угощает макаронами, сердится, что тот молчит, вливает ему в рот водку, потом тащит мертвого на кровать и кладет ногами на подушку. на ноги надевает свою солдатскую фуражку, в руки кладет ружье. Сам прячется под кровать.
Приходят разбойники с фонарями. Один из них ударяет лежащего на кровати ножом и тогда только замечает, что это зарезанный ими торговец. Атаман ругает старуху за то, что она упустила офицера. Разбойники находят денщика, вытаскивают его за ноги, но он вырывается и уползает опять под кровать. Так происходит несколько раз. Тогда они хватают его подмышки и тащат к атаману. Атаман, угрожая кинжалом, спрашивает, где офицер. Денщик объясняет, что офицер получил письмо от женщины и ушел с ней. «— Она? — показывает атаман на старуху.— Нет, писала письмо молодая и красивая женщина». Приводят жену богача. Денщик сначала молчит, потом, когда ему опять угрожают кинжалом, сознается, что писала жена богача. Атаман замахивается, чтобы убить ее, но за кулисами раздаются ныстрелы. Денщик пользуется переполохом, вырывается из рук разбойников и убегает.
Вбегают солдаты. Начинается стычка. Солдаты побеждают. У офицера происходит схватка с атаманом. Вбегает жена богача и сзади стреляет в атамана, тот падает. Денщик гонится за старухой с веревкой и пилой. Ловит старуху, валит ее на землю и начинает пилить пилой, у которой зубья сделаны с внутренней стороны. Вносят носилки. На носилки становится офицер и же на богача.
Разбойники под охраной солдат несут носилки. Сзади идет старуха, подгоняемая денщиком, бенгальский огонь освещает шествие.
Роль атамана играл сам Кук. Денщика — турнист, комик Манц. Старуху изображал отец. Если пантомима шла в еврейских городках, то торговца делали англичанином.
Сборы в Полтаве были очень хорошие. Отцу же опять пришлось пережить много неприятностей из-за отсутствия паспорта. Труппа жила дружно, часто собиралась, в буфете, и разговор всегда вертелся около цирка и цирковых дел.
Под «двунадесятые» праздники цирк не работал. Кук устраивал обед и приглашал в гости всю труппу. В такие дни репетиций не было, и с двух часов дня до полуночи шла пирушка. Разговор происходил большей частью на немецком языке. Отца очень огорчало, что он ничего не понимает. Попробовал он заниматься со словарем, но у него ничего не выходило. Тогда он купил толстую тетрадку, стал спрашивать у артистов немецкие слова и выражения и записывать их русскими буквами, а рядом помечать их значение на русском языке. Главным его учителем был кучер Кука, флегматичный немец. После обеда отец покупал две бутылки пива, и кучер, распивая их, два часа занимался с отцом. Кук узнал об этом, очень одобрил отца и дал ему совет не стесняться и самому побольше говорить по-немецки. Защищал отца, когда над ним смеялись, и всегда обращался к нему по-немецки. Отец помогал Куку (хотя не обязан был этого делать) в дрессировке лошадей. Куку нравилось желание отца учиться и знать все, и он охотно учил его верховой езде и вольтижировке.
Если лошадь уставала во время репетиций, то ее мыли и не ставили сразу в стойло, а водили по манежу, давая ей остыть. В эти репетиционные перерывы отец разговаривал с Куком по-немецки. Пока Кук говорил медленно — по выражению отца «лениво», — отец его понимал. Но, как только Кук начинал волноваться или сердиться, понять его было невозможно, так как он начинал сразу говорить и по-немецки, и по-французски, и по-английски.
Кук рассказал и показал отцу несколько новых номеров («с яблоком», «с пирожным» и номер, называвшийся «Понять лошадку»). Номера эти впоследствии вошли в репертуар всех российских клоунов. При этом Кук сказал, что отец должен говорить не «господин», а «мосье шталмейстер»; шталмейстер же называл клоуна «мосье клоун».
Позже мне приходилось видеть в цирках и двух шталмейстеров. Тогда на обязанности одного из них было наблюдение за конюшней и выдачей корма. В период расцвета цирков в России, (а таким периодом нужно считать 1893-1905 гг.) маленьким цирком считался тот, у которого было восемь лошадей. Обычно на конюшне стояло пятьдесят лошадей и больше.
Номер «с яблоком», в котором стал выступать отец, состоял в следующем.
Во время работы клоуна на арену бросают яблоко. Клоун замечает это и хочет поднять его. Шпрех-шталмейстер не дает, начинается спор, кому брошено яблоко. Решают разыграть его. Условия розыгрыша — не уходя с арены, спрятать яблоко на себе, и так до трех раз. Яблоко будет принадлежать тому, кто угадает большее число раз, где спрятано яблоко. Клоун начинает игру и прячет яблоко подмышку. Приходит шталмейстер и велит клоуну поднять сначала одну руку, поток другую. Клоун поворачивается к нему спиною и поднимает ту же руку. Когда шталмейстер требует, чтобы он поднял другую руку, клоун заявляет что она у него больная. Шталмейстер насильно поднимает руку, яблоко падает. Наступает очередь шорех-шталмейстера прятать, но он замечает, что клоун подсматривает, тогда он ругает его, и гонит с арены. Клоун убегает, по дороге становясь на голову. Шталмейстер прячет яблоко сзади за шиворот. Приходит клоун, требует, чтобы шталмейстер поднял одну руку, потом другую. Тот в свою очередь заявляет, что рука у него больная. Клоун смеется: «знаю!.. знаю!..» Но и под другой рукой яблока нет. Клоун обыскивает шталмейстера, видит горб на спине, хохочет и вытаскивает яблоко. «Кто третий раз отгадает, тот съест яблоко»,— говорит шталмейстер и уходит. Через секунду он громко спрашивает из-за кулис: «готово?… готово?…» Клоун ищет, куда бы спрятать яблоко. Не найдя места, он начинает торопливо и решительно есть его. Шталмейстер опять опрашивает: «готово?» Клоун жует яблоко, давится и отвечает мычанием. Шталмейстер теряет терпение, приходит, требует, чтобы клоун поднял руку, тот поднимает с готовностью сразу обе руки, потом поднимает одну ногу, другую. Шталмейстер понимает, что клоун съел яблоко и теперь насмехается над ним. Сердится на клоуна и дает ему пощечину. Клоун в отместку выплевывает в шталмейстера остатки недожеванного яблока.
Пощечина на цирковом жаргоне носит название «апач». «Ловить апач» умеет не каждый цирковой артист. Надо очень долго тренироваться, чтобы ловко и незаметно для зрителя «поймать апач».
В дореволюционное время пощечина была необходимой частью номера и всегда вызывала сильную реакцию в зрительном: зале. Секрет цирковой пощечины в ловкости того, кто ее принимает. Дающий пощечину (в нашем случае шталмейстер) поднимает вытянутую руку чуть выше уровня головы клоуна, доводит ладонь до самой щеки и мястерски задерживает ее у самой щеки. В это время получающий пощечину держит руки чуть ниже живота в ширину своих плеч. Когда ладонь ударяющего достигает его щеки, он должен так ловко хлопнуть в ладоши, чтобы получился звонкий хлопок, и сейчас же схватиться за щеку, в доказательство того, что ему больно. Старый цирк держал в секрете технику этого приема и, когда меня спрашивали, я, улыбаясь, говорил, что если это делать умело, то не бывает больно. Позднее мне приходилось учить актеров театра ловить апач.
Цирковые артисты-старики часто с осуждением говорили: «что это за клоун, он даже апача ловить не умеет».
Директор Саламонский во время разговоров об ангажементе неожиданно давал договаривающемуся с ним клоуну апач и, если тот терялся и не умел поймать его, говорил ему: «как я могу ангажировать вас, когда вы даже простой плюхи поймать не можете».
Клоуны знали: идешь ангажироваться к Саламонскому, будь готов ловить алач.
Бывали, конечно, случаи, что рука дающего пощечину срывалась и клоун получал настоящую затрещину, но на это никто никогда не обижался. Больше того, клоуны протестовали, когда шталмейстер останавливал руку дальше, чем это нужно от щеки, тогда технику апача-плюхи можно было заметить. Цирковой же артист не любит, когда зритель узнает его секреты.
Кук первый научил отца ловить апач. Отцу долго пришлось тренироваться, чтобы он у него выходил чисто.
Номер «с лошадкой» состоял в следующем.
На арене, как бы случайно, оставляют шамбарьер. Выходит клоун, поднимает его и спрашивает, что это такое. Ему объясняют, что это шамбарьер — кнут для дрессировки лошадей. Клоун заявляет, что он прекрасный дрессировщик, и требует, чтобы привели его лошадь. Шталмейстер отвечает, что у него никакой лошади нет.
— А в тридцать десятом стойле!?
— Такого стойла нет.
— Станьте здесь, я вам покажу мою лошадь.
Клоун ставит шпрех-шталмейстера у края барьера и велит униформе закрыть барьер. (В то время барьер закрывался вдвижной продолговатой доской и не имел дверей, как сейчас.) Клоун велит шталмейстеру бежать по кругу арены, тот противится, но, получив удар шамбарьером, делает все, что велит ему клоун.
Клоун (униформисту). Принесите, пожалуйста, два барьера.
Шпрехшталмейстер. Оставьте, прошу вас, эту глупую затею.
Клоун гоняет шталмейстера по кругу, заставляет его прыгать через барьер, ставит его на колени, приказывает кланяться публике и говорит:
— Честь имею, уважаемая публика, представить вам мою дрессированную лошадь. — Бросает шамбарьер и идет к выходу.
Шпрехшталмейстер (схватывает брошенный шамбарьер, останавливает клоуна и спрашивает). Хотите, я покажу вам дрессированного осла?
Клоун (останавливаясь). Это интересно. Покажите.
Игра начинается опять, на этот раз клоун изображает осла. После прыжков и пируэтов шталмейстер заставляет клоуна кланяться и говорит публике:
— Честь имею представить вам моего дрессированного осла.
Шталмейстер поворачивается и уходит.
Клоун (кричит ему вслед). Дурак!
Шталмейстер. Что вы сказали?
Клоун. Что у вас черный фрак, (Шталмейстер уходит и опять слышит вдогонку). Дурак!
Шталмейстер (оборачиваясь). Вы сказали — дурак.
Клоун. Нет, нет, я сказал, что у меня лицо, как бурак, — так я устал.
На третий раз при слове «дурак», шталмейстер толкает клоуна. Тот падает и лежа посылает шталмейстеру несколько раз дурака. Шталмейстер становится позади клоуна.
Клоун (поднимает голову, видит, что никого нет, и спрашивает униформу). Где шталмейстер?
Униформа. Ушел,
Клоун (встает, отряхивается и кричит). Дурак! Болван! Осел!..
Шталмейстер сзади несколько раз перетягивает его шамбарьером. Клоун убегает.
В антре «лошадка» или «гонять лошадку» успех зависит от
умения управлять шамбарьером. А управлять шамбарьером гораздо труднее, чем ловить плюху-апач. Шамбарьер в руках опытного дрессировщика все равно, что шпага в руках опытного фехтовалыцика. Концом шамбарьера можно рассечь тело до крови. Нужно иметь набитую руку, верный глаз и долголетний опыт, чтобы хорошо владеть шамбарьером. Опытный дрессировщик по желанию попадет шамбарьером в любое место тела лошади. Может концом его коснуться ее уха и т. д. Есть такие искусники, которые подкидывают в воздух яблоко и налету рассекают его на две части шамбарьером. Шамбарыер женщин-дрессироовщиц бывает легче, шамбарьер мужской тяжелее и длиннее. К камышевой палке в два, два с половиной арщина приделан ремень. К концу ремня привязывается наконечник, сплетенный из тонкого шпагата. На четверть вершка от конца наконечника делается узел, от узла шпагат идет расщепляясь, таким образом получается мягкий язычок, который и хлопает.
В антре «лошадка» надо, чтобы шамбаръер мягко обвивался вокруг тела клоуна и громко хлопал, но не рассекал.
Третье антре «с пирожным» проходило так. Шпрехшталмейстер выносит на блюде пирожное и просит клоуна снести его Марии Ивановне.
Шталмейстер (так размахивает руками, что дает клоуну по носу). Пойдешь прямо, потом налево, потом опять прямо, потом направо.
Клоун, плачет. Шталмейстер извиняется и говорит, что клоун сам подвернулся ему под руку. Повторяет ему адрес: «прямо… налево… прямо… направо». Размахивает руками. Клоун убегает от него, и, смеясь, садится на барьер.
Шталмейстер (подзывает клоуна опять, ставит перед собой). Пойдешь, как я сказал, увидишь большой дом, взойдешь в него, подымешься на тридцать три ступеньки вверх. Тют… тют… наверху увидишь звонок. Нажмешь кнопку: трр!.. трр!.. звонок зазвенит. Откроется дверь, выйдет Мария Ивановна. Ты дашь ей пирожное, скажешь, чтобы она его съела и никому не давала. Понял?
Клоун. Нет, не понял.
Шталмейстер повторяет и заставляет повторить клоуна. Клоун повторяет с комическими ужимками. Шталмейстер уходит. Клоун смотрит на пирожное, облизывается, пробует его пальцами.
Клоун. Пойдешь прямо… (откусывает кусочек), потом налево… (откусывает) потом… (повторяя весь адрес, съедает пирожное, спотыкается, падает и разбивает тарелку).
Шталмейстер (появляется). Снес пирожное? Что Мария Ивановна сказала?
Клоун. Просила еще, говорит, что одного ей мало.
Шталмейстер. А где тарелка?
Клоун. И ее съела.
Шталмейстер. Ты говоришь неправду, Мария Ивановна не могла просить еще. Я на нее очень сердит и положил в пирожное яд; как только она его съест, у нее будет холера, и она умрет.
Клоун (при этих словах пугается, начинает корчиться, падает на землю). Холера!.. холера!.. (изображает, что у него конвульсии).
По приказанию шталмейстера униформа приносит лекарство.
Клоун (пьет лекарство и приговаривает). Ой лихо!., ой лихо мне!.. А что это за лекарство?
Шталмейстер. Это самый лучший коньяк (хочет уйти).
Клоун (корчится опять). Холера!.. холера!..
Шталмейстер дает ему бутылку и клоун пьет. Просит еще. Шталмейстер заявляет, что коньяку больше нет.
Клоун. Нет, так нет. Тогда у меня и холеры больше нет.
Эти антре имели очень большой успех у публики. Кук на репетициях следил за их исполнением, но ему трудно было судить о тексте, так как он плохо понимал русский язык. Старался он растолковать исполнителям игру слов в этих антре на своем языке, но никто не мог понять его полунемецкую, полуанглийскую речь.
Отцу эти антре, нравились, но он помнил совет Макса Высокинского озаботиться созданием собственных клоуно-акробатических номеров и спросил Кука, не знает ли он какого-нибудь акробатического антре.
Кук показал ему антре со свечами. Состояло оно в следующем.
На арену выносили три подсвечника. Шталмейстер предлагал клоуну вставить в них три свечи и зажечь их. Клоун подходил, вставлял свечи и спичкой зажигал их. Шталмейстер говорил, смеясь, что так зажечь может всякий дурак. Надо сделать в воздухе салътомортале, на лету вставить свечи и зажечь их особой спичкой. Если клоун исполнит это, то получит подарок. Клоун ставит подсвечники на два с половиной аршина один от другого, делает последовательно три сальтомортале и вставляет свечи одну за другой. Выносят большую свечу, он зажигает свечи, проделывая каждый раз сальто.
— Давай подарок, — требует он.
— Дам, только сначала потуши свечи, — говорит шталмейстер.
Клоун исполняет его приказание. Тогда выносят четыре больших заклеенных бумагой обруча. Клоун принимает их за большие блины и требует масла.
— Нет, это обручи. Через них нужно прыгать, — говорит шталмейстер.
Выходят четыре униформиста, становятся в полусогнутое положение, держат обручи двумя руками на плечах, наклонив голову вниз. Клоун разбегается, держа руки вперед, прорывает руками бумагу в обруче, пролетает через него всем корпусом, долетает до земли, упирается в землю руками, подгибает голову, перекатывается на спину, встает на ноги, отталкивается от земли и летит в следующий обруч. Проделывая то, что на языке акробатов называется кульбитом, он проскакивает через все четыре обруча.
Исполнение кульбита облегчается тем, что обруч держат наклонно в ту сторону, откуда бежит акробат. Опытный униформист «пассирует» обруч. В акробатике «пассировка» очень ответственное дело. Пассировать — значит помогать, облегчать исполнение номера. В номере с обручем в момент прыжка надо пригнуться, чтобы прыгающему легче было пролететь сквозь обруч. Пригибание это незаметно для зрителя.
Отец после рассказа Кука стал готовить номер со свечами. Он купил три больших подсвечника и заказал три деревянных свечи. Репетировал он сначала на лонжах.
Лонжа — ручной пояс из пожарного рукава, для прочности, обшитый по бокам кожей. К лонже приделаны два кольца, к кольцам привязаны две веревки. Во время упражнений два человека держат лонжу за веревки, для того чтобы акробат во времи прыжка не ударился о землю или, летя вниз головой, не разбился. При последующих тренировках лонжи опускаются или их убирают одну за другой. Когда же артист овладевает техникой переднего сальтомортале в совершенстве, то убирают и последнюю лонжу. Пассировщик же не отходит от акробата, он пассирует ему рукой под спину или дает ему вначале рукой толчок, чтобы акробату было легче сделать телом полный оборот и встать на ноги в том же положении, в каком было начато переднее сальтомортале.
Отцу никак не удавалось во время сальтомортале вставить свечу в подсвечник. Тогда Кук открыл отцу секрет вставления свечи. Он заставлял отца сначала тренироваться над тем, чтобы быстро, как бы налету, вставлять свечу в подсвечник. Когда отец натренировался в этом, Кук заставил его, вставляя свечу в подсвечник, начинать крутить салътомортале. Все это происходит так быстро, что зрителю кажется одновременным. Если же заснять этот номер в кино и показать его в замедленном темпе, то видно будет, что клоун раньше вставляет свечу, а потом крутит сальто.
Для исполнения этого номера нужна длительная тренировка. «Спичка» делается из проволоки, на конце ее наматывается вата. За два часа до представления конец ее опускается в бензин. Свечи берутся толстые, железнодорожные. На фитили их тоже наматывается вата, вата смачивается заранее бензином и при прикосновении огня быстро воспламеняется.
Когда я начал работать, отец научил меня этому номеру, и я долгое время выступал с ним. Он очень эффектен.
Цирк Кука по окончании пасхальной недели переехал из Полтавы в Кременчуг. В цирке было готово все, кроме шапито. Шапито было повешено в один день. Кук пошел подписать афишу в полицейское управление. В управлении его приняли из-за темного цвета кожи за цыгана. Пристав заявил ему, что афиши не подпишет, так как полицмейстер запретил проживать в городе цыганам. Краж-де у нас и без того довольно.
Кук побежал домой за своим английским паспортом. Надел фрак и пошел в канцелярию полицмейстера. Полицмейстер принял Кука сухо и подписал афишу только после того, как Кук показал ему паспорт и отзывы о его работе в других городах, в том числе отзыв какого-то важного лица о его выступлении в Петербурге.
Сбор с первого представления был небольшой. Вокруг цирка разгуливало много народу, гуляющие слушали оркестр, игравший перед цирком, но билетов не покупали. На следующий день сбор был еще хуже. Кук старался понять, в чем дело, и ему объяснили, что цены на билеты слишком высоки, Кук был человек упрямый и решил цен не снижать, а разнообразить программу. Первый хороший сбор был в субботу, праздничный день еврейского населения.
Хозяин: комнаты, где остановился отец, попросил отца провести его в цирк. Отец не мог исполнить его просьбы, так как Кук не давал контрамарок. Вечером, когда отец вернулся из цирка, хозяин пригласил его пить чай, сказал, что был в цирке, что больше всего ему понравился номер отца и что он давно так не хохотал, как сегодня. Хозяйка квартиры хвалила выступление Кука. На вопрос отца, как ей понравился его номер, ответила, что выступления отца она не видала.
Оказалось, что из-за дороговизны билетов хозяева купили один билет и половину представления до антракта смотрел хозяин, а вторую половину его жена.
Утром отец рассказал об этом Куку. Но Кук и тут не согласился на снижение цен, а решил ввести в программу пантомиму «Разбойники». Пантомима привлекла зрителей, но прошла в комических местах с торговцем-евреем при гробовом молчании публики. На другой день хозяин типографии отказался печатать афишу цирка и сказал, что если в цирке будут издеваться над евреями, то ни один еврей не пойдет в цирк. Кук сам пришел объясняться с типографщиком. Сказал, что у него и в помыслах не было издеваться, что он понимает сам свою ошибку, рассказал, кстати, о гонении на негров в Америке. Торговца еврея он обещал заменить торговцем-англичаиином. В разговор типографщика с Куком вмешались рабочие и заявили, что для рабочего населения Кременчуга цены на места в цирк слишком высоки. Кук обещал два раза в неделю давать представления по дешевым ценам от десяти копеек до рубля. Тут же в типографии написал афишу о спектаклях по удешевленным ценам для еврейского рабочего населения и послал афишу на подпись к полицмейстеру. Полицмейстер вызвал Кука, накричал на него, Грозил выслать его из города и перечеркнул всю программу представления.
Пришлось заново переписывать афишу. Слух о столкновении Кука с полицмейстером разнесся по городу, и на другой день, когда открыли кассу, билеты были раскуплены в течение одного часа. Первый раз в Кременчуге был битовой сбор. Когда же вместо еврея-торговца вышел торговец-англичанин, раздались аплодисменты..
Впоследствии цирку все-таки пришлось значительно, снизить цены: на представления с дорогими билетами публика не шла.
Полицмейстер вызвал Кука и велел ему дать паспорта всех артистов и указать их адреса. Кук объявил об этом в цирке. Что было делать отцу? Он пошел к Куку и рассказал ему, что у него никаких документов нет. Кук долго думал, как быть, наконец, предложил отцу жить в помещении цирка. Отец согласился. В это время о паспортных затруднениях отца узнал один из кучеров и предложил отцу паспорт своего уехавшего в деревню брата. Таким образом дело уладилось, и отец два с лишним месяца прожил в Кременчуге по чужому паспорту.
Из Кременчуга Кук решил ехать в Бкатеринослав. Вещи и семьи женатых артистов погрузили на два баркаса, а большая часть артистов-мужчин отправилась во главе с Куком сухим путем — на лошадях.
В Екатеринославе цирка не было. Новый цирк построили очень быстро, и первые спектакли прошли при переполненных сборах. Кук поставил на афишу пантомиму «Разбойники». Полицмейстер не разрешил постановку пантомимы. Кук отправился на прием к полицмейстеру. Тот его не принял. Дежурный чиновник через переводчика спросил Кука, что у него вышло с этой пантомимой в Кременчуге. Тот объяснил, чиновник предложил Куку изложить все происшедшее в письменном виде и обещал доложить полицмейстеру. На следующий день, когда Кук пришел за ответом, чиновник объявил ему, что пантомима разрешена при условии, что артист будет изображать торговца-еврея, а не англичанина. Кук вернулся в цирк. Долго думал и решил совсем снять пантомиму «Разбойники», чтобы не обострять отношений с многочисленным еврейским населением Екатеринослава.
Сборы все время были хорошие, несмотря на то, что в Екатеринославе играла, русская драматическая труппа, и в саду при театре была открытая сцена, где выступали фокусники, рассказчики, певцы и украинский хор.
Для пополнения программы Кук выписал из Харькова японского жонглера и ножеметальщика Камакича. Камакич был женат на русской женщине. Метальщиков в то время было мало, и номер пользовался большим успехом. Работал Камакич с женой. Ставил ее у доски и, отойдя от нее на десять с половиной шагов, бросал в доску нож. Нож описывал круг около головы женщины и впивался в доску.
Цирк Кука пробыл в Екатеринославе до первых чисел ноября. Сборы были все время хорошие. На зиму решено было ехать в Харьков. Но оказалось, что в Харькове уже есть цирк; тогда Кук решил зимовать в Брянске. В Брянске был готовый цирк, построенный каким-то лесопромышленником. Сдавал он цирк за процентные отчисления со сбора. Дела в Брянске шли не плохо. Цирк очень хорошо отапливался, так что, несмотря на суровую зиму, артисты не страдали от холода.
В Брянске у отца опять были неприятности из-за отсутствия документов. Брат кучера вернулся из Деревни, паспорт пришлось отдать. На квартиру без прописки не пускали. Когда отец был моложе, жить без паспорта было легче. За последние годы он сильно возмужал. Кроме паспорта, у него могли потребовать воинский билет. Кук то советовал отцу ехать за паспортом, то просил обождать с отъездом, говоря, что сам собирается с цирком в Смоленск. Так тянулось всю зиму. Наступил апрель. Кук решил на пасху ехать в Рославль. В Рославле отец спросил Кука о его дальнейших планах. Кук признался, что намеревается устроиться где-нибудь поближе к Москве, так как в городах, близких к Смоленску, разъезжает цирк Максимилиана Труцци, у которого сильная труппа и сыновья — прекрасные артисты. Тогда отец сказал, что должен поехать домой за паспортом. Кук просил его немного отложить отъезд. Назначил отцу бенефис, с которого отцу очистилось шестьдесят рублей, и в день бенефиса преподнес ему большой жетон. Кук полюбил отца за его добросовестную работу, за его интерес к делам дирка, за его любовь к ученью. Отец в последнее время уже понимал Кука; когда он говорил по-английски, и сам говорил с ним, комбинируя немецкие и английские слова.
В мае отец стал собираться домой. Купил себе сундучок, прикупил белья, два костюма, пальто. В корзинке, обшитой клеенкой, лежали его реквизит и костюмы, а на клеенке было написано масляной краской «Клоун! Макс-Адольф». Такую корзинку всегда возил с собою Макс Высокинский.
Кук подарил отцу двадцать пять рублей и взял с него слово, что он вернется, как только получит паспорт.
На вокзал его провожала вся труппа.
ГЛАВА III
Опять на родине. Встреча клоуна Сергея Альперова с матерью. Блудный сын. Выступление в Лопатинском саду. Адольф — «Огненное солнце». Цирк Труцци. Клоун Жан Борисов. Цирковая семья Труцци. Призыв. Гельсингфорс. Военная служба. Село «Медведь». Петербург. Цирк Чинизелли. Билли Гайден. Поиски цирка Труцци.
Отойдя от вокзала в Смоленске, отец не знал, где искать родных. Адреса он не помнил. Снять комнату не мог, так как у него не было паспорта. Как найти старую квартиру, идя от вокзала, не знал. Тогда он решил добраться до базара и там попытаться найти или дядю-пекаря или тот дом, где они когда-то жили. Он нанял извозчика.
Присхали на базар. Там раньше помещалась пекарня дяди. Отец осмотрелся и спрашивает:
— А где же пекарня, которая была в этом доме раньше?
— Три года назад владелец переехал на главную улицу и открыл там большую кондитерскую и пекарню, — ответил извозчик.
— Жаль, а в этой пекарне был замечательный пеклеванный хлеб.
— Давайте я отвезу вас на главную улицу, — сказал извозчик, – а не то, тут на базаре торгует сестра того пекаря, у нее пеклеванный хлеб, пожалуй, еще лучше будет.
У отца моего забилось сердце, он понял, что его мать жива.
— Где хлебный ряд? — опросил он, волнуясь, и побежал, толкая прохожих, туда, куда ему указал извозчик.
Обогнув одну из палаток, он увидел мать за деревянным рундуком. Она смотрела куда-то в сторону. Он собрал силы и крикнул: «мама!..»
Она повернулась, поглядела на него пристально, встала, шатаясъ, и бросилась к нему. Отец разрыдался.
Вокруг вернувшегося неожиданно сына и рыдающей матери собралась толпа, Мать то плакала, то смеялась,. то принималась обнимать своего Сережу. Она была, как безумная. Встала, вдруг схватила хлеб с прилавка и деньги из ящика и стала швырять их в толпу, крича: «Берите все!.. все берите!.. и хлеб, и деньги…. ничего мне теперь не надо… сын мой жив, ко мне вернулся, сын мой Сережа!»
Прибежавшие на крики мотери с толкучки босяки подбирали хлеб и деньги, хватали их из ее рук. Вступились соседки-торговки, прогнали босяков, подобрали булки и пеклеванники и уговорили мать вести сына домой.
Через некоторое время в комнату вбежал дед. Был он в своих неизменных валенках. Увидел сына, затрясся весь, хотел поцеловать, потом: отскочил от него, выпрямился и проговорил, задыхаясь:
— Нет, Сережка, проси раньше прощения! Проси прощения. Сколько я из-за тебя ночей те спал! Становись на колени — проси прощения, блудный сын.
— Брось, как тебе ре стыдно! — крикнула бабка.
— Слышать ничего не хочу, — вопил дед, — пусть просит прощения.
Отец мой встал на колени, поклонился отцу и матери в ноги и разрыдался. Дед тоже заплакал, расцеловал сына и пробормотал: «бог простит… бог простит…» Он долго рассматривал сына, его часы, жетон, прищелкивал языком и говорил: «Ай да Сережка! Ай да Сережка!»
Отец прожил в Смоленске две недели. Он привык работать, и праздность за это время ему надоела. В Смоленске был Лопатинский сад, в нем на открытой сцене выступали приезжие артисты. Отец решил выступить там не столько из-за заработка, сколько ему хотелось показать родителям свое искусство.
Пошел он к содержателю сада, показал ему свои афиши. Решили они к номерам отца прибавить выступление местных гармонистов и оркестр балалаечников. Развесили по городу афиши, извещавшие, что проездом через Смоленск выступает на открытой сцене знаменитый клоун Макс-Адольф, он же гимнаст на трапеции, прозванный «Огненное солнце», он же эквилибрист на бутылках и стульях. По уговору с содержателем сада отец должен был получить половину сбора от продажи мест перед сценой.
Долго искал отец человека, который мог бы с ним разговаривать во время клоунских номеров. Сговорился он, было, с бывшим театральным: суфлером, да тот запил. Тогда отцу предложили попробовать порепетировать с одним евреем, выступающим на еврейских свадьбах с тостами. Еврей этот недолгое время играл на сцене.
Отец пошел к нему, объяснил, что ему нужно. Еврей с охотой согласился. Отец начал репетировать и сразу увидел, что это был толковый человек, говорящий почти без акцента. Осложнялось дело только тем, что у него была длинная борода. Бороду же он снимать не хотел, так как без бороды он был недостаточно представителен для свадеб. Пошли они репетировать в лес. У бородача оказалась очень хорошая память, он быстро все схватывал, говорил громко и отчетливо.
Отец спросил, есть ли у него приличный костюм. Оказалось, что кроме длинного сюртука, в котором он выступает на свадьбах, у него ничего не было. Тогда решили пойти к парикмахеру и взять у него один из тех костюмов, какие он давал на маскарады и святки. У парикмахера нашлась красная гусарка и ботфорты из клеенки. Красная гусарка и длинная борода были невозможным сочетанием; отец был в отчаянии, После длинных уговоров и доводов партнер отца решил пожертвовать бородой, Сбрили ему бороду, оставили маленькие усики, нафабрили их, нарядили его в гусарку, и он остался очень доволен своей внешностью, находил только, что ему нехватает… медалей.
На другой день они репетировали на сцене. Все шло прекрасно, отец был в восторге. Он привез в Лопатинский сад реквизит и костюмы. С утра на открытой сцене им была уже повешена трапеция. Еще раз перед вечером все прорепетировали. Народу в саду было много и места перед сценой брались с бою. Почти все торговки и торговцы с базара пришли смотреть отца. Дед и бабка сидели в первом ряду.
Представление начали в десять часов вечера. В первом отделении отец выступал как эквилибрист. Делая мельницу, он привязал к ногам вместо факелов фейерверки, отчего номер стал еще эффектнее.
В первом антракте пришел в уборную дед, заплакал и сказал: «Ай да орел!» — вытащил из кармана коньяк и предложил отцу и гусару выпить. Оба отказались.
Во втором отделении отец отработал все номера клоунского репертуара под несмолкаемые аплодисменты. Дед, уже порядком выпивший, все время выкрикивал: «Ай да Сережка! Ай да орел! Сыпь еще!»
А бабка вытирала радостные (слезы.
На долю отца со сбора очистилось семьдесят пять рублей. Содержатель сада хотел было их прикарманить, но после небольшого скандала возвратил.
Выступление основательно отпраздновали. Когда веселье кончилась, отец стал думать о том, как ему выправить свои документы. Оказалось, что он был записан «без вести пропавшим», и теперь, чтобы установить его личность, нужно было свидетельство трех именитых граждан города. Поговорили с околоточным, который и взялся за пятнадцать рублей достать паспорт и приписать отца к призывному участку. Вскоре отец получил, наконец, все необходимые документы. Выяснилось, что через два месяца он должен призываться на военную службу.
После выступления на открытой сцене, отца пригласили в железнодорожный клуб. Партнером, его был опять «гусар». В середине номера у «гусара» свалились с ног ботфорты, и он остался, ко всеобщему смеху, босым. После выступления он как был, в гусарке, поехал на еврейскую свадьбу.
До призыва оставалосъ полтора месяца. Отец не хотел сидеть в Смоленске без дела.
Кто-то сказал ему, что в Минске работает какой-то цирк. Отец решил ехать в Минск, но, как только он сказал об этом бабке, она заявила, что и слышать об его отъезде не хочет. Пошел он к деду, дед поскрипел, попыхтел и говорит: «На нас тебе (нсмотреть нечего. Поступай, как мужик».
Отец уговорил бабку отпустить его и поехал :в Минск уже с паспортом и призывным листом.
В Минске отец нанял с вокзала до цирка извозчика. По дороге он увидел афишу цирка Труцци. Он слез с дрожек и, познакомившись с содержанием афиши увидел, что в цирке выступает клоун Жан Борисов.
До циркового представления оставалось несколько часов. Время тянулось страшно медленно. Отец пришел в цирк раньше всех, купил билет первого ряда и стал ждать выхода Борисова. Часть номеров он видел впервые. Наконец, вышел клоун в роскошном костюме. Номер его был построен иа разговоре. Говорил он с чуть заметным польским акцентом очень красиво и очень громко. Никаких акробатический трюков в его номере не было. Начал он как и Макс Высокинский с громкого плача. К нему подошел шталмейстер и спросил его, о чем он плачет.
Клоун. Как же мне не плакать, когда сегодня после продолжительной болезни моя теща…
Шталмейстер. Умерла?
Клоун. Нет. Выздоровела.
Затем клоун теряет кошелек и плачет опять. Ширехшталмейстер и вся униформа ищут.
Шталмейстер. Большой кошелек?
Клоун. Большой.
Шталмейстер. Много денег?
Клоун. Много.
Шталмейстер. А сколько?
Клоун. Две копейки.
Диалог меняется. Клоун спрашивает, бывал ли шталмейстер в Москве и Петербурге, знаком ли он с тамошними барышнями, целовал ли он их и как они к этому относились? Шталмейстеру не приходилось бывать в этих городах и тамошних барышень он не знает. Клоун рассказывает, что в Петербурге хорошенькие барышни плюют в лицо пристающим к ним молодым людям. В Москве барышни дают молодым людям по физиономии. И тех и других он изображает. Когда же дело доходит до изображения минских барышень, клоун отходит к барьеру и говорит: «Дайте навести фасон». Имитирует, модницу-барышню, мажет губы, пудрится и спрашивает:
— Знаете ли вы, какая разница между домом и минской барышней?
— Нет.
— Дом штукатурится раз в год, а, минская барышня штукатурится пять раз в день.
После этих слов Борисов, уморительно прихорашивался, шел к. шталмейстеру. Тот просил: «Барышня, позвольте вас поцеловать». Клоун жеманничал. Шталмейстер упрашивал, подходил к клоуну и целовал его в щеку. Клоун подставлял другую и говорил: — «Еще раз!..» — поворачивал голову и говорил: «Бще!.. еще раз!..» Вскакивал на шталмейстера и уже сам целовал его в обе щеки и приговаривал: «Еще раз!.. Еще раз!..»
Борисов, по словам отца, прекрасно мимировал, и выходило смешно.
После поцелуев шталмейстер гнал клоуна, говоря, что ему здесь не место. Тогда клоун заявлял, что его место на арене, а место шталмейстера в сумасшедшем доме.
Шталмейстер. Вы, клоун, дурак.
Клоун. Вы что сказали?
Шталмейстер. Что вы дурак.
Клоун. Хорошо, мы сейчас узнаем, кто из нас умный, а кто дурак. Приглашаю вас, умного, к себе в гости. Предположим, что это мой дом чертит на песке план комнаты с дверьми, окнами и т. д. Ну, господин шталмейстер, заходите.
Шталмейстер подходит к клоуну, тот гонит его прочь, указывая., что в дом входят через дверь. Когда шталмейстер входит через дверь, клоун требует, чтобы он предварительно звонил. Наконец, шталмейстер входит.
Клоун. Здравствуйте, господин умный, как поживаете, как ваше здоровье?
Шталмейстер. Ничего, спасибо. Как ваше здоровье, клоун?
Клоун. А разве вы доктор? Господин шталмейстер, предположим, что,здесь в комнате находятся умный и дурак. Если дурак уйдет, кто останется?
Шталмейстер. Конечно, умный.
Клоун. А если умный уйдет?
Шталмейстер. То останется дурак.
Клоун. Так вы оставайтесь, а я уйду.
И под хохот публики Борисов убегал с арены, оставляя посреди манежа растерянного шталмейстера.
На этом номер Борисова кончался.
Отец не стал смотреть конца представления. Ушел к себе, но спать не мог. Он раздумывал и сравнивал методы работы Макса Высокинского и Борисова. Для него было ясно, что Макс талантливее, что у него все основано на мастерстве. Борисов только говорил. По существу разыгранная им сценка была пустяковой. И все-таки он имел большой успех у публики.
Отец пришел к выводу, что надо разнообразить репертуар и непременно вводить в него разговор. Он записал все, что видел, и решил на другой день пойти разговаривать с Труцци.
Попал он к Труцци во время репетиции. На вопрос, где директор, ему указали на лысоватого полного человека среднего роста с эспаньолкой.
Труцци подошел к отцу и, очень смешно коверкая слова, спросил.
— Чего вам там хочет?
Отец, сдерживая смех, ответил, что он артист и предлагает ему свои услуги.
— Какой вам там артист?
Отец, рассказывай это, всегда так смешно изображал Труцци, что невозможно было спокойно слушать его. Когда я позже утвидел фотографию Максимилиана Труцци, то, вспоминая интонации и мимику отца, всегда улыбался.
Отец объяснил, что он работает «пирамиду», дает номер на трапеции и что, кроме того, он клоун. При слове «клоун» Труцци насторожился и позвал своего сына Рудольфо, который стал впоследствии выдающимся деятелем циркового дела. Старик Труцци что-то сказал сыну по-итальянски. Рудольфо с акцентом, но довольно прилично заговорил с отцом по-русски. Отец показал ему афиши, рассказал, где он служил до сих пор, упомянул, что он ученик Макса Высокинекого. Рудольфо заметил, что слышал о клоуне «Макс-Адольфе», но не думал, что он такой молодой.
Сказал что-то старику Труцци. Старик обратился к отцу и проговорил:
— Мне нужна только клоун.
Отец пояснил, что работать у них он может только месяц, потому что вскоре призывается на военную службу. Предложил вопрос о жаловании обсудить после дебюта.
Видно было, что Труцци это понравилось. Он назначил отцу дебют на следующий день. Отец перевез с вокзала реквизит в цирк. Осмотрел его, кое-что подкрасил и подновил. Труппа отнеслась к нему как-то недоверчиво. Смотрели на него косо, никто с ним не заговаривал. Тогда отец решил сам подойти к Борисову и познакомиться с ним. Борисов оказался очень разговорчивым и вежливым человеком средних лет. Вечером отец опять был в цирке. Борисов повторил свой вчерашний номер. Отец решил свой номер сделать целиком акробатическим.
На другой день состоялся дебют отца. Все артисты пришли смотреть его работу. Номера прошли с большим успехом у публики. После работы старик Труцци позвал его, похлопал по плечу, похвалил и попросил притти завтра поговорить об условиях. Артисты в уборной тоже хвалили отца и поздравляли его. А Борисов просил отца не уходить, а ждать его.
Когда представление окончилось, Борисов повел отца в ресторан. Оказалось, что Борисов сильно пьет и часто не является на работу. Он окончил городское училище, хорошо говорил по-немецки, жил нисколько лет со старшим братом в Германии, много читал. Начал он свою работу в балаганах в Польше. Борисов не любил физического труда, не любил гимнастику, считал ее трудным делом. Он был хорошим собеседником и товарищем.
За месяц работы отец не слышал от него ни одного грубого слова. Он дал отцу много полезных советов и рекомендовал ему побольше читать. Подарил ему тетрадку, в которой записаны были разные разговорные кусочки для клоунских выходов. На другой день, когда отец пришел к Труцци, Рудольфо спросил, какое жалованье он получал в других цирках Отец сказал, что получал сто рублей. Труцци согласился дать ему такое же жалованье, но Рудольфо предупредил, что у них в цирке артисты делают все, т. е. принимают участие в пантомимах, балете и сценах. Ввиду же скорого отъезда отца решено было, что он будет делать в вечер два номера — трапецию и клоуна, а если, нужно, то и пирамиду. От участия в пантомимах, балетах и сценах отец был освобожден.
Отец согласился. На другой день он работал увереннее и спокойнее, и номера сошли еще лучше. Трапецию он отработал с фейерверками, антре сделал с игрушками и с куклой («Кто как танцует»). Все номера прошли с большим успехом. Труцци позвал отца в свою уборную, пошарил за сундуком, вытащил полбутылку коньяку и сказал: «Браво!.. браво!..» Отец отказался пить. Труцци показал ему кулак и заставил выпить. После представления отец с Борисовым пошли опять в ресторан. Борисов расспрашивал отца, откуда у него антре с куклой. Отец сказал, что научился сему у Макса Высокинского и что Макс делает его бесподобно, Борисов заметил, что слышал о Максе, но сам нерешается делать это антре, так как недостаточно хорошо танцует.
Отец сознался, что исполняет этот номер во сто крат хуже Макса.
По мнению Борисова, отец мало подчеркивал характер танцующих. По его словам, этот номер можно было сделать гораздо смешнее.
Отец наблюдал за семьей Труцци и поражайся их неутомимой энергии и работоспособности. У Максимилиана было три сына: Рудольфе, Жижетто и Энрико. Рудольфо был делец-коммерсант и очень хороший дрессировщик лошадей. Жижетто — прекрасный жокей и сальтоморталист на лошади. Энрико был жонглер на лошади. Все трое были превосходные пантомимисты. Конкурентов в исполнении пантомим у них не было. Кроме того, они великолепно танцовали, а Энрико был композитором и хорошо играл на скрипке. Сам старик Труцци исполнял в пантомимах комические роли. Финансовую часть предприятия вела старуха Труцци. Она была фактической хозяйкой цирка, выдавала деньги и следила за целостью имущества.
Все члены семьи Труцци приходили в цирк с утра. До репетиции пили чай или кофе и закусывали. Потом начинались репетиции. Женщины под руководством старухи Труцци шили костюмы для пантомим. Весь день проходил в работе, и только в пять часов артисты шли обедать или отдыхать перед представлением. Цирк был первоклассный. На афише постоянно появлялись новые номера. Выступал балет. Он состоял из десяти жен артистов и шести специально нанятых актрис-наездниц. На обязанности последних лежало обучение остальных артисток «маневрам на лошадях».
В цирке Труцци каждый артист должен был в течение вечера дать два-три номера. Все помогали друг другу, чтобы представление шло гладко. Здесь впервые отец познакомился с тем, что такое цирковые маневры на лошадях. Маневры были мужские и женские. В зависимости от костюмов и приемов езды бывали то польские маневры, то маневры амазонок, то маркизов и маркиз. Принимали в маневрах участие не меньше восьми человек. На лошадях исполняли кадриль.
Наибольшим успехом ив семьи Труцци пользовался Энрико, очень красивый молодой человек. У него была высокая лошадь, оседланная под панно, покрытое атласным чепраком. Во время его номера на арену выносили трехъярусную горку с предметами для жонглирования. Энрико, стоя на лошади, на ходу жонглировал тазами, свечами, подсвечниками. В конце номера лошадь неслась карьером, он схватывал три зажженных факела, бросал и ловил их, стоя на панно. Исполнял он свои номера грациозно, красиво и отчетливо.
Жижетто Труцци был выдающийся жокей, но его езда не поразила отца, так как он видел. Вилъямса Соболевского. Изумлял Жижетто отца, когда исполнял на лошади сальтомортале, причем сальто его усложнялось тем, что протягивали три ленты, и он делал сальто через ленты, попадая каждый раз на панно. Выезжал он в шелковом трико, которое выгодно обрисовывало его стройную фигуру и позволяло наблюдать за движением каждого мускула.
Балет в красивых костюмах тоже был для отца новинкой и нравился ему. Он проработал у Труцци месяц. Приближался срок призыва, а Труцци не хотели отпускать его.
Отец говорил нам, что работать у Труцци было трудно, но интересно. Приходил отец в цирк с утра и помогал старику объезжать лошадей. После конной репетиции шли уроки балета. Труцци нравилось, что отец ни от чего не отказывался и всему хотел научиться. На прощание отцу был дан бенефис, он получил сорок рублей. Борисов преподнес ему жетон. В последние дни отцу пришлось выступать в двух отделениях, так как Борисов сильно запил. Перед отъездом Труцци взяли с отца слово, что он вернется к ним, если его забракуют. Провожали его артисты и семья Труцци.
Назначили отца в Омский полк. Полк стоял в Финляндии. Отец послал Труцци телеграмму, что его «забрили». Через несколько дней он получил от Рудолъфо переводом двадцать рублей «на папиросы» и письмо. Труцци просили его писать почаще и помнить, что в любое время он может вернуться в цирк. Прошло еще несколько дней, и отец получил приказ ехать в Гельсингфорс.
Тяжело ему было привыкать к жизни в казарме. Пугали его не муштровка, не трудности обучения, пугало бездушное отношение к человеку. Казарма была низкая, воздух такой спертый, что ночью трудно было спать. Фельдфебель любил глумиться над новобранцами.
В полку скоро узнали, что отец цирковой артист, и стали просить заниматься с ними. Через некоторое время отец сказал фельдфебелю, что хочет проситься в писаря. Тот
раскричался, грозил карцером, если отец посмеет хлопотать об этом. Лестно ему было, что к нему на учение приходят офицеры и что у него в роте такой гимиаст-артист. От злости на отца фельдфебель послал его на десять дней в тяжелый ночной караул у пороховых погребов за двадцать пять верст, на берег Финского залива.
Вскоре после этого в офицерском собрании решили устроить спектакль. Позвали отца и иопросили его помочь в устройстве спектакля и выступить самому. Заказали ему в кузнице трапецию и сделали реквизит.
Вечер прошел на славу. Выступление отца произвело фурор.
После этого спектакля на него стали смотреть иначе. Даже фельдфебель говорил ему уже не «ты», а «вы» или называл его артистом.
Через некоторое время, при содействии одного только что назначенного в полк молодого офицера, отца перевели писарем в офицерское собрание. Тут же при собрании ему отвели комнатку. Его освободили от занятий в строю, обедал он на кухне офицерского собрания. Сама по себе работа была не трудная, но он был скован по рукам и по ногам потому, что с десяти часов утра и до двенадцати ночи не мог уйти из собрания и должен был вести запись всему, что поедалось и забиралось каждым из офицеров.
Отец провел в Финляндии два с половиною года. Затем полк был переведен в Новгород под Петербург. Во время пребывания в Финляндии отцу удавалось репетировать свои номера. Он переписывался с Труцци. Два раза они посылали ему деньги на папиросы.
В Новгороде отца откомандировали в полковую канцелярию. Там отцу не понравилось; он решил попроситъся в музыкальную команду. Пошел к полковому капельмейстеру-немцу и сказал, что играет на корнет-а-пистоне.
Капельмейстер принес ему инструмент. Отец сыграл. Немец проверил, знает ли отец ноты. Сказал, что ему нужно подзаняться, тогда месяца через четыре он сможет играть в полковом оркестре. Прибавил, что если полковой командир не будет возражать, то он согласен взять к себе отца тотчас же. Отец поблагодарил его по-немецки. Капелймейстер обрадовался, стал расспрашивать отца, пригласил его к себе обедать и обещал сам поговорить с командиром полка.
Приказ об откомандировании был дан через несколько дней. Отец стал усиленно заниматься музыкой, стараясь научиться свободно читать ноты с листа. Через два месяца он уже играл в оркестре и заведывал нотной библиотекой. Капельмейстер был очень расположен к отцу. Отец часто бывал у него. Жена капельмейстера учила отца читать и писать по-немецки и по-французски. Отец очень заинтересовался французским языком.
Через шесть месяцев он был первым трубачом и в отсутствие капельмейстера вел оркестр. Ему дали трех учеников — воспитанников полка, кантонистов.
Неожиданно пришел приказ о переводе полка в село «Медведь» бывшей Новгородской губернии. Здесь у отца было сравнительно много свободного времени, он повесил в гимнастическом зале трапецию и занимался каждый день гимнастикой. Переписывался он в это время только со своей матерью. Где находился цирк Труцци, отец не знал. В селе «Медведь» он познакомился с моей будущей матерью. За это время ему дали чин унтер-офицера.
Как только кончился срок, отец поехал в Петербург, чтобы попытаться устроиться в цирке Чинизелли. О Чинзизелли он много слышал и от Труцци, и от Кука. Для цирковых артистов его цирк был Меккой.
В Петербурге отец остановился у своего товарища по военной службе. Вечером снял военную форму первый раз за пять лет, нарядился и отправился в цирк. Чувствовал он себя странно и, когда на одной из улиц встретил офицера, то по привычке отдал ему честь.
Цирк Чинизелли произвел на отца огромное впечатление. Первый раз он увидел каменный цирк, отделанный бархатом и позолотой, вмещавший тысячу зрителей. Увидел высшую школу верховой езды, балетные па и танец лошади под музыку. Два клоуна у Чинизелли выступали с акробатическими номерами и одновременно играли на скрипке. Затем выступил знаменитый клоун Билли Гайден с дрессированным ослом[12]. Во втором отделении на арене появилась лошадь-артиллерист. Она маршировала, вытаскивала из ножен зубами саблю и фетховала с дрессировщиком. Принесли ружье, привязали его сбоку лошади, и она стреляла, дергая за курок зубами.
Выкатили три пушки, расставили их в трех местах на манеже, лошадь перепрыгивала через них, брала из-за барьера русский флаг и на задних ногах, держа флаг в зубах, уходила с арены.
В антракте отец пошел в конюшню, хотел поговорить с артистами, но они уклонились от разговоров. Вдруг он услышал, что два артиста говорят по-немецки. Отец обрадовался, заговорил с ними, рассказал, что он только что отбыл солдатчину. Спросил, не знают ли они, где цирк Труцци. Артисты охотно отвечали ему и сообщили, что Труцци сейчас в Кронштадте. Отец обрадовался и на другое утро был уже в Кронштадте.
Издали он увидел, что крыша цирка снята, и понял, что, Труцци уехали. Подошел к цирку, посмотрел в щелку — видит, на арене горит костер и вокруг него кто-то ходит. Он стал стучать. Открыл ему хромой и глухой сторож. Едва удалось узнать от него, что Труцци два дня назад уехал в Тулу. Сторож был такой бестолковый, что отец решил проверить его, пошел на пристань и там стал расспрашивать, не слыхал ли кто-нибудь, куда уехал цирк. На пристани подтвердили, что цирк уехал в Тулу. Тогда отец послал депешу в Тулу, просил Труцци ответить ему в Смоленск, куда решил поехать повидаться с родными. В Смоленске отца ждала телеграмма от управляющего Труцци, извещавшая, что цирк прибудет в Тулу через несколько дней. Отец послал еще депешу и получил от Труцци приглашение немедленно приехать к ним в Тулу, чтобы поспеть к открытию сезона. Ночью он выехал в Тулу. Добрался он туда без приключений, и семья Труцци приняла его, как родного.
ГЛАВА IV
Опять цирк Труцци. Иностранные цирки: Марии Годфруа, Гинне, Вильгельма Сура, Саламонского. Маленькие цирки. Цнрки-зверницы. Конкуренция между цирками. Клоунские жанры. Том Беллинг — «рыжий Август». Пантомимы. «Тарас Бульба». «Русско-швейцарская борьба». Конкуренция Труцци и Сура в Ростове. Борьба любютеля Прони и борца Мази. Первая водяная пантомима. Гастроли в Ростове Анатолия Дурова.
От Труцци отец узнал много интересного. Дела цирка шли хорошо. Цирк переживал полосу расцвета. Появилось много новых цирков, и между ними шла сильная конкуренция. В каждом большом городе за год бывало два-три цирка, и потому на полные сборы рассчитывать было трудно. Из-за границы понаехало много артистов. Приезжали они семьями и часто оставались в России совсем. В то же время появилось много русских молодых артистов из учеников цирков и из артистов балаганов. Многие из них отличались большим трудолюбием, и, как только им удавалось скопить немного денег, они сами открывали маленькие цирки. Эти маленькие цирки были круглыми зданиями небольшого диаметра с мачтой в виде зонта посередине, с двумя-тремя рядами скамеек и со стоячими местами позади. Программа их походила на программу балагана с той только разницей, что в таком цирке была конюшня, а в ней две-три лошади, а иногда даже только несколько пони.
Цирки стали модными. Старые балаганщики переходили с балагана на цирк, гордясь званием директора, тогда как в балаганах их величали «хозяином». Приезжие иностранные артисты, видя барыши своих соплеменников, тоже пытали счастия и открывали цирки. Появились большие зверинцы с полуцирками при них, где брали плату отдельно за осмотр зверей и отдельно за представление. Представления состояли из нескольких номеров с животными и двух-трех номеров артистических. Афиша таких полуцирков-зверинцев обычно бывала заманчиво-крикливой. Объявлялась «Борьба с медведем» или «Человек в клетке льва».
Ввиду конкуренции работа в цирке улучшилась. Существовало уже до десяти крупных (имевших имя) цирков. В Петербурге был цирк Чинизелли, в Москве — Саламонского, на Волге гремели братья Никитины. Были известны цирки Вильгельма Сура, Марии Годфруа, Гинне, Мануила Герцога, Труцци и ряд цирков поменьше. Благодаря такому количеству цирков улучшилось материальное положение артистов. Директора сманивали к себе хороших артистов на повышенный оклад. Между артистами и директорами завязывалась переписка, посылались управляющие для приглашения нужных цирку артистов. Артисты почувствовали прочность положения и, поссорившись с одним директором, предлагали свои услуги другому, получали аванс на дорогу, мирились со старым директором, надували нового и часто даже не заботились о возвращении аванса. Крупные директора ежегодно ездили за границу и вывозили оттуда новые номера или приглашли новых артистов. Ездили за границу и Труцци и каждый год привозили то новые приемы дрессировки, то новых артистов, то неизвестную в России пантомиму.
Все самое ценное в цирковом искусстве можно было увидеть в немецких цирках Ренца, Буша и Шумана.
Амплуа клоуна тоже усложнилось. Существовали разные виды клоунов: с дрессированными животными, клоунов-акробатов, музыкальных клоунов. Эти клоунские жанры исполнялись без слов в утрированных костюмах. Клоун стал любимым персонажем цирка, и одно его появление на арене вызывало аплодисменты.
За границей появился новый герой цирка «Рыжий Август». Появление его, как рассказывали, было совершенно случайным.
В цирке Ренца служил артист, американец Том Беллинг. Служил он на амплуа клишника («человек без костей»). Так как номер его был очень короткий, то его почти не ставили на программу, и Том исполнял только обязанности униформиста. Был он хорошим товарищем и еще лучшим собутыльником. Так служил он в цирке, не выступая самостоятельно на манеже несколько лет. Однажды Ренц обратил на него внимание и поинтересовался его специальностью. Беллинг сказал, что он клишник. Ренц рассмеялся, так как при почти ежедневной выпивке Том приобрел порядочный животик.
— Хорошо, — проговорил Ренц, — скажите режиссеру, чтобы поставил вас на программу. Я хочу видеть, как вы будете гнуться.
Беллинг растерялся. Пошел в уборную, попытался сделать номер, — ничего не вышло. Дома после спектакля стал тренироваться и так натер себе нос, что он стал походить на помидор.
Утром во время конной репетиции Ренц заметил его красный нос, решил, что он пьян, позвал режиссера и приказал ему поставить Тома Беллинга на следующий день на программу.
Беллинг, узнав это, впал в уныние. Днем во время обедя в столовой артисты из сочувствия к нему наперерыв угощали его вином и пивом. Он так наугощался, что уснул тут же в столовой. Проснулся перед самым представлением, бросился в цирк. Шел уже первый номер программы. Том побежал в костюмерную. В коридоре его увидел Ренц, взял его за шиворот, посмотрел на него и сказал: «Я иду в места для публики, если через две минуты я не увижу вас в униформе, то завтра вам не придется гнуться; так как я прикажу выбросить вас вон из цирка как щенка».
Ренц дал ему подзатыльник, и Беллинг бросился к костюмеру за униформой. Костюмер увидел его красный нос, почувствовал, что от него разит, как от винной бочки, и сказал: «Беллинг, вы же знаете, что по распоряжению дирекции пьяным униформа не выдается. Я не хочу из-за вас лишиться места», — и захлопнул окно костюмерной;
Беллинг побежал в уборную. Там в глаза ему бросилась чья-то униформа. Он быстро надел ее и побежал вниз. В это время на манеж выносили ковер. Ковер начали уже расстилать. Том хотел помочь товарищам, но так как хмель еще не прошел, то он споткнулся и упал. Он встал растерянно и начал в смущении стряхивать с себя опилки и тут только заметил, что рукава у него болтаются на пол-аршина. Оказалось, что он с перепугу надел на себя специально сшитую униформу артиста геркулеса Папи Бруно.
Падение Тома Беллинга, костюм не по росту, взъерошенные волосы, красный нос вызвали комерический хохот публики. Том растерянный уходил за кулисы, а цирк кричал: «Браво, Август!.. Браво?..»
Публика решила, что все это проделано нарочно и отнеслась к Беллингу, как к Иванушке-дурачку. («Август» по-немецки соответствует нашему «Иванушке».)
За кулисами Том получил здоровую затрещину от геркулеса Папи Бруно. Бруно потащил его в уборную и стал снимать с него униформу. В это время в уборную вошли Ренц и режиссер. Ренц велел Тому опять надеть униформу, во время перемены выйти на арену и опять зацепить за что-нибудь и упасть. Оказалось, что в то время, как складывали ковер, галерка кричала неистово: «Браво, Август!.. Во ист Август?.. Браво, Август!.. Где Август?..» Одобрения публики навели Ренца на мысль показать ей еще раз Беллинга в том же костюме.
Когда Том вышел и, зацепившись обо что-то, упал, цирк опять (особенно галерка) зааплодировал и закричал: «Браво, Август!.. Браво!..».
Все это случилось в субботу под воскресенье. Судьба Тома Беллинга была решена. Во время пантомимы Ренц позвал его в буфет, угостил коньяком, дал ему сигару и велел завтра же выйти на арену в той же униформе и проделать тот же номер с падением. Беллинг охотно согласился и робко попросил Ренца, чтобы он разрешил ему завтра днем не показывать своего номера клишника. Ренц рассмеялся и сказал, что отменяет свой вчерашний приказ.
На другой день было воскресенье. Цирк был полон. Выход Беллинга прошел с огромным успехом, и через неделю Беллинг был самым популярным цирковым артистом Берлина. Никто не знал его как Беллинга — он был Август.
Ренц купил ему шикарный костюм, трость, цилиндр. Он был единственным человеком в цирке, которому разрешалась работать в униформе пьяному. А пил он все свободное время, так как стоило ему показаться в любом кабачке, как каждый из посетителей считал свом долгом угостить его. Ренц полюбил появляться с ним в ресторанах. А Беллингу даже на улице не давали проходу, крича ему в след: «Браво, Август!.. Помогай!..» Перед началом представления вслед за собственным выходом, Ренц установил выход Августа. Каждый раз Август-Беллинг встречался громом аплодисментов.
Беллинг стал совершенствовать свой жанр. Так как нос его пришел в нормальный вид, он стал его подкрашивать красной краской, сделал себе огромные перчатки. Ренц дал ему большое жалование и не отпускал от себя. Беллинг сделался его советчиком и другом. По натуре Беллинг был спокойный и незлобивый человек.
После появления Беллинга-Августа его стали копировать. Так как Беллинг был рыжий, то артисты, подражая ему, надевали рыжий парик. Нос мазали яркой красной краской. Одевались, в униформу, но шили ее нарочно не по росту, делали мешковатой и карикатурной. Так появилась одна из разновидностей клоунского жанра — «рыжий Август». У нас в России первым «рыжим Августом» был Билли Гайден.
Меня очень интересовало, откуда появился первый «белый клоун». Я спрашивал об этом отца. Отец сказал, что сам был заинтересован этим вопросом, расспрашивал иностранных артистов, и они рассказали ему, что первый «белый клоун» появился в Англии. И появился он тоже будто бы случайно. В один английский городок приехал на ярмарку балаган. В труппе был талантливый артист-комик. В одной из пьес он исполнял роль ревнивого мужа, красавицы-жены. По пьесе он постоянно искал спрятанных всюду женою любовников. Подсматривая за женою, ревнивец-муж забрался ночью в ларь с мукой и вылез оттуда белый, как мел. В этом же городе был мельник Питер, придурковатый парень, расхаживавший, по городу в рабочем костюме, белом от муки. Жители городка постоянно подшучивали над ним и разыгрывали его. Однажды в театре, когда комик-актер вылез из ларя весь белый от муки, кто-то из публики крикнул: «Да это наш Питер!.. Браво, Питер!..» Встречая на улице мельника, начали смеяться над ним, что он выступает в балагане. Когда же на улице появлялся комик-актер, публика кричала: «Питер!.. Питер!.. Питер!.. Браво, Питер!» «Где Питер?» — вызывала она его в театре. Так к бледному от ревности и муки мужу публика сама прилепила имя мельника.
Передавая рассказ отца, я не устанавливаю, конечно, фактического происхождения амплуа «Августа» или «белого клоуна». Дело историков цирка и театра решать подобного рода вопросы. Я передаю только те легенды, которые ходили среди артистов цирка по поводу зарождения того или иного амплуа. Мне же самому не раз приходило в голову, что «белый клоун» сродни Пьеро, одной из масок народной итальянской комедии.
В русских цирках того времени (девяностые годы) в подражание Бушу и Шуману появились длинные пантомимы. На декорации, костюмы и реквизит затрачивались крупные суммы. Ставили такие пантомимы и Труцци.
Кому-то из братьев Труцци пришло в голову поставить пантомиму «Тарас Бульба». Сценарий составлен был очень хорошо. Пантомима шла без слов в нескольких картинах. Старик Максимилиан играл Тараса Бульбу. Энрико и Жижетто играли Остапа и Андрея. Остап и Андрей появлялись на телеге, запряженной быками. Сыновей встречала старуха-мать, вызывала из хаты Тараса. Тот, прежде чем обнять сыновей, бился с ними на кулачки. Андрея Тарас побивал; Остап побеждал отца. Радостный отец уводил сыновей в хату. Выходили на арену казаки и казачки, поздравляли Тараса с возвращением сыновей, устраивали пляски, и шел основной номер циркового порядка: скачки и вольтижировка казаков не вокруг сцены, а через арену карьером от одного прохода до другого. После скачек по приказу Тараса выносили полное боевое казацкое снаряжение. Приводили трех коней. Тарас в сопровождении сыновей отправлялся в поход, провожаемый плачущей женой и односельчанами. Затем шла картина «Казацкий стан», изображавшая боевую жизнь казачества. Начиналась она военными плясками. Появлялись еврей-маркитант и цыганка. Наступала ночь. Освещенный фонарями лагерь спал. Появлялись две женщины: цыганка и укутанная в плащ польская панна, возлюбленная Андрея. Они искали Андрея, находили, будили его. При свете фонаря Андрей узнавал свою возлюбленную. Панна говорила, что они голодают, что у них нет хлеба. Андрей набивал мешок хлебом и уходил с женщинами. Все это видел еврей-маркитант. Проснувшемуся Тарасу еврей рассказывал, что Андрей ушел с женщинами. Тарас выстрелом будил лагерь. Приказывал казакам садиться на коней. Лагерь пустел.
Следующая картина изображала богатый польский дом. На арене расстилался ковер, изображавший паркет. По барьеру ставили тумбы с золочеными канделябрами и множеством свечей. Канделябры, соединенные бикфордовым шнурам, очень эффектно зажигались все сразу. В польских костюмах выходили пан и его дочь. Появлялся Андрей с мешком хлеба. Пан обнимал его, благодарил и предлагал переодеться; Андрей и его возлюбленная уходили. Выходили парами одетые в атласные костюмы поляки и полячки, они усаживались на бархатные кресла, расставленные по барьеру между канделябрами. Их угощали вином. Пан мимикой объяснял, что сейчас появится дочь его с женихом. На арену выходил Андрей в золотых рыцарских доспехах, под руку с панной. Они обходили всех с поклоном и садились по правую и левую руку пана-отца. Начинался бал. Две пары солистов открывали общую мазурку. По требованию пана приносили ленту и меч. Пан надевал на Андрея ленту, и все присутствующие присягали ему. Пан передавал меч Андрею.
Четвертая картина была батальной. Шла война казаков с поляками (погоня на лошадях, бой пеших войск). Для этих сцен брали настоящих солдат и несколько дней репетировали с ними. В финале с одной стороны выезжал рыцарь в золотых доспехах, с другой, — Тарас Бульба. Между ними происходил поединок на саблях. Тарас выбивал саблю из рук рыцаря, Хватал ружье и прицеливался в противника. По его приказу рыцарь слезал с коня. Когда же Тарас требовал, чтобы он поднял забрало, тот отказывался. Тарас стрелял в него и убивал наповал. Появлялся Остап, подходил к убитому, узнавал Андрея, и горюя, припадал к его груди. Тарас прогонял его, пинал злобно ногой тело Андрея, а Остапа обнимал и целовал. (Эта сцена даже в мое время, когда мне приходилось играть Андрея, шла под аплодисменты.) Тарас и Остап уходили с арены. Появлялись поляки и уносили тело Андрея. На арену выходил опять Тарас, он вел своего коня за повод, и искал любимую трубку, которую потерял во время боя. Трубку он находил, но в тот момент, когда он нагибался, чтобы поднять ее, налетали поляки, скручивали Тарасу веревками руки и ноги и валили на землю. Устраивали у дерева костер, к дереву привязывали Тараса, костер поджигали. Оркестр замолкал и за сценой хор пел украинские народные песни. Поляки уходили. Появлялись опять казаки, бросались к костру, освобождали Тараса. Он был мертв.
Костер, на котором жгли Тараса, был пиротехнический из бенгальского огня. Тарасу под рубашку привязывали два бычьих пузыря, наполненных фуксиновой краской. В рот ему давалась
губка, смоченная тем же фуксином. Пузыри прорезались перрчииным ножом, и по белой рубашке струйками стекала алая кровь. Когда же артист, игравший Тараса, нажимал на губку, то с уголков его губ текла кровь.
Этот технический прием попал в цирк, как говорили, из средневековых мистерий.
Последняя картина была апофеозом. Происходил бой между казаками и поляками. Казаки побеждали. Шестнадцать человек выносили большие носилки, на них клали тело Тараса Бульбы. К носилкам подводили взятых в плен и закованных в кандалы пана и его дочь. На возвышении, верхом на лошади, появлялся Остап в боевом снаряжении. Пел хор, переодетый в казачьи костюмы. Зажигался бенгальский огонь.
Пантомима «Тарас Бульба» пользовалась большим успехом и делала хорошие сборы, так как это была первая пантомима на русский сюжет, да еще автора-классика.
Труцци понимали, что пантомимы нравятся публике и продолжали ставить их. Особенно много работал над пантомимами Энрико Труцци, человек, обладавший большим художественным вкусом и фантазией. Музыку для пантомим писал он сам. Пантомимные репетиции он вел со скрипкой в руках. Часто он останавливал репетицию и ходил, играя на скрипке, по манежу. Это было знаком, что он что-то придумал и прежде, чем рассказать о придуманном другим артистам, проверяет себя, играя на арене. Он особое внимание уделял музыке, утверждая, что удачное музыкальное сопровождение — половина успеха. Это он первый ввел в цирке смешанный оркестр струнных и духовых инструментов. Огромное значение имело то, что все Труцци были прекрасными мимистами. Вся семья выступала в пантомимах, исполняя самые разнообразные роли. В женских ролях отличались жены молодых Труцци, все они были хорошие артистки, выделялась среди них жена Рудольфо — Мариетта.
Цирк в Туле открылся очень торжественно. Отец выступал во втором отделении. В середине его номера среди публики началось волнение, многие стали вставать и уходить из цирка. Отцу передали шопотом, что в городе за рекой начался большой пожар. Публика бросилась на пожар потому, что был ветер и всех охватил страх, что пожар может перекинуться на близлежащне строения. Представление было окончено при пустом почти цирке.
На другой день во время представления полиция закрыла цирк вследствие смерти Александра III (1894 год). Был объявлен траур на полтора месяца, и все увеселения были прекращены.
Труцри ходили угрюмые, денег было мало. Единственным развлечением были репетиции. Среди артистов царило уныние. Наконец, спектакли возобновились, но сборы были очень скромные. Рудольфо Труцци уехал в Ростов-на-Дону строить цирк. В это время в Тулу приехал артист Николь из цирка Саламонского. Он был очень хороший клоун, но, к несчастью, страдал астмой, и ему пришлось бросить работу. Он пришел в цирк. Выступления отца ему очень понравились, и Николь обещал поговорить с Саламонским, чтобы он пригласил отца в свой цирк в Москву на зимний сезон.
Труцци меняли программу, приглашали гастролеров, но сборы были попрежнему слабые. Немного улучшил дело выписанный гармонист Петр Невский. В конце сезона геркулес Мази стал вызывать на русско-швейцарскую борьбу на поясах местных силачей. Приз был двадцать пять рублей. Такие вызовы практиковались в цирках, имели успех у публики и положили начало французской борьбе.
Обычно подыскивались любители-борцы на субботу и воскресенье, выпускалась громкая афиша. Борьба шла несколько дней. После ряда схваток борец-циркач ложился под сильного борца-любителя, и дирекция выписывала другого борца, который клал на обе лопатки силача-любителя и вызывал новых любителей-борцов.
В цирках в эти годы выступал ряд атлетов с тяжестями и борцов с приемами швейцарской борьбы. Наиболее известны были Эмиль Фосс и Петр Крылов.
Из Ростова неожиданно пришло письмо от Рудольфо Труцци, что директор Вильгельм Сур строит в Ростове цирк. Рудольфо извещал отца и братьев, что решил не прекращать начатой постройки и конкурировать с Суром. Рудольфо в это время уже почти самостоятельно вел все дела, и старики и братья всецело доверяли ему н во всем соглашались с ним.
У Труцци с Сурами была давняя вражда, они не раз уже выступали как конкуренты, и всегда до сих пор победа была на стороне Труцци.
У Сура были две дочери-красавицы и два сына, Все четверо были хорошими артистами. Сам Сур был большим авантюристом, и в то же время в нем было какое-то непонятное обаяние. Славу его цирку создавали дочери Ольга и Марта; жили они очень широко. У Сура было два управляющих — Бранд и Кремзер. На их обязанности лежало заранее, еще до приезда цирка в город, снять для семьи Сура целый этаж в одной из лучших гостиниц. Будуары дочерей обивались штофом, привозились мебель, выездные лошади, У Сура был свой повар. Какие бы доходы ни давал цирк, денег все равно нехватало. Сур был вечно в долгах, выписывал направо и налево векселя. Вильгельм Сур был высокий, представительный старик с большой седой бородой. Он умел, как никто, занимать деньги. Своих управляющих он учил тому же. Они должны были уметь не только выстроить в новом городе без денет цирк, но и ухитриться прислать денег для переезда цирка и семьи Сура. Проделывали это управляющие так.
В каждом новом городе, куда приезжал цирк, набирали целый штат служащих (кассиров, билетеров, контролеров) с залогами. Как только цирк приезжал, Сур старался в первые дни, пока бывали большие сборы, как можно больше занять денег, а потом всегда умел улизнуть от кредиторов.
На пышных и очень изысканно сервированных обедах Сура бывали всегда представители власти, именитые граждане города и состоятельные люди, ухаживавшие за его дочерьми. Деньги часто занимались тут же во время обедов и ужинов. Обставлялось все это очень правдоподобно и прилично. Входил управляющий и докладывал Суру, что случайно купил лошадь или фаэтон, говорил, что привезли шелковую материю и нужно сейчас же уплатить по счету. Сур вынимал чековую книжку и выписывал нужную сумму, тогда управляющий замечал, что платить надо сейчас наличными, что по чеку получить уже нельзя, так как банк заперт. Тогда Сур обращался к присутствующим и просил выручить его до завтра или до конца спектакля, дав взаймы пятьсот-шестьсот рублей. Всегда находился кто-нибудь из гостей, который давал просимую сумму. Если денег при себе не было, то доверчивому гостю, готовому дать в долг, предлагали лошадь с собственным кучером, он ехал домой и привозил требуемую сумму. Бывало, что Сур вручал своему доверителю чек. Но, когда пытались на другой день получить деньги по этому чеку, то оказывалось, что никаких денег на текущем счету Сура не значилось.
Кредиторы Сура подавали в суд, получали исполнительные листы, но у Сура все было предусмотрено заранее, и все его имущество номинально принадлежало другому лицу. Цирк покидал город всегда неожиданно, уезжал неизвестно куда. О том, куда едут, знал только Сур и его управляющие. Ни семья, ни артисты никогда не знали, где будут играть дальше. Сур никогда не объявлял о последних представлениях цирка. Когда он решал покинуть город, управляющие за несколько дней до отъезда тайком отправляли имущество цирка.
Дочери Сура каждый день получали корзины цветов со вложенными туда карточками или записками от именитых и влиятельных лиц города. В цирке им подносились от тех же лиц ценные подарки. На самом же деле и цветы и подарки покупали пораспоряжению Сура его управляющие, и делалось это из сумм цирковых сборов. Но подарки и цветы действовали на тех, кто ухаживал за красивыми дочерьми Сура, разжигали их страсть, и они сами начинали разоряться на подношения.
Однажды с Вильгельмом Суром случилась замечательная история. Из Кишинева, где он остался должен многим, Сур переехал в пограничный городок Измаил. В Измаиле у Сура были хорошие сборы. О пребывании цирка в Измаиле узнали кредиторы. Они приехали в Измаил, вызвали судебного исполнителя и потребовали описи имущества. Имущество Сура было переписано на имя его управляющего, но управляющий был в отъезде и все нужные документы увез с собой. Кредиторы успели описать и оценить лошадей. Неописанную часть имущества Сур рано утром отправил за границу. Теперь все мысли его были направлены к тому, чтобы выручить лошадей. К его счастью, за Ольгой Сур ухаживал начальник пограничной охраны. Сур уговорил его дать письменное разрешение на перевод лошадей в Румынию и выдать в спешном порядке паспорта его дочерям и артистам. Измаил стоял на самой границе Румынии. Жители смеялись, что в городе слышен был лай румынских собак. Суру нужно было увести лошадей из цирка так, чтобы их не могли остановить, и вот он придумал следующее.
Он назначает свой бенефис, отсылает всех ненужных ему членов своей семьи за границу. В программу включает большую конную пантомиму. Вечером на спектакле присутствуют караулящие Сура кредиторы. Несмотря на свое раздражение против авантюриста, они аплодируют и артистам, и ему самому. Началась пантомима. Всадники-артисты лихо проносились через арену, объезжали по улице вокруг цирка и опять мчались по арене. Третий раз, проскакав по арене, артисты и кучера как были, в костюмах и гриме, поскакали к границе, где стоял пограничный отряд. Там их уже ждали и беспрепятственно пропустили через границу.
Сур в это время был в цирке. Ничего не подозревавшие кредиторы досматривали представление. Наутро, когда они явились за лошадьми, конюшня была пуста. Бросились искать Сура, его нигде не оказалось. Он переехал границу в бочке, которую отправил среди других еще не описанных кредиторами вещей.
Эта была одна из бесчисленных афер Сура, может быть, самая анекдотическая.
По отношению к артистам он был также беззастенчив. Часто не выплачивал жалованья, задерживал его, несмотря на хорошие сборы. Артисты сердились на него, ругали, собирались избить и даже убить. Но Сур как-то так умел повернуть всякий резкий разговор и всякое столкновение, что артисты уходили от него, иногда не только прощая недоданные им трудовые гроши, а еще отдавая ему свои последние сбережения.
Таков был директор одного из крупных цирков.
Рудольфо Труцци прислал письмо с предложением кому-нибудь из братьев съездить в Москву, чтобы ангажировать артистов, сделать новую униформу и купить большой ковер.
Энрико согласился исполнить поручение брата. Ему удалось ангажировать приехавшего из-за границы велосипедиста Жан-Жоре, акробата-борца Папи Бруно и силача Пятлясинското. Из Москвы Энрико привез сукна для униформы, новые газокалильные фонари для освещения и дорожку для ковра.
Труппа начала усиленно готовиться к Ростову. Репетировали новую пантомиму «Свадьба в Малороссии». Готовили новые номера.
В апреле цирк переехал в Ростов, и на пасху даны были первые представления у Труцци и у Сура. Обе труппы были одинаково сильны. Цирк Труцци стоял в городе, цирк Сура на базаре. Сборы в обоих цирках были битковые. Программа у Труцци была блестящая; труппа — такая богатая, что половина артистов не работала. В течение представления униформа менялась три раза. Суровские артисты не допускались бесплатно в цирк Труцци, и Сур не пускал к себе даром артистов своего врага.
Публика один день посещала Сура, другой день Труцци, и, когда зрителей спрашивали, где лучше, они отвечали: «Лучше там, где я был сегодня». На самом же деле все зависело от афиши, и там, где афиша была новее и интереснее, публики было больше.
Афиши печатались в разных типографиях, и конкуренты всегда старались узнать (подкупая наборщиков), какова афиша вражеского цирка. Труцци все же перехитрил Сура, нанял специального человека, который ездил печатать афиши в Новочеркасск.
Заслышав, что в Ростове работают два больших цирка, артисты отправлялись в Ростов. И директора брали их, лишь бы талантливый артист не попал в труппу противника. Борьба не на живот, а на смерть шла между цирками целых два месяца. Труцци побивал Сура пантомимами, причем наибольшим успехом пользовался «Тарас Бульба». У Сура было три управляющих, в обязанности которых входило отыскивать все новых и новых артистов. Поэтому случалось, что программа Сура была сильнее программы Труцци. Тогда Труцци пригласил к себе на работу атлетов Пятлясинского и Мази. Они вызывали на борьбу[13] любителей-силачей, платя им по пятидесяти рублей премии. Желающих бороться оказалось много. В день иной раз записывалось до восьми человек. Атлеты клали на обе лопатки одного за другим. Наконец, Труцци нашли на базаре мясника Проню. Это был очень сильный человек большого роста. Про силу Прони в Ростове ходили легенды, и потому, когда он вышел в одно из воскресений на арену с предложением бороться, публика потребовала, чтобы борьба состоялась тут же.
Труцци не знали, что делать. Тогда старик сказал что-то по-итальянски одному из сыновей, ушел с арены и приказал вынести пояса для швейцарской борьбы. Пояса одели на Проню и на силача Мази. Но когда Проня взялся за ручки и хотел поднять Мази, ручки от пояса оторвались и остались у него в руках. Это вызвало гром аплодисментов доверчивой публики, которая решила, что ручки оторвались благодаря непомерной силе Прони. На самом же деле хитрый старик Труцци подрезал ручки, чтобы борьба не могла состояться в этот день.
Состязание борцов назначили через два дня. Афишу выпустили накануне, и публика уже с утра раскупила все билеты, а вечером множество народу толпилось у цирка, ожидая третьего отделения, когда была назначена борьба.
Появление Прони в цирке вызвало гром аплодисментов. Когда он поклонился, как его научил Труцци, публика пришла в неистовство.
Проня посмотрел один номер программы и пошел в буфет. Публика повалила за ним, наперерыв предлагая ему выпить перед борьбой. Он отказался. Наконец, началось третье отделение, и объявили борьбу. Вышли Прюня и Мази. Им обоим надели пояса. Тут, прежде чем приступить к борьбе, Проня попросил водки. Ему принесли графин и рюмку. Он попросил стакан. Налил стакан, выпил его залпом, не стал закусывать, перекрестился и начал бороться. Взял Мази за ручки пояса и сразу положил его. Публика бросилась на манеж и начала качать Проню.
На следующий день Труцци заключили с Проней нотариальный договор на работу в цирке. За каждую борьбу Проня получал пятьдесят рублей независимо от того, положат его или нет. Неустойку установили в тысячу рублей, с тем чтобы Проня не мог в Ростове бороться нигде, кроме цирка Труцци. Поручителем за Проню была его жена, у которой были дом, корова и лошадь.
Через день была назначена борьба Прони с борцом-акробатом Папи Бруно. Проня поборол его в две минуты. Еще через день была объявлена борьба Прони с Пятлясинским. Цирк был переполнен. Борьба продолжалась десять минут и окончилась вничью. Через день Пятлясинский подставил Проне ножку и уложил его. Публика буквально озверела. В Пятлясинского полетели стулья, палки, все, что попадалось под руку возмущенному зрителю, летело на манеж. Проня потребовал реванша. Пятлясинский отказался.
Тогда вышел ростовский богач-мясник и поставил на Проию сто рублей.
Через день состоялась вторичная борьба. На этот раз Проня дал подножку и уложил Пятлясинского. Тут уж публика не возмущалась. Она кричала, что это правильно, и требовала, чтобы Проне было уплачено сто рублей премии. Полиция стала на сторону публики, и деньги Проне были выплачены. Публика тут же стала собирать деньги на следующую борьбу Прони с Пятлясинским на звание чемпиона Ростова.
Было собрано сто пятьдесят рублей. К общему удовольствию Проня в двенадцать минут положил Пятлясинского. В это время на арену внезапно вышел человек громадного роста и вызвал на борьбу в один вечер и Пятлясинского и Проню. Это был очень сильный борец Понс.
Труцци сделали с Проней еще три сбора, потом уже выпустили Понса. Вообще режиссерами в борьбе были Труцци: они научили Проню сделать ножку Пятлясинскому, они же выписали Понса.
Но Труцци пришлось долго уговаривать Понса лечь под Проню. Наконец, он согласился и то не на ковре, а за ковром. Но публика не очень-то разбиралась в правилах борьбы, ей было достаточно и этого. В то время как шла борьба, Труцци приготовили новый удар Суру.
В Новочеркасске был заказан громадный чан из дерева. За цирком построили леса и под «двунадесятый» праздник, когда цирк не играл, перевезли чан в разобранном виде в Ростов. Шесть бондарей и десять плотников работали над чаном. Была выпущена заманчивая афиша, гласившая:
В том же Новочеркасске был сшит брезентовый ковер. Он был окрашен масляной краской. На цирковой барьер был поставлен второй барьер. Вода достигала аршина с четвертью глубины. Оркестр был убран, на его месте устроена сцена. На сцене была сделана мельница, и оттуда водопадом лилась вода. Сцена, мельница и водопад были построены своими силами, без инженеров. Сюжет пантомимы был несложен, так что много репетиций не потребовалось. Прошла пантомима при переполненном цирке. Публика дружно аплодировала и вызывала дирекцию. Старик Труцци и тут не удержался от фортеля. Он вышел на аплодисменты в старом фраке. Раскланиваясь, он стал отступать и как бы нечаянно упал в воду. Цирк не хохотал, а стонал и задыхался от смеха.
В пантомиме больше всего имели успех комические моменты и всякие трюки. Из прозрачного брезента был сделан костюм очень толстого человека. Костюм надувался воздухом и, когда падал в воду, не тонул. По арене, превращенной в бассейн, катались на лодках. Был сделан мост, который ломался, и люди сыпались с него в воду. Пантомима шла пятнадцать дней подряд. Ночью после представления приезжала пожарная команда и перекачивала воду обратно в бак, стоявший на возвышении за цирком.
Приблизительно в это время отец получил из Москвы письмо от Саламонского с предложением приехать к нему в цирк на зимний сезон на жалованье двести рублей в месяц. Отец ответил согласием. О своем скором переезде в Москву он сообщил Труцци. Рудольфо стал его отговаривать, предложил ему то же жалованье. Старик Труцци не советовал отцу переходить к Саламонскому. Энрико указывал, что в Москве работают два крупных клоуна — Танти Бедини и Анатолий Дуров. Конкурировать с ними отцу будет трудно.
Танти Бедини был талантливый артист. В России он работал второй сезон. Он первый в Москве вывел на арену дрессированную свинью, умевшую вальсировать, прыгать через барьер, стрелять из пистолета. История со свиньей нашумела на всю Москву. Подвыпившие московские купцы купили у Танти свинью за пятьсот рублей. Поджарили ее в одном из ресторанов и пригласили на обед Танти, угощая его «ученой свиньей». Танти ел охотно.
Вечером к изумлению купцов он выступал в цирке со своей свиньей. Тут и вскрылся его обман. Он надул купцов и продал им другую свинью, которую он начал обучать и которая уже умела танцовать и кланяться. Купцам в голову не приходило, что у Танти могут быть две свиньи.
Танти в это время был одним из наиболее, популярных цирковых артистов. У него было много подражателей, и, по мнению отца, его соотечественник Танти-Ферони был гораздо талантливее Бедини. Ферони был более смел, ловок и трудолюбив и, кроме того, был превосходным пантомимистом. Многие артисты говорили про него, что копия лучше оригинала.
Отец еще служил у Труцци, когда на гастроли к Труцци приехал Анатолий Дуров. Отца познакомили с ним. Это был молодой, здоровый человек среднего роста с бегающими глазами, веселый и остроумный. Дуров начал свою карьеру с подражания Танти Бедини. В Ростов он приехал за три дня до дебюта. На шести вазах привезли его животных: собак, петухов, кошек, крысу, дикого кабана, свинью. На свинье он разъезжал в колясочке по городу и на колясочке было написано: «Клоун Анатолий Дуров».
В день его дебюта отец был снят с афиши и был занят только в пантомиме. Первая гастроль Дурова прошла с большим успехом. Все номера с животными были блестящие. Но отца больше всего поразило чтение стихов с арены, причем чтение очень хорошо принималось публикой. Дуров выступал и как акробат: прыгал с подушки через десять человек, делая в воздухе сальтомортале. Подушка лежала на особого рода конструкции, сделанной конусом в пол-аршина с одной стороны и сходившей на-нет — с другой. Сверху приделаны были планки из березы, и они очень пружинили. Подушка ставилась посреди манежа. Дуров уходил к униформе, разбегался, ударялся о подушку, та пружинила и помогала ему сделать передний сальто[14] в-воздухе через несколько человек, доводя число их до десяти. Дуров ходил еще по арене на ходулях аршина в три вышиною.
Выступление Дурова занимало целое отделение. Для отца это было новостью. Говорил Дуров прекрасно, рассказывал, по словам отца, бесподобно. Его мелкие каламбуры были злободневны. Он затрагивал местные темы (городскую управу, освещение, мостовые), вызывая бурные аплодисменты. Разговоры его со свиньей были насыщены остроумными шутками и каламбурами. К сожалению, отец их не запомнил.
Через несколько дней по приезде Дуров начал репетировать новый номер — «Война животных». Но этого номера отец уже не видал, так как уехал в Москву. Во время гастролей Дурова отец как клоун не выступал. Дуров поставил условием своих гастролей, чтобы при нем ни один клоун не работал.
Труцци очень жалели, что отец уезжает, так как под руководством Энрико он начал дублировать почти все мужские роли в пантомимах, и из него стал вырабатываться хороший мимист.
Отец дружески простился с семьей Труцци и с артистами и уехал в Москву. Цирк Труцци вскоре тоже снялся и переехал в Тамбов.
ГЛАВА V
Цирк Саламонского. Ричард, Рибо. Алеша Сосин. «Люди воздуха» — семья Пасетти. Буфет цирка. Режиссер Каррэ. Пантомима «Жизнь мексиканских фермеров». Первый ребенок. Пантомима «Бой быков в Испании». Гастроли в Риге. Цирк Каррэ. Бернардо. Антре «а-ля-Беккер» и «Фотограф».
В Москве в цирке отца встретил артист Николь. Он помог отцу устроиться в номерах, где жили почти все артисты Саламонского. Отец привез с вокзала вещи и пошел знакомиться с Саламонским.
Нового директора своего он застал в буфете окруженным артистами. Слышалась немецкая, французская и итальянская речь. Никто не говорил по-русски.
Саламонский заговорил с отцом по-немецки. Отец ответил ему на том же языке. Саламонский спросил, русский ли он. Отец сказал, что русский. Тут кто-то по-французски прошелся по адресу отца. Отец попросил выражаться полегче, так как он знает и французский язык. Саламонский оторвался от карт, в которыe играл, и спросил отца, какие языки он еще знает. Отец ответил„ что владеет английским, но что лучше всего знает итальянский язык. Саламонский пригласил его сесть с ним за карты. Отец отказался. Саламонский потребовал бутылку коньяку и начал угощать артистов. Так произошло первое знакомство отца с директором одного из крупнейших цирков России.
Постепенно отец стал знакомиться с труппой. Среди артистов был Ричард Рибо — «рыжый Август», не имевший конкурентов. Отец как-то разговорился с ним. Рибо рассказал ему многое о Саламонском, о его конкуренции с братьями Никитиными. Обрисовал труппу и работу в цирке.
Вся жизнь артистов проходила или на арене или в буфете. По договору буфет открывался в двенадцать часов дня. Все артисты с репетиции шли в буфет, играли там в карты, в домино, выпивали. Часто к артистам приходили их жены, их тоже вели в буфет и там угощали. В пять часов артисты уходили домой обедать и отдыхать до представления. После же представления засиживались в буфете долго, часто до утра. Туда же являлись и завсегдатаи цирка; те, кто были побогаче, угощали своих любимцев-артистов.
Труппа Саламонского в этом сезоне почти сплошь состояла из иностранцев. Русские артисты были наперечет. Рибо очень хорошо говорил по-русски, отцу это было приятно, и он охотно беседовал с ним.
Рибо рассказал отцу, что Саламонский купил у Никитина цирк с условием, чтобы тот не имел больше права открывать цирк и Москве. Цирк Никитина находился рядом с цирком Саламонского на Цветном бульваре. После покупки цирка Саламонский перестроил его под манеж верховой езды. Этот манеж был для нero очень выгоден. В нем обучались верховой езде высоко-поставленные лица Москвы, их жены и дети. Кто был познатнее и побогаче, с тех Саламонский не брал денег. В благодарность за обучение они делали ему богатые подарки.
Свой цирк он начал строить без копейки денег. Его подрядчик сам заплатил за место для цирка. В день открытия у него не было ни копейки. Кредитный рубль, полученный им за первый проданный билет, он спрятал, вставил его в серебряную рамку и хранил, говоря, что этот рубль якобы принес ему счастье. Был он вообще очень суеверен.
К приезду отца труппа еще не была в полном сборе. Ждали нескольких артистов из-за границы. Из русских артистов приглашена была труппа Федосеевского, известная своими икарийскими играми.
Федосеевский был антиподист, работал он ногами. Ему приносили подставку (иногда же он просто ложился на землю), он ложился на нее, подкладывал под спину валик и ногами подбрасывал своих партнеров-подростков. Когда те садились ему на подошвы, он толчком ставил их на ноги. Крутил их волчком, заставлял ложиться на спину. Подбрасывал их вверх в сидячем положении, и они во время полета успевали проделывать в воздухе сальтомортале и опять попадали к нему на подошвы в том же сидячем положении. Число таких сальто он доводил до двадцати пяти. Кроме того, он проделывал с подростками много разнообразнейших эволюций. Номер этот очень старинный. Его мало кто делает, потому что он требует большой тренировки и антиподиста и работющих с ним подростков. Подростки же с возрастом тяжелеют, становятся непригодными для работы, и надо обучать новую молодежь. Таким образом тренироваться надо долго, а работать всего несколько лет. Номер же этот всегда имел успех.
Саламонским на зиму был ангажирован знаменитый русский прыгун Алеша Сосин. Позднее он был известен за границей как лучший в мире прыгун в партере. Его специально ангажировали для «большого трамплина». В этом номере должны были участвовать все артисты-прыгуны цирка. Отцу тоже пришлось принимать в нем участие. Он быстро освоил его. Заключался номер «большой трамплин» в следующем:
Из-за кулис на арену выдвигалась наклонная доска шириною в один аршин, длиною в двенадцать-пятнадцать аршин. У барьера доска упиралась в козлы. От козел шла вторая, сильно пружинившая доска. Нужно было пробежать по первой наклонной доске, прыгнуть на вторую пружинившую доску, держать ноги туго в коленях; тогда вторая доска подкидывала артиста сильно вверх или в длину в зависимости от желания прыгуна. Прыгающий мог лететь аршин десять-двенадцать через всю арену.
На другой стороне арены клали широкий матрац, набитый соломой. Прыгун попадал на него ногами.
Номер этот очень эффектен, так как прыгуны следуют один за другим, проделывая в воздухе всяческие эволюции. В этом номере каждое движение должно быть строго рассчитано, только тогда он может быть выполнен и прыгун придет на матрац в нужный момент ногами вперед. Артисты в этом номере все время состязаются в ловкости, придумывая новые приемы прыжка, чтобы выделиться. Алеша Сосин проделывал с трамплина совершенно невероятный по своей ловкости прыжок. Он отскакивал от доски, летел вверх, делал сальтомортале назад через спину, потом поворачивался и делал второе сальто головой вперед, то есть проделывал за один прыжок два сальтомортале – заднее и переднее, и только потом касался ногами матраца. Прыжок этот всеми артистами считался феноменальным по ловкости; к сожалению публика не всегда понимала его колоссальную трудность.
Для того чтобы усложнить номер, ставили между доской и матрацем препятствия в виде шеренги людей (до двадцати), лошадей, солдат с ружьями. В то время как артист работал в воздухе, раздавалась команда: «пли!» И солдаты стреляли.
Этот номер я видел только раз за всю мою жизнь в цирке Никитиных в Астрахани.
Из русских артистов у Саламонского работал еще клоун Козлов с дрессированными животными. Как клоун он был мало культурен, но дрессировщик был замечательный. Саламонский не выпускал его в клоунских номерах, а только заставлял работать с животными.
В труппе были музыкальные клоуны, братья Пермани, клоуны Дедик и Пепи Вельдеман[15], и акробаты братья Алъмазио. Саламонский считал клоунов и наездников основою цирковой программы и составлял ее так, чтобы через номер было выступление одного из клоунов. «Если хороши клоуны в цирке, то сборы обеспечены», — говорил он.
Наездников в труппе было двое: прекрасный жокей Курто и сальтоморталист на лошади Наполеон Фабри.
Курто впоследствии прославился тем, что сделал сальто-мортале с одной жокейской лошади на другую. Наполеон Фабри делал сложные сальтомортале на панно.
Кроме наездников, было четыре наездницы. Акробатов Саламонский пригласил нескольких, среди них выделялись братья Филиппи.
В последнее время в цирках установился обычай, чтобы клоуны выходили на арену во время номера наездника и делали коротенькие репризы, маскируя этим передышки между номерами наездника. Такие репризы не ставились в программу, клоун просто заполнял шутками и разговорами паузы между номерами. Рибо не выступал ни с каким номером специально и был, несмотря на это, любимцем публики. Он был в России первым «рыжим Августом», который заговорил с арены цирка, его выступления были «под ковром», т. е. между номерами. Если он случайно во время номера появлялся в униформе, то галерка кричала ему: «Рибо, помогай!» Он был высокого роста. Рот у него был огромный — буквально до ушей. Когда галерка начинала кричать, он грозил ей кулаком, а потом свой большой кулак запихивал в рот. Делал он каскады, т. е. падал бесподобно.
На край манежа клали доску. Рибо забирался в оркестр и оттуда летел спиной на доску. Несмотря на свой большой рост, он был превосходный клишник, прекрасно делал шпагаты, то есть садился на землю, растягивая в разные стороны ноги, мерил ими манеж, из края в край саженками, садясь на барьер, закидывал ноги за шею, аплодировал ногами, крутился по всему манежу колесом. Делал он и свои отдельные номера, — они не были удачны. Но его популярность и любовь к нему публики создавали ему и в них успех. Занят он был целый вечер.
Он предложил отцу работать вместе, так как одному ему было тяжело. Отец согласился. Они пошли к Саламонскому, тот просил их приготовить что-нибудь. Они сделали номер «гонять лошадку»[16]. Показали его Саламонскому, и Рибо на всех перекрестках заявлял, что этот номер придумал он, что было неправдой, так как номер предложил отец. Саламонский рассказал отцу, что видел за границей номера, где клоун и рыжий работают вместе, но не говорят.
Музыкальные клоуны Пермани одобрили номер. Дали только отцу совет быть осторожнее с Рибо, так как он очень фальшивый человек.
Отец не обратил внимания на их слова и решил сделать с Рибо еще номер «Рыболовы». В этом номере он когда-то помогал Максу Высокинскому. «Рыболовы» прошли успешно. Номер состоял в том, что два клруна, одетые рыболовами, сидят на барьере и закидывают удочки. Рыба клюет, начинается ссора. Один клоун ударяет другого, тот падает на арену и кричит: «Спасай, тону!..» Другой клоун начинает раздеваться. Снимает штук пятнадцать жилеток, корсет, женскую рубашку и бросается спасать партнера, изображая, что он плывет. На этом номер кончается. Раздевание идет обычно под гомерический хохот.
Рибо получал за этот номер чуть ли не в три раза больше отца, и потому отец решил больше с ним номеров не делать. Рибо начал уговаривать отца проработать с ним еще номер, говорил, что бросит «ковер» и будет выступать только с отцом. Но тут все артисты стали предупреждать отца, чтобы он ему не верил и с ним больше не работал.
Саламонский выписал из-за границы «людей воздуха» семью Пасетти. Семья состояла из старика-отца, сына и дочери. Они давали комбинированный номер полета на трапеции и на кольцах.
Кольцами назывались подвешенные на шесте петли, по которым передвигались вниз головой на носках, переставляя то одну, то другую ногу. Работали Пасетти еще на воздушном турнике из двух бамбуков и на кордеволане.
Кордеволан — толстый канат в десять аршин длиною, подвешенный полукольцом. На кордеволане враскачку, как на трапеции, сын и дочь Пасетти делали всяческие упражнения. Они переходили, работая, с аппарата на аппарат. Аппараты же подвешены были на больших расстояниях по всему куполу. В наше время такая комбинированная работа совершенно забыта. Пасетти пробыли в России месяц и уехали, так как им не понравились наши порядки, особенно наше пьянство.
Весь расчет с артистами и все хозяйство цирка вела жена Саламонского. Она же наблюдала за билетерами.
Жена Саламонского была хорошая и очень добрая женщина. Артисты звали ее «матерью». Не было случая, чтобы она не помогла нуждающемуся артисту советом или деньгами. «И пожалеет, и проберет», — говорили про нее артисты. Жалованье она выплачивала аккуратно и никогда не вычитала из жалования наложенных Саламонским или администрацией штрафов. Только всегда просила, чтобы не говорили об этом ее мужу.
Бывало проиграет артист в карты или прокутит — в получку получать нечего. А в буфет платить надо. Саламонская видит его затруднительное положение и скажет только: «Пусть придет ваша жена».
Жена артиста придет, Саламонская даст ей денег, побранит, что плохо смотрит за мужем, позовет буфетчика и велит ему давать этому артисту не больше, чем на определенную сумму. Буфет был большим злом в цирке того времени. Особенно плохую роль играл он в цирке Саламонского.
Саламонский любил сам выпить, а пил он только коньяк или шампанское. Любил и в карты поиграть. Во время представления после своего номера артист приходил в буфет, а там уже ждут «дружки» из публики. Спросят кружку пива, рюмку водки, а за ними (как говорил отец) начинаются тары-бары-растабары. А то жена артиста зайдет вечером за мужем. Он ее усаживает за столик, предлагает ей пирожное, рюмочку вина, вторую. Там, смотришь, подсел кто-нибудь из знакомых артистов и засидятся до утра. А утром репетиция. Опоздаешь на нее — штраф три рубля. Саламонский любил притти на репетицию тогда, когда накануне шла пьянка. Сядет в места и ждет тех, кто с ним ночью пьянствовал.
— Репетиция, а он спит, — подтрунивал он над ночным собутыльником, — проспится и опять в буфет. А за это время и репетиции конец.
Он подзывал режиссера и спрашивал, сколько человек опоздало на репетицию. Режиссер называл цифру опоздавших. «Подсчитайте штрафные деньги», — говорил ему Саламонский. И, когда ему сообщали сумму штрафа, он на эту сумму заказывал завтрак. Конечно, штрафная сумма была для него только предлогом, и ею он не ограничивался.
По наблюдениям отца, жизнь артиста столичных цирков шла праздно. Репетировали меньше. Новые пантомимы шли редко. Артисты были заняты только в своих основных номерах. Труппа столичных цирков была большая. Манеж был занят целый день. Каждая минута была на учете. Репетировали наспех в коридорах. Иностранцы-артисты приезжали на короткий срок с совершенно законченными номерами и потому репетировали мало. Русские же артисты, работавшие до того в провинции, попадая в столичные цирки, старались казаться законченными артистами, стеснялись и присматривались: внимательно к приемам и аппаратуре иностранцев.
Даже в мое время иностранная аппаратура была предметом зависти русских артистов. Но, не желая «терять фасон» перед иностранцами, наши артисты тянулись за ними, подражали им и на манеже, и в жизни, старались одеваться лучше, перенимали их манеры. Через иностранцев выписывали из-за границы шелковые трико и аппаратуру. Купленное посылалось или через таможню или привозилось кем-нибудь из вновь прибывающих иностранцев-артистов.
Надо сказать, что Саламонский приглашал только высококва лифицированных артистов и давал номера, которые «шли как часы» (любимое выражение артистов цирка даже в наше время). На такие номера, конечно, требовалось меньше репетиций. Но отец мне постоянно твердил, что для роста артиста выступать только с законченными номерами — яд. Он признавал, что в столичных цирках служить легче. В таких цирках ежедневно репетируют только наездники и акробаты. В провинциальных же цирках, все артисты репетируют каждый день, и почти каждый из них творит, создавая новый трюк или совершенствуя старый. Мечта каждого провинциального артиста — попасть к Чинизелли или к Саламонскому, а для того, чтобы добиться этого, надо было усиленно работать.
Отец постоянно вспоминал Труцци, который, если не было общей репетиции, обращался к труппе и спрашивал, нет ли у кого-нибудь из артистов нового номера, и следил за тем, чтобы все артисты репетировали по утрам.
— Вся жизнь — это репетиционное время. Утром и вечером цирк, — говорил отец. — Дома мы только едим, спим и отдыхаем. Цирк — наша жизнь.
Трудовое настроение было характерным для провинциального цирка. А в Москве у Саламонского много времени уходило даром. Я уже говорил об отрицательной роли буфета в его цирке, о выпивках и игре в карты.
Конечно, встречались в других цирках артисты, которые пили даже в уборных, пьяные спорили и часто мешали репетировать. Над ними смеялись и, если они срывали репетиции, их просто уводили спать. О картах же во многих цирках не имели понятия. Между репетициями играли в домино на барьере или в местах. В большинстве провинциальных цирков собирались днем в буфете, выпивали после репетиций по стакану, другому пива. Разговоры шли о работе, о создании новых номеров. Потом шли домой обедать и отдыхать. Ночью после представления буфет торговал не более получаса. Артисты уставали после представления, так как работали во всех трех отделениях (в своем номере, в групповом, в пантомиме) и охотно шли домой ужинать и спать. Если же артист выступал только в своем номере, то он говорил: «Ну, сегодня я отдыхаю».
В цирке Саламонского особенно торжественными были субботние гала-представления. Саламонский принимал в них участие, в «высшей школе верховой езды», как наездник и как дрессировщик лошадей. На самом же деле сам он лошадей не дрессировал, для этого у него был специальный, очень опытный человек, который готовил ему дрессированных лошадей и выезжал школьную лошадь. Когда вся черновая работа была проделана, Саламонский проводил несколько репетиций и потом только показывался на арене. Сидел он на лошади безукоризненно и прекрасно владел шамбарьером. Когда он выезжал, вид у него был представительный.
На субботние представления зажигалась средняя люстра. Освещение было газовое, люстры и подвески из хрусталя сверкали, переливаясь.
На обязанности билетеров лежало перетирать все люстры за три часа до представления.
В субботу цирк принимал особо торжественный вид. Надевалась парадная униформа. Программа составлялась из лучших номеров. Артисты обязаны были являться в своих лучших костюмах. Саламонский почти каждую субботу получал цветы от поклонников, завсегдатаев цирка и учеников.
Вскоре после открытия сезона из-за границы приехала по приглашению Саламонского семья Каррэ[17]. Сам Каррэ был режиссер-пантомимист. Сыновья его выступали как акробаты-наездники. Дочери были наездницами. Через десять дней после их приезда начались общие репетиции пантомимы «Жизнь мексиканских фермеров». Сюжет пантомимы несложен.
Фермеры покидают свое ранчо и отправляются на работу. Женщины и дети остаются под охраной слуги-негра. На ферму в отсутствие мужчин нападают Индейцы, уводят скот, поджигают ферму, берут в плен женщин и детей.
Фермер возвращается в то время, когда жилище его, догорает. Индейцы еще не ушли, они забирают в плен и его.
Вторая картина изображает становище индейцев. У костров идут пляски. К дуплистому дереву привязан веревками фермер. В становище индейцев незаметно пробирается слуга-негр. Он прячется в дупло дерева. Вождь индейцев предлагает съесть фермера, берет кинжал, подрезает ему руки, колет его в грудь, пробует кровь, отходит и начинает о камень точить нож. Выходят колдуны и танцуют «священный танец колдунов». После танца вождь хочет заколоть фермера, но из дупла раздается выстрел. Индейцы, не видавшие до сих пор огнестрельного оружия и не слыхавшие выстрела, разбегаются. Негр развязывает фермера и дает ему ружье. Кончается все блестящим апофеозом.
Пантомима прошла много раз.
Этою же осенью 25 октября у отца с матерью родился первый ребенок. Отцу сказали о моем появлении на свет, как только он по окончании номера вышел из манежа. Он как был в костюме и гриме побежал домой. Меня уже мыли в корыте на овсе. Пришедшие вместе с отцом приятели-артисты сейчас же набросали в корыто денег. Овес и деньги считались приметой, что ребенок будет счастлив.
Отец рассказывал, что я родился очень хилым и слабым. На другой день меня крестили и назвали Дмитрием. Отец все свободное время проводил около меня: все боялся, что я не выживу. В цирке все поздравляли отца с наследником. Саламонская прислала для меня целое приданое. Развивался я, по словам отца, очень быстро, «как на дрожжах». Отец на радостях загулял.
В цирке за сезон были поставлены две пантомимы, и готовилась пантомима «Бой быков в Испании». Эта пантомима была интересно задумана, для нее была выписана из Испании целая труппа танцоров. Они привезли с собой испанские седла, упряжь и двух быков. Реклама была выпущена широковещательная, и публика шла в цирк, думая увидеть настоящий бой быков. В первом отделении была показана улица одного из испанских городов. По ней проезжала в фаэтоне живописная свадебная процессия, шел балет, и проходили и проезжали верхами тореадоры. Они объявляли, что завтра назначено «Иль Кор-со де-Торе», то есть бой быков. Народ (статисты) изображал радость, бросал цветы, приветствовал тореадоров. Тушился свет, участники завтрашнего состязания готовились к бою. Шли танцы.
Барьер для боя быков делали на аршин выше. В главном проходе была построена ложа в два яруса для «испанского президента» и для «публики». В цирке оставляли свободные места, и артисты в красивых костюмах изображали испанцев и составляли испанский хор. Раздавались звуки фанфар, и появлялся президент в красной мантии. Фанфары извещали о начале шествия участников боя быков. На арену выходили в ярких, красочных костюмах пикадоры, матадоры, бандерильеры, тореадоры. Их изображали переодетые русские артисты и шесть человек, специально приглашенных для пантомимы из Испании. Процессия торжественно проходила по арене два круга. Президент передавал главе процессии ключ от стойла, где были заперты быки. Ключом открывали дверь в главном проходе. Оттуда выскакивал бык. От рогов его тянулась пропущенная через блок веревка, которую держали десять человек. Веревка-лонжа держалась свободно до того момента, пока бык не подходил к барьеру. У барьера веревку натягивали, чтобы бык не пошел в публику.
Ни колоть быка, ни закалывать его, конечно, не разрешалось. Ни шпаг, ни кинжалов у участников боя не было. Были только красные плащи, раздражавшие животное, у которого между рогами была подвешена розетка. Эту розетку надо было сорвать, и она была знаком победы над быком. Были приняты все меры, чтобы бык не мог ранить участников пантомимы. На его рога были надеты резиновые мячи. И все же несчастные случаи бывали очень часто. Смельчаков (а их было немало) уносили без чувств. В уборных артисты раззадоривали друг друга, держали пари, спорили о том, кто более ловок и смел. Быков до представления держали в темноте, не кормили. Когда их выпускали из стойла, бандерильеры дразнили их красными плащами. Каждый удачный жест или прием пикадора, матадора или тореадора вызывал аплодисменты; и крики среди наряженных испанцами артистов, и это так зажигало публику, что розетка срывалась при громе рукоплесканий. В представлении принимали участие оба быка. Если пантомима шла вяло, то к барьеру подходил Саламонский и объявлял премию в двадцать пять рублей тому, кто сорвет розетку. Артисты оживлялись, пантомима кончалась с подъемом.
За сезон было два несчастных случая. Первый произошел с наездником Курто. Он наступил, на свой плащ, споткнулся и упал. Бык начал бить его рогами. Курто пополз от него на коленях к барьеру, но бык передним копытом попал Курто по голове, Курто свалился замертво. В это время кто-то сзади схватил быка за хвост. Бык оставил Курто и бросился за потянувшим его за хвост артистом. Это спасло Курто, но его унесли с арены без чувств. Второй случай произошел с артистом-испанцем. Он дразнил быка плащом и подошел к нему слишком близко. Вдруг испанец сделал такой трюк: он оперся о спину быка и перепрыгнул через него. Публика зааплодировала. Артист стал раскланиваться. Бык сразу повернулся и рогами откинул испанца к барьеру, сломав ему ребро.
Пантомима кончалась, когда кто-нибудь срывал розетку. Тогда живого быка загоняли в стойло и выносили на палках чучело быка, привязанного за ноги, а героя, сорвавшего розетку, несли на носилках. Зажигали бенгальский огонь, пускали фейерверк, подставные лица из публики бросали артистам цветы. Пантомима шла в конце весеннего сезона 1895 года. После пасхи цирк закрылся.
Отец был приглашен на летние гастроли в Ригу в цирк Каррэ. Зимою он должен был опять работать в Москве у Саламонского. Перед отъездом отец пошел к Саламонскому и просил разрешить ему найти себе партнера. Отец понимал, что «рыжий» в цирке все больше и больше завоевывает симпатии публики. Саламонский собирался ехать за границу и обещал отцу подыскать там партнера. Отец пошел к Саламонской и был удивлен, что с него не высчитали за нерабочие в посту дни. В те времена ангажемент заключался из расчета оклада за месяц. Если же в месяце попадался «двунадесятый» праздник, то артист получал не за месяц, а за двадцать девять дней. Когда же во время пасхи и рождества артист выступал по два раза в день, ему платили все же только за месяц, т. е. тридцать дней. Утренники в счет не шли. За пост артистам тоже не платили. Артисты возмущались такой системой оплаты, но поделать ничего не могли.
Позже, когда я выступал с отцом, мне самому приходилось не раз подписывать такой кабальный договор. Подписывая, отец говорил:
— Хочешь папки[18], протягивай лапки. У них орел и решка, а нам ребро. Когда все на ребро встанет, тогда и поговорим.
Труппу из Москвы в Ригу провожал сам Саламонский. Дорогой он перепоил артистов шампанским. Рижский цирк принадлежал Саламонскому и снят был у него режиссером Каррэ.
Он был небольшой и, несмотря на полные сборы, не оправдывал расходов на труппу, которая в нем работала. Жалованье все же платили аккуратно.
В Риге к отцу неожиданно пришел бритый, похожий на ксендза, человек. Он передал отцу привет от Труцци. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он артист, перешел к Труцци из украинской труппы, участвовал в пантомимах, умел немного танцовать и мимировать. Энрико Труцци предложил ему попытать счастья в роли «рыжего Августа», так как у него было большое сходство с Ричардом Рибо. Энрико рассказал ему, как работает Рибо, показал его фотографию, и новоприбывший стал весь вечер бегать у ковра, подавать реплики, заполнять паузы. Работал он, по его словам, довольно удачно. Фамилия его была Мухницкий. Он ушел от Труцци потому, что ездил в Вильно хоронить мать. В Ригу приехал к дяде. Мухницкий просил отца устроить его на некоторое время в цирк, чтобы он мог подработать денег на дорогу в Харьков до Труцци.
В цирке Каррэ не было «коверного рыжего». Но директор не решался выпустить неизвестного артиста в воскресенье и дал ему дебют в утренний спектакль. Он оказался довольно смешным, но был еще очень неумелым «рыжим», не знал, что ему нужно делать, старался во всем подражать Рибо. Это было скверно потому, что в нем самом было много самобытного и индивидуально смешного. После дебюта отец спросил его, какое бы жалованье он хотел получить. Мухницкий сказал, что будет просить у дирекции три рубля в день. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он хорошо говорит пo-французски и по-польски и знает немного немецкий язык. Отец, приглядываясь к нему, решил, что лучшего партнера ему не найти и пошел к Каррэ рассказать о планах совместной работы с Мухницким.
Каррэ одобрил намерения отца и предложил Мухницкому и за работу у ковра и за выступления с отцом сто двадцать пять рублей в месяц. Тот согласился. Отец прорепетировал с ним все выходы, которые знал. Мухницкому сшили костюм, и через неделю он начал работать с отцом.
Каррэ говорил, что работа у него шла удачнее, чем у Рибо, и на следующий день после их первого выхода стал писать в программах и афишах: «Клоун Альперов со своим рыжим Августом».
Отец всячески старался разнообразить работу. Выискивал и выспрашивал у иностранных артистов клоунские номера, идущие в заграничных цирках.
Через некоторое время Мухницкий стал жаловаться отцу, что на афишах не стоит его фамилия. Отец признался, что не подумал об этом, спросил, под какой фамилией он хочет выступать. Тот сказал, что под своей собственной. Пошли к директору. Каррэ нашел, что фамилия Мухницкий для афиши не годится и просил придумать другую фамилию. Тогда Мухницкий вспомнил, что в украинской труппе, как танцовщик, он был известен под фамилией Бернардо. Каррэ одобрил эту фамилию, и с тех пор на афишах начали писать «Альперов и Бернардо».
Каррэ выписал очень талантливого клоуна Сержа. Это был законченный артист с большим темпераментом. Публика его любила. Он не выступал с животными, а работал один только на трюках, пользуясь злободневным материалом. Репертуар его был обширен. Был он, кроме того, хорошим гимнастом. Отец и Серж очень подружились. Отец в это время был занят подбором и обработкой материала по принципу: рыжий должен говорить как можно меньше, и каждая им произнесенная фраза должна вызывать смех. Бернардо очень быстро понял, что от него требовалось, и скоро они с отцом стали любимцами публики.
Во время подготовки отцом материала для совместных выступлений с Бернардо, в Ригу приехал на гастроли очень известный фокусник Беккер. Отец пошел его смотреть и решил взять и обработать для клоунского номера один из его фокусов. Самым подходящим был номер со шляпой, в которую разбивали яйца, а затем шляпа целой и невредимой возвращалась хозяину. Человек же, который давал шляпу, видя, что в нее разбивают яйца, насыпают муку, всегда начинал волноваться и тем усиливал впечатление от номера. Отец и Бернардо никак не могли понять, как Беккер проделывает этот номер. Отец решил познакомиться с Беккером и поговорить с ним. Беккер прекрасно говорил по-итальянски. Отец пригласил его в цирк, он охотно принял приглашение и пришел на другой же день. В цирке он нашел своих соотечественников. Беккер просмотрел только первое отделение и ушел, так как сам должен был выступать в тот же вечер. Отец и Бернардо пригласили его притти после представления в ресторан. За ужином Беккер рассказал им, в чем заключается секрет фокуса со шляпой, с условием, чтобы они после оформления показали ему, как будут исполнять этот номер в цирке. Отец и Бернардо стали ломать голову, как обставить фокус. Помог им клоун Серж. Через пять дней они пригласили Беккера в цирк на представление. Было воскресенье, амфитеатр был переполнен.
Отец вышел на арену и спросил шталмейстера, видел ли он знаменитого чародея Беккера, который моментально приготовляет в шляпе печение. Отрекомендовался, что он ученик Беккера, и сказал, что если ему дадут помошника и шляпу, то он угостит публику вкусным печеньем. Шталмейстер ответил, что помошника он может дать, а шляпы у него нет, и звал Бернардо.
Тогда отец взял шляпу у кого-то из публики. Разбил в нее яйца, насыпал муку, налил воду.
Тот, кто дал шляпу, начал волноваться, отец успокоил его, сделал несколько пассов, вынул из шляпы готовое печенье, отдал с поклоном шляпу и роздал печенье публике.
Эта часть была повторением того, что делал Беккер. Дальше отец и Бернардо сделали номер клоунским. В то время, как отец угощал публику печеньем, Бернардо попросил у одного из зрителей шляпу, обещая сделать вкусный торт и угостить его. Насыпал в шляпу муку, разбил и вылил яйца, налил воды, посыпал все это землею с арены. Тот, у кого была взята шляпа, начал протестовать, а когда Бернардо выхвалил всю смесь на тарелку, возмущенный зритель перелез через барьер, подошел к Бернардо, грозя ему полицией за его проделку. Тогда вмешался отец.
— Не волнуйтесь, прошу вас, — сказал он, — обождите минутку. Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что эта шляпа не ваша.
— Как не моя?.. Моя!..
— Уверяю вас, что ваша шляпа цела и находится под столом. А эта шляпа наша. Вот посмотрите. Отец вытащил и отдал смущенному зрителю его шляпу целой и невредимой. Тот пошел на свое место, но по дороге запнулся и упал.
Номер прошел с небывалым успехом. Цирк дрожал от смеха. Беккер был в восторге и говорил, что давно так не смеялся, как сегодня. Пригласил отца и Бернардо ужинать и обещал рассказать ещё несколько номеров. Артисты поздравляли отца.
Делалось это антре довольно просто. В места для публики сажали своего артиста. Затем брали две одинаковых шляпы. Приготовляя печенье, отец отдавал шляпу Бернардо, у которого была двойная кастрюлечка и который незаметно вкладывал эту кастрюлечку в шляпу.
Мука, яйца и вода попадали в кастрюльку. Подставной зритель начинал волноваться, и, когда отец из одной кастрюльки переливал все в другую, находившуюся в шляпе, громко протестовал, отвлекая внимание публики. Бернардо же, пользуясь этим, ловко вынимал кастрюльку и сыпал из рукава печенье.
Весь номер был построен на глазах у публики с уменьем в нужный момент отвлечь ее внимание. Это прием обычный в цирке, и на нашем языке он называется санжировкой. Подставное лицо прибегает иногда к падению со стула или к устройству скандала.
Отец назвал это антре в честь Беккера «а-ля-Беккер». Антре это стало очень cкopo популярным. Клоуны делают его и сейчас и у нас, и за границей. Антре считается бенефисным и называется до сих лор «а-ля-Беккер».
Под конец сезона в Ригу вернулся Саламонский. Он сказал отцу, что сговорился с артистом Ольшанским как с партнером для отца. Ольшанский был известный прыгун и «рыжий Август». Отец ответил, что у него уже есть партнер и что вечером он его увидит. Саламонскому такая самостоятельность, проявленная отцом, явно не понравилась.
Вечером, во время номера отца и Бернардо, цилиндр Саламонского был на макушке. И у нас, и за границей артисты знали, что цилиндр был своего рода барометром настроения Саламонского.
Саламонский брал обычно артистов после дебюта. В контрактах был пункт, что в течение трех первых дней дирекция оставляет за собой право отказать артисту. И вот, если во время дебюта цилиндр Саламонского спускался на лоб и закрывал ему глаза, это было знаком, что дело артиста плохо и контракт с ним заключен не будет. Если же, наоборот, цилиндр постепенно сползал на затылок, это означало, что контракт обеспечен. Саламонский любил присутствовать на дебютах. Никогда не пропускал их. Его место во втором ряду не продавалось, чтобы он мог в любой момент просмотреть тот или другой номер.
Итак, на этот раз барометр стоял высоко, Саламонский даже аплодировал. «Наша взяла», — сказал отец Бернардо.
После спектакля Саламонский пригласил обоих артистов ужинать и был приятно поражен, что Бернардо говорит по-немецки. После ужина он сказал, что приглашает их обоих на зимний сезон на жалованье в четыреста пятьдесят рублей.
Просил притти к нему в номер, чтобы он мог рассказать им еще одно антре, которое он видел за границей.
На другой день он рассказал отцу и Бернардо сценку «Фотограф». Ее разыгрывали на сцене два английских эксцентрика. В тексте была непереводимая игра слов, поэтому отцу и Бернардо пришлось все переделать, оставив лишь основные трюки. Пришлось им также заняться дрессировкой собаки.
Через месяц номер был готов. Проходил он так.
На арену навстречу друг другу выходили шталмейстер и клоун в шляпе и с фотографическим аппаратом в руках. Клоун ищет родильный приют, но когда узнает, что он в цирке, то требует директора, так как он артист.
Шталмейстер. Судя по вашему аппарату, вы просто фотограф.
Клоун. Я фотограф, но фотограф необыкновенный. Я снимаю ночью и делаю такие снимки, каких вам еще не приходилось видеть. Снимаю все, что попадется: часы, цепочки, шубы…
Шталмейстер. Убирайтесь. Смеетесь вы что ли надо мной…
Клоун. Ну, ну, не сердитесь… Я пошутил. Что бы вы сказали, если бы я своим незатейливым аппаратом снял вас и дал бы вам через несколько минут вашу картонку в натуральную величину?
Шталмейстер соглашается. Клоун снимает пальто и шляпу, кладет их на землю, расставляет аппарат и на него ставит бутылку с надписью крупными буквами «Гунияди янос» (слабительное).
На арену выходит рыжий, начинает подметать и загребать на лопату пальто клоуна. На вопрос, кто это такой, шталмейстер отвечает, что это человек, наблюдающий за чистотой.
Клоун. За чистотой? Так он не сюда попал, ему надо пойти на Рижский базар в ряды, где продается мясо. Вот где нужна чистота.
Эта фраза имела большой успех у публики, так как в Риге мелкий скот убивали тут же на базаре, на глазах у зевак. Тут же снимали с него шкуру, и спускали кровь. От этого стояла кругом ужасная вонь. Отец говорил, что это была его первая реприза на злободневную тему, и она хорошо принималась публикой.
Когда дело доходит до фотографирования, шталмейстер отказывается и зовет молодого человека, который давно жаждет сняться. На его зов выходит рыжий клоун. Ему предлагают сняться бесплатно. Оказывается, что он только и ждал такого случая, чтобы бесплатно сняться.
Фотограф усаживает рыжего, тот садится к аппарату спиной. Фотограф поворачивает его лицом к аппарату и заявляет, что будет его позировать.
Рыжий (беспокойно). Постойте… постойте… Это что значит?
Клоун. Позировать — значит придавать позу.
Рыжий (успокаиваясь). Ну, тогда так… А то я думал, вы будете мне кости ломать.
Клоун просит извинения за нескромность и спрашивает, с какою целью молодой человек снимается. Рыжий на ушко шепчет ему, что выходит замуж.
Клоун. Понимаю… понимаю. Вы женитесь, и вашу фотографию вы хотите преподнести вашей будущей жене.
Рыжий (показывает кулак). Да… Я ей преподнесу!..
Клоун просит сидеть спокойно и смотреть в аппарат. Клоун подходит к аппарату и смотрит в глазок аппарата. Из аппарата на него бьет струя воды.
Рыжий. Ваш аппарат плюется.
Его усаживают опять, но он не сидит. Второй раз из аппарата на него сыплется пудра. Клоун осматривает его еще раз, находит, что он плохо одет. Рыжий заявляет, что у него есть английское пальто и цилиндр. Убегает и возвращается переодетый. Фотограф наводит фокус и говорит, что фотография получится первосортная, и ее надо будет немедленно отправить в Париж на выставку.
Рыжий. На какую… выставку?
Клоун. Конечно, на собачью. Ах, постойте… у меня осталась только одна пластинка. Надо будет зарядить аппарат. Шталмейстер, есть у вас темная комната? Да?.. Хорошо. Ждите. Я сейчас.
Клоун-фотрграф уходит, рыжий в его отсутствие выпивает из бутылки слабительное, думая, что это водка. Фотограф возвращается, ругая шталмейстера за разбитые шесть пластинок.
Клоун. По счастью, у меня остался один негатив. Мне все-таки удастся снять вас (идет к аппарату). Спокойно.
Рыжий (корчится на стуле от боли). Проклятая водка!
Клоун (под покрывалом). Не шевелитесь…
Рыжий (удерживая спазмы). Ради бога снимите меня поскорее… а то, а то… Я боюсь, чтобы я не лопнул…
Клоун. Сидите смирно. Вы все время ерзаете на стуле и не попадаете в фокус.
Рыжий. Умоляю вас скорее!.. скорее!.. (подзывает его к себе рукой и шепчет ему на yxo) скорее!..
Клоун. А, вот что… прямо, направо, потом налево, потом прямо…
Рыжий срывается с места и поджимая руками живот, убегает. Возвращается через некоторое время, видимо смущенный.
Клоун спрашивает — в чем дело? Тот отвечает: «Там занято». Клоун прогоняет его. Рыжий убегает опять, потом возвращается и садится на стул.
Клоун. Ну, теперь я вас снимаю. Смирно… Примите указанную вам позу… я наведу фокус и буду снимать… Постойте!.. Что это у вас?..
Рыжий поднимает то, что держит в руках — вместо шапокляк у него крышка от уборной. Смущенный он убегает и возвращается с шапокляком. На этот раз клоун благополучно снимает его, но когда рыжий поворачивается, чтобы встать со стула и утомленный вытирает пот со лба, из аппарата раздаются два выстрела, Рыжий пугается и убегает в конец манежа. Оттуда кричит, что пришлет кассира рассчитаться за снимок. Клоун смеется. Музыка играет галоп. Из-за кулис выбегает собака, хватает рыжего за штаны. Срывает их с него. Рыжий, хватаясь за голову, убегает за кулисы.
Так кончалось антре. Штаны на боках сшивались на живую нитку, так что собаке легко было сорвать половину штанов. С отцом и Бернардо работал бульдог. Он так впивался в штаны, в которые нарочно был вшит кусок войлока, что Бернардо хватал за оторванную штанину, крутил собаку вокруг себя, взваливал ее как мешок к себе на спину и уносил за кулисы под хохот публики. Бульдогу с трудом разжимали потом челюсть.
Антре тоже имело большой успех. Отцу и Бернардо стало ясно, что надо давать маленькие сценки, пародии, создавая их самостоятельно.
В конце сезона в Ригу приехал Рибо, но выступать он не мог, так как заболел и пролежал около трех недель. Саламонский прислал депешу, чтобы все артисты, им ангажированные, приехали за пять дней до открытия. Когда Рибо после болезни пришел в цирк посмотреть работу отца с Бернардо, то артисты говорили, что он от зависти сделался зеленым. Он стал дружить с Бернардо, пьянствовал с ним и в Риге, и во время переезда из Риги в Москву.
ГЛАВА VI
Ссора Рибо с Бернардо. Клоуны Бим-Бом. «Русский «чорт» – Коля Сычев. Антиподист Бенедетто. «Карнавал в Венеции» в цирке Саламонского. Любители цирка. Князь Куракин. Сезон 1895-96 года. Запрещение по жалобе офицерства пантомимы «Дуэль после бала». Клоун Бекетов. Анатолий Дуров. Антре «Дворник». Пьяные бенефицианты. Летний сезон у Труцци. Конец работы у Саламонского. Провинция.
С момента приезда в Москву начали готовиться к предстоящему сезону. Появились много новых артистов. Группа клоунов состояла из Сержа Кристова, Ричарда Рибо, Альперова и Бернардо и Старичкова. Наездники были муж и жена Старкай, Девинье и Нони Бедини; сальтоморталист — Варя Серж, жена клоуна; жонглеры — Бенедетто; акробаты — Юлиани и семья итальянцев Аригони. В течение года должны были в разное время выступать гастролеры.
Открытие цирка назначено было на субботу. В пятницу вечером отец лег спать. Вдруг с криком и плачем прибежала жена Бернардо: Бернардо и Рибо поссорились, Рибо изранил партнера отца. Когда прибежали в номер Бернардо, то увидели, что он лежит на полу весь в крови. Его подняли, положили на кровать. Кто-то сбегал за доктором. Доктор привел Бернардо в чувство, вынул у него из головы много стеклянных осколков и забинтовал голову. Бернардо рассказал, что они с Рибо пьянствовали в ресторане, потом приехали к нему в номер, опять пили, повздорили. Рибо схватил со стола четверть красного вина и хватил Бернардо четвертью по голове. Вино и кровь смешались, залили белую рубашку Бернардо, и картина получилась такая, будто Бернардо весь залит кровью.
На другой день все разговоры в цирке вертелись вокруг подлого поступка Рибо. Артисты утверждали, что он сделал это нарочно из-за конкуренции. Ругали Бернардо дураком, если он не подаст в суд. Саламонский вызвал отца, сказал, чтобы он не беспокоился, что Рибо, конечно, сделал это из зависти, так как он человек фальшивый. Сообщил, что он готов сейчас же расстаться с ним, но в цирке нет другого рыжего. Обещал, как только приедет клоун Ольшанский, нарушит контракт с Рибо.
За все время болезни Бернардо жалованье им обоим выдавалось, и доктор оплачивался дирекцией. Особенно возмущена была Саламонская, она настаивала на немедленном увольнений Рибо. Но Саламойский не пошел на это. В последний день перед открытием приехали музыкальные клоуны Бим-Бом и русский наездник Сычев. В денъ открытия отец оделся в униформу, но Саламонский сказал, чтобы он шел смотреть в места.
Открытие прошло блестяще. Публика встретила Саламонского продолжительными аплодисментами. Наибольший успехимели клоуны Бим-Бом, наездник Сычев и антиподист Бенедетто.
Бим-Бом начали свою карьеру у Чииизелли в Петербурге, затем несколько сезонов проработали у Саламонского в Москве.
Они пользовались неизменным успехом у публики, поражая ее своей музыкальной виртуозностью.
Настоящие имена их были: Бима — Иван Семенович Радунский и Бома — Феликс Кортези.
Музыкальные клоуны у нас и за границей играли только на определенных музыкальных инструментах (гитара, мандолина, скрипка). Бим и Бом первые начали играть на всевозможных предметах. Радунский был большой изобретатель в этой области. На каких только вещах он ни играл! Тут были сковородки, цветочные горшки, бутылки, все, что только могло звучать. Бим и Бом подбирали эти предметы по тональностям и играли на них народные мелодии. Первое время они играли, ничего не говоря, потом стали разнообразить свои номера.
Феликс Кортези был прекрасный комик. Вдвоем они были бесподобной парой. К несчастью, в 1899 году Кортези утонул в Астрахани, купаясь в реке Балде. Для цирка это была большая потеря.
Сычев был наездником феноменальной ловкости. Второго такого артиста никто из нас, работников цирка, не встречал. Ему дали за границей прозвище «русский чорт». Номер его шел так.
На арену выбегала неоседланная лошадь без уздечки. Он просто вылетал на ней. Лошадь неслась, и как он на ней держался, этого никто понять не мог. Подражателей у Сычева не было, да и вряд ли могли они быть. В то время как сам он прыгал через обручи и через ленты, лошадь брала барьеры, и все это в таком темпе, что вся его работа проходила минуты в четыре, но публика бесновалась и орала от восторга. Бывали случаи, когда он падал с лошади, но так как он был прекрасным прыгуном, то как только касался земли, он делал несколько сальто в воздухе и ждал, пока лошадь обежит круг или приблизится к нему, и как кошка вскакивал на нее. Впечатление получалось такое, что он вовсе не падал, а все делал нарочно.
На беду, он мог работать только до получки. Как только в руки его попадали деньги, он запивал и исчезал, пропивая с себя буквально все. Водка была его гибелью. Саламонский говорил, что согласен платить ему любое жалованье, лишь бы он не пил. В месяц, он пятнадцать дней работал и столько же пил. Исчезнет, потом появится, потом опять исчезнет. Явится опять оборванный, грязный, вшивый. Артисты соберут денег, оденут его. Две недели он продержится, и опять начинается запой.
Придет босой, скандалит. Дирекция прогоняет его, артисты упрашивают взять обратно. Дирекция берет, но и артисты и дирекция знают, что это ненадолго, что Коля Сычев опять запьет.
Лошади у него своей не было, да она ему и не была нужна. Получив ангажемент, он прямо шел к шталмейстеру и просил самую быструю лошадь. Снимет ботинки, возьмет два хлыста, сядет на лошадь и круга два лупит ее хлыстами. Затем бросит хлысты, вскочит лошади на спину, и как будто его к ней гвоздями прибили. Лошадь может встать на дыбы, бить задом, — Коля Сычев сидит на ней, как пришитый. Днем он зайдет в стойло и нарочно ударит лошадь раза два хлыстом, чтобы она была зла на него. Перед его выходом лошадь ставили подальше за кулисы. Сычев садился на нее с хлыстами в руках, начинал лупить ее, она вылетала с Сычевым на арену, как бешеная, — впечатление было такое, что она вырвалась из стойла и несется.
Сычев был прекрасный учитель, хороший товарищ. Но все это — пока трезв. Пьяный он был невыносим. Умер он в 1912 году в трактире от разрыва сердца, держа в руках рюмку водки. Так погиб талантливый наездник, самородок, погиб, как и многие талантливые русские артисты, от алкоголя.
Выдающимся антиподистом был жонглер-итальянец Бенедетто. Мускулы ног его были чрезвычайно развиты. Ногами он жонглировал деревянной кроватью с куклами, шаром, большой бутафорской сигарой, зажженным факелом, глиняным горшком, покрытым сверху бумагой и завязанным. Этот горшок он крутил, подбрасывал, ловил, переворачивал, затем ставил его дном на подошвы; бумага, покрывающая горшок, разрывалась и из горшка вылезал сын Бенедетто. В конце номера он исполнял «живую карусель». Он брал длинный шест, к концам которого были подвешены две трапеции. По его приглашению двое из публики садились на трапеции. Им наказывали крепче держаться. Середину шеста клали Бенедетто на ноги. Он перебирал ногами и начинал крутить шест, все увеличивая быстроту вращения. Когда он, наконец, останавливался и сидящие на трапециях вставали, то у них так кружилась голова, что они шли, шатаясь, как пьяные. Публика смеялась над ними и награждала Бенедетто оглушительными аплодисментами. «Программа зимнего сезона 1895/96 года цирка Саламонского была составлена из крупных имен. У меня нет возможности написать обо всех них, я беру наиболее примечательных артистов, о которых отец и его товарищи вспоминали чаще и рассказы о которых крепко осели в моей памяти. Жалованье таким артистам платили, по выражению отца, губернаторское. Пятьсот-шестьсот рублей в месяц был средний оклад талантливого артиста цирка в столицах.
Отец и Бернардо начали работать недели через две после открытия. Дебют их был анонсирован афишами. Для первого выхода они дали антре «а-ля-Беккер». Антре было триумфом отца и Бернардо. Артисты поздравляли их с большим успехом. Радунский (Бим) очень хвалил антре и даже предложил отцу быть в их номере подставным лицом.
Радунский очень скоро подружился с отцом. Он был хороший товарищ, порядочный, очень искренний и независимый человек.
Саламонский после дебюта пригласил всю труппу ужинать, за ужином хвалил отца и Бернардо. Ричард Рибо не был приглашен ни на открытие буфета, на котором была вся труппа, ни на ужин. Через несколько дней Саламонский спросил, готово ли, антре «Фотограф». Отец оказал, что они показывали его в Риге и дадут сегодня вечером.
«Фотограф» прошел хорошо. Публика много смеялась, Саламонский был доволен. С этого вечера «Фотограф» не снимался с афиши. Режиссер, по распоряжению Саламонскоого, давал в программах и афишах антре «Фотограф» как отдельный номер.
Саламонский сдержал слово. Как только приехал Ольшанский, он заплатил Рибо за два месяца и расстался с ним.
Прыгунов в цирке было около тридцати человек. Дирекция выписала еще артиста Сосина.
В средине сезона Саламонский дал водяную пантомиму. Для нее поставили специальный паровой котел. Вода была теплая. Баки были железные. Из-за границы выписали режиссера-конструктора, который руководил всеми техническими установками. В середине арены была сделана будка, из которой били в разных направлениях фонтаны. С купола цирка спускались гирлянды цветов, цирк превращался в сад. По арене, наполненной водой, разъезжали в лодках пары, играли на гитарах, мандолинах, пели неаполитанские песни. На фонтаны наводились прожекторы, и они сверкали разноцветными огнями. Все это освещалось бенгальским огнем и вспышками фейерверка. Пантомима называлась «Карнавал в Венеции». Она делала полные сборы.
Цирк посещала самая разнообразная публика. Галерку занимали мелкие чиновники, ремесленники, рабочие, учащиеся.
Билеты в партер покупала московская энать и купечество. Некоторые из них посещали цирк почти постоянно. Они считали себя друзьями цирка, но, конечно, дружба эта шла больше по линии выпивок и кутежей.
Из знати особенно частыми посетителями были князь Куракин и Извольский; из московского купечества — булочник Филиппов, водочник Смирнов и нефтепромышленник Красильников.
Много денег просаживали они, кутя с артистами, и вреда артистам приносили немало. После бурно проведенной ночи артисты утром часто не могли репетировать, а вечером работали лихорадочно, с большим напряжением. Их было много, этих любителей скорее кутежей, чем цирка, и деньги у них водились немалые. Часто бывало, что артисты убегали после представления задним ходом, чтобы не встретиться с этими «друзьями».
Прибежит домой артист, поужинает, пора на отдых, а тут вдруг вваливается компания с кульками провизии, с корзинками бутылок — и пошла попойка. Рюмочка, другая, а там уже кто-то предлагает ехать в ресторан.
И так до утра. Чаще же всего пьянка начиналась с буфета и кончалась рестораном, а нередко — еще позже — публичным домом на Грачевке или Цветном бульваре. Этих домов было много — от «простонародных» до шикарных.
Изредка среди любителей цирка попадались люди, действительно интересовавшиеся им. Они приходили на репетиции, знакомились с семьями артистов, бывали за кулисами, расспрашивали о жизни цирка, об артистах и их работе.
Надо все же сказать, что такой интерес к цирку был редким, большинство знакомилось с артистами для бахвальства и чудачеств. Были случаи, когда кто-нибудь из знати или купечества увлекался талантливостью того или другого артиста и делал ему ценные подарки.
О жизни цирковых артистов создавалось много легенд и сплетен. Одну из таких легенд о распущенности цирковых наездниц я хочу разрушить.
Мало кто знает и мало кто до сих пор интересовался тем, как протекает жизнь цирковых артистов: работа, репетиции, семья, дети; цирк и замкнутый круг семейной жизни. Редко жена артиста сама не артистка. Редко она не работает. А работа наездницы одна из самых опасных работ, немыслимая без ежедневных репетиций. Где тут место кутежам и ночным попойкам, когда рано утром начинается репетиция с лошадьми и на лошадях. Кроме того, почти все наездницы были замужем, и мужья их работали тут же в цирке на других артистических амплуа. А семейная жизнь цирковых артистов отличалась такой же порядочностью, как и жизнь людей других профессий. Часто даже работа, репетиции и тренировка вне цирка занимали столько времени, что его нехватало ни на что другое, и жизнь сводилась к жизни для цирка.
Возле цирка, в его буфете, можно было нередко встретить самодуров-богачей. Один интересовался лошадьми, другой дрессировкой мелких животных, третий был знаток и любитель клоунского жанра.
Богач Извольский часто бывал в цирке, увлекался клоунами и, допившись до чортиков, ловил их вокруг себя. Он прокутил огромное состояние и дошел до положения хитрованца.
О чудачествах князя Куракина ходило много рассказов. Он брал на представление сразу несколько лож. В одну ложу положит шляпу, в другую пальто, в третью — калоши, в четвертую — трость, в пятую — сядет сам.
Однажды в буфете с ним кутило человек пятьдесят. Он спросил счет. Обычно с ним ездил его управляющий, который и расплачивался за него. На этот раз управляющего не было. Когда Куракину подали счет, он вдруг возмутился, что за сельтерскую воду поставили двадцать копеек за бутылку, когда она повсюду стоила пять копеек; начал кричать, что не допустит этого, пойдет жаловаться к губернатору и т. д. Буфетчик соглашался вычеркнуть совсем сельтерскую из счета. Не тут-то было. Утишить куракинский гнев было нелегко. Он продолжал скандалить, перебил рублей на триста посуды, кричал, грозил.
Однажды в субботу приехал Куракин в цирк в подвыпитьи, с большим чемоданом. Все спрашивают: «Что в чемодане?» Отвечает: «В антракте увидите».
Публика на субботнем представлении была изысканная, было много дам в бальных платьях. И вот, когда эта публика пошла в антракте в буфет, Куракин раскрыл чемодан, поднял его и высыпал из чемодана на публику змей. Началась паника. После он сам рассказывал, что закупил с утра во всех зоологических магазинах ужей и привез их в цирк в чемодане.
Устроил он еще раз такую историю. Ушел с представления незадолго до его окончания, вышел в подъезд, видит — дождь льет, как из ведра. Тогда стал он подзывать одного за другим извозчиков. Дал им каждому по пять рублей и велел отъехать от цирка как можно дальше и не подъезжать к нему, по крайней мере, часа два. Пригрозил, что если кто из них появится раньше, то будет иметь дело с ним, князем Куракиным.
Разослав всех извозчиков, он начал подзывать «собственные» экипажи. Отсылал их домой со своей визитной карточкой, которую приказывал передать «господам» на следующий день утром. Сам же стал в подъезде ждать конца представления. Представление окончилось. Публика хлынула из цирка. Зовут извозчиков — их нет. Собственники ищут свои экипажи — их тоже нет. Пришлось и богатым и тем, кто победнее, итти под проливным дождем домой пешком.
Таких самодуров-богачей было в Москве изрядное количество.
— С этого сезона — рассказывал отец, — приучился я пить. Немыслимо было удержаться. Не хочешь, а выпьешь. А тут еще заболело раз у меня горло. Заболело так, что не могу говорить. Доктор прописал молоко с коньяком. Пошел в буфет. Все, узнав в чем дело, начали меня наперерыв поить. До того подливали в молоко коньяку, что домой меня вели уже под руки.
Сезон 1895-96 года закончился. Саламонский на лето отпустил отца в Ригу. Зимою отец должен был опять работать у него в Москве.
В Риге работал цирк Мануила Герцога. Труппа у него была слабая, несмотря на то, что большинство артистов было из-за границы. Кроме отца и Бернардо, этим летом у него работали Бим-Бом.
Альперова и Бернардо в Риге знали и любили. Бенефис их прошел удачно. Для нашей семьи это было важно, расходы ее все увеличивались, так как летом родился брат мой Костя.
Директор Герцог, видя, что сборы неважные, выписал из-за границы труппу негров с «принцессой людоедов Гуммой».
Ходили негры в первобытных костюмах, полуголые. На улице их провожала толпа зевак. На арене они показывали сцены из бытовой и военной жизни их племени. Труппа сделала несколько сборов. Герцог решил ехать с цирком за границу и пригласил с собой отца и Бернардо. Цирк Герцога проработал в Риге месяц, снялся и переехал в Кенигсберг. Отец и Бернардо работали в Кенигсберге на немецком языке. Город был маленький, сборы очень средние. Получал отец то же жалованье, что и в России, только не рублями, а марками. Подсчитав свои: капиталы, отец увидел, что к возвращению нашей семьи из-за границы у нас не будет ии копейки. Тогда он решил тотчас же вернуться в Москву и там ждать начала зимнего сезона. Жизнь в Германии, по его словам, была дешевая, одежда была «почти даром», но денег не было, так как Герцог дал отцу вместо денег вексель на двести семьдесят пять рублей. Это был первый вексель, полученный отцом. Позже их набралось столько, что на них в то время можно было бы открыть приличный цирк.
Возвратились мы в Москву в августе, а цирк должен был начать работу в октябре. По счастью, приехал Саламонский. Узнав, что у отца нет денег, он спросил его, почему он не занял ни у кого, хотя бы у того же водочника Смирнова. Отец ответил, что эти «друзья» цирковых артистов — только тогда друзья, когда цирк играет.
— Мы здесь уже десять дней, — сказал отец, — хоть бы кто рюмкой водки угостил. Да я и ее пойду у них просить. Так всегда было и будет. Артист на арене – все наперебой тянут, зовут. Стоит один день не играть — все исчезают, никто тебя не знает.
Саламонский дал отцу и Бернардо денег и сказал, что до открытия сезона они будут получать половинный оклад. Они начали работать над новыми антре к открытию сезона.
Открытие состоялось в первых числах сентября. Из старых артистов были Бим-Бом и отец с Бернардо. Из вновь приглашенных работала талантливая семья Вильзак, наездники, клоуны и акробаты.
Для открытия поставлена была пантомима «Дуэль после бала». Пантомима, смешная по сюжету, поставлена была очень красиво.
На маскараде две маски в костюмах Пьеро ухаживают за красавицей-испанкой, прекрасной танцоркой. Ее просят снять маску, она снимает и бросает ее. Из-за маски возникает ссора. Один из соперников дает другому пощечину. Происходит дуэль на кладбище.
Первая картина — бал-маскарад — была богато обставлена. Сыпались конфетти и серпантин. Было много балетных номеров. Вторая картина изображала кладбище. На середине манежа — могила с крестом и два надгробных памятника. С двух сторон выходят соперники во фраках. За ними идут секунданты и слуги. Картина кладбища вначале приводит зрителей в мрачное настроение, но постепенно все принимает буффонный характер. Появляется доктор с хирургическими инструментами, его движения утрированы в плане клоунады,
Соперникам дают две шпаги, один слегка ранит другого. Доктор бросается на помощь и вместо раненого перевязывает одного из слуг. Секунданты достают большие пистолеты, заряжают их, дают их дуэлянтам. Те передают их слугам, чтобы они сражались вместо них. Слуги отказываются. Идет буффонадная игра с пистолетами. Наконец, слуги начинают стрелять, все убегают. Остаются одни соперники, стреляют бесцельно в воздух, затем сходятся, мирятся и целуются. Хотят уже уйти, но в музыке слышится сигнал движения: кто-то идет к ним. Они прячутся в надгробные памятники, которые раскрываются, как ящики. В такт музыке входит французский жандарм с огромными усищами. Осматривает кладбище, маршируя, по-военному, носками вперед; хочет уже уходить, как вдруг из памятников показываются на мгновение головы дуэлянтов. Памятники наклоняются и стукают жандарма. Жандарм пугается, опять все осматривает, решает заглянуть в памятник, медленно открывает крышку. Сидящий в памятнике дуэлянт незаметно для жандарма выскальзывает и прячется. Внутренность памятника пуста. Жандарм удивляется и мимикой показывает публике, что, памятник пуст. Этим моментом пользуется дуэлянт, чтобы опять залезть в ящик. В это время из другого памятника показывается голова другого дуэлянта. Жандарм бросается к нему. Повторяется та же игра. В третий раз жандарм придавливает крышку в тот момент, когда дуэлянт высунулся из памятника. Памятник закрыт плотно, на нем танцует жандарм, а голова дуэлянта болтается сбоку. Впечатление такое, что шея сплющена в папиросную бумагу.
Делалось это просто – приблизительно так же, как проводилось на раусе «отсекновение головы». Вырезалось отверстие шире шеи. Отверстие закрывалось черной материей с резинкой наверху. Голова давила на резинку, попадала в выдолбленное пространство, а зрителю казалось, что крышка врезалась в шею. Во время танца жандарма на памятнике выскакивал второй дуэлянт, сталкивал жандарма и таким образом освобождал своего
бывшего противника. Затем они вдвоем хватают жандарма, вталкивают его в памятник, захлопывают крышку, спрыгивают, хотят бежать, но в это время на арену выбегают слуги с ракетами, и начинается фейерверк.
Пантомима эта, как видно, совершенно невинная по содержанию, нравилась публике. И вдруг оказалось, что буффонадная дуэль оскорбительна для офицерства. Многие из них говорили артистам, что если Саламонский не снимет пантомимы, то они перестанут ходить в цирк. Саламонский не обращал внимания на такие разговоры, и пантомима шла. После десятого представления полицмейстер вызвал Саламонского. К градоначальнику, по его словам, поступили жалобы, что в цирке высмеивают офицерство.
Саламонский утверждал, что никакой насмешки нет, что пантомима — забавная шутка, не более.
— Шутка? Хорошо,— ответил полицмейстер, — но из-за такой шутки я могу лишиться места. Это уже не будет шуткой. Давайте снимем пантомиму. И мне, и вам будет лучше.
Пантомиму сняли. Позже она шла почти во всех цирках.
Чтобы заполнить брешь, нанесенную снятием пантомимы, Саламонскйй пригласил клоуна Бекетова, со стадом дрессированных свиней. Свиньи Бекетова действительно проделывали чудеса: ходили на задних лапах, с подушки прыгали через десять стульев, ходили по деревянным бутылкам и шару и т. д. Из Москвы Бекетов уехал в Чикаго на выставку. Объехал со своими свиньями всю Америку, нажил большое состояние и открыл свой цирк.
В конце сезона Саламонский пригласил Анатолия Дурова[19]. Дали громкую рекламу, и в цирке были битковые сборы. Публика забыла про Таити Бедини. Ее кумиром стал Дуров. Правда, Дуров рос с каждым годом, показывая новых животных и птиц, давая новые номера. В это время он как раз вывел на арену пеликанов, которые изображали, как чиновники важничают перед подчиненными и гнут шею перед начальством. Он показывал дрессированных крыс, живущих в дружбе с котом. Вся острота его выступлений была в их злободневности.
Я часто спрашивал отца, как и почему началась вражда и конкуренция между братьями Дуровыми. Отец рассказал мне следующее.
Анатолий начал работать и выступать раньше Владимира. Однажды Анатолий придумал следующий трюк. Он взял два ящика. Один подвесил под галерку, другой поставил на манеж и объявил, что устроит невидимый полет через весь цирк. Стрелял из револьвера и проваливался в ящик и в то же время моментально появлялся из ящика на галерке. Стрелял там, проваливался и появлялся на арене. И так делал много раз подряд.
Публика недоумевала. А он делал этот номер с братом Владимиром, который до того времени не выступал и был чрезвычайно похож на него.
Это выступление, подало Владимиру мысль начать работать самостоятельно. Позже я опишу работу обоих братьев. Теперь скажу только, что, как только Владимир стал выступать, Анатолий стал писать о себе «Анатолий Дуров настоящий». Тогда Владимир стал прибавлять к фамилии слово «старший». Так началась их конкуренция, а с нею вместе и их вражда. А надо правду сказать, что оба они были равно талантливы, каждый по-своему, и один не портил репутации другого.
В цирке Саламонского Анатолий Дуров делал сборы все время, так что цирк работал не до апреля, как обычно, а до начала июня. Отец в это время сильно хворал воспалением легких. Он пролежал в постели полтора месяца. Бернардо хотел поехать работать в провинцию один, но Саламонский его не отпустил. Платил им обоим жалованье полностью и пригласил их на следующий сезон. Обещал прислать из-за границы новые антре. Лето мы провели в Москве. Отец поправился только к середине августа. В это время через Москву проезжал Рудольфо Труцци, который пригласил отца и Бернардо работать к ним в цирк. Но приехавший Саламонский сказал, что откроет сезон первого сентября и поэтому ехать к Труцци уже поздно, а надо готовиться к открытию. Он рассказал отцу содержание нового антре с колодцем, но отец решил работать над другим антре. Он заметил, что в газетах и разговорах предметом насмешек часто бывали дворники, изображавшие из себя начальство. И он решил создать сценку из московской жизни.
На арену выходили двое: отец играл, а Бернардо танцовал камаринского. Появлялся шталмейстер, приказывал прекратить игру и танцы, грозил позвать дворника. Так как они продолжали играть и танцовать, то по приказанию шталмейстера униформа приносила куклу дворника в натуральную величину и ставила ее на манеж. Отец и Бернардо замечали дворника, постепенно прекращали игру и танец, переглядывались, начинали обвинять друг друга, оправдываться, ссориться. Отец подходил ближе, убеждался, что дворник — кукла и начинал смеяться. Бернардо тоже замечает неладное поведение дворника, подходит к нему, берет его за руку, рука падает. Задирает кукле вверх голову и говорит: «Это чучело!» и плюет кукле в лицо. Отец и Бернардо берут куклу в охапку и бросают ее в униформу. Опять играют и танцуют. Униформа приносит второго дворника. Отец и Бернардо думают, что это опять кукла, хотят бросить ее униформе, но кукла оживает и гонит их прочь. Антре имело успех. Бернардо был в нем бесподобен.
Открытие цирка сезона 1896/97 года состоялось первого сентября.
Кроме отца с Бернардо и Бима-Бома, в труппе была третья пара клоунов — братья Альбано и Гвидо Гозини. Их успеху мешало незнание русского языка. Из наездников новым был Маньен; из жонглеров — семья Растелли. Гвоздем сезона были двенадцать слонов под управлением Томсона. Они делали битковые сборы. Их вожак мулат Томсон заставлял их проделывать сложные пирамиды. Больше всего нравилось публике, когда слон быстро и легко ложился и очень долго раскачивался, вставая. Слоны хорошо вальсировали.
У отца с Бернардо за сезон было четыре бенефиса. На одном из них произошла история, которая потом всегда связывалась с их именами.
В день бенефиса днем их позвал к себе на обед водочник Смирнов. Отец и Бернардо хотели отказаться, но Саламонский нашел это неудобным и сказал, что сам будет следить, чтобы они не напились. Но за обедом, как только Саламонский отворачивался, им сейчас же подливали вина, а потом они сами стали отвлекать Саламонского, чтобы тот не мешал им пить. Словом, к представлению, по выражению отца, они оба были «красавчики». Ничего не соображая, вышли они на арену, получили подношение — цветы, и продолжительно кланялись.
Им предстояло провести антре «Телефон».
— Рисуем по опилкам на арене телефонный провод, — рассказывал отец, — и по концам — воображаемые телефоны и начинаем переговариваться на злободневные темы. Телефон я нарисовал, но как только лег на арену, коснулся щекой холодных опилок, чувствую — поднять головы больше не могу, все путается, уходит куда-то. Я и заснул. Бернардо с другой стороны арены задает мне вопросы, я не отвечаю. Он хочет поднять голову, посмотреть, что со мной, и не может, — сам засыпает. Через несколько минут на арене стал раздаваться громкий храп.
Униформа думала, что мы даем для бенефиса новый трюк и с любопытством наблюдала за нами. Во втором ряду сидел Саламонский. Когда мы захрапели, в публике раздался смех. Цилиндр Саламонского вначале был на макушке, — рассказывал нам кто-то из униформы, — потом стал постепенно слезать на лоб, наконец, директор не выдержал, обежал кругом и сказал по-немецки стоявшему у входа на арену режиссеру: «Выбросьте вон этих пьяных клоунов!» На арену выбежала униформа, взяла нас за руки и за ноги и под аплодисменты публики унесла с манежа.
За кулисами бенефициантов долго не могли разбудить. Саламонский велел растягивать представление, чтобы дать им время выспаться и притти в себя, хотя бы к концу третьего отделения. Врач дал им рвотного, нашатыря, привел их в себя. Когда они вышли на арену, в публике стоял сплошной стон от смеха, так как сначала партер, а затем ложи и галерка узнали, в чем дело. Отец и Бернардо отработали свой номер хорошо, но Саламонский сказал, чтобы они ему на глаза не показывались.
На другой день они в цирк не пошли, — в этот день, по традиции, бенефициантов на афишу не ставили. На третий день оба послали сказать, что больны, так им было стыдно. Мать пришла передать об этом Саламонскому. Саламонский рассердился и сказал: «Верно опять пьяны. Чтобы через пять минут были на репетиции».
Когда же оба провинившиеся бенефицианта появились в цирке, труппа подняла их на ура и стала качать.
Отец не любил вспоминать этот казус, но старые артисты не раз говорили мне: «Опроси своего отца, как он в бенефис заснул на манеже».
Сезон 1896-97 года кончился. Отец и Бернардо на лето подписали контракт в цирк Труцци. В Вильно к Труцци отец приехал, как к себе домой.
Цирк за четыре года сильно окреп и мог вполне конкурировать с Саламонским. На конюшне стояло около ста лошадей. Обстановка и инвентарь были богатые. К программе и к ходу представления и дирекция, и артисты относились очень серьезно.
После ряда лет работы у Саламонского серьезное отношение и любовь Труцци к цирковой работе особенно бросились отцу в глаза.
У Саламонского спектакль проходил легко. Случалось, что артист был навеселе, — на это никто не обращал внимания. Саламонский иной раз даже, сидя в местах, посмеивается. Бывало, что тот или иной артист дней десять не попадал на программу. У Труцци все было иначе. Представление начиналось, как священнодействие. После первого звонка все шли одеваться. Программа составлялась так, что все были заняты по нескольку раз в вечер, никто не оставался праздным. В буфете цирка не было никаких длительных заседаний или картежной игры далеко за полночь. Если утром не было репетиций, артисты отдыхали до четырех часов. Вечером все находились на манеже в униформе. Позади униформистов стояли Труцци, наблюдая за ходом представления. Руководство представлением они не доверяли никому, особенно строго соблюдая его слаженность и темп. В этом, по их убеждению, был залог успеха.
Жены артистов в Вильно и других городах исполняли обязанность контролеров. В сравнении с Саламонским труппа была маленькая, состояла преимущественно из итальянцев. Шли почти непрерывно пантомимы.
В Вильно сборы были неважные, и, чтобы поднять их, Труцци ввел в программу борьбу. Так же, как когда-то в Ростове, нашелся силач-любитель. Все пошло по-старому: в дни борьбы цирк был набит битком, особенно галерка. Часто, чтобы пройти в эти дни в цирк, вместо билета совали три, шесть рублей. Ажиотаж царил во-всю.
В Ковно и Радоме сборы были хорошие, и к борьбе прибегать не пришлось. В Ковно со стариком Труцци произошел курьез. Все Труцци с большим подобострастием относились к властям, побаивались и градоправителей и полиции. Если случалось, что представителя цирка вызывали в полицию, то никто из них не ходил, а всегда посылали управляющего. На одном из спектаклей кто-то ив артистов сказал старику Труцци, что в цирке губернатор. Труцци спросил: «Где?» Ему указали на одну ложу. У старика было слабое зрение, он посмотрел в ложу, видит — там, действительно сидит кто-то в форме. Труцци заволновался, позвал сыновей; еще не поднимаясь в ложу, распорядился переменить униформу, пополнить и изменить программу. За кулисами началось волнение, артисты все на ногах, стараются сделать программу интереснее. Так как управляющий был в отъезде, а сыновья не хотели итти представляться губернатору, то в ложу отправился сам Труцци. Он надел фрак, привел свои волосы в порядок и поднялся в ложу. Вошел, поклонился и сказал: «Синьор губернатор, как нравился вам мои артисты и мои представления?»
Человек, сидевший в ложе, вскочил, надел на голову пожарную каску, вытянулся и отдал Труцци честь. Это был дежурный пожарный, который, видя пустую ложу, вошел в нее и смотрел представление.
Нельзя описать, говорил отец, что было со стариком. Он выбежал из ложи красный, сердитый и смущенный. Начал добиваться, кто первый пустил слух о пребывании губернатора в, цирке. Все отказывались, а сам Труцци не помнил от кого первого он это услышал. Дня три он ходил хмурый, чернее тучи, потом сдался и сам не раз смеялся над этим происшествием.
Из Ковно мы переехали прямо в Москву к открытию сезона у Саламонского. Саламонский вернулся из-за границы больной, с сильно разыгравшейся подагрой. Труппа была уже вся в сборе. Из-за границы приехали режиссер, и балетмейстер, так как Саламомский решил поставить несколько новых пантомим. Появились новые артисты: акробаты Эйжен, Дюбуа и Пуло, музыкальные клоуны Разай, наездницы Калина и Кремзер, клоун Вилли Кремзер, клоун «Искра» с дрессированными животными и наездницы Кети и Ляля Лей.
Сезон выдался скучный. Саламонский хворал, все было в руках режиссера Готье. Готовилась новая пантомима «Камо гря-деши». В ней была занята вся труппа. Ее долго репетировали, так как никак не могли найти актера на роль Урсуса. Готье пробовал многих артистов, но они оказывались неподходящими.
Было дано объявление в русских и заграничных газетах. И вот по объявлению приехал из Подольска крестьянин, никогда не видавший ни цирка, ни театра, но по фигуре подходивший к этой роля, так как он был колоссального роста и очень широк в плечах.
С приехавшим стали заниматься по очереди несколько артистов. Занимались по восемь часов в день. Роль его была небольшая. Дано было пять генеральных репетиций, и, несмотря на это, он на представлении все забыл и перепутал. Позже он вошел во вкус и стал хорошо играть.
Пантомима была богато обставлена. Участвовал дрессированный бык, и тот момент, когда Лигия лежала на быке привязанная, был очень эффектен. Костюмы и бутафория были прекрасные. Даны были конные ристалища в Риме с участием восьми лошадей, бой гладиаторов с сетками и мечами, балет римских гладиаторов со щитами и мечами в такт музыке. Исполнен был также очень красивый комбат[20]. Пышно обставлен был выезд Нерона и хорошо сделана арена Колизея.
Пантомима очень нравилась публике и выдержала большое количество представлений. О ней столько говорили, что даже Энрико Труцци приехал специально в Москву смотреть ее и сговорился с Саламонским, что по окончании сезона цирк Труцци покупает декорации, костюмы и реквизит пантомимы.
Сезон 1897/98 года кончился тихо. Отец и Бернардо подписали на лето контракт в самый большой того времени цирк-зверинец братьев Никитиных. С этого момента начинается многолетняя работа отца в провинции. Работа эта уже проходит частью на моих глазах, и я сам начинаю принимать в ней участие.
ГЛАВА VII
Летний сезон в Саратове в цирке-зверинце Никитиных. Антреприза Рафаловича в Одессе. Цирк Злобина. Лотерея в цирке. У Никитиных в Астрахани. Пантомима «Золушка», «Электрический балет» Опознанского. Труппа Эйжен. Крафт-акробаты. Акробаты-сальтоморталисты. Акробаты-прыгуны. Курбет. Рундат. Группа наездников. Казак Орлов. Наездник Трофимов. Сценка «Мужик на лошади». Группа клоунов. Братья Костанди. «Трубочист и повар». «Воздушный полет» артистов Лупо. Туманные картины. Слоны Нормана. «Англо-Бурская война». Семь слонов и одна мышь. На пароходе в Нижний на ярмарку.
Цирк-зверинец братьев Никитиных был большим предприятием. У него было несколько фундаментальных зданий, он играл в ряде городов и имел большую постоянную труппу. Кроме того, у него ежегодно работали гастролеры.
Отец и Бернардо должны были выступать в саратовском цирке Никитиных. Этот цирк был деревянный, но очень хорошо оборудованный. Братьев Никитиных было трое: Аким, Петр и Дмитрий. Главным директором была жена Акима, Юлия Михайловна. У Никитиных было два управляющих: Р. С. Гамсакурдия и Мисури. Они ездили с цирками по Волге и Кавказу. Коммерчески поездки были очень правильно рассчитаны. Зверинец был громадный. Конюшня — в сто двадцать лошадей. Возить всю эту громаду по железной дороге было немыслимо. Все деньги уходили бы на проезд. И вот Аким Никитин придумал такой маршрут: зимою — Тифлис и Баку, из Баку до Астрахани морем, потом из Астрахани на пароходе по всем городам Поволжья. Никитины снимали для цирка целый пароход. Животные помещались внизу, люди в каютах. В Астрахань и Нижний старались попасть в ярмарочный сезон.
Этот год отец и Бернардо отработали у Никитиных в Саратове, в Нижнем на ярмарке и несколько дней в Казани. Подходила осень, а с нею и зимний сезон, который мы должны были провести в Одессе, так как отец подписал контракт в одесский цирк Рафаловича на большое жалованье.
Открытие одесского цирка состоялось первого ноября. Цирк был каменный. Построен он был пивоваром Сансенбахером. Антрепризу Рафалович держал впервые. Программу строил исключительно на номерах. Своей конюшни у него не было. Им было ангажировано несколько артистов, имевших своих лошадей. Пантомим он не давал. На открытие им была приглашена знаменитая французская артистка Шарль-Миньон, гимнастка на трапеции. Она имела огромный успех у публики. Выходила она на манеж в бальном платье, ее на блоках поднимали на трапецию под самый купол цирка. Там она раздевалась, то есть снимала с себя бальное платье. Под платьем у нее было трико телесного цвета. Раздевание свое она проводила с большим тактом, так что вульгарного ничего не было.
На открытии дан был еще номер с белыми медведями под управлением Генриксена[21]. Медведей было двадцать штук.
Боль шая, хорошо выдрессированная труппа их разыгрывала сценку на палубе парохода, изображая капитана и матросов. Медведи стреляли из пушек. Пароход качался. Сделана эта сценка была очень эффектно.
Сборы одесский цирк делал хорошие. Отец и Бернардо проработали у Рафаловича четыре месяца. Отец запросил Никитиных о работе. Ответа не получил, пришлось взять ангажемент в маленький цирк Злобина в Симферополь.
После ряда больших цирков работа в маленьком цирке показалась отцу неинтересной и очень странной. Цирк Злобина и система его работы были своеобразны. В каждом городе он со своей труппой работал десять, самое большое пятнадцать дней и в это время рсякими правдами и неправдами добивался от администрации разрешения устроить в цирке лотерею. На этом строилось все материальное благополучие цирка.
Это именно он, Злобин, первый придумал заманивать публику в цирк лотереей. Получив разрешение, он выпускал афишу, что такого-то числа в честь публики будут разыграны на такую-то сумму подарки. Взявшие более дорогие билеты получали больше лотерейных билетов. Взявший билет на галерку получал два билета на лотерею.
Во втором отделении на манеж выносили урну с билетиками и розыгрыши. Брали кого-нибудь из детей зрителей, и ребенок вынимал билеты из урны. Злобин не жалел денег и, видя азарт публики, повышал сумму выигрышей.
Публика охотно наполняла цирк, покупая сразу несколько билетов. Среди выигрышей бывали золотые часы, корова, лошадь с упряжью, самовар и масса мелких вещей. С каждым днем азарт возрастал. Зрители заражали друг друга. Надо было видеть их лица, когда на их билет падал выигрыш. Когда лотерейный азарт достигал высшей точки, кто-нибудь из артистов направлялся Злобиным в тот город, куда намеревался переезжать цирк, и там уже заранее становилось известным, что скоро приедет цирк с подарками. Часто чуть ли не в первый день открытия цирка слышались голоса: «А где же подарки?» Программу не хотели смотреть, требовали только лотерею.
Обычно азарт кончался тем, что лотерею запрещали. Тогда Злобин снимался и уезжал в другой город. Подмена циркового представления лотереей возмущала многих. Особенно часто возмущение шло от артистов цирка и сцены. В негодовании они писали губернатору или жаловались полицмейстеру, и ажиотаж, создававшийся вокруг цирка, административно пресекался.
В маленьких цирках лотереи получили очень широкое распространение. Чего только ни делали директора, чтобы получить разрешение на лотерею. Подкупали администрацию, давали взятки. Иногда по сговору с полицией устраивали лотерею без афиш, объявляя на вечернем представлении, какие розыгрыши будут завтра. Ставили перед цирком плакат с перечислнием подарков. Были директора, которые во время розыгрыша плутовали. Раздавали мелкие подарки, а на крупные выдвигали подставных лиц. Делалось это очень просто. Ребенок из публики вынимал билетик и передавал его униформисту. У того же между пальцами был другой билетик. Униформист подменял поданный ему билет своим на языке цирка — санжировал, и главный выигрыш получало подставное лицо.
После лотереи цирку лучше было не показываться в город: на представления никто не ходил, все ждали подарков, сборов никаких не было.
Неумелые директора маленьких цирков иной раз на этом разорялись. Они получали разрешение на три — пять дней. Не умели в достаточной мере подогреть азарт публики и прогорали.
В разгар ажиотажа с подарками в Симферополе Злобин часть своей труппы перебросил в Мелитополь. Поехали туда и отец с Бернардо. Служба у Злобина им обоим не нравилась, и они разослали ряд телеграмм циркам с предложением своих услуг.
В Мелитополе сборы были очень хорошие. Из артистов выделялись братья Котрелли. Они были прекрасные акробаты, но большие пьяницы. В пьяном виде дебоширили так, что хоть из города уезжай. Чаще всего они проделывали следующее.
Ночью, когда улицы были пусты, а Котрелли изрядно пьяны, один из них подходил, к постовому городовому и на ломаном русском языке просил проводить его до дому, обещая ему за проводы денежную мзду. Как только городовой скрывался из вида с одним из братьев, другие, взобравшись друг другу на плечи, начинали перевешивать вывески. На аптеку водружали вывеску портного или сапожного мастера, булочную превращали в аптеку. На утро общее изумление, поиски виновников происшествия и скандал.
Котрелли были хорошими товарищами и никогда не давали в обиду слабых, ввязывались в разные истории, драки, любили подшутить и побоксировать. Они служили зиму у Саламонского, но им пришлось уйти от него из-за истории со священником. Пошли они однажды на вокзал провожать кого-то. До отхода поезда времени было много, и они изрядно выпили. Говорили они между собой по-итальянски. Вдруг из-за соседнего столика встает священник, подходит к ним и говорит, что очень любит Италию и итальянцев, сам говорит по-итальянски и рад с ними познакомиться. Один из братьев Котрелли говорил немного по-русски. Завязался разговор. Священник пригласил их к своему столику, потребовал коньяку, затем шампанского.
Котрелли решили над ним подшутить, опрашивают его:
— Вы куда едете?
— В Петербург.
— Вот приятно, мы тоже в Петербург. Вы в каком классе?
— Во втором.
— Мы тоже во втором. Это ваш чемоданчик?
— Мой.
— Вот и прекрасно, мы займем одно купэ.
В это время раздался второй звонок. Священник забеспокоился, но Котрелли начали его убеждать, что звонок не к их поезду. Заговаривали они ему зубы, заговаривали, пока поезд в Петербург не ушел. Тогда они разошлись один за другим, под разными предлогами. Священник заметил это только тогда, когда остался один. Он подозвал швейцара и спросил:
— Когда идет поезд на Петербург?
— Все поезда ушли, батюшка, — ответил швейцар, — больше поездов сегодня нет.
Священник немного выпил, был раздражен, начал ругаться. Появился жандарм. Вокруг священника и успокаивавшего его жандарма стала собираться публика. Священнослужитель продолжал ругаться, его забрали. Котрелли наблюдали всю эту сцену в окно и очень смеялись. Даром эта история им не прошла: на другой день священник явился в цирк, и в тот же день братья были уволены.
В Мелитополе отец неожиданно получил предложение от Никитиных приехать работать в Астрахань. Тотчас он сообщил депешей Злобину, что он и Бернардо через пятнадцать дней кончают работать у него. Злобин хотел повысить им жалованье, но они отказались, и через две недели мы покинули Мелитополь. Отец был рад, что семья наша переезжает в большой город, так как мать ждала со дня на день четвертого ребенка. Через несколько дней родилась сестра Олимпиада.
Состав труппы в Астрахани был такой, что могло хватить на три хороших цирка. Это произошло потому, что кавказская группа цирка, закончив сезон в Тифлисе и Баку, приехала в
Астрахань. Занята была только половина артистов. Остальные отдыхали. Кое-кто работал в пантомимах.
Никитинская труппа жила дружной семьей. Бывали только профессиональные неполадки, которые быстро сглаживались. Артисты знали, что, попав к Никитину, они раньше двух-трех лет от него не уйдут и перегружены работой не будут. Никитинский цирк часто был для небольших артистов почти что богадельней. Иной раз даже публика замечала, что артист работает посредственно. Аким Никитин подзовет кассира и скажет: «Подсчитайте все, что он забрал, и заявите, что через пятнадцать дней он у нас не служит». Кассир подсчитает и выходит, что артист должен дирекции рублей четыреста. Уходить ему и не с чем. Артист придет к Акиму Никитину, начнет жаловаться, что у него семья и итти ему некуда. Тот махнет рукой и скажет: «Ну, пусть дальше служит».
Долги дирекции накапливались потому, что артистам в течение года выдавался аванс, и только на Нижегородской ярмарке производился расчет и все до копейки выплачивалось. Ни в одном цирке не было столько семейных артистов, столько детей и такого раздолья для них, как у Никитиных.
Юлия Михайловна, жена Акима Никитина, была очень добрая женщина и любила детей. Во время частых переездов цирка она обходила каюты и вагоны и смотрела, хорошо ли устроены семейные артисты. В договорах проезд семьи за счет дирекции оговорен не был; несмотря на это, в поездах для семейных отводился отдельный вагон, а на пароходах давались каюты. Если в дороге случались роды, то Юлия Михайловна или пришлет что-нибудь ценное новорожденному, или сама принесет.
Репетиции в цирке начинались рано. Сначала шла конная репетиция в присутствии Акима или Петра Никитиных, затем на час манеж отдавался для тренировки детей. Для их обучения был приглашен специальный балетмейстер. Если кто-либо из родителей желал поставить ребенка на лошадь, — ее выводили беспрепятственно из конюшни на манеж. Часто кто-нибудь из Никитиных сидит, смотрит на обучение детей и поощряет, ставя полтинник или рубль тому, кто сделает лучше.
В Астрахани цирк стоял за городом в саду Отрадном. Цирк был деревянный с железной крышей, со сценой для пантомим. Во фруктовом саду был дом Никитиных. Артисты размещались на частных квартирах недалеко от цирка. За забором сада протекала речка Балда.
Летом стояла такая жара, что даже на базар за продуктами ходили с первыми лучами солнца. В полдень спали. Одолевали комары и мошкара. В каждом доме над кроватями были пологи из марли. Кому было надо, тот репетировал в пять часов утра. Представления начинались очень поздно, когда наступала сравнительная прохлада. С шести часов утра цирк и внутри, и снаружи поливался водой.
В Астрахани цирк очень любили и охотно посещали, несмотря на то, что расценка мест была недешевая. В цирке шли большие пантомимы: «Юлий Цезарь», «Стенька Разин», «Китайский праздник», «Вокруг света», «Хаджи Мурат». Шел «Клоункий балет» и «Электрический балет». Всего — свыше двадцати пантомим и балетов. Из пантомим посещались всего больше «Стенька Разин» и «Хаджи Мурат».
В цирке работало два балетмейстера — Опознанский и Мартини. Режиссером был Робинзон. Шла детская пантомима «Золушка», так хорошо и богато оформленная, что ставилась она вечером и пользовалась большим успехом. Все роли исполняли дети от пяти до десяти лет. Наиболее интересным и красочным был последний акт — бал у Золушки-Сандрильоны.
Пантомима шла одновременно и на манеже и на сцене. Перед последним актом на манеж спускался круглый занавес, чтобы публика не видела, как обставляется арена. Занавес поднимался, и она оказывалась покрытой паркетным ковром. Посредине возвышался золотой трон. Золоченая мебель была маленькая, рассчитанная на детей. Двадцать четыре золоченых канделябра с электрическими свечами освещали арену. Бал начинался выходом двенадцати пар маленьких лакеев в богатых ливреях. За ними шло столько же пар маркизов и маркиз. Появлялись Золушка и принц, направлялись к золотому трону и усаживались на него. Им подносили золотые булавы. Под музыку выходила процессия детей, наряженных и загримированных Наполеоном, Франц-Иосифом, Феликсом Фором, Бисмарком, Джон-Булем. Они шли каждый под гимн своей страны, кланялирь Золушке и садились на свои места. Последним выходил Скобелев под марш его имени. Начинался балет. После балета все парами расходились. Арена освобождалась от мебели. На нее выезжали крошечные экипажи. Последней появлялась карета Золушки, запряженная шестью маленькими пони золотистого цвета. Вся процессия освещалась бенгальским огнем. За Золушкой верхом на лошади ехал Скобелев.
Дети были очень хорошо загримированы и очень походили на тех, кого изображали. В пантомиме участвовали дети артистов, но брали детей и со стороны, часто просто с улицы. За выступления детям платили по сорок копеек за представление и по двугривенному за репетицию.
С этой пантомимы я и брат Костя начали свою артистическую карьеру. Я исполнял роль Наполеона. Шестилетний Костя играл Джон-Буля; в первое представление он заснул на барьере, и от волнения костюм его был мокрый. Много цирковых артистов, ныне благополучно работающих в цирке, начинали карьеру вместе со мной в цирке Никитиных, выступая в «Золушке». В это время труппа Никитиных состояла из лучших мастеров цирка, посредственных артистов было мало.
Из новинок тех дней надо отметить «Электрический балет», работу балетмейстера Опознанского. Балет проходил так.
В ковер, разостланный на манеже, были вделаны пластинки, через пластинки проходил ток. Двадцать четыре женщины были одеты в костюмы с цветами, в которых были спрятаны электрические лампочки. На арену наводились прожекторы. На правой ноге танцующих была пластинка. Когда по ходу балета все танцующие становились правой ногой на пластинки, вделанные в ковер, в такт музыке зажигались электрические лампочки, спрятанные в цветах на костюмах. Зрелище получалось очень эффектное.
Как я говорил, в цирке была большая конюшня. С дрессированными лошадьми выходили Аким или Петр Никитин. Дрессировал же лошадей Робинзон.
Из акробатов лучшими были десять человек, составлявшие труппу Эйжен. Работали они в трико и были лучшими сальтоморталистами.
В труппе была своя система занятий. Проводилось строгое разделение труда. Один из верхних мальчиков умел крутить только обыкновенное сальтомортале, другой только пируэтсальтомортале и т. д.
Номер их был сделан так. Два мальчика взлетали на колонну из трех человек, проделывая два сальтомортале и, взлетев, останавливались у верхнего на плечах, как вкопанные, отсюда они опять делали сальтомортале на плечи третьего человека из их группы, причем эти переходы или, вернее, перелеты с плеч на плечи сопровождались замысловатыми комбинациями сальто-мортале.
Работала у Никитиных труппа Папи-Бруно — акробаты в смокингах. Верхней у них была дочь Ляля, и весь номер строился на концовке, состоявшей из прыжков Ляли на землю. Она проделывала два круга фифляков, делала курбет (отталкиваясь руками, приходила опять на руки) и так подряд проходила по манежу два круга.
Работавшие у Саламонского и у Злобина одновременно с отцом акробаты братья Котрелли перешли в цирк Никитиных. Они не делали никаких особенных трюков, но работали в таком бешеном темпе, что артисты называли их «сумасшедшими Котрелли». Публике их работа нравилась.
Акробаты Дюбуа и Пуло начинали свою работу интересно. Один из них выходил на арену и начинал прыгать в партере. Выходил его партнер и тоже прыгал. Затем оба они проделывали акробатические номера крафт. Крафт — это стойка на руках, стойка на головах, голова в голову, и разные комбинация
сальтомортале.
Надо сказать, что акробаты делятся на разные категорий или, говоря на цирковом жаргоне, бывают акробаты «на разную работу». Есть акробаты-гладиаторы ручные. Они работают вдвоем или группами. Их называют еще силовые крафт-акробаты. Вся их работа основана исключительно на силе и особенно на умении делать стойки на руках. Особенно ценились такие группы, где акробаты были одного роста, одного веса и красивого сложения. Случалось, но редко, что нижний партнер был легче верхнего.
Акробаты-сальтоморталисты обычно работали группами от четырех до десяти человек. Они делали различные сальтомортале с плеч на плечи. Характерная черта этой работы та, что вся она построена на швунге[22] и темпе. Нижний акробат, который стоит внизу и бросает, называется «ловитором» или еще «унтерманом». Когда работают только четыре артиста, то унтермам бросает и ловит, а когда больше, то только бросает. Ловитор или унтерман почти всегда является, руководителем группы. Чтобы быть хорошим руководителем, надо самому хорошо пройти всю школу акробатики. Ловитор должен обладать не только физической силой, но и большим чутьем. Он следит за работой "среднего и верхнего акро6ата в (мительмана и обермана-вольтижера) и во время их работы буквально на лету должен сообразить, «перекрутил» или «недокрутил» свое сальтомортале верхний партнер. Если он пошел высоко, то нужно «подать» ему плечи.
Если сальтомортале низкий, то надо присесть, чтобы верхний успел выкрутить сальто и притти нижнему на плечи.
Во время тренировки, пока верхний не приучится держать ноги врозь, ловитору часто попадает по голове ногами. Профессиональная болезнь их – это сломанные хрящики ушей. Уши у них похожи на гриб-сморчок.
Верхний акробат обычно начинает свою карьеру мальчиком Его кидают с рук на плечи. В этот краткий промежуток времени он должен перевернуть свое тело в воздухе и, главное, во-время «распустить» его. Когда унтерман бросает обермана, он должен туго держать ноги и стараться итти вверх. Когда же полет дошел до верхней точки, то нужно (при сальто назад) голову бросить вперед и подтянуть колени к груди, затем перевернуть тело в воздухе, и когда почувствовал, что перевернул, то тотчас без замедлений «распустить группировку», то есть выпрямить корпус и держать ноги по ширине плеч. Если же оберман-вольтижер делает сальто вперед, то нужно грудь и голову вытянуть вперед.
Юный оберман работает до тех пор пока с ростом не начнет тяжелеть. Тогда он делается мительманом, а затем и унтерманом.
Мительман работает (бросает и ловит), стоя на плечах-унтермана.
Третья группа — акробаты-прыгуны. Они свою работу строят на прыжках. Партерный прыжок — одна из труднейших областей и в то же время основа циркового искусства. Кроме природной ловкости, чтобы быть хорошим прыгуном, нужна большая тренировка. Поэтому старики учили детей прежде всего прыжкам, считая, что ребенок не может быть хорошим цирковым артистом, если он не умеет прилично прыгать. Основа всех прыжков — это курбет. Если у акробата хороший курбет, то остальное ему будет менее трудно.
Вот описание курбета.
Прыгун становится на руки, сгибает руки в локтях и ноги в коленях, отталкивается от рук, помогая ногами и толчком (как пружина), приходит с рук на ноги. Курбет облегчает дальнейший прыжок. Нет такого прыгуна, который во время учебы не задержался бы над курбетом. После курбета второе важное упражнение — рундат, или колесо. По-моему, это тот же курбет, только сделанный сразбегу. Делается он так.
Прыгун бежит, поднимает одну руку и ногу, поворачивает корпус, ставит руки на землю и делает курбет. Этот прыжок дает такой разбег (толчок), что после него нельзя удержаться на ручках. На репетициях часто стоят пассировщики[23] и поддерживают под спину, чтобы прыгающий не упал назад.
Курбет с рундата очень силен. Некоторые прыгуны после него получали такой разбег, что могли выкрутить два сальто-мортале, т. е. перекручивали свое тело в воздухе два раза.
Акробаты прыгуны обычно страдают расширением связок, и у них часты вывихи ног. Это очень трудный жанр работы. Труднее его нет. Насчитывается очень мало настоящих прыгунов. Всего легче ручная акробатика, на которую так падка наша молодежь.
— Лапки в лапки, стойка на голове, — говорят старики-циркачи, — голова в голову — этому при трехлетней тренировке легко можно научиться. Вот курбет и рундат — другое дело.
Наездников в цирке Никитиных было много. Наиболее знаменитыми были: Курто, Фабри, Федосеевский, Сычев, Орлов к Трофимов. О четырех первых я уже говорил в связи с работой в других цирках. Остаются Орлов и Трофимов.
Орлов — это казак-наездник. Он выезжал с пикой в казачьем костюме, проделывал казачью джигитовку, рубку, брал барьеры. Такого рода езды я в цирке ни разу больше не видал.
Трофимов был учеником Никитина и на лошади исполнял разные сценки. Особенно удавалась ему сценка «Мужик «на лошади».
Выезжал сначала на манеж клоун и плохо, неумело ездил. Тогда с галерки Трофимов в мужицком зипуне или кафтане с подвязанной бородой кричал клоуну, что он ездит плохо. Клоун предлагал ему на пари в двадцать пять рублей проехать, стоя на лошади. Мужик соглашался, шел на манеж. Униформа подсаживала его на лошадь. Он садился задом наперед и спрашивал, где же голова лошади. Ему отвечали: «Впереди». — «А почему здесь борода?» — «Это не борода, а хвост». Затем Трофимов указывал на туфельки клоуна и просил у него волшебные башмачки. Ему приносили туфли. Он снимал ботинки и надевал туфли. Лошадь пускали быстрым галопом. Он просил разрешения раздеться. Снимал зипун, потом одну за другою двенадцать жилеток. Оставался в одном трико, срывал бороду и показывал хорошую жокейскую езду.
Из наездниц в труппе Никитиных тех лет были Клара Гамсакурдия, Лидия Соколова, Калина Есаулова, Бишет — жонглерша на лошади.
Среди клоунов преобладали музыкальные клоуны (Джерети Билли, Танти, братья Костанди, Том-Жак, Миавские, работал Том Беллинг — сын). Был клоун с дрессированными животными — Лавров.
Реприз-клоун Бабушкин работал специально во время выездов наездниц. Затем были три пары клоунов: Иванов и Александров, Тимченко и Фердинандо[24], Алыперов и Бернардо. Музыкальными клоунами в полном смысле этого слова были Миавокие и Том-Жак. У Тома-Жака было много оригинальных инструментов. Билли Джерети и Костанди работали с успехом, но это были скорее клоуны-эксцентрики.
Клоуна Лаврова публика любила. У него были бесподобный дрессированный кабан, собаки, петухи.
Особенным успехам пользовался номер с гармошкой, спрятанной в сапоге. Лавров часто поступал нечестно, занимался тем, что в литературе называется плагиатом. Увидит на репетиции какой-нибудь новый номер или прием и старается выступить с этой ему не принадлежащей новинкой раньше автора. Том Беллинг работал «рыжим» и в то же время прекрасно ездил верхом и жонглировал на лошади. Братья его Губерт и Клименс посылали ему из-за границы разные новинки. Работа Джерети Билли и Танти была очень интересна, Танти был высокого роста, а Билли маленького, говорил как ребенок, хорошо танцовал и был очень смешным на вид. Особенно удачно оба они выступали в пантомимах.
Большим успехом у публики пользовались братья Костанди. Они работали как акробаты, участвовали в интермедиях, давали музыкальные номера, исполняли очень интересную акробатическую сценку «Трубочист и повар».
На манеже была сделана кухня с трубой. Стоял большой стол. Повар готовил обед. Из трубы неожиданно вылезал трубочист. Повар пугался. Трубочист его успокаивал и предлагал проделать несколько акробатических упражнений. Упражнения проделывались на столе. В это время загоралась кухня. Трубочиста подбрасывали вверх, и он попадал на трубу, лил туда воду, случайно обливал повара, и начиналась погоня друг за другом в кухню и из кухни, причем кухня была вся на шарнирах, и, бегая, очень удобно было влезать наверх, проваливать ся, появляться в неожиданных местах и т. д.
Сценка эта была прекрасно оформлена и шла в таком быстром темпе, что оба артиста кончали ее и уходили с манежа, едва дыша.
В цирке Никитиных было много номеров аттракционного характера.
Четыре артиста Лупо давали номер «Воздушный полет». Под куполом цирка был устроен воздушный турник, и на этом турнике все четверо проделывали одновременно очень сложные эволюции. Работали они так ритмично и в такт, что казались заводными.
Таков был цирк Никитиных.
Вскоре труппу разделили. В Царицын поехал Петр, а Аким остался в Астрахани. Начались гастроли. Странно теперь вспомнить, что в третьем отделении показывали «туманные картины». Полотно смачивали водой, и на нем отпечатлевались разные виды, раскрашенные картинки и т. д. Под конец показывали карикатуры. Через несколько дней в программу ставили «живые-картины» и показывали приблизительно то же самое.
Из гастролеров Наибольшим успехом пользовался Норман с живыми слонами. Когда их проводили по городу, то весь город был на ногах, и сборы были обеспечены. Лучшим номером Нормана была «Англо-Бурская война». Слоны стреляли из пушек, покрывали флагами убитого командира и уносили его с арены: двое поднимали его хоботами за голову, а третий брал за ноги. Слоны засыпали в лагере и поднимались по тревоге. Самый маленький слон Беби хромал, и, когда уносили убитого командира, он брал большого слона за хвост и, прихрамывая, уходил с арены.
Интереснее всего было наблюдать слонов не на арене, а во время купанья в реке Балде. Они выражали свою радость криком, пускали из хобота вверх фонтаны воды и Норману большого труда стоило увести их обратно в цирк.
Норман дружил с отцом, часто обедал у нас. Я встречался с ним и позднее. Меня интересовало, как такая махина подчиняется воле человека. Норман рассказал мне, что у индусов существует поверье, будто слон видит все в увеличенном виде. Поэтому он боится всего, боится и человека. Слон никогда не сделает человеку плохого, если его не дразнить. Он — очень добродушное животное. Я любил слонов, и часто на репетиции Норман сажал меня на слона. Я любил также наблюдать, как они едят. Слон никогда не вырвет пищу у другого слона. Они соблюдают во время еды порядок. Но съесть слон может все, что попадется, все, что он может достать хоботом: ботинки, пиджак, тряпки — все отправляется тотчас в рот; слон стоит и, качаясь, жует. Они съедали по пятнадцати пудов сена, выпивали по тридцати ведер воды.
Как-то в Астрахани привезли в цирк свежее сено на корм слонам и после представления положили им это сено на ночь. Кучера напоили животных и пошли спать. Вдруг среди ночи — рев. Пока прибежали служащие, слоны сорвались с цепей, выбили заднюю стену своего помещения, выбежали в сад, стали там буйствовать, переворачивая и ломая все, что попадалось на пути, затем бросились к реке. За садом был маленький базарчик — десяток ларьков, в которых торговки под наблюдением сторожа оставляли на ночь свои товары. Слоны снесли и разбросали все ларьки. Тащили и пожирали булки, огурцы, помидоры. С ними ничего нельзя было поделать, пока не прибежал Норман. Несмотря на раннее утро, собралась огромная толпа народу. Норман повел слонов к цирку. Только он хотел ввести их в помещение, как они подняли такой рев, что публика от страха пустилась врассыпную. Ввести слонов в помещение не удалось до тех пор, пока оттуда не убрали все сено. Норман объяснил, что в сене, очевидно, была мышь. Мыши нагоняют на слонов панический страх: огромное животное боится, как бы мышь не залезла к нему в хобот. Несколько дней слонов пришлось кормить другой пищей, потому что от сена они приходили в беспокойство и начинали реветь.
Из Астрахани часть труппы, в которую попали и мы, поехала в Нижний Новгород. Эта поездка считалась справедливо одной из лучших. Сняли целый пароход, на который погрузился только цирк. Первый и второй класс занимали артисты, третий класс — служащие. Внизу помещались животные. С труппой поехали Аким Александрович и Юлия Михайловна. Нам, детям, было раздолье на пароходе. Взрослые играли в карты, лото, шашки. На нас не обращали вниманиями, и десять дней на полной свободе мы плыли по широкой в нижнем своем течении Волге. Для нас это был настоящий праздник.
На пароходе репетиционная работа продолжалась.
ГЛАВА VIII
Нижегородская ярмарка. Балаганы. Цирк-зверинец Никитиных. «Синематограф». «Народный театр Гордея Иванова». Парад балаганщиков на ходулях. Иваново-вознесенская ярмарка. Тифлис. Укротитель Турнер и лев Цезарь. Смерть гимнастки Дозмаровой. На пароходе из Баку в Астрахань. Занятия акробатикой. Первое горе. Месть слона Джимми. По Военно-Грузинской дороге в дилижансе. Змеиный укус. Юлий Цезерь в красной косоворотке.
В Нижнем мы подъехали к Сибирской пристани. Оттуда до цирка, расположенного на Самокатской площади, было рукой подать. За мирком была снята гостиница специально для артистов. Из номеров был ход прямо в цирк. Направо от цирка живописно раскинулись балаганы, карусели, качели, панорамы и силомеры. Все это было уже готово для принятия публики, но закрыто до того момента, как будет поднят ярмарочный флаг. Пока же была разрешена только торговля съестными продуктами.
За цирком находилась специальная ярмарочная пожарная команда. За ней ряды с пышками и пельменями.
Поднятие флага происходило при большом стечении народа у главного здания ярмарки на площади. Когда после торжественного молебна флаг поднимали, ярмарка считалась открытой. Купцы тоже служили молебны по своим лавкам, молясь, чтобы бог помог им сбыть залежалый, а подчас и гнилой товар.
С момента поднятия флага на ярмарке жизнь кипела ключом. Больше месяца площадь была настоящим бедламом, в котором одни наживались, другие разорялись, одни обманывали, другие давали себя обманывать. Вся ярмарка была сплошным обманом. Угар, шум, гам с шести часов утра и до часа ночи — голова шла кругом. Первое время по приезде слушаешь, лежа в кровати, нестройный гул голосов, грохот оркестров и никак не можешь уснуть.
Уедешь из Нижнего, и все тебя преследуют фальшивые звуки балаганных оркестров, шум и гам Ярмарки, прорывающиеся сквозь них выкрики: –«Квасу!.. Квасу!..» «Заходи! вот она…» «Пышки горячие!.. Пышки!» «Хороши пельмени!..»
Из окон нашей гостиницы виден был весь Самокат: балаганы, толпы народа вокруг них, все веселье Нижегородской ярмарки.
Ночью Самокат затихал, но зато то тут, то там раздавались свистки городовых и крики: «Держи, лови, лови!.. Украли!.. Бей!.. Убил!.. Держи — убил…» Или душераздирающий женский крик и плач и заборная ругань из Азиатского переулка, находившегося налево от цирка.
Казалось, все зверское, дикое и подлое, что есть на Руси, собралось здесь.
Афера, воровство, разврат, убийство и тут же монашенка, собирающая на построение «храма божьего».
Но самое печальное, что тут же вертелись, все видели и слышали дети. Ярмарка кишмя кишела детьми от грудного возраста у матерей на руках до подростков. Только теперь я понимаю, какое разлагающее влияние имела на детей ярмарка.
Мы, дети, играли в Азиатский переулок. Девочки подмазывали щеки и губы, подводили брови и зазывали нас, мальчиков, в «свой дом». Мы же спрашивали: «Сколько?» — «Рубль». — «Нет, полтинник».
Нас выдрали за эту игру, а мы не могли понять, за что нас дерут: ведь все это мы слышали из окон гостиницы.
Балаганов на ярмарке было очень много, хоть отбавляй. Но веселье ярмарочное было какое-то невеселое, напускное, под хмельком, под лузг и щелканье семячек. Пьяная ругань звучала сильнее, чем звуки оркестра, и самое «веселое» было, когда вдребезги пьяный муж лупцевал жену или жена била мужа, вытаскивая его из кабака. А кабаки стояли на каждом шагу. Подростки и те напивались пьяными.
Эту жуткую и омерзительную картину называли «ярмарочным весельем».
Можно было встретить не только в Азиатском переулке, но и в любом месте ярмарки проституток в таком возрасте, что им бы еще в куклы играть. А они ходят накрашенные, в ярких платьях и ведут себя циничнее и вульгарнее, чем взрослые.
Особенно отвратительно было на Самокате по воскресным дням. Везде валялись пьяные, которых незаметно обирали до нитки выдававшие себя за земляков или соседей «сердобольные люди». А то доверчивый простак из деревни попадет в лапы «тринадцатой веры», этих рыцарей легкой наживы. («Тринадцатой верой» называлась азартная картежная игра.) Или увлечется игрой в «три листика», «ремешок» или «наперсток».
Наконец, за Самокатской площадью, на поле перед вонючим прудом, устроено было своеобразное Монте-Карло, и шла игра в «очко».
Полиция получала с этих «игр» свой законный процент. Комбинации опытных шулеров проделывались с ее ведома и попущения. На все была своя такса. И назначались на ярмарочные посты такие чины полиции, которые умели себя не забывать и начальство помнить. Бывало, что и краденое прятало само начальство, само же его, если нужно было, и находило.
Полиция очень любила цирк и не стеснялась его служащих. На галерке цирка происходили свидания аферистов с полицией и делился дневной заработок. Часто после спектакля с галерки десятками выметали пустые кошельки и бумажники. Полицейский пост был в сторожке у цирка. Под пьяную руку городовые, не стесняясь, рассказывали, все кучерам и служителям цирка, а те передавали нам, артистам.
Балаганов на ярмарке было около двадцати. Были и хорошие и плохие. Тут же стояли в ряд карусели, качели, различного рода силомеры.
Нужно было большим молотом ударить по деревянной наковальне. От такого удара вверх по шесту аршин на десять длиной взлетала железка. В конце был положен пистон. Если ударявший выбивал доверху, то раздавался выстрел. За каждый удар платили по гривеннику. За три выстрела подряд ударявший получал полтинник. И тут дело не обходилось без жульничества. Хозяин мог так поставить свою деревянную наковальню, что даже от слабого удара получался выстрел. Делалось это, чтобы разжечь азарт и собрать больше гривенников.
Были на ярмарке и «колеса счастья» и «коробки счастья» и все с обманом и в расчете на азарт. Подходил свой, подставной, выигрывал и часы, и деньги, вовлекая в игру доверчивых зрителей.
Балаганы конкурировали между собой. Были балаганы с артистами, с марионетками, с механическими куклами, которые разыгрывали целые феерии. Каждый балаган был на свой образец. Успех балагана зависел от рауса. Особенно это заметно было в воскресные и праздничные дни, когда народ валил толпами туда, куда его крикливее и интереснее зазывали.
Любители находились на все. У такой примитивной штуки, как панорама, стоял хвост. Панорама — коробка на подставке, в коробку вделано увеличительное стекло. Внутри на толстой вращающейся палке укреплены на равных расстояниях картинки. Перед панорамой скамья. Плата пять копеек. И публика толпится, смотрит. А панорамщик зазывает, балагурит, рассказывает всякие небылицы о своих картинках.
— Подходите, господа, подходите! Увидите Наполеона, въезжающего в Москву на белой лошади.
— Дяденька, — говорит смотрящий, — что-то не видать
Наполеона, и белой лошади не видать.
— А ты смотри лучше, там вдалеке лесок, за леском он самый и стоит.
Часто бывало, что любителю панорам во время сеанса чистили карманы.
В балаганах можно было за десять копеек увидеть акробата и жонглера, услышать рассказчика. Были и отдельные маленькие палатки с одним каким-нибудь трюком. Висит, вывеска
«Теленок с шестью ногами». Все бросаются смотреть – думают, что он живой, а теленок в спирту. Или объявляют: «Курица с человеческим лицом и человеческими пальцами». Делали же такую курицу просто: перевязывали обыкновенной молодой курице клюв и лапы шелковой лентой и мазали купоросом. Через некоторое время роговой слой слезал, и получалось впечатление, что пальцы курицы и ее нос похожи на нос и пальцы человек.
Но самое наглое предприятие было «Путешествие за пять копеек вокруг света, с видами на все части Света». Входишь в палатку — на столе карта всех частей света и на стене надпись: «Выйдешь из балагана, не говори другому, может, еще попадется дурак, захочет, как и ты, за пятак, вокруг света обойти».
Были балаганы, которые давали вечерние представления. В некоторых были хорошие хоры, состоящие из двадцати пяти и больше человек.
Около одного из балаганов стоял человек-автомат, громадная кукла-турок выше человеческого роста. Турок механически курил, отвечал на вопросы, играл в шашки. Думая, что это в самом деле автомат, я по свойственной мне любознательности стал следить за ним и увидел, что в автомат сажали безногого человека.
Работали на ярмарке и петрушечники. Они расставляли тут же на площади свои ширмы и давали представления. Ходили и болгары с шарманкой и обезьяной или попугаем. Канатоходцы на двенадцати-пятнадцатиаршинных мачтах проходили над прудом с кипящим самоваром в руках.
На лучшем месте площади стоял зверинец Никитиных и музей восковых фигур. В музее восковых фигур было два отделения. В одном были прекрасно сделанные звери и люди, и отдельно и группами. Была женщина, которую терзал лев, горилла, которая душила лежавшую на земле женщину. Другое отделение было так называемое «научное». Там показывались различные заболевания. В это отделение женщин пускали только по пятницам, в этот день мужчинам вход был воспрещен. В остальные дни пускали только мужчин. Зверинец был один из самых больших балаганов. В нем было все от слона и жирафа до белых мышей. Звери хорошо содержались. Обстановка зверинца была очень приличная, а за вход брали всего двадцать пять копеек. При зверинце было помещение с полуманежем. В ием за особую плату через каждые даа часа шли представления с животными. Зверинец давал Никитиным большой доход, В зверинце был двугорбый верблюд, которого знала вся ярмарка. Если его дразнили и показывали ему язык, он сердился и со злости оплевывал вблизи стоящих.
Купцы этим забавлялись. Найдут приезжего, который еще не бывал в зверинце, подпоят его и начнут с ним спорить, что он не покажет верблюду языка. Приедут ночью пьяной ватагой, разбудят сторожей, подойдут к верблюду и давай его булками кормить. Потом покажут булку и не дадут, а он уже сердится и набирает слюну. Тогда подзадоривают приезжего, чтобы он показал верблюду язык, а сами нарочно отойдут. Приезжий высунет язык, а верблюд его и окатит слюной с головы до ног.
В ярмарочное время в Нижнем и его пригородах к комнатам не было подступу. Гостиницы были переполнены, даже за углы брали большие деньги. Большинство мелких торговцев жило тут же на ярмарке, ночевало в палатках. Балаганщики и панорамщики жили в своих помещениях. Над лавками делали пристройки, в которых жили более крупные торговцы. Иногда они ночевали в лабазах. Многие из них приезжали на ярмарку из года в год, заводили все нужное для обихода и оставляли все это до следующего года.
Каких только рядов и каких товаров не было на ярмарке, начиная с персидских и китайских ковров и тканей, кончая скобяными товарами. Найти можно было все, что угодно. Но если не знаешь, где купить, то обязательно купишь заваль. Своеобразен был одежный ряд, где у лавок стояли приказчики и зазывали покупателей. Среди них были просто артисты своего дела. Они получали хорошее жалованье, и хозяева их очень ценили. Они впивались в покупателя так, что он покупал все, что ему навязывали.
На ярмарке был театр, в котором выступали лреимущественно гастролеры. Против театра находился Бразильский пассаж. Почему он так назывался, никто не знал. Там шла бойкая торговля галантереей, сластями и была устроена «американская дешевка». Любая вещь на выбор в разных витринах стоила двугривенный или пятьдесят копеек, редко рубль.
Главный интерес выставки сосредоточивался в центральном выставочном павильоне, где посменно с десяти часов утра до девяти часов вечера играли два оркестра и вечно толпился народ.
Открытие цирка началось в полдень молебном. Арена цирка была застлана ковром, на нем были поставлены столы. Приехало духовенство и приглашенное на открытие начальство. В обязательном порядке присутствовал пристав и другие полицейские. Полиция, в сущности, была хозяином ярмарки. Недаром все чины полиции наперерыв старались получить назначение на нее. Не было такого предприятия, которое не платило бы им деньгами или товарами.
Духовенство приехало на молебен с иконой, которая была поставлена посредине манежа. После молебна все помещения цирка окропили «святой водой».
В цирк духовенству ходить воспрещалось, а служить молебен о процветании цирка им разрешали.
После молебна все приглашены были «на пирог» и рюмку водки. Вечером состоялось торжественное открытие цирка. На арену вышла униформа, за нею тридцать человек мужчин и женщин в боярских костюмах и кокошниках. Появился Аким Никитин, поздравил с открытием ярмарки, и представление научалось. Цирк был, конечно, переполнен.
Здание Никитинского цирка было кирпичное, а верх его и крыша были деревянные. Весною, когда Волга разливалась, она заливала весь Самокат и доходила иной раз до уровня галерки. Поэтому даже летом здание было сырое, и артисты одевались не в уборных, а у себя в номерах. Цирк был хорошо отделан. Купол расписан в русском стиле. Большой оркестр цирка в ярмарочное время пополнялся. Управлял им в те годы дирижер Ионаш.
Кто только попадал на ярмарку, непременно бывал в цирке.
Надо сказать, что труппу Аким Александрович подобрал первоклассную, лучшей нельзя было и желать. Кроме того, специально для Нижегородской ярмарки ежегодно привозились и выписывались из-за границы всякие новинки и аттракционы. Таким артистам платили столько, сколько они спрашивали. Поэтому представления шли с аншлагом сплошь всю ярмарку. В дни, когда бывали аттракционы, цены на билеты повышались.
Никитин первый привез из-за границы на ярмарку «синематограф» с механиком. В программе стояло: «Синематограф с живыми картинами»» Как сейчас помню, какой успех имели эти живые картины у публики и сколько сложных приготовлений было к каждому сеансу.
Содержание картин было несложное: катание на лодке; панорама Парижа с Эйфелевой башни; гулянье в Париже; игра в мячи двух клоунов.
Годом позже в том же Нижнем был построен ряд специальных зданий, где показывались целые связные сценки. Публика валила туда валом[25].
Из балаганов Нижнего лучшим считался «Народный» театр Гордея Иванова». Затем шли балаганы Эгуса, Великапистова, Василевского, Абрамовича. В балаганах давали вечерние представления. Труппы в них были очень приличные, а в иных балаганах были прекрасные хоры в двадцать пять, тридцать человек, исполнявшие русские, украинские и цыганские песни; выступали хорошие фокусники, акробаты, жонглеры.
При некоторых балаганах были «черные кабинеты». Небольшая сцена завешивалась черным бархатом. Она почти не освещалась, зато был ярко освещен зрительный зал. Выходил «кудесник» в белом одеянии и начинал показывать на сцене превращение, исчезновение и появление различных предметов. Все манипуляции он проводил при помощи одетых в черные бархатные одежды помощников с черными бархатными масками на лицах. Публика их не видела. Предметы, которые должны были появиться, прикрывались бархатными ширмами. Ширма отодвигалась или убиралась, и предмет появлялся, яркий на глубоком черном фоне. Таким же образом, посредством ширмы или занавеса заставляли его исчезнуть. Главное в «черном кабинете» были хорошо обученные помощники. Если все шло гладко, то получалось очень эффектное зрелище.
Знаменитый фокусник и манипулятор Роберт Ленц[26] путем преломления световых лучей показывал исчезновение и появление в первом ряду партера четырех человек из публики. Люди эти были подставные лица. Свет падал так, что, когда их закрывали черной материей, получалось впечатление внезапного исчезновения.
Вечерние балаганы всегда были полны. Мелкие балаганы давали только утренние представления. Их материальное благополучие зависело от работы на раусе. Чего только они ни выдумывали, чтобы заманить публику.
«Народный дом Гордея Иванова» был, как сказано, тот же балаган. Сам Гордей был талантливый антиподист. Работал он сам и его два сына шести и семи лет. Втроем они проделывали сложные трюки, очень нравившиеся публике. Брат Гордея был санжировщик, или ручник, то есть показывал фокусы, основанные на ловкости руки. Были у него и механические фокусы, привезенные им из-за границы.
Гордей разъезжал со своим «Народным домом» по всем ярмаркам, но зимовал всегда в Орехово-Зуеве. Орехово-зуевские рабочие его очень любили и охотно посещали его представления. Один сын его — фокусник, переменил фамилию Иванов на Гарди. Другой сын — Леонид Иванов, мой друг детства — был одним из лучших дрессировщиков мелких животных, особенно обезьян.
Леонид Иванов умер в начале 1936 г. До самой смерти он хранил портсигар отца. На нем надпись: «Гордею Иванову от орехово-зуевских рабочих».
Особенно ценили рабочие гордеевский хор, которым управлял он сам. Гордей не любил «цыганщины», он был ценитель и знаток русской народной песни. Хор у него был большой и выступал в богато расшитых русских костюмах. Певчие у него были отличные.
Позже у него занимались с хором два хормейстера, но дирижировал им всегда он сам.
Цирк Никитина был большой конкуренцией балаганам. Стоял он на самом видном месте ярмарки. Программа была, как я уже упоминал, первоклассная. Однажды управляющие Никитиных на торгах упустили лучшее место для зверинца. Приехал Аким Александрович, распушил их и приказал, чтобы первое место было за ним. Поднажали управляющие, где надо было, и Никитинский зверинец остался на прежнем месте. Балаганщики разобиделись на Никитиных и решили конкурировать с ними. В один из воскресных дней, когда в цирке был объявлен утренник, к цирку и к зверинцу, со всех сторон пошли на ходулях наряженные балаганные артисты.
Это было красочное зрелище.
Ряженые на разные голоса восхваляли программу своих представлений и зазывали публику в балаганы. Кричали о снижении цен на билеты до десяти копеек. Шествие состояло человек из шестидесяти. Балаганы мобилизовали свои лучшие артистические силы, выпустили наиболее талантлиых закликал, и все-таки повредить Никитинскому цирку и зверинцу такой парад на ходулях не мог. У Никитиных была своя публика и своя годами установившаяся репутация. "Работа на Нижегородской ярмарке давала им огромные барыши, и все платежи и расчеты производились всегда после ярмарки.
Наконец, ярмарка в Нижнем оканчивалась. Пустел Самокат. Закрывались и запирались ярмарочные помещения. Свертывались балаганы. Снимался и уезжал цирк.
Обычно из Нижнего цирк перекочевывал в Иваново-Вознесенск. Каким-то нелепым, правда, продолжением Нижегородской ярмарки была непосредственно за ней открывавшаяся ярмарка в Иваново-Вознесенске. Говорили полушутя, что всю ту заваль, которую не удалось сплавить с рук в Нижнем, везли в Иваново-Вознесенск. Артисты же называли эту поездку «Сахалином» или «ссылкой», и отчасти они были правы.
Для ярмарки была отведена за городом громадная немощеная площадь. Постройки были временные, сбитые и сколоченные наспех. Если лето было дождливое, то грязь на площади стояла непроходимая. Ночью пробирались по ней с большими фонарями, а то можно было увязнуть в грязи по колено. Жить артистам приходилось далеко от цирка. Комнаты были плохие и славились обилием клопов. Двадцать пять дней работы в этом городе казались вечностью. И конца пребывания там ждали, как освобождения.
Кроме цирка, туда переезжала большая часть балаганов. У Гордея Иванова в Иваново-Вознесенске было выстроено фундаментальное здание с комнатами для артистов.
Цирк был деревянный с железной крышей. Во время дождя шум стоял такой, что слов с арены публика не слышала. В уборных было холодно. Все ждали с нетерпением конца гастролей, и радостное оживление царило среди артистов, когда Никитины решили после Иваново-Вознесенска ехать в Тифлис. Тифлис любили все.
Переезд наш совершился без всяких осложнений. Тифлисский цирк был-каменный, и стоял на Головановском проспекте. Посещался он преимущественно людьми небогатыми: Галерка почти всегда бывала переполнена, а партер часто пустовал. Перед началом представления галерка вела себя неспокойно и бурно проявляла свое нетерпение. Вернее — не галерка, а галерки, потому что их было две: маленькая и большая. Неожиданно на весь цирк раздавалось: «Большая галерка спит — рыжего давай!» Или — «Маленькая галерка спит — музыку давай!» Реакция зрителей на представление была очень сильной, и возгласы одобрения, поощрения или порицания (порою нецензурного свойства) раздавались непрерывно. Артистов публика очень любила. Стоило артисту появиться в духане, как его наперерыв старались угостить. Никогда не позволяли артистам платить за себя, так как считали нас гостями.
Впрочем, имеено в Тифлисе почему-то были нередки несчастные случаи с артистами. О двух таких случаях я хочу рассказать.
В цирке Никитиных работал укротитель Турнер со своим любимцем, огромным львом Цезарем. Турнер очень дружил со львом. Часто, когда бывал навеселе, залезал к нему в клетку и там спал, спасаясь от жены, которая, когда он напивался, била его туфлей. Жена подходила к клетке и ругала мужа, а он показывал ей кукиш и говорил: «На-ко, выкуси, не достанешь!» Если кто-нибудь в шутку пробовал ударить Турнера, лев волновался, рычал и бросался на железные прутья клетки, словно желал защитить своего друга. Однажды лев ободрал себе лапу. Турнер бритвой срезал ему болтавшийся коготь и присыпал рану йодоформом. Лев во время операции не шелохнулся. И вдруг, при таких отношениях человека и зверя, на глазах публики произошел следующий трагический случай:
Турнер обычно кончал свой номер тем, что ставил льва на тумбу передними лапами, заставлял его открывать пасть и вкладывал ему в пасть свою голову. Этот трюк он проделывал много лет каждый вечер. И вот однажды, когда голова Турнера была в пасти льва, лев судорожно закрыл челюсть, зажал и смял голову Турнера. В первый момент никто ничего не понял. Лев вытолкнул голову, тело Турнера несколько мгновений стояло, потом рухнуло на пол. Лев наклонился и стал лизать окровавленное лицо и руки своего укротителя. В цирке началось неописуемое волнение. Толыко при помощи полиции удалось очистить амфитеатр от зрителей. Но публика не уходила и толпилась у цирка. Ни артисты, ни администрация ничего не понимали. Лев не проявлял особого беспокойства.
Утром увидели, что верхняя губа Цезаря сильно вздулась. Очевидно его укусил кто-то. Тогда стали связывать укус со смертью Турнера. Среди артистов создалось твердое убеждение, что в то время, как голова Турнера находилась в пасти льва, Цезаря укусила в верхнюю губу залетевшая случайно в цирк через открытое окно пчела или оса. От боли лев судорожно сжал челюсть, и это движение зверя стоило жизни его укротителю.
Вторая трагическая смерть произошла следующим образом.
Молодая красивая гимнастка Дозмарова работала на трапеции. Номер ее кончался тем, что она повисала вниз головой и крутилась вокруг штамбера[27], держась только на вделанных в подошвы ботинок штифтах, которые вдвигались в отверстия штамбера.
В один из вечеров она влезла на штамбер, вдела штифты в отверстия и бросилась вперед. Подошвы башмаков сорвались, она полетела мимо сетки на арену и разбилась насмерть.
11 марта 1902 года в Тифлисе скончалась Юлия Михайловна Никитина. Она была порядочным и отзывчивым к чужому горю человеком, и артисты искренно оплакивали ее. Да и в Тифлисе было много людей, которые знали ее с хорошей стороны. В делах же цирка Никитиных она играла большую роль как организатор.
Несколько дней цирк не играл, а после похорон переехал в Баку.
Попали мы в Баку уже весной. Пасха в тот год совпала с мусульманским праздником Мохарема[28]. В этот день из года в год в городе происходили столкновения между армянами и тюрками. Вернее — тюрки в этот день сводили счеты с армянами. Столкновения, переходившие очень скоро в резню, провоцировались полицией, которая желала показать свою административную прыть и расторопность при усмирении. Народу же в такие дни (особенно армян) гибло много.
В 1902 году события приняли особенно зверский характер. Нам пришлось отчасти быть их очевидцами.
Беспорядки продолжались несколько дней. Памятен мне такой эпизод. В доме, где мы снимали комнаты, жили армяне. Ворота на улицу были закрыты со двора на замок. Во двор никого не пускали. Дома в Баку строились окнами во двор, почти во всех домах — стеклянные коридоры. Во дворе нашем жили и мусульмане. Они были миролюбиво настроены и ни в каких беспорядках участия не принимали. Если кто-нибудь стучал в ворота, они помогали прятать армян. Старики армяне скрывались на чердаке. Молодежь же не желала прятаться и была воинственно настроена.
В один из дней отец ушел из дому за провизией. Мы, дети, играли в стеклянной галлерее. Вдруг громкий и настойчивый стук в ворота. Никто не открывает.
Стучавший начинает ломиться во двор, срывает замок, ворота распахиваются, и во двор вваливается огромный рыжий детина с большим кинжалом. Он начинает тыкаться во все двери, отыскивая, армян. Особенно упорно он ломился к нам, так как мы действительно снимали комнату у армян. Мать спрятала нас, одна стояла у стеклянной двери и повторяла: «Армян нет… армян нет…» Он требовал, чтобы ему открыли. Мы стали орать, плакать. Мать начала стучать к соседям. Они вышли и объяснили громиле, что они мусульмане, что в квартире жили армяне, но они уехали три дня назад, женщина же, которую он видит, — русская, жена артиста цирка. Рыжий детина посмотрел на мать, улыбнулся и сказал: «Цирк?» Пошел, потом опять остановился, повернулся и повторил: «Так армян нет?.. Цирк?..», опять улыбнулся матери и пошел.
Цирк в эти дни не играл. На ночь все ворота закрывались, после восьми часов вечера появляться на улицах воспрещалось. Перепуганная мать моя не выпускала отца даже за провизией. На пятый день жизнь города начала входить в норму.
Чего только ни пережили мы за эти дни, каких только нелепых толков ни наслушались. Одни объясняли события тем, что во время религиозного шествия мусульман кто-то из армян якобы бросил свинью. Другие рассказывали, что один из армян перебежал дорогу, и этого было достаточно, чтобы началось столкновение. Доказательств, что все было подстроено полицией, ни у кого не было. Но все говорили, что полиция при желании могла принять более крутые меры и прекратить резню или даже не допустить ее.
Цирк открылся на шестой день. Сборы были хорошие.
Из Баку цирк перекочевал в Астрахань. Погрузились мы довольно удачно на большой пароход. Днем море было гладкое, как зеркало, но среди ночи неожиданно поднялся шторм. Капитан потом говорил, что ему давно не приходилось испытывать такой качки. Волны перекатывались через палубу, смыли двух лошадей и клетку с собакой.
Из-за шторма мы проболтались в море лишний день. Море почти успокоилось, а люди все еще не могли притти в себя. Их укачивало даже тогда, когда они ехали на пароходе по Волге.
Лето цирк проработал в Царицыне и Самаре. Осенью мы перебрались опять в Нижний на ярмарку. С ярмарки, к большой радости артистов, поехали не в Иваново-Вознесенек, а в Казань.
Работа в Казани после ярмарки была для артистов отдыхом.
Казань цирковым артистам вообще была по душе: много интеллигенции, студенчество. Цирк играл там до первого снега. Особенно тепло проходили в Казани бенефисы. Своих любимцев студенты буквально засыпали цветами. По пятницам цирк посещали преимущественно татарские купцы. Они приезжали в богатых одеждах целыми семьями, ставили лошадей во дворе цирка и брали много лож подряд. Женщины были с закрытыми лицами, из узких щелей покрывал сверкали глава. Когда отец во время антре говорил два-три слова по-татарски, они радостно аплодировали ему.
В каждом городе есть мелкие бытовые особенности, только этому городу присущие. Казань в моем представлении связана с пельменями, потому что вокруг цирка в антрактах шла бойкая торговля пельменями. Баба приносила таганчик с угольями; на горящие уголья ставила горшок с пельменями, садилась рядом на табуретку, прикрывала горшок полотенцем, а сверху накрывала его подолом широчайшего платья, чтобы пельмени не остыли. Рядом лежали деревянные мисочки и ложки, уксус и перец. Подходили покупатели, — баба отворачивала подол, доставала пельмени ложкой и тотчас прикрывала все опять подолом. Иногда можно было у этих баб достать и водку.
По пятницам к цирку подходили татарки и торговали пермячами (национальное татарское блюдо: пирожки с кониной). Что касается крепких напитков, то татары обходили религиозный запрет, покупая в аптеке бутылочки с этикеткой «киндер-бальзам». Этикетка свидетельствовала, что аптекарь заботится о благополучии детских животов, а на самом деле в бутылочку наливалась водка.
Так татарские купцы обманывали своего бога.
Из Казани цирк поехал во Владикавказ. В этом живописном городе мне нравился городской сад, по которому протекает Терек. Поражало меня, что вода наклонно и очень быстро бежит с гор, а рыба не менее быстро плывет в гору против такого сильного течения. В саду была масса птиц: аистов, лебедей, пеликанов. Река и птицы придавали саду своеобразный колорит.
Во Владикавказе отец решил начать серьезно заниматься со мной акробатикой. «Пора, пора, — говорил он, — тебе скоро восемь лет». Был 1903 год.
И вот каждое утро (кроме воскресенья), вычистив всей семье ботинки, я натощак учусь изгибаться, стоять на руках, на голове. Особенно длительные упражнения были для меня невозможны, так как руки у меня были слабые. Владикавказ памятен мне как начало ученья. В этом же городе я первый раз испытал, что такое людская несправедливость и невнимание.
26 октября — день моих именин. Я всегда в этот день получал подарки, но на этот раз решил не напоминать о своих именинах, думая так: «Я уже большой, стал работать с отцом, значит и на именины получу особый подарок».
Встал рано утром, и так как твердо знал, что этот день — мой праздник, а в праздник не работают, то и не стал чистить ботинок и репетировать тоже не начал. Отец вернулся поздно вечером, наверное, выпил лишнее и потому был не в духе. Поглядел на грязные ботинки, подозвал меня, дал мне подзатыльник и велел сейчас же репетировать. Я ничего не сказал и, молча, глотая слезы, стал делать упражнения. Немудрено, что у меня все выходило неважно. Отец обозлился и сильно меня выдрал. Мне же всего обиднее было, что все забыли о сегодняшнем моем празднике. После чая я ушел в угол за сундук и горько плакал. Это была моя первая тяжелая обида на людей. После обеда мать вдруг вспомнила и сказала: «Какое у нас сегодня число? Двадцать шестое? Так ведь у нас Митюшка именинник». Я бросился к матери, обнял ее и со слезами на глазах стал целовать. С этого момента я больше всего стал любить мать, а раньше больше любил отца.
Отец подозвал меня, поцеловал и подарил три рубля, чтобы я купил себе, что захочу. Вечером, когда мы, дети, остались одни, я укачал маленькую сестренку Липу, лег сам и долго-долго плакал. Я вспомнил рассказ отца, как он убежал из дому. Я тоже хотел сейчас же уйти, но жалко было мать.
Этот эпизод я часто вспоминаю и думаю о том, как впечатлительны дети и какое огромное значение имеет внимательное отношение к ним взрослых. Первые годы жизни — решающие, от них зависит все будущее ребенка, его характер, склонности, мировоззрение. Правы те, кто утверждает, что нет плохих детей, а есть плохие воспитатели. Ниже я расскажу ряд случаев из своей жизни, свидетельствующих о том, как часто родители не понимают своего ребенка. Сам я люблю детей, знаю их, для меня детская аудитория — лучшая аудитория в мире.
Этот год во Владикавказе стояли большие холода и выпало много снега. В цирк приехали на гастроли слоны Чарли Нормана[29]. Чтобы провести их по городу с вокзала и не простудить, им сшили из войлока валенки.
Шествие это было очень ориганальное, Слоны на снегу да еще в валенках! Сбежался на них смотреть весь город. Слоны дошли благополучно, только у Беби отмерз и потом отвалился кончик хвоста.
Во время гастролей слонов в цирке произошло несчастье. Один из кучеров, несмотря на ряд предупреждений, дразнил слонов. Даст слону булку, потом отнимет ее. Или возьмет и выдернет у слона из хобота волосок. Он довел слонов до того, что уже при его приближении они приходили в беспокойство и начинали орать.
Для того чтобы поить лошадей и слонов, воду приходилось брать во дворе в колонке и носить ведрами. Кучера проходили мимо слонов гуськом, неся по два ведра воды. В какой-то день кучер, дразнивший слонов, шел последним. Большой слон Джимми начал его теснить и крупом так прижал к стене, что раздавил насмерть. Так один из слонов отомстил человеку за его издевательства над ним самим и другими слонами.
В день бенефиса кто-то преподнес отцу поросенка. Отец подарил его квартирной хозяйке, у которой мы жили и столовались. Мы с Костей привязались к поросенку и постоянно бегали играть с ним.
Однажды на обед нам подали поросенка. Мы с братом переглянулись и один за другим выскочили из-за стола. Бросились в сарай — поросенка нет. Вернулись мы с плачем: «Поросеночка зарезали!..» Несмотря на все уговоры, не стали есть и долго не могли успокоиться. Это было второе мое горе во Владикавказе.
Работа во Владикавказе кончилась, предстоял переезд в Тифлис по Военно-Грузинской дороге. Отец и Бернардо решили взять сообща дилижанс. Дилижансом называлась закрытая со всех сторон кибитка с окном из слюды в задней стенке. Запрягалась она четверкой лошадей и стоила пятьдесят рублей, при этом можно было останавливаться по дороге в любом месте.
Рано утром дилижанс подали, он был большой и поместительный. Тронулись. Я и Костя всячески старались разглядеть местность, по которой проезжал дилижанс, и любовались ущельями и скалами.
Когда мы отъехали верст двадцать, то заметили, что за нами все время, не отставая и не обгоняя, едет горец. Иногда до нас доносились его гортанные песни. Кучер несколько раз беспокойно оглядывался на него и, наконец, сказал отцу, что это нехорошо, что горец, очевидно, провожает нас до более глухого места, а там остановит. Кучер спросил: «Нет ли револьвера?»
У Бернардо был (револьвер, да он спрятал его в чемодан. Чемодан же, крепко завязанный, стоял у возницы в ногах. Пришлось сказать кучеру, что револьвера нет. Тогда кучер подумал-подумал, покачал головой и остановил лошадей. Горец догнал нас. Кучер окликнул его и стал разговаривать с ним на непонятном для нас языке. Мы сидели в дилижансе ни живы, ни мертвы. После довольно продолжительных.переговоров всадник подъехал к дилижаису, поднял полог, засмеялся и как-уо особенно твердо сказал: «Цирк…», кивнул головой, закрыл полог и уехал.
Возница объяснил горцу, что везет артистов цирка, что За проезд их заплатил губернатор, а сами они бедные и с ними дети, и просил его седоков не трогать. Горец спросил: «Цирк? Это где слоны? Я их видел. Люди есть, а слоны где?» Возница сказал, что завтра и слонов повезут. Тогда горец обещал артистов не трогать и товарищам дать знать, чтобы не трогали. Сам же решил ехдть в аул и сказать своим, что завтра слоны идут.
Горец ускакал, а через некоторое время мы услышали выстрел. Это горец давал обещанный знак товарищам.
В Тифлисе спектакли начались через день после нашего приезда. Отец и Берн ардо пользовались большой любовью у тифлисской публики. Их встречали и провожали аплодисментами. В день бенефиса они получили много подарков.
Пасху цирк проводил в Баку, где на этот раз празднование Мох ар ем а прошло благополучно.
В программе цирка стояло кино. Выписаны были мелкие драмы и феерии. После двенадцати часов ночи шли. картины «только для взрослых» («Продажа невольниц» и другие). Вход был по особым билетам. После циркового представления обычно вся публика покупала билеты на ночной сеанс.
В зверинце в это время произошел случай, окончившийся по счастью благополучно. Татарин, служащий, много лет ходивший за змеями, уговорил Акима Александровича купить по дешевой цене целый мешок местных змей, красивых на вид. Когда после покупки он развязывал мешок, чтобы пересадить змей, одна из них выползла и укусила его в босую ногу. К полдню нога стала пухнуть, а к вечеру раздулась очень сильно. Послали за лучшим хирургом. Он осмотрел и сказал, что ногу нужно немедленно отнять. Татарин и его жена ни за что не соглашались на это. Тогда хирург дал совет позвать одного местного жителя, перса, который лечил от укуса змей. Перс жил в десяти верстах от Тифлиса. Никитин велел сейчас же запрячь лошадь и поехать за персом. Перс приехал, посмотрел и оказал: «Будет здоров через два дня».
Попросил тряпку. Ему принесли бинт. Он потребовал тряпку. Положил на тряпку глину, которую привез с собой, и так туго завязал ногу, что больной начал кричать. На другой день рано утрюм он приехал опять и переменил глину. К вечеру опухоль опала, а еще через день исчезла совершенно. Сколько перса потом ни уговаривали открыть секрет своего лечения, он не соглашался, говорил, что это перешло к нему по наследству и, если он расскажет кому-нибудь, то «волшебная сила» лечения пропадет.
Из Баку цирк переехал в Астрахань. При нас в Астрахани впервые пошел трамвай. Все его очень опасались, хотя, по теперешним понятиям, водил его вожатый очень осторожно и медленно.
В бенефис Петра Никитина шла пантомима «Юлий Цезарь». Цезаря играл Бернардо. В программе этого дня было сорок номеров. Отец и Бернардо отработали в первом отделении, и до пантомимы оставалось еще два часа. Бернардо решил подзакусить и послал в буфет за «подносиком». А «подносик» — это графинчик водки, две бутылки пива и закуска. Выпив и закусив, Бернардо пошел на конюшню в помещение, где развешивали и расставляли для просушки реквизит, увидал там громадную кровать, в которую обычно ложилась дрессированная лошадь, улегся в нее и заснул. Проснулся он, по его собственному рассказу, оттого, что его кто-то тормошил. Будивший его сказал: «Пора выезжать, вставай».
Ему надо было в пантомиме выезжать на белой лошади с венком на голове и с пальмового ветвью в руках. На манеже Бернардо — Юлия Цезаря — должны были приветствовать пальмовыми ветвями сто пятьдесят человек артистов и статистов.
В помещении было полутемно. Кто-то помог Бернардо одеться, он сел на лошадь, и когда выехал на арену, то раздался гомерический хохот и артистов, и публики. Вместо костюма Цезаря на Бернардо была красная косоворотка, на ногах ботфорты, на голове вместо венка смятый цилиндр.
На другой день Петр Никитин давал пятьдесят рублей тому, кто раскроет виновника этой шутки. Артисты молчали.
Только гораздо позднее рассказывали, что нарочно были потушены лампочки, и двое артистов в костюмах и гриме (что-бы Бернардо не мог узнать их) молча одевали его, а третий, тоже загримированный, торопил: «скорее!., скорее!..»
Никитины очень смеялись над этим происшествием. Однако объявили Бернардо, что он оштрафован на двадцать пять рублей (хотя штрафа с него потом не взяли).
Из Астрахани цирк поехал в Саратов. В Саратове отец поднял вопрос о прибавке жалованья. Никитины ему отказали. Отец решил уйти и разослал письма в разные цирки с предложением своих услуг.
Очень скоро отец получил предложение от цирка Девинье из Минска. Так как Девинье давал и отцу и Бернардо хорошее жалованье, то оба они решили принять его предложение. Таким образом мы распрощались с цирком Никитина и очутились в Минске.
ГЛАВА IX
Минск. Лурих и Аберг. Велосипедист Генри Генриксон. Начало русско-японской войны. Пантомима «Подвиг рядового Рябова». Тяжелое материальное положение цирковых артистов. Пантомима «Медведь и часовой». Случайное убийство. Пожар цирка. Записи отца. Новый партнер — Мишель. Цирк Лара. Цирк Соббота. Цирк Крутикова в Киеве. Зритель и цирковой артист. Аплодисменты. Балетмейстер Нижинский. Агубе Гудцов. Укротитель Саводе. Цирк Бескоровайного. Ананьев. Балта. Херсон. Мелитополь. Геническ. Керчь. Погромы.
В Минске я сильно хворал и был в цирке только один раз. Шла борьба. Борцы Аберг и Лурих жили в одном доме с нами. Мне часто приходилось видеть, как рано утром в саду, разостлав на дорожке, ковер, Лурих учил Аберга бороться, и, если Аберг делал не то, что приказывал учитель, Лурих палкой бил Аберга. После репетиции они садились пить чай, выпивали несколько самоваров и съедали фунта четыре варенья зараз. Каковы были их аппетиты, можно судить по тому, что хозяйка каждый день варила им десять фунтов варенья и ведро компоту.
Из Минска цирк Девинье переехал в Одессу. Цирк Девинье славился порядком и дисциплиной. Состав постоянной труппы был выше среднего. Шли прилично слаженные пантомимы. Бывали интересные гастролеры. Конюшня была небольшая, но лошади — хорошо выдрессированные.
Девинье раньше был прекрасным наездником и дрессировщиком лошадей, но забросил свою профессию и в качестве директора цирка выводил только «лошадей на свободе».
Из гастролеров я особенно помню велосипедиста Генри Генриксона. С галлереи шла деревянная конструкция, которая образовывала на арене спиральный круг десяти аршин в диаметре. Генриксон несся с галлереи вниз, въезжал в круг, проезжал на велосипеде в кругу вниз головой и вылетал из него в передний выход, где его ловили лентой.
Приготовления к номеру были очень сложные, а длился он всего несколько секунд.
Первый день гастролей Генриксона был неудачен. Он неправильно установил свою конструкцию и вылетел в места для публики. На второй день он провел номер прекрасно, но конструкция его мешала исполнению конного номера.
Из пантомим шли: «Зеленый чорт», «Фра-Дьяволо», «Космополит» и «Жизнь мексиканских фермеров».
Весь январь сборы были приличные. Наступило 28 января, день объявления русско-японской войны. У отца в записной книжке лаконическая запись: «Царский манифест о войне». Привожу дальше ряд записей[30].
«31 января. Манифестация по всему городу. Молодежь с музыкой и флагами. У нас представление прервано манифестантами. После троекратного гимна, исполненного оркестром, толпа отправилась дальше.
1 февраля. Первый раз в жизни видел манифестацию по поводу войны; зрелище грандиозное.
5 февраля. Впечатление войны сильно отразилось на сборах».
Весь двухлетний период русско-японской войны материальное положение было очень тяжелым. Я думаю, отец не раз пожалел, что ушел от Никитиных и что в такое время ему приходилось скитаться с семьей из города в город, переходя из цирка в цирк.
В Одессе цирк поставил патриотическую пантомиму «Подвиг рядового Рябова». Сделана она была скверно, наспех. Успеха не имела. Настроение у всех было подавленное. Публике было не до цирка и его представлений. Из переписки отца с его друзьями-артистами видно, что в других городах часто было хуже, чем в Одессе.
Война же, несмотря на манифестации, была непопулярна.
Девинье, чтобы поправить дела цирка, выписал чемпионат французской борьбы во главе с Збышко-Цыганевичем и турком Кара-Али.
Но и борьба сборов не делала.
В марте мы с цирком Девинье переехали в Николаев. Семья наша недолго прожила в Николаеве. Наступало лето. Отец решил один остаться в Николаеве, а нас послать обратно в Одессу, чтобы мы могли покупаться в лимане. Мы прожили без отца в Одессе два месяца. В это время отец с цирком Девинье переехал в Херсон, и мать перевезла нас всех в Херсон к отцу.
По приезде мы узнали, что у отца много неприятностей. Девинье не платил артистам жалованья. Когда отец начал настаивать на выплате, впутался почему-то Бернардо и сказал Девинье, что отцу деньги не нужны, что он может подождать. Отцу этот бестактный и нетоварищеский поступок не понравился, и он решил, что работает с Бернардо последний сезон.
Все приезжавшие в цирк артисты, а также те, с которыми отец переписывался, говорили и писали о тяжелом материальном положении цирков. Директора жалованья не платили, артисты часто буквально голодали.
Хорошо было только на Дальнем Востоке. Там деньги лились рекой. Отец получил письмо от артиста Брассо. Брассо писал, что директор маленького цирка Боровский за два месяца работы на Дальнем Востоке стал богачом. Цирк его переполнен, несмотря на высокую расценку мест. Галерка стоит три рубля. Писал, что артисты там очень нужны и что, если отец хочет, пусть приезжает как можно скорее.
Мать, узнав о письме, стала плакать, объявив, что отца одного ни за что не пустит. Отец решил не ехать.
Новых антре он с Бернардо не делал. Времени у него было довольно, и он решил серьезно заниматься гимнастикой со мной и Костей. Мать нас очень жалела и не давала отцу слишком утомлять своих мальчиков. Отец ворчал, что в мои годы он сам себе хлеб зарабатывал.
Сборы в цирке все время были плохие. Жалованье артисты получали с трудом, частями по десять — пятнадцать рублей. Отец заявил Девинье, что так дальше он работать не может, что десятого июля он уходит из цирка. Он решил ехать в Москву и там попытаться устроиться или на работу соло, или же подыскать себе партнера.
1 июня я и Костя пошли гулять в парк. Возвратившись оттуда мимо цирка, мы увидели около него много народу. Из разговоров мы узнали, что под галеркой нашли мертвым реквизитора цирка Антона, который уже дней пять не являлся на работу. Стали опрашивать всех, кто видел его последний раз, и выяснилась следующая история.
В цирке шла пантомима «Медведь и часовой». Роль медведя исполнял обычно кто-нибудь из артистов. В конце пантомимы медведя убивают и на ружьях уносят. На этот раз никто из артистов не хотел играть медведя, так как было очень жарко. Тогда реквизитор Антон сам надел шкуру и бутафорскую голову и пошел на манеж изображать медведя. В него выстрелили из ружья, им самим перед тем заряженного, патрон дал осечку, тогда стрелявший вынул запасной патрон, зарядил им ружье и выстрелил еще раз. Медведь упал, его положили на ружья и унесли. Шутя они бросили его под галерку и, не дожидаясь, пока Антон встанет, разбежались. На следующий день реквизитора никто не хватился. Вечером он был не нужен, так как шла борьба.
Антон часто запивал, иногда в свободное время на несколько дней уходил на охоту.
Через несколько дней почувствовали в цирке какой-то тяжелый запах. Девинье решил, что артисты устроили под галеркой уборную и вывесил соответствующее объявление, угрожая штрафом в десять рублей. Запах становился все сильнее, на него стала жаловаться публика.
В это время костюмерша произвела проверку костюмов и увидела, что нет шкуры медведя. Она обошла все уборные, — шкуры не было. Тогда она сказала об этом жене Девинье. Та ответила, что знать ничего не хочет и что шкура должна быть найдена; если же шкура не найдется, то стоимость ее будет вычтена из жалованья костюмерши.
Шкура была дорогая, жалованье — маленькое, и испуганная женщина стала просить кучеров помочь ей обыскать все помещения и закоулки цирка. Начали искать. Один из кучеров полез под галерку с огнем и там нашел шкуру. Она показалась ему слишком тяжелой, он позвал другого кучера на помощь. Только они тронули шкуру, как от нее пошел совершенно невероятный запах. Вытащили шкуру и увидели в ней уже почти разложившийся труп Антона. Вызвали полицию. Полицейский врач установил, что Антон убит прямо в сердце картечью. Смерть была моментальной. Стали рассматривать оставшиеся запасные патроны, они были тоже заряжены картечью. Патроны заготовлял и давал артистам сам реквизитор. Наверное, он впопыхах что-то перепутал и в результате погиб так нелепо.
Шестого июня в три часа дня отец послал нас с Костей в цирк за туфлями. Уже издали мы увидели, что из цирка торопливо выводят лошадей. Когда же мы подошли ближе, то услышали шум, суету и крики. Какой-то человек бежал нам навстречу и кричал: — Цирк горит!.. Цирк горит!..
Из здания цирка валил дым. Мы бросились опрометью домой и разбудили отца, отдыхавшего после обеда. Отец как был, в нижнем белье и ночных туфлях, бросился к цирку. Мать побежала за ним с одеждой. Мы, конечно, помчались за ними.
Когда мы добежали, цирк казался огромным костром. За квартал уже трудно было дышать от дыма. Пожарные были бессильны что-либо сделать. Картина была жуткая. Огонь полыхал, а из него несся отчаянный, непередаваемый вой животных. В огне бились лошади, которых не успели вывести. У цирка толпились бледные артисты. Отца едва удержали, он пытался прорваться в цирк, где погибало все его имущество: с таким трудом, сделанный реквизит и костюмы.
Здание горело всего каких-нибудь полчаса. Погода стояла жаркая, строительный материал был сухой, крыша толевая. Все содействовало огню, и цирк горел, как факел.
А около цирка бегала и металась в отчаяньи балерина-латышка. Она билась и кусала тех, кто ее удерживал и кричала: «Мое трико!.. мое трико!.. отдайте мое трико!..»
Бедная женщина все свои сбереженья — около трехсот рублей — хранила в уборной в стареньком трико, запертом в шкатулке. Она была так потрясена потерей, что помешалась, и ее увезли в психиатрическую больницу.
Отец записал в этот день следующее: «В три с половиной часа сгорел в цирке весь реквизит и все костюмы. До боли жалкую картину застал я у Девинье на квартире. Полиция для чего-то записывала убытки всех артистов. Посмотришь на Девинье — плакать хочется. Посмотришь на себя — нельзя удержать рыданья. Горе горькое. Жутко смотреть на пепелище. Лошади с обгоревшей кожей и вывалившимися кишками. Собаки, сгоревшие вместе с клетками. Сгорело все дерево, остались одни железные угольники, цепочки и обуглившиеся трупы собак.
Все свои сбережения артисты цирка вбивают в производственный реквизит, порой не доедая, и вот стихией уничтожено все, что копилось много лет и стоило упорного труда».
Город устроил сбор в пользу артистов. Театр дал спектакль. На долю отца пришлось пятьдесят рублей.
Положение нашей семьи было тяжелое. Отец был без службы, без реквизита, костюмов и без партнера, так как незадолго до пожара он окончательно порвал с Бервардо.
В это время один любитель-артист предложил отцу свои услуги. Отец решил попробовать работать с ним. Нужно было спешно готовить реквизит и так же спешно репетировать номера. Новый партнер отца, Мишель, работал уже в одном из цирков, как музыкальный клоун, но это было не то, что нужно. При уходе из цирка отец получил от Девинье расписку, что он обязуется в течение четырех лет выплачивать ему по сто рублей в год. О причинах пожара говорили разное. Кто рассказывал, что пожар произошел от спиртовки, другие утверждали, что был поджог и что за несколько дней до пожара директорские сундуки с костюмами были отправлены в Одессу. Конечно, дирекция пострадала меньше, чем артисты. Собранные городом и театром деньги переданы были Девинье. Кто-то подарил ему пару лошадей. Город отвел бесплатно место для постройки нового цирка и дал лес. Полиция разрешила устроить лотерею. Поджог цирка был возможен, так как задолженность Девинье исчислялась тремя с чем-то тысячами, а пожар покрывал их.
Начальник тюрьмы любезно предложил отцу помочь ему восстановить реквизит. Когда отец пришел сговариваться, один из арестованных крикнул смотрителю: «Не пускайте его, а то тюрьму подожжет».
Очевидно, даже в тюрьму проникли слухи о поджоге. Отец репетировал с Мишелем каждый день по восемь часов. И каждый день он нетерпеливо ждал почты — ждал ответа на разосланные им письма с предложением своих услуг.
Наконец, пришло письмо из Киева от Крутикова. Отец уехал в Киев и там заключил контракт с цирком Крутикова на зимний сезон на жалованье в двести пятьдесят рублей-обоим — ему и Мишелю. Это было мало, так как раньше отец один получал двести рублей.
Но выбора не было.
Чтобы натренироваться в работе с Мишелем, отец поехал в Харьков в цирк Лара на сто пятьдесят рублей на две недели. Мы переехали в Харьков всей семьей. На другой же день по приезде, на рассвете, отец взял меня и Мишеля, и мы пошли репетировать в цирк. Я работал за шталмейстера и говорил полным голосом. Репетировали раз восемь, потом вернулись домой и легли спать. О дебюте отец сделал такую запись.
«31 июля 1904 года. Дебют в цирке Лара с Мишелем прошел сверх ожиданья хорошо. Дирекция, все знающие артисты и публика были поражены Мишелем. Если, бог даст, так пойдет и дальше, то лучшего и требовать нельзя. Поживем, увидим».
I августа отец записывает: «Антре прошло очень плохо, а реприза еще хуже. Миша все спутал. Хотя без этого нельзя, но все-таки вина моя, с ним нужно как можно больше долбить».
И вот ежедневно отец встает чуть свет и репетирует с Мишелем и занимается со мной и Костей. Мишелю было трудно работать в цирке. Акробатикой он не занимался. Учиться прыгать ему было уже поздно.
Из Харькова (тоже для тренировки Мишеля) мы на короткий срок поехали в Ялту. В Ялте мы не нашли сразу комнаты, и нам пришлось ночевать в цирке в одной из уборных. Ночью стук в дверь. Отец спрашивает: «Кто там?» Никто не отвечает. Отец зажег свет и видит — из-под двери протягивается мохнатая лапа. Отец понял, что это медведь, схватил лежавший в углу топор, навалился на дверь, а медведя ударил по лапе обратной стороной топора. Медведь заревел. Рев его разбудил укротителя и служащих.
Оказалось, что клетка медведя стояля рядом с той уборной, где мы ночевали. Ночью зверь открыл клетку, но сорваться с цепи не мог и поволок клетку за собой к нашей двери.
На следующий день мы сняли комнату и перебрались из цирка.
Ялта как город мне понравилась. Но ялтинская богатая и расфранченная публика была неприятна. Чувствовалось, с каким презрением на тебя смотрят, если ты плохо одет.
Цирк посещала курортная публика попроще и местные татары.
На пляже было очень хорошо, но за пребывание на нем брали двадцать пять копеек. Это было очень дорого. Мы купались в городской купальне за три копейки.
Однажды отец пришел и неожиданно заявил, что завтра ми уезжаем, так как он у Лара больше играть не будет. Произошло следующее:
На представлении отец вышел в репризе к наезднику. Лару не понравилась реприза. Он велел оркестру играть, не дав отцу докончить.
— Это мог сделать только нахал… я у него больше работать не могу, — громыхал возмущенно отец, — он привык иметь дело с полуголодными пьяницами, которых он и по морде бьет. Я велел сегодня же выплатить то, что мною заработано, и уезжаю.
Нам было жаль расставаться с Ялтой, но ничего не поделаешь. На пароходе мы переехали в Одессу. Отец рассчитывал поработать в Одессе до киевского сезона. Но в Одессе дела были ужасны. Летние сады прогорали. Театр пустовал. Отец телеграммой запросил цирк Соббота в Кишиневе и получил предложение приехать на пятнадцать дней за двести рублей.
И вот мы в Кишиневе. Цирк Соббота маленький, но чистый. Много старых артистов: клоун Кисо, акробаты Нельсон, цирковая семья Нельдхен. На второй день по приезде отцу предложили вместо двухсот рублей за работу вдвоем сто пятьдесят рублей.
В другое время отец, конечно, отказался бы, но положение было безвыходное. Через две недели начало работы в Киеве, ехать некуда, списываться с каким-нибудь другим цирком поздно, вести из всех городов такие, что волосы дыбом становятся («директора дают артистам через день пятьдесят копеек на базар!»), а тут еще все совпало с мобилизацией в Кишиневе, плачем женщин и проводами уезжавших на войцу. Отец махнул рукой и согласился.
Через две недели мы переехали в Киев.
Цирк Крутикова был единственным в России двухэтажным цирком.
Раздевальни и касса внизу. Мраморная лестница ведет во второй этаж. Во втором этаже арена и зрительный зал. Огромне фойе. Но зрительный зал неудобен, построен не амфитеатром, а колодцем, Он в три этажа, в каждом этаже — ряд мест и ложи. Зритель разъединен с артистом. Впечатление такое, что работаешь только для первых рядов. Чтобы увидеть-публику, нужно не только поднять, нужно задрать голову кверху.
Я знаю этот цирк потому, что не раз работал в нем. Помню хорошо то впечатление разобщенности со зрителем, которое было у меня почти на каждом представлении.
А зритель для циркового артиста — соучастник представленья. По самому устройству зрительного зала (арена и сейчас же за барьером, амфитеатр с публикой) артисты цирка привыкли быть рядом с публикой, они ее видят, они с нею говорят, они работают в полном общении с ней.
Тысячу раз прав был Макс Высокинский, когда заставлял отца дебютировать хотя бы в балагане, но, перед публикой. Публика заражает циркового артиста и помогает ему в его работе. Аплодисменты, которыми встречают циркового артиста, не только приятны ему, но дают подъем и легкость его работе.
Часто можно слышать в цирке выражение: «Какая сегодня была хорошая публика!..» Это значит, что контакт был полный. Артист дошел до публики, и она его зажгла.
Иногда же, уходя с арены, артист говорит: «Вяло работал сегодня, публика была тяжелая». Лучшее для артиста — это работа при полном цирке. Многие артисты согласились бы получать меньшее жалованье, лишь бы цирк был полон. Когда в цирке пусто — работать трудно.
Я наблюдал такие явления. Артист болен и предупреждает партнера: «Сегодня работать будем без самых трудных трюков. Я болен. Не могу». И вот он выходит на арену, публика его тепло встречает, он начинает работать, видит, что все хорошо принимается, и шепчет партнеру: «Давай всю работу».
Его награждают аплодисментами, он усталый, возвращается за кулисы, товарищи ругают его:
— Ты же болен, зачем проделывал этот трудный номер?
— Ничего, ничего, — отвечает он, — все прошло… ничего не болит, — и прибавляет сейчас же: — Как мы хорошо отработали… и публика! Вы заметили, какая сегодня публика?..
Часто, если сборы плохие, артист перед представлением вял, начинает работать неохотно, идет в уборную готовиться к номеру позже обыкновенного, потягивается. Ему бы хотелось, чтобы представления не было. Но представление будет, будет непременно. Он выходит на арену; малочисленная публика, которая заполняет цирк, встречает его аплодисментами, — и артист сразу преображается. При первых хлопкак исчезают вялость, апатия, он уже заражен и работает с увлечением.
Вот почему артисты цирка, когда сидят на местах, всегда аплодируют друг другу, даже если они враги.
То, что трудно в театре, чему мешает рампа и темнота в зрительном зале, артисту цирка дается легко. Мне приходилось наблюдать на благотворительных спектаклях артистов театра на манеже, я видел, как они смущались и не знали, как себя держать. В театре нет привычной близости к публике, к которой привык артист цирка.
Если же цирковой артист попадает на сцену, то теряется он. В зрительном зале темно, публики он не видит, ему не для кого играть и он просит: «Дайте свет в зал!»
Аплодисменты в любой момент выступления для артиста цирка необычайно важны, они подстегивают его. Я знаю такой случай. В Гамбурге в одно варьете были приглашены акробаты цирка. Агент, их устраивавший, очень хотел их посмотреть, но ему нужно было уехать с вечерним поездом. Он уговорил дирекцию поставить акробатов первым номером, но не говорить им о том, что в варьете на первых номерах публики почти никогда не бывает. Акробаты вышли работать и попросили дать свет в зрительный зал. Им отказали. Когда они закончили свой номер, они услышали гром аплодисментов.
— Дайте свет, — требовали акробаты у помощника режиссера. Им хотелось увидеть публику.
Помощник режиссера засмеялся и сказал: «Посмотрите сюда».
Акробаты заглянули в глазок занавеса и увидели, что зрительный зал пуст. Кое-где виднелись только официанты, да в первом ряду сидел агент.
— Кто же аплодировал? — недоуменно спросили они,
— У нас в занавес внизу вшиты деревянные тарелки, когда занавес сдвигают, они хлопают, и хлопанье их похоже на аплодисменты.
Крутиков был человек со странностями. О нем ходило много рассказов. Два раза он получал большие наследства и много денег потратил на цирк, причем тратил по-коммерчески, извлекая из этого выгоду. Был он то, что в те времена называлось «барин-самодур», и от его самодурства и причуд терпели артисты. Например, достаточно было артисту выйти на арену в черном трико, — и он через две недели получал расчет.
Сам Крутиков работал с группой дрессированных лошадей. Он первый в России показал дрессировку без хлыста. Для репетиций у него был за городом манеж и конюшни, и он занимался дрессировкой там, так как не любил, чтобы присутствовали на его репетициях. Лошадей он любил больше, чем людей, и им у него жилось лучше, чем артистам.
На арену он выходил в черной бархатной тужурке, в жокейской фуражке, без хлыста и шамбарьера. Выводил шестнадцать золотистой масти лошадей, и они проделывали у него без традиционного хлопанья шамбарьером сложные эволюции. Все лошади были в сбруях, на сбруях были номера. Крутиков сгонял их в кучу на средину манежа и потом приказывал: «Первая, на свое место… Вторая, на свое место…» И все лошади становились по номерам.
Труппа в том году была подобрана не очень удачно. Был ангажирован балетмейстер Нижинский с балетной труппой. Нижинский был хороший танцовщик. Прекрасно исполнял характерные танцы и был хорошим преподавателем. Сын его учился в Петербурге в школе балета, на каникулы приезжал к отцу, и отец с ним занимался.
Будучи подростком, отец-Нижинский легко перепрыгивал без разбега через стул и имел с места удивительный прыжок. Он занимался с нами, детьми цирковых артистов, и мы поражались его мастерским прыжкам. Его сестра Марина тоже занималась с нами, но такого прыжка, как у брата, у нее не было. С балетом, состоявшим из двадцати четырех артисток, занималась жена Нижинского, прима-балерина Румянцева.
Шли балеты «Джиоконда», «Белый балет», «Балет с шарфом». Красиво был поставлен балет «Бахчисарайский фонтан». Из пантомим были поставлены: «Роберт и Бертрам», «Браконьеры», «Волшебная флейта», «Свадьба в Малороссии» и балет «На морском берегу».
Последняя пантомима шла вне шаблона обычных цирковых пантомимных постановок, была оригинально задумана и оформлена. Арена была застлана ковром. Три четверти манежа были разрисованы так, что давали впечатление песка, а четверть — морской воды. Около униформы была поставлена купальня с надписями: «Вход в женскую купальню», «Вход в мужскую купальню». Под специально написанную, очень красивую музыку выходили на арену сторож из купальни с метелкой для уборки и рыболов в большой соломенной шляпе, со снастями и складной скамейкой. Рыболов располагался ловить рыбу. Берег оживал, группами и в одиночку появлялись купальщицы, прачки,
велосипедистка, дама с зонтиком. Все роли исполнял кордебалет. Комические номера чередовались с балетными. Появлялись целая семья: здоровая, рослая мамаша, крохотный муж и человек десять детей один меньше другого. Под музыку они направлялись в купальню. У входа в купальню оставались только гимназист и муж. Появлялся уличный фотограф, пьяный купец и два ловеласа. Между ними происходит несколько комических сцен, и, в конце концов все они подсматривают в дамскую купальню. Купец влезает в купальню, разгоняет всех купальщиц, его самого берут в оборот прачки, бросают в корыто и начинают стирать. На берегу появляется человек с граммофоном, он заводит его. Раздаются звуки кек-уока, и вот, как по жезлу волшебника, все персонажи, зачарованные звуками, хороводом танцуют кек-уок? Последними включаются в общий хоровод
комические персонажи?
Этот балет-пантомима долго делал сборы.
В том же сезоне Вольное пожарное общество поставило в свою пользу в цирке два спектакля. Два первые отделения шли обычная цирковая программа, а в третьем дана была демонстрационная пантомима из жизни пожарных. Пантомима состояла из двух частей. В первом акте изображена была казарма в свободное от работы время, быт казармы, игра на гармошке, таицы. В конце акта давали тревогу, и пожарные выезжали на пожар. Во втором акте на сцене стоял жестяной лом. Арена освобождалась от казармы, на арену выезжала вольная пожарная дружина с паровой машиной. Очень хорошо был пиротехнически устроен пожар и сценически эффектно дана работа пожарных.
Пантомима прошла до десяти раз при переполненном цирке. Нижинский много поработал над этой пантомимой, придумывая эффектные номера и трюки. В первом акте во время танца взрослого пожарника из люльки вылезал маленький ребенок и тоже начинал танцовать под гармонь русскую. В конце, когда взрослые по тревоге мчались на пожар, дети в касках, подражая взрослым, имитировали сцену тревоги и отъезда. Все эти бытовые сцены отлично принимались зрителями. Детскую пантомиму заканчивал маленький мальчик, который пробегал по арене, спеша на пожар, в рубашонке и бумажной каске-колпачке.
В то время это был первый опыт зрелищного показа в пантомиме быта и работы одной из добровольных городских организаций. Социального значения, какое мог иметь такой показ, не понимали, все сводилось только к вопросу о сборах. Это отражалось, конечно, и на характере постановки.
Во время работы в цирке Крутикова отец получал письма от своих друзей — артистов, работавших в других городах и других цирках. В письмах и в личных разговорах с приезжавшими и проезжавшими Киев артистами рисовалась тяжелая до мрачности картина жизни цирковых артистов по всей России. Сборам в цирках не помогали даже «подарки-лотерея». Артисты жили впроголодь на пятьдесят копеек в день целой семьей. Продавали, чтобы пропитаться, вещи. Переезжали в другой город, но там было не лучше. Что-то зловещее чувствовалось повсюду. Все чего-то ждали. Артисты цирка мало разбирались в происходящих событиях. Из записных книжек отца, человека, который читал газеты и как-то следил за событиями, это видно-ясно. Привожу запись от 15 января:
«Все запасаются хлебом и водой, ходят упорные слухи о бунте, хотя в городе ничего не заметно. Дай бог, чтобы все было хорошо, на нас это отзовется больше, чем на ком другом».
21 января 1905 года он записывает: «Университет закрыт. Ходят слухи о бунте». 4 февраля он делает запись: «Во время антракта разнеслась весть об убийстве великого князя Сергея Александровича».
Политические события отражались на сборах, и, несмотря на то, что каждую неделю были новые гастролеры, продажа билетов шла ниже среднего.
Из гастролеров особенно следует отметить знаменитого наездника-джигитовщика Агубе-Гудцова. Он был создателем джигитовки на арене и объездил со своим номером весь мир.
Выступали в этот сезон у Крутикова Чарли Норман с пятью слонами и укротитель Саводе с двенадцатью львами.
Несмотря на слонов и львов, на постоянно сменяющихся гастролеров, публика мало посещала цирк.
Со львами Саводе случилось происшествие, окончившееся, впрочем, благополучно. Во время чистки клеток львы перегонялись из одной клетки в другую. Свободная клетка вычищалась, засыпалась опилками, и львы загонялись обратно из временной или запасной клетки в постоянную. Однажды кучер, чистивший клетку, забыл закрыть дверцу временной клетки, и львы вышли наружу и стали расхаживать по цирковому помещению.
Случилось это рано утром, когда в цирке еще никого не было. Кучер, чистивший клетку львов, с перепугу вскочил в пустую клетку и закрыл за собою дверцу. Один из львов поднялся из нижней конюшни и пошел разгуливать по пустому цирку, а другой направился в конюшню. В это время в дверь конюшим заглянул водовоз, привезший воду в большой бочке. Он должен был принести воду для лошадей со двора в конюшню в ведрах. Увидев в конюшне льва, водовоз так перепугался, что убежал во двор и как был в шубе и валенках, залез в бочку с ледяной водой и просидел в ней более получаса.
Лев подошел к стойлу, где стояла больная кобыла на глине (у нее болели ноги), запорол ее и начал терзать. По счастью, малая конюшня, где стояли клетки со львами и были стойла для больных лошадей, отделялась от большой конюшни коридором с дверью. Кучера в большой конюшне чистили лошадей и никак не могли понять, отчего беспокоятся лошади, почему они дрожат и ржут. Один из кучеров понес навоз, открыл дверь
в малую конюшню и увидел там льва, пожирающего лошадь. Он закрыл дверь и поднял тревогу. Побежали к Крутикову, квартира которого была в цирке. Тот послал сейчас же к Саводе. Саводе жил рядом с цирком в гостинице, он прибежал тотчас в цирк и попросил дать ему длинный пожарный рукав. В цирке такого пожарного рукава не оказалось. Вызвали пожарную команду с паровой машиной и рукавом. Все двери цирка
охранялись кучерами, а двери со стеклами были забиты досками.
С приездом пожарной команды около цирка стал собираться народ. Вызвана была полиция. Начальник пожарной команды на вопросы любопытствующих, почему у цирка пожарные, ответил: «Расходитесь, никакого пожара нет. Это лев вырвался из клетки». И тотчас всю толпу, как помелом, смело. Улица опустела, видны были только оцепившие ее наряды городовых.
Саводе попросил дать наивозможно сильный напор воды, взял в руки брандспойт и пошел один на льва. Он стал гнать его к клетке и тут обнаружил, что в клетке сидит кучер. Увидя Саводе, кучер открыл клетку, вылез, взял железный прут и стал помогать Саводе загонять в клетку льва. Им удалось это сделать, и тут только Саводе узнал, что второй лев ушел в помещение цирка и разгуливает там.
Тогда Саводе потребовал два факела и два револьвера и отправился с кучером искать льва. В буфете, где торговали фруктами, они увидели перетиравшую посуду старушку и спросили ее, не видала ли она льва? Та сказала, что к ней в буфет приходила хозяйская собака (у Крутикова был сен-бернар) и она прогнала ее щеткой. Саводе и кучер бросились в зрительный зал. Они нашли льва в третьем ярусе. С помощью факелов и выстрелов из револьверов они загнали его в клетку. Старушонку-уборщицу, по словам Саводе, спас разожженный ею и ярко горевший позади нее камин и щетка. Когда она узнала, что приходивший к ней зверь был львом, она упала в обморок. Водовоз, прятавшийся в бочке с холодной водой, пролежал две недели в больнице, а когда вышел оттуда, то предъявил иск за испорченные валенки.
После этого случая цирку стали прочить блестящие сборы, так как газеты расписали происшествие во всю. На деле же вышло так, что оборы упали еще больше: в цирк боялись ходить.
В Киеве отец пригласил для меня и Кости учителя грамоты. В это же время я стал учиться играть на скрипке.
Учился я вообще плохо. Я любил проводить все время в цирке, и для меня было праздником, когда отец вечером брал меня в цирк, чтобы помогать ему в работе. Даже в отведенное для прогулок свободное время я шел в цирк. Забирался туда и вечером под тем предлогом, что хочу помочь привести в порядок уборную. Оставшись один, я гримировался под отца и под других артистов, старательно стирая грим к концу отцовского номера.
В десять часов утра у нас, детей, были уроки с Сычевым, который учил нас прыгать. Работал он в это время уже хуже, — водка губила его, но у публики он пользовался прежним успехом.
В те дни, когда я должен был вечером выступать в пантомимах, я учился прилежнее, так как боялся, что отец в виде наказания не пустит меня в цирк. В цирке были все мои интересы и вся моя жизнь. Отрепетировав с учителем, мы дожидались общей репетиции, в которой был занят отец, а часто и мы с Костей, потом шли домой обедать. Отец ложился спать, а мы садились учить уроки. До шести часов занимались с учителем, потом нас на час отпускали гулять, а мы вместо прогулки забирались на манеж и, подражая взрослым, играли в цирк.
В киевском цирке было неимоверное количество крыс. Часто, после репетиции артисты вместе с администратором забирались в верхний ярус и оттуда стреляли в крыс, разгуливавших и партере, из четырех винчестеров. На одном из спектаклей по барьеру пробежала крыса. В это время на манеже работала наездница и клоун Бонжорно, вышедший к ней для реприз. Бонжорно шел по барьеру, увидел крысу, прикрыл ее колпаком и сел на нее. Публика думала, что это клоунский трюк. Когда Бонжорно потом взял колпак и вынес его за кулисы, в колпаке была раздавленная крыса. Крутиков за эту выходку оштрафовал Бонжорно. Вся труппа была возмущена штрафом, но сделать ничего не могла. Крутиков был владельцем цирка, богачом, и потому все и вся было на его стороне. Бонжорно пробовал протестовать. Тогда Крутиков рассчитал его. Бонжорно уехал.
В эти тяжелые времена многие директора цирков пользовались штрафами только для того, чтобы меньше платить артистам. Не так повернулся — штраф, не так сел — штраф. Приходит артист получать жалованье, а у него из жалованья четвертая часть списана на штрафы. Штрафные деньги шли в карман директора, — так почему же было при плохих сборах не штрафовать?
Буфет в цирке Крутикова функционировал только во время представления. Ни длительных заседаний за столиками, ни пьянства, ни картежной игры в буфете не было. Из частых завсегдатаев цирка вспоминаю одного посетителя цирка и его буФета — Зембицкого. Артисты окрестили его «Володька-Громобой». Одержимых цирком людей, на цирковом жаргоне называли «больной». Так этот «больной» Зембицкий угощал всех, кто ни приходил в буфет. Денег у него всегда было много; когда он напивался, то бил посуду, подбирал себе компанию и уезжал куда-нибудь в другое место продолжать пьянку. Одно время он жил в той же гостинице, что и мы. Он очень любил детей, накупал игрушек, сластей и наделял ими всех ребят. Трезвым я его никогда не видел. Он нигде не служил и ничем не занимался. В номере у него была клетка с попугаем. Попугая он научил неприличным словам. На столе всегда стояли бутылки и закуска. Швырял он деньгами налево и направо. Так как жены артистов ругали мужей за пьянство, то он придумывал всякие торжественные дни: сегодня он — именинник, завтра — день его рождения и т. д. На неделе он бывал раза три именинником. Прислуга, убиравшая у него в номере, рассказывала, что у него повсюду были засунуты деньги. Клетка попугая была застлана крупными купюрами. Прислуга наперебой стремилась к нему, чтобы чем-нибудь услужить ему, притти к нему в номер убирать или почистить клетку попугая.
Никто из артистов не знал ни его происхождения, ни источника его богатств. Ходили слухи, что он побочный сын какого-то великого князя. Кончил он свою жизнь трагически. Так как жены артистов продолжали устраивать мужьям скандалы за пьянство, то он переехал в другую гостиницу. Там он однажды допился до того, что облил пьяный себя и кровать керосином и поджег. Скончался он в больнице от ожогов.
В середине сезона Крутиков, использовав все аттракционы и всех зверей, решил пригласить чемпионат французской борьбы. Но и чемпионат не поправил дела. Даже Поддубный сделал только два-три сбора.
B это время отец получил анонимное письмо. В письме его укоряли за то, что он столько времени проработал с Бернардо и разошелся с ним. «Старый друг — лучше новых двух» — так заканчивалось письмо. Вскоре пришло письмо от Бернардо с предложением опять работать вместе. Это письмо совпало с рядом грубых выходок Мишеля по отношению к отцу. Работа отца с Мишелем шла хорошо, но грубость Мишеля повлияла на отца, и он решил опять работать с Бернардо. Им удалось подписать контракт в цирк Бескоровайиого в Ананьеве.
Цирк Бескоровайного был небольшой, при цирке был зверинец с хорошим подбором зверей.
Встреча отца с Бернардо была очень трогательной. Работа их пошла удачно, несмотря на то, что они шесть месяцев уже не работали вместе. В Ананьеве мы пробыли недолго. Из Ананьева цирк переехал в Балту.
«Необычайно грязный и смрадный город. Впечатление отвратительное, — записывает в своей записной книжке отец, — трудно понять, как это люди могут родиться и жить в подобной помойной яме».
Цирк в Балте стоял на ярмарке. Ярмарка была большая. Сборы терпимые. Из Балты мы поехали до Одессы поездом, а оттуда до Херсона пароходом.
В Херсоне отца и Бернардо знали и любили. При их появлении на манеже их встретили громом аплодисментов. Цирк стоял на ярмарочной площади, там же было много балаганов и маленький цирк с двумя лошадками. Зверинец при цирке Бескоровайного давал хорошие сборы, так как львица принесла недавно шесть львят, и публика очень любила ходить смотреть их. В Херсоне мы пробыли две недели, затем Бескоровайный
разделил труппу на две части. Мы попали в Мелитополь. Несмотря на ярмарку, в городе было подавленное и тревожное настроение.
Из Мелитополя мы поехали в маленький городишко на Азовском море — Геническ. Это был собственно не город, а деревня на берегу моря. Сборов здесь ожидать было нечего. Кроме того, в этом крае был неурожай, поэтому мы очень быстро перекочевали отсюда в Керчь. Въезд наш в Керчь я никогда не забуду.
В понедельник первого августа в десять часов утра мы въехали в город. Как обычно, отец нанял двух извозчиков и велел им ехать в цирк. Сразу же глазам нашим представилась жуткая картина. Все еврейские магазины были разрушены, окна выбиты, двери сорваны с петель. По городу летал пух. Из окон магазинов свисали, длинные куски смятых и истерзанных материй. Громилы вырывали награбленное друг у друга. Некоторые поспешно увозили вещи и товары нa тележках. Вид улиц во власти погромщиков, беззащитность населения, разграбленные магазины, выбитые окна произвели на нас гнетуще-жуткое впечатление.
Отец оставил нас в цирке и бросился искать квартиру, но никто не хотел в такое время сдавать комнат. Наконец, днем он нашел две комнаты у хозяев-евреев, которые сдали нам их только потому, что надеялись таким образом сохранить свое имущество от ожидаемого погрома. Сами они, как только мы переехали, куда-то ушли.
У отца следующая запись от 7 августа: «Ходят упорные слухи и кругом слышны возгласы: «Бей жидов». В домах в окнах выставлены иконы. При нашем проезде бросали нам на извозчика конфеты, пряники и спрашивали: что, у вас жидов нет?»
Под вечер мимо наших окон прошла шайка громил, они заходили в каждый дом, ища евреев. Подошли и к нашим окнам. Отец объяснил им, что не знает, кому принадлежит квартира, что привел нас сюда городовой, что сам он — русский цирковой артист. Громилы потребовали, чтобы в окне были выставлены иконы. Мать сказала, что иконы еще в багаже на вокзале. Во время этого разговора я увидел, как из ворот дома на противоположной стороне улицы выбежал старик с длинной белой бородой. Громилы побежали за ним, догнали его, кто-то ударил, и борода старика в мгновение стала красной от крови. Из других ворот выбежала женщина с большим животом. Громилы палками били ее по голове и, когда она упала, распороли ей живот, и оттуда вывалились кишки. Мы начали плакать. Отец закрыл окно и велел нам сидеть тихо. И он и мать были бледны. Мать плакала. Всю ночь были слышны крики, мы не спали. К утру немного стихло. Город был объявлен на положении усиленной охраны.
2 августа у отца запись: «Играть цирку не разрешают, пока народ не утихнет и не пройдет острое впечатление погрома. Разгромленные магазины производят душу раздирающее впечатление. Начались обыски по городу награбленного имущества. На аресты приехал прокурор, но все это — мертвому клистир».
Полицмейстер обещал, если суббота и воскресенье пройдут спокойно, разрешить играть с понедельника. По городу продолжали ходить нелепые, волнующие народ слухи. Говорили, что вот-вот опять начнется резня, что погромщиками приготовлены бомбы. Несмотря на все хлопоты, цирк получил разрешение играть только через неделю. Сборы, конечно, были средние. Населению, было не до цирка. Слишком много горя накопилось кругом.
Постепенно все же жизнь стала налаживаться. Толки и слухи прекратились. Город оживился. Был объявлен бенефис отца и Бернардо. С утра лил проливной дождь; отец думал, что представление будет отменено. Но к вечеру дождь перестал, у кассы толпилась длинная очередь. Бенефис прошел с аншлагом.
В Керчи отец неожиданно получил предложение от Чинизелли работать у него следующий зимний сезон. Это предложение было похоже на выигрыш двухсот тысяч на трамвайный билет, тем более, что Чинизелли предлагал отцу большое жалованье. Отец был страшно рад, — письма от артистов из других городов рисовали безотрадное положение провинциальных цирков.
ГЛАВА X
Цирк Чинизелли. Петербург в октябре 1905 года. Труппа цирка. Пантомимы «Карнавал на льду» и «Победа Давида над Голиафом». Цирковые трюки во время продажи газет. Гастроли отца в Сибири. Сезон 1906/7 года. Музыкальные клоуны братья Вебб. Индусы-факиры. Цирк Лапиадо. «Человек-снаряд». «80 дней вокруг света» в Народном доме. «Прыжок смерти». Чемпионат французской борьбы. Отъезд в провинцию. Цирк Соболевского. Борьба. Де-Фос. «Подарки». Слободское. Мексиканец Гипсон. Говорящая собака. Клоун Щербаков. Цирк братьев Калининых. Репризы на политические темы. Лошадь-артиллерист. Борец Иван Заикин.
Мы приехали в Петербург десятого сентября 1905 года в десять часов утра. Отец счел неудобным везти нас в цирк. Мы остались на вокзале, а он пошел искать комнату. Нашел он ее только к шести часам вечера. Перевез нас, переоделся и пошел в цирк. Чинизелли принял его радушно, хотя и официально, — ему понравилось, что отец хорошо говорит по-итальянски.
Когда отец отдал паспорт в прописку, оказалось, чта он должен уплатить, как артист по первому разряду, семь рублей пятьдесят копеек. Это его рассердило, и он записал: «Чорт знает что! Грабеж! Императорские не платят ни гроша, получая чорт знает какие оклады, а наш брат отдувайся. Дворник хочет прописать меня чернорабочим. Не знаю, что из этого выйдет».
И от 23 сентября запись: «Удалось с дворником сделать блат. Послал паспорт. Переменить род занятий».
В этой записи интересно современное нам слово «блат», которое, очевидно, подхвачено было отцом где-нибудь на юге.
Здание цирка поразило отца. Такого цирка он не видел даже за границей. Повсюду было проведено электричество. Ложи и места обиты были бархатом, позолота сверкала. Когда Чинизелли строил цирк, ему было приказано, чтобы у барьера были сделаны ложи и таким образом «приличная публика» была отделена от «простонародья». Цены же на ложи были установлены дорогие. В субботние дни, когда в цирке бывала аристократия, купоны в ложи, не продавались.
Гордостью Чинизелли была конюшня. Она была вся устлана коврами. Во время антрактов под ноги лошадей подкладывались особые коврики, и лошади поворачивались головами к проходу. Проход был широкий. Конюшня светлая. Стояли аквариумы с золотыми рыбками. У кучеров была специальная униформа. По субботам конюшня опрыскивалась духами из пульверизаторов. Лошади Чинизелли были исключительной красоты. В антрактах
офицерство и дамы в светлых туалетах любовались ими. Коридоры конюшни были своего рода фойе, в котором прогуливались любители лошадей.
Об артистах заботы было очень мало. Отдельных уборных не было. Общие женские и мужские уборные были очень неудобны. Потолок у них был покатый, походили они на длинные коридоры.
Выходя в фойе, артисты должны были надевать черные костюмы. Сидеть в зрительном зале им разрешалось только у оркестра в двадцатом ряду.
Чинизелли жил в цирке в прекрасно обставленной квартире, но это не создавало близости между ним и артистами. У себя на квартире он никого из артистов не принимал. Характерный случай произошел с двумя артистками (женою Бериардо — танцовщицей и вольтижеркой и танцовщицей Жакомино). Они решили поздравить с новым годом жену Чинизелли и отправились на квартиру с визитом. Им отворила горничная, пошла доложить. Чинизелли выслала артисткам два бутерброда и две рюмки вина. Те, конечно, повернулись и ушли.
Все денежные дела Чинизелли вел управляющий Бераги.
Внешне Чинизелли был не слишком импозантен. Он прихрамывал на одну ногу, один глаз у него был искусственный. Лошадей ему дрессировал дрессировщик Кардинали, работавший у него одиннадцать лет, и шталмейстер Петерсен, состоявший в труппе Чинизелли уже тринадцать лет.
У Чинизелли были прекрасные выезды. Особое внимание обращал на себя двухместный кабриолет, передний кузов которого был весь из стекла. Чинизелли правил им сам. Когда он проезжал в нем по набережной в часы гуляний, то любопытные и восхищенные взгляды провожали его.
Жена Чинизелли была очень напыщена. Красотой она не отличалась; это была дородная, хорошо одетая, туго затянутая в корсет женщина. С артистами за руку она никогда не здоровалась, они удостаивались только небрежного кивка головой. Во втором ярусе у нее была ложа, которая никогда не продавалась.
Все, что было эффектного за границей, сейчас же появлялось в цирке Чинизелли. Специально для мадам Чинизелли были куплены в Гамбурге у Гагенбека редкостно-маленькие шотландские пони с длинными гривами и хвостами. Чинизелли выводила их на манеж, они качались на доске-качелях, одна из них ходила по толстому канату, натянутому в пол-аршина над уровнем арены, другая ходила по бутылкам, третья выбегала в клоунском колпаке и жабо и нарочито неудачно имитировала номера своих сотоварищей. Когда те прыгали через барьер, она бежала под барьер и т. д.
Был номер, в котором Чинизелли выезжала на арену в двухколесной коляске (догкарте), убранной цветами. В каждом цветке скрывалась электрическая лампочка. Номер этот в программе назывался «Выезд на догкарте». По субботам в ноги Чинизелли ставилась корзина с цветами, она разбрасывала их публике, и аристократки из лож тянулись за ними и ловили их.
На утренних спектаклях был обычай раздавать детям воздушные шары. Шары раздавались всем детям, кроме находившихся на галерке. Таким образом лишались игрушки как раз неимущие дети.
На всех спектаклях, следя за выполнением программы, всегда присутствовал сам Чинизелли или его жена. Труппа состояла главным образом из иностранцев. Русских артистов было мяало. Иностранные артисты держались обособленно, дружа большею частью со своими соотечественниками. Товарищества в труппе не было. Если артисту нужна была помощь для выполнения номера, он обращался к униформистам, артисты же никогда друг другу не помогали.
Группа клоунов состояла из музыкальных клоунов братьев Костанди и буффонадных клоунов: Альперова и Бернардо и итальянцев Виланд.
В записной книжке отец отмечает, раздумывая, очевидно, над своим клоунским репертуаром, что по-разному относятся к одним и тем же антре и репризам в столице и в провинции. Часто то, что нравилось в провинции, не имело никакого успеха в столице, и, наоборот. Антре «Кухарка», содержание которого сводилось к тому, что не будь кухарок, не было бы войска, так как не было бы солдат, никак не принималось в Петербурге, но вызывало «фурор» в провинции. Антре «Картошка» имело успех в Петербурге.
Клоун выходил и спрашивал:
— Для кого нужна картошка?
Ему отвечали;
— Для всех.
— Нет, только для бедных.
— Почему?
— Да потому, что богатые с бедных шкуру сдирают, а бедным ее сдирать не с кого, так они ее с картошки сдирают.
Как только мы обосновались в Петербурге и поселились на Фонтанке, в огромном доме, принадлежавшем, насколько я помню, какому-то графу Игнатьеву, отец тотчас определил нас в подготовительную школу, помещавшуюся во дворе. В школе этой учились дети состоятельных, а частью и знатных фамилий. Их сопровождали гувернантки, они приносили с собой хорошие завтраки. У нас же ничего этого не было. Мы чувствовали себя несвободно, стеснялись. Однажды мы с Костей в перемену стали изображать к удовольствию всех мальчишек цирк, ходили на руках, стояли на голове. Те начали подражать нам, падали, ушибались.
Кончилось тем, что заведующая школой попросила отца взять нас из школы «как неподходящих детей». Отец отдал нас тогда в начальную городскую школу. Здесь мы чувствювали себя среди своих и учились лучше. Утром до школы мы каждый день упражнялись дома под наблюдением отца. К девяти часам шли в школу.
С 12 октября в записной книжке отца — записи о забастовках: «Забастовка конки и электричества, пожалуй, заставит закрыть цирк. Сборы действительно отчаянные, в городе настроение приподнятое».
14 октября: «Во время второго отделения электричество начало тухнуть, еле докончили представление».
15 октября: «Работали совсем без электричества при одном газе — темнота ужасная. Могло бы быть хуже; не будь газа. Почты до сих пор нет — это самое скверное».
17 октября: «Писем нет ниоткуда, хотя поезда уже начали ходить. Газеты уж пять дней не выходят, конки тоже нет».
22 октября запись: «Газеты вышли, электричество и конки пошли» и в конце замечание: «Газеты переполнены ужасными известиями о еврейских погромах на юге России».
23 октября отец пишет: «Видел на Невском море народа, ждут похорон убитых при манифестации, но их уж похоронили».
29 октября у него записано: «Весь город в страхе за завтрашний день — говорят, вся кронштадтская черная сотня, кончив свое кровавое дело там, прибыла сюда и начнет свою операцию завтра. Город весь замер. Это в столице, — могу себе представить, что делается при подобном слухе в Геническе, Балте, Херсоне».
В начале ноября опять в цирке нет электричества и опять слухи о новой забастовке железных дорог. И тут же запись, указывающая на то, что даже в эти тревожные дни отец не перестает заниматься с нами и следить за нашими занятиями: «Митя наконец-то начинает понимать, как регулировать себя в воздухе при прыжках в темпо»[31].
9 ноября он пишет: «Без газет скверно, да и с ними не лучше. Как прочитаешь про это море крови, невинно пролитой злыми людьми, и про этот океан горя людского, просто нутро переворачивается, что не можешь хоть чем-нибудь помочь».
Тут же рядом в конце ноября он насмешливо отмечает, что пантомима «Илона» прошла «с крепким отсутствием ансамбля», что «беготни и суетни» на арене было «хоть отбавляй».
А 29 ноября пишет: «Получил от Бобрусова из Киева яркое описание всех ужасов, пережитых им во время беспорядков. Кровь стынет в жилах, ум отказывается воспроизвести, что там творилось, и тем более ужасно, что все это поощрялось теми, кем должно было быть предотвращено. Ужас, до чего мы дожили!»
2 декабря запись: «Арестовано шесть газет за манифест социал-демократической партии. Впечатление сильное, все берут свои вклады и обязательно золотом».
Среди записей такая подробность: «Выступавший со львами Мориско Резчей за месяц выступлений получает от Чинизелли шесть тысяч рублей».
В это же время у отца постоянные нелады с Бернардо, и он отмечает, как трудно ему работать при пассивности в работе партнера. Все его желание — только дотянуть до конца сезона. Он дружит с клоуном Жакомино, пытается работать с ним, они начинают репетировать, причем отец не скрывает этих репетиций от Бернардо, надеясь, может быть, таким образом воздействовать на него.
В декабре записано: «Суматоха везде страшная, все запасаются съестными припасами. Говорят, теперешняя забастовка будет продолжительная». «Про Москву в газетах пишут ужасные вещи». «Цирк не работает». «В Одессе с 13-го тоже закрыли». «Приехал из Москвы Клайнау и рассказывает ужасные вещи… Не поддается описанию все происходящее».
К концу декабря записи говорят о том, что жизнь вошла в прежнее русло, и вечерние, и утренние представления цирка полны.
За сезон 1905/6 года в цирке Чинизелли было поставлено несколько пантомим. Наиболее оригинальной из них была «Карнавал на льду». Ставил ее балетмейстер Райзенгер. Ареда была застлана полом, изображавшим лед. Из-за границы выписаны были роликовые коньки, и в течение двух месяцев артисты и балет обучались кататься на них. Кроме того, была выписана специальная труппа роликовых конькобежцев.
На арене развертывалось целое карнавальное шествие. Снег, сделанный из папиросной бумаги, падал с купола. Наверху поставлены были вентиляторы. Когда их пускали, снег крутился и взлетал, — получалось полнейшее впечатление бурана. В финальной сцене появились сани, запряженные оленями и собаками, отчего получилось впечатление полярной зимы. Денег на эту пантомиму затратили много, и она была очень эффектна.
Вторая пантомима, на которой стоит остановиться — «Победа Давида над Голиафом». Выступали в этой пантомиме дети, и только роль Голиафа исполнял взрослый артист. Детей-артистов было около ста человек. Частью это были дети цирковых артистов, частью дети, посторонние цирку. Занимался с ними Райзенгер по два-три часа каждый день. У него была своя система занятий. Он разбивал арену на клетки по номерам и заставлял ребят запоминать, с какой клетки на какую нужно им переходить. Плохо было то, что он не говорил по-русски, и все его распоряжения передавал переводчик.
Из фехтовальной школы были приглашены четыре преподавателя-фехтовальщика. Около сорока детей, в рыцарских костюмах под музыку проделывали сложные фигуры. Все фехтовальные номера были сделаны отлично, и зрелище получалось блестящее. Пантомима эта шла часто и в вечерние представления.
В этот сезон Чинизелли пригласил акробатов Геральдос. Это были первые акробаты, которые работали с подкидной доской. Потом их стали копировать остальные артисты-акробаты. Один из акробатов становился на конец подкидной качающейся доски, другой прыгал с пьедестала на другой ее конец, своею тяжестью давал толчок первому, и тот делал сальто, в воздухе.
Под конец сезона была дана борьба лучших борцов Европы и России. О борьбе, о том, как она велась, я буду писать дальше, пока же приведу запись отца о событии, взволновавшем всю Россию. 7 марта 1906 года отец записывает:
«До боли грустное впечатление сегодня произвело на меня и на всех окружающих «сообщение» в газетах «о расстреле лейтенанта Шмидта в Очакове».
Запись, как и все записи отца, очень короткая, но то обстоятельство, что отец записал это событие, показывает, как современники лейтенанта Шмидта переживали его гибель.
Сезон окончился. Отец и Бернардо получили приглашение на следующий сезон опять работать у Чинизелли. Отец решил летом ехать гастролировать без нас в Сибирь, в цирк Соболевского. Мы сняли квартиру в Петербурге, сдали из пяти комнат две, отец купил кое-какую обстановку и уехал в Сибирь.
Мы остались одни. По утрам под наблюдением матери мы репетировали, остальное время или гуляли в Летнем саду, или ловили рыбу в Фонтанке. Однажды, гуляя во дворе, я заметил девочку лет девяти, которая горько плакала. Я подошел к ней и спросил, в чем дело. Она рассказала мне, что у отца ее шла кровь горлом, что ей придется сегодня вместо него торгавать газетами, что она не справится, и это его, наверное, огорчит.
Я задумался над ее рассказом и решил помочь ей. Позвал на помощь Костю, рассказал ему, в чем дело, и мы втроем отправились в экспедицию. Дождались выхода газет, разделили их на три части и начали торговать ими. Я старался во-всю, кричал во все горло, а когда торговля стихала, клал газеты на тротуар, делал курбеты, становился на руки, перебирая в воздухе ногами, делал колесо, словом, всячески старался обратить на себя внимание публики. Таким способом я очень скоро распродал все газеты, перебежал на другую сторону, где стоял Костя, подскочил к нему, взял его на плечи и скоро у него тоже не осталось ни одной газеты. Мы нашли Марусю (так звали девочку), помогли ей продать ее пачку и бросились в экспедицию, чтобы достать еще газет. Достали еще кипу, и я с прежним азартом бегал по Литейному, по Симеоновской улице и у Симеоновского моста, крича во все горло «Вечерние Биржевые, пять копеек!»
И вдруг — о, ужас! Вижу — стоит мать с каким-то полковником и протягивает мне пятачок, чтобы купить у меня газету, а тут еще Костя подлетел со своей пачкой. Мать посмотрела на нас и велела нам итти домой. Мы покорно отдали Марусе остаток газет и побрели на квартиру. Мать позвала дворника. Нас разложили в кухне на скамейке и выпороли. Я переживал порку с огромной обидой, — ведь я же не для себя торговал. Я хотел помочь Марусе, у которой отец болен чахоткой, и за это меня бьют. Я долго потом плакал, проклиная свою судьбу, и возмущался тем, как несправедливо со мной поступили. Костя же стал упрекать меня, что из-за меня и ему попало.
Несколько дней нас не пускали гулять. Мы только из окна смотрели, как другие дети гуляют во дворе и играют. Маруся рассказала нам через окно, что очень плакала, когда узнала, что нас наказали, что она купила нам конфет, да только не знает, как нам их передать. Я опустил ей из окна веревочку, и мы на веревочке втащили конфеты наверх. Никогда еще я не ел более вкусных конфет и сразу радостно настроился, хотя боль от порки еще далеко не прошла.
Отец четыре месяца пробыл на гастролях и вернулся в Петербург только в сентябре. Привожу несколько дословных записей отца о Сибири.
«Тюмень. Грязь классическая, и в центре ее стоит наше учреждение на базарной площади. Город очень напоминает Иваново-Вознесенск. Этим все сказано. Примечательности здесь: грязь и полное заселение города отбывшими свой срок каторжанами и ссыльными, впрочем, как мне показалось, довольно симпатичными личностями (конечно, не все)».
20 июня: «Был в бане, ну и баня! Господи, куда я попал, никогда в жизни не мог бы предположить, что на свете существует что-либо подобное. Получил приглашение на танцевальный вечер в клуб, думаю побывать».
21 июня: «Взял сезонный билет в клуб за три рубля и сегодня рервый раз посетил клуб. Впечатление самое лучшее. Хотя и тесное помещение, но чистенькое и кухня очень недорогая и приличная. Играл в штос и затем в мокао. В обе игры выиграл тридцать восемь рублей. Заплатил три рубля штрафу и три рубля за билет и ужин. Это — клуб, где бывает аристократия».
Омск, 27 августа: «Посетил вчера почтово-телеграфных чиновников в общественном собрании. Здание общественного собрания большое, ничего. Кухня отвратительная. На вечере преобладали всевозможных цветов рубашки на выпуск, уснащенные кругленькими словечками кабацкого пошиба. В общем впечатление отвратительное».
Записи эти рисуют застойную провинциальную жизнь сибирского большого города, где единственным развлечением и местом сбора обывателей были два клуба с картежной игрой и буфетом.
13 сентября отец вернулся в Петербург. 15-го состоялось открытие в цирке Чинизелли сезона 1906-7 года.
На этот раз преобладали в труппе русские артисты, так как из-за недавних революционных событий заграничные артисты боялись ехать в Россию. Чинизелли ангажировал наездниц Гамсакурдия-Валю, Клару и Тамару, наездников Орлова и Пашу Федосеевского и, высшую школу верховой езды Ренрова.
Наибольшим успехом у публики пользовались музыкальные клоуны, англичане братья Вебб. За весь номер они говорили только два слова. Были они уже стариками и всеми музыкальными инструментами владели в совершенстве. Придешь в цирк — и всегда застаешь их играющими то на том, то на другом инструменте. Были они очень молчаливы и даже между собой говорили редко.
Чинизелли настоял, чтобы отец позволил мне учиться ездить верхом. Он хотел, чтобы я выступил в номере «Почта», Номер состоял в следующем: выводили двух понек, я становился двумя ногами на первую и вторую, поньку и, держа вожжи в руках, проделывал круг, потом– останавливал лошадей. Выводили еще четырех лошадей, потом еще двух, за ними еще четверку, и каждый раз мне давали вожжи и я правил всеми лошадьми, На поньках была очень красивая упряжь с бубенцами, бубенцы звонили, и номер получался эффектный. Я репетировал двадцать дней и потом удачно дебютировал в роли почтальона, разъезжавшего на двенадцати поньках.
В этом же сезоне удачно выступила первый раз в пантомиме «Рыцарь-пастушок» моя сестра Олимпиада. Она исполняла главную роль рыцаря-пастушка.
B течение сезона было много интересных номеров. Поражали публику и артистов двенадцать факиров-индусов, которые проделывали на манеже совершенно невероятные вещи. Они брали горшок с землёй, в землю сажали семечко, и на наших глазах и на глазах, публики из семечка вырастало деревцо. Приносили корзину, в нее с трудом помещался взрослый человек, корзина закрывалась. Ее пронзали шпагами и пиками всю насквозь. Не было буквально места, откуда бы не торчала шпага или пика, прошедшая сквозь корзину. И когда корзину открывали, из нее целым и невредимым вылезал посаженный туда человек. Человек этот (один из факиров) вкладывал в орбиты своих глаз крючки; на веревки, подвешенные к крючкам, прикрепляли два ведра воды, он поднимал их и носил по арене.
Прекрасными артистами были девять полетчиков Рассо. Посредине цирка был устроен турник. Работа чередовалась: то летали шесть полетчиков, то работали на турнике три турниста. Выходило так, что зритель видел все время «летающих» людей: либо был полет крест-накрест, что тогда было новинкой, либо работа на турнике.
В ноябре в труппу Чинизелли вступил как жокей Васильямс Соболевский. Русские артисты группировались отдельно, придерживаясь своих, иностранцы жили обособленно, очень расчетливо, сберегая каждую заработанную копейку. Наши же по субботам собирались в греческой столовой, устраивали по очереди ужины, кутили, как говорится, «на все медные». Ужины бывали с изрядной выпивкой и частенько заканчивались скандалами. Скандалы происходили всегда на почве споров по поводу работы: других тем для разговоров среди артистов не было.
Отец очень дружил с Соболевским. Он бывал у нас со своей семьей, мы ходили к ним. Отец когда-то работал с Соболевским в цирке Таурика вo Владикавказе, потом Соболевский, спасаясь от военной службы, уехал за границу. Через некоторое время, благодаря содействию одной «высокой» особы, получил разрешение вернуться на родину.
В Петербурге на рождество, и на масленицу устраивались большие гулянья в манеже. В течение рождественской недели там работай цирк Лапиадо. Чтобы конкурировать с манежем, Чинизелли объявил в афишах, что каждый посетивший цирк ребенок получает подарок-игрушку. Игрушки раздавались по местам, и ценность их зависела от стоимости билета.
Благодаря этому сборы у Чинизелли все время были хорошие.
Мы ходили в манеж смотреть цирк Лапиадо. Труппа была прекрасная. Женою Лапидо была превосходная наездница Ольга Сур. Сам он был выдающийся геркулес-атлет. Он сумел облагородить эту работу. Я помню его отчетливо. На арену выходил смуглый красавец в тоге с золотым венком на голове. Сложен он был изумительно, работал очень красиво с тяжестями и живым весом.
Хотя оба цирка стояли близко друг от друга, и тут, и там были битковые сборы.
Приблизительно в январе 1907 года в цирке Чинизелли дебютировал человек-феномен Унтен, артист без рук. Отец в записной книжке пишет об артистической игре Унтена на скрипке и иа трубе без рук ногами, причем отмечает, что чувство жалости к нему как к калеке под впечатлением его игры сглаживается. Номер этот очень нравился публике.
Громадная реклама была выпущена по поводу номера «Полет живого человека из пушки. Человек-снаряд». Первый раз этот номер дан был 13 февраля. Цирк был полон. На сцене поставили громадную осадную пушку. Вышел артист, отработал ряд упражнений на трапеции, затем им зарядили пушку. Раздался выстрел. Артист вылетел из пушки, пролетел через весь цирк над растянутой сеткой, по дороге прорвал два или три обруча, заклеенных бумагой, и упал на сетку.
Отец в своей записной книжке иронически оценивает этот номер: «Полет из пушки оказался лишь рекламным номером – работы никакой».
Любопытно отметить, что владельцем этой пушки был англичанин. У него было несколько аттракционов. Сам он не работал. Из пушки вылетал поляк Калиновский. Калиновекий снял у нас комнату и рассказывал, что англичанин очень богат, получает по сто пятьдесят рублей в день за свои аттракционы. Калиновскому же он платил за работу всего триста рублей в месяц. У англичанина было несколько номеров, с которыми разъезжали его жена и брат. Сам он никогда не был артистом, но, у него были большие деньги, на которые он покупал всякие новинки. Новинки эти он развозил по разным городам и странам и нанимал людей, чтобы выполнять их.
Весною отец повел нас в Народный дом, чтобы показать нам пьесу «80 дней вокруг света». По грандиозности постановки я никогда ничего подобного (не видел ни в одном театре. В пьесе было двадцать картин. Декорации и бутафория были изумительные. Надо было видеть, как были сделаны бутафором итальянцем Кроче слон и ползущие по сцене змеи. Декорации менялись с необыкновенной быстротой. Только погаснет свет, ты расстался с севером, на котором только что был, и переносишься в тропики, видишь обезьян, змей, слонов.
Из актеров я запомнил одного — ныне здравствующего заслуженного артиста Розен-Санина.
Я не мог никак забыть того, что видел в Народном доме, и просил отца еще раз повести нас туда. Отец исполнил мою просьбу, и мы видели еще «Вий», «Дети капитана Гранта», «Генералиссимус Суворов» и «Осаду Ростова». Из всех этих постановок мне больше всего понравился «Генералиссимус Суворов». Чортов мост и переход Суворова через Альпы были сделаны превосходно. На сцене изображен был настоящий водопад.
Эти зрелищные пьесы пользовались большим успехом.
На первой неделе поста англичанин, которому принадлежал аттракцион «Человек-снаряд», предложил Чинизелли новый аттракционный номер «Прыжок смерти». Приготовили большие плакаты, на которых изображены были люди в черных балахонах со светильниками в руках и среди них — бледный молодой человек с изображением черепа на груди. Когда пошли подписывать афишу, в градоначальстве заявили, что без просмотра номера афиша подписана не будет. Чинизелли пришлось согласиться на просмотр. Номер заключался в следующем:
Внутри купола цирка была повешена квадратная доска аршин около пяти. Под доской был сделан мостик и круг с двумя ручками. К кругу от доски шли тысячи тоненьких (не толще спички) резинок. Артист, выполнявший номер, должен был стать на мостик, взятьея за ручки круга и броситься с купола на арену. Своею тяжестью он растягивал резину и, дойдя до земли, по сигналу должен был выпустить ручки круга и остаться на арене. Круг же с силой летел обратно в купол, ударялся о доску и производил выстрел. Главное в номере было во-время отпустить ручки круга, чтобы остаться на земле и ие улететь обратно вверх.
Внизу на арене стоял наблюдающий, давал в нужный момент выстрел, прыгнувший разжимал руки и оставался на арене, круг же с шумом летел обратно в купол.
В день просмотра собрались артисты, приехал из градоначальства чиновник, который потребовал, чтобы номер был показан весь целиком, т. е. чтобы дан был выход под музыку и затем весь номер. Как потом выяснилось, градоначальник обратил внимание на плакат, изображавший монахов со свечами, и боялся, чтобы не было, богохульства.
Начали репетицию. На арену вышли четыре униформиста, одетые в черные балахоны. Лица их закрывали капюшоны, в руках они держали зажженные свечи. Выход был сразу запрещен. Англичанин растерялся, стал говорить о важности эффектного начала номера, но чиновник не стал с ним разговаривать.
Артист, выполнявший номер, влез наверх, стал на мостик. Англичанин дал ему сигнал, что все в порядке: приготовься. Затем крикнул: «Прыгай».
Артист прыгнул. Тело стремглав полетело вниз, но когда оно достигло земли, сигнального выстрела не последовало, артист не выпустил ручек круга, его рвануло и потащило вверх. Он ударился головой о мостик, и ему размозжило череп. Его поднимало и опускало несколько раз. В цирке начался переполох. Женщины, артистки, кто лежал без чувств, кто кричал. Полиция попросила всех покинуть зрительный зал. Началось следствие. Чинизелли пустил в ход и деньги, и связи, чтобы замять дело. На следствии выяснилось, что англичанин так растерялся от приказания убрать униформистов в балахонах и со светильниками, что забыл взять револьвер, потому-то он и не дал сигнального выстрела. Когда тело артиста стали снимать с круга, то пришлось подрезать пальцы рук: он так судорожно вцепился в ручки круга руками, что разжать их не было возможности.
Два дня цирк был опечатан. Артисты поволновались, но постепенно толки об этом несчастном происшествии стали затихать. Дело замяли. Ha первой неделе великого поста цирк по традиции, создавшейся несколько лет назад, открылся чемпионатом французской борьбы.
Вначале чемпионат не делал сборов, так как не было Поддубного, который заканчивал борьбу в Берлине. По приезде Поддубного интерес к борьбе поднялся, и цирк, как всегда, был полон.
В те годы был расцвет борьбы. Особенно увлекался ею граф Рибопьер. Он проводил в цирке целые дни и добился того, что борьба была разрешена и на четвертой неделе поста, когда все другие увеселения были закрыты. Он доказал, что борьба не зрелище, а спорт. Борьба была разрешена, только без сопровождающей ее обычно музыки.
24 марта отец записывает: «Вот тебе и правда. Весь актерский мирок России, сколько ни ратовал и в печати, и на разных съездах, и просто лезли во все щели всех возможных министерств, но все тщетно! Тогда как наш сиятельный граф Рибопьер одной поездкой к товарищу министра Макарову разрубил этот гордиев узел…» «…сразу признали, что борьба — не зрелище, а спорт…» «…нам, артистам, от этого не легче, но авось в будущем удастся выхлопотать эту спорную четвертую неделю».
Цирк Чинизелли делал битовые сборы, а артисты ничего не получали. Весь пост как нерабочее время лежал всей тяготой невольной безработицы на артистах. Самое же обидное было то, что, когда приходила пасха и представления шли два раза в день, артисты получали свою обычную плату. Артисты горестно говорили, что это «закон капитала» и итти жаловаться некуда». Такие же порядки оплаты были и в театрах, об этом свидетельствует запись отца по поводу его разговора с артистом императорских театров Давыдовым.
30 марта: «Говорил с Давыдовым (императорским)[32] о плачевном положении артистов вообще, а цирка в особенности. Он вполне согласен со мной».
Давыдов часто один, а иногда и с Варламовым2 бывали в цирке и подолгу засиживались в клоунской уборной. Они интересовались клоунским репертуаром и реквизитом. Часто антракт кончался, а они все сидят, беседуют и идут в зрительный зал только тогда, когда должен быть клоунский выход.
Вторую половину сезона семье нашей не повезло: все мы перехворали, особенно часто хворала мать. Доктора советовали ей немедленно переменить климат. Чинизелли предложил отцу работать у него следующий сезон, но отец сказал, что из-за нездоровья жены ему придется покинуть Петербург.
Мы доживали в столице последние дни. Отец решил распродать обстановку и опять начать скитальческую жизнь в провинции.
Ученик артиста И. В. Самарина. Работал с огромным успехом в провинции. В 1880 году принят на сцену Александрийского театра. С 1889 года работал как преподаватель в Петербургском театральном училище. Роли: городничий, Подколесин, Хлестаков, Расплюев, Бальзаминов и другие. Получил звание народного артиста Республики.
2Варламов К. А (1848-1915). Сын композитора. Выступать начал в
Кронштадте, в труппе А. М. Читау. Восемь лет играл в провинции. Стараниями артистов Нильского и Сазонова получил в 1875 году дебют в Александрийском театре и был принят в труппу. В его репертуаре до шестисот сорока ролей. Был великолепен в комических ролях шекспировских пьес,
Цирк закрылся. Отец и мать передали квартиру, распродали обстановку, и мы покинули Петербург.
Отец подписал на шесть месяцев договор с Соболевским. Первым городом, где предстояло начать работу цирку, был Челябинск.
С нами ехали акробаты Жаколино, которых Соболевский тоже ангажировал в свой цирк.
В Челябинске пришлось первую ночь ночевать у директора, так как отец никак не мог найти квартиры. Дебют отца прошел очень хорошо. Особенно, понравилась его вставка в репризу по поводу Пуришкевича, который был за свои выходки лишен на пятнадцать дней права посещать заседания Государственной думы.
После дебюта отец был приглашен на ужин, и мы его два дня не видали. Язвой Сибири была пьяика. У матери на этой почве начались с отцом недоразумения. Отец понимал вред водки.
9 мая он записывает: «Общая сибирская проклятая язва — пьянство — начинает прививаться; и у нас в цирке. Как ни избегай ее, а все-таки заставят глотнуть этого проклятого зелья. Пьянство развито страшно».
Странно было после большого петербургского цирка работать под шапито. Казалось, что ты не в цирке, а в балагане. И в то же время, все было проще, не было натянутости, легче дышалось. Представления шли стройно: труппа подобралась замечательная. Почти все артисты были от Чинизелли. Сам Соболевский и Паша Федосеевский были наездниками, Клара Гамсакурдия — наездницей. Из акробатов приглашены были Жаколино.
Артисты цирка сами во время спектакля поддерживали дисциплину, в этом смысле воздействия на них не требовалось никакого. Необходим был только режиссер, который бы следил за подачей во время реквизита и своевременной его уборкой. Помогали это делать и артисты. Обычно артист уже за два номера до своего выхода стоит одетый, наблюдает за порядком спектакля, помогает униформе, подсказывает через занавеску, что нужно подать или принять у работающего артиста.
В Челябинске отец очень много занимался с нами, пользуясь тем, что манеж часто бывал свободен. Мы с Костей готовили акробатический номер. Когда отец был трезвым, мы очень любили заниматься с ним, он нам много рассказывал, показывал и был очень терпелив. После выпивки он приходил в раздражительное состояние, и нам от него изрядно доставалось.
Скоро в цирк Соболевского приехал ириглашенный им клоун Щербаков. Это был соло-клоун. Он читал стихи, выступал с репризами на злободневные темы. Как соло-клоун он был очень хорош, только, к несчастью, сильно пил.
Затем приехали борцы, и открылся чемпионат французской борьбы. Сначала борьба не делала сборов, но постепенно азарт возрастал. Публика делала ставки на борцов, как на лошадей в тотализаторе. Последние дни борьбы цирк был переполнен. Цены на билеты были настолько повышены, что галерка стоила пять десят копеек. В эти дни на барьере сидели урядники с винтовками, направленными на публику, потому что бывали случаи, что публика лезла на манеж, отстаивая своих фаворитов.
Фаворитами были Бесов, Мартынов и Корень.
Перед раздачей призов в городе появился легендарный борец де-Фос. Он наводил ужас на жителей и своей фигурой и фантастическим обжорством. Внешний вид его был жуткий. На нем было надето штук пятнадцать жилеток, а поверх них армяк. На голове красовался извозчичий цилиндр, на ногах были высокие резиновые боты, в руках железная палка. Он приезжал в какой-нибудь город, выходил из вагона поезда и сейчас же направлялся в вокзальный буфет. Там, по рассказам, он съедал к ужасу буфетчика штук пятьдесят бутербродов, целую телячью ножку и выпивал неимоверное количество чая или пива. Потом спокойно уходил, ничего не заплатив, садился в пролетку и приказывал везти себя в ближайшую лучшую гостиницу. Если швейцар ему говорил, что свободного номера нет, он отправлялся сам искать свободный номер. Отыскивал его, занимал, требовал сейчас же два или три самовара и еды. Если ему не подавали, он шел в буфет, брал там все, что имелось, уносил в свой номер, запирался там и рычал как зверь. Многие из живущих в гостинице, узнав, что приехал де-Фос, бросали занимаемые ими номера и переезжали в другую гостиницу, чтобы не встречаться с ним. Силой с ним справиться было невозможно. Если вызывали полицию, он в отместку ломал все, что ему попадалось под руку. Те, кому приходилось иметь с ним дело, предпочитали откупаться от него. Приносили ему еды и денег с условием, чтобы он переехал в другую гостиницу. В другой же гостинице, ему давали деньги с условием, чтобы он к ним не въезжал.
Многие утверждали, что такой манерой своего поведения де-Фос нажил большие деньги. Рассказывали, что он окончил гимназию, что не раз его сажали в сумасшедший дом, но что он всегда бежал оттуда. Словом, легенд о нем ходило много, а правды никто по-настоящему не знал. Он приезжал в город, где работал цирк, принимал участие в борьбе и делал большие сборы. Боролся он приемами русско-швейцарской борьбы на-поясах. Рубашку никогда не снимал и трико во время борьбы не надевал.
Де-Фос предложил Соболевскому выступить у него в цирке. Договорился, что за каждое выступление получает пятьдесят рублей. В первый же вечер он уложил одного за другим трех борцов, правда, не очень сильных. Через несколько дней был назначен бенефис борца Корня. Афиша была широковещательная. Объявлена была борьба Корня с быком. Перед самым выходом бенефицианта исправник, но инициативе земского начальника, запретил борьбу с быком. В цирке поднялся невероятный шум. Публика требовала объявленную борьбу. Земскому начальнику пришлось уйти, и борьба состоялась. После борьбы с быком Корень боролся с де-Фосом, и де-Фос положил его. Корень потребовал реванша ввиду того, что он боролся уже усталый.
Борьба с быком происходила так. На арену выводили быка. Борец брал быка за рога и должен был повалить его. Сделать, это мог не каждый борец, на это нужна была особая сноровка.
Борьба закончилась, цирк собирался переехать в Вятку. Шапито было уже снято, в два часа нужно было вести на вокзал лошадей и грузить багаж. В двенадцать часов стало известно, что вагонов нет, что их подадут только завтра. В это время к Соболевскому подошел де-Фос и сказал:
— Дашь мне сто рублей, я сделаю полный сбор. Играть будем без крыши, под открытым небом. Иди в типографию и заказывай афишу. Пиши: «прощальный бенефис де-Фоса. Французская борьба де-Фоса с Мартыновым. Де-Фос будет бороться в трико».
Соболевский согласился. Афиша была готова в три часа. Ее сейчас же расклеили по городу. До борьбы дали несколько номеров партерного характера. Цирк был полон до отказа. Публика жаждала видеть де-Фоса в трико. Первое отделение прошло. Соболевский вошел в уборную де-Фоса и спросил его:
— Почему же ты не (раздеваешься?
Де-Фос ответил, что и не подумает раздеватыся, а будет бороться в рубашке, как всегда.
— А как же афиша? — с недоумением спросил Соболевский. — Публика убьет нас за обман.
— Не бойся, директор, с публикой буду говорить я сам; ты этого не касайся. Давай условленные сто рублей, а там не твое дело.
Перед борьбой де-Фос вышел на арену, поднял вверх руки и сказал:
— Уважаемые господа и госпожи, ввиду того, что во всем Челябинске не нашлось на мою фигуру трико, я буду бороться в рубашке, а кто хочет видеть меня голым, пусть пожалует за мной.
Де-Фос пошел в уборную, публика повалила за ним валом. Он вошел в уборную, прикрыл дверь, просунул в нее свой цилиндр и сказал: «Кто хочет видеть меня голым — гони деньгу».
В цилиндр полетели деньги. Когда денег набралось изрядное количество, де-Фос распахнул дверь, сорвал вешалку и давай размахивать вешалкой и ругаться. Кой-кому и попало. Де-Фос выдавил заднюю стенку уборной и скрылся
Директор и артисты, бывшие в цирке, едва спаслись. Рассвирепевшая публика не оставила целой ни одной скамейки, разбила все фонари. Был вызван наряд конной полиции, который разогнал громивших цирк людей.
На другой день мы уехали. Через несколько станций от Челябинска на платформе мы увидели де-Фоса. Он очень смеялся над случившимся. Больше мне его никогда не приходилось встречать. Хотя он своими похождениями гремел и потом на всю Россию.
30 мая мы приехали в Вятку. Ливмя лил дождь, грязь — неописуемая. Сборы в Вятке были очень слабые. Говорили, что нам мешала оперетта под антрепризой Левицкого. Но и в оперетте сборы не превышали ста рублей за вечер.
От 3 июня у отца характерная запись, рисующая самодурство и невежество провинциальной администрации: «По случаю роспуска Государственной думы местной администрации очень хотелось запретить нам играть. Наконец, все-таки удалось убедить ее, что пока еще цирк ничего общего не имеет с Государственной думой».
В «Вятском крае» появилась по поводу цирка недоброжелательная заметка. Во время представления один из клоунов, пользуясь тем, что в цирке присутствовал редактор газеты, прошелся насчет написавшего заметку корреспондента. Через несколько дней. «Вятский край» поместил статью ругательного характера. Тогда клоуны с арены начали «крыть» газету. Публике остроты нравились, что было удивительно, так как газета считалась прогрессивной.
Сборы продолжали быть плачевными. В кассе бывало за вечер по сорока рублей. Дирекции после долгих хлопот удалось получить разрешение на устройство «подарков». «Подарки» были единственной надеждой закончить кое-как гастроли в Вятке.
18 июня отец записывает: «Первый раз подарки. Сбор более четырехсот рублей. Я наблюдал, с каким лихорадочным трепетом вылезла вся серая масса из своих насиженных берлог. Прямо-таки — звери, кажется, Шаляпин с Собиным не потянули бы так, как два медных самовара. Звери, право, звери».
Дирекция запретила клоунам во время их выступлений затрагивать газету «Вятский край», чтобы она не начала нападать на подарки. Несмотря на это, в газете каждый день писали по поводу цирка, жаловались, что жители тащат последнее барахло в ломбард, чтобы только купить билет в цирк на подарки.
Сборы в цирке доходили за вечер до восьмисот рублей. Неожиданно по приказу губернатора подарки были запрещены. Тогда сборы сразу упали. Стало ясно, что в Вятке цирку делать нечего. Решено было ехать в маленький городишко, вернее, село Слободское.
Слободское было расположено на реке, на другой стороне был прекрасный бор. В Слободском я впервые понял, что такое природа, сбор грибов, рыбная ловля и просто лес, когда он тянется на много верст и ты в нем один. Несмотря на то, что мы с Костей много репетировали, мы каждый день приносили огромные корзины грибов.
Цирк произвел на жителей большое впечатление, но сборы были неважные, и все ждали подарков. Дирекция добилась разрешения от исправника устроить подарки, с условием, чтобы не было афиш. Перед цирком и по городу было повешено несколько больших плакатов, извещавших о подарках. Несколько дней цирк был переполнен. О подарках узнал, однако, вятский губернатор и запретил их. Исправник получил от него большой нагоняй. Мы дали несколько представлений и уехали в Пермь.
Жители Слободского провожали нас. Пароход отходил рано в семь часов утра, а на берегу стояла большая толпа слобожан. Мы отошли от пристани под звуки оркестра.
Переезд из Вятки в Пермь мы сделали по железной дороге.
Перед самою Пермью Костя, желая помочь матери, раздроби себе дверью палец. В Перми мы с матерью поехали в щирк, а отец повез Костю с вокзала в больницу.
Цирк в Перми начал работать 4 августа. Здание пермского цирка — деревянное под железной крышей. Сбор полный. Отзывы о работе артистов в местной газете прекрасные. Дирекция, видя, что цирк посещается охотно, старалась разнообразить программу. Из гастролеров выделялись капитан Гипсон и дрессировщик Донской с говорящей собакой. Мексиканец Гипсон замечательно метко стрелял из винчестера. Он клал на голову своего пятнадцатилетнего сына яблоко. На расстоянии иолуаршина от яблока находилось обручальное кольцо. Он через кольцо попадал в центр яблока. Сын держал перед доской руку с растопыренными пальцами, и он попадал в доску через промежутки между пальцами. С изумительным искусством бросал лассо и метал ножи, демонстрируя навыки «мексиканских ковбоев».
Говорящая собака поражала публику. Многие были уверены, что собака действительно говорит. Донской был очень ловкий вентролог-чревовещатель. Он приучил собаку сидеть на задних лапах. К нижней ее челюсти была привязана крепко, но незаметно, черная нитка. Донской чревовещал и в то же время тянул за нитку, отчего собака двигала челюстью. Старался Донской говорить не очень разборчиво, и получалось впечатление, что говорит собака. Во время одного из его выступлений на барьере показалась неожиданно кошка. Собака была фокстерьер, фокстерьеры же не выносят кошек. С быстротой молнии собака соскочила с тумбочки, на которой сидела, и помчалась за кошкой. В публике гул стоял от смеха, особенно смеялись артисты. Донской, так и не мог докончить номера.
На одном из первых представлений клоун Щербаков был навеселе и выступил с репризой, которая очень рассмешила публику, но не понравилась полиции. Щербаков рассказал, что гулял утром по городу и на одной из улиц увидел толпу народа. Оказалось, что в грязи тонет околоточный надзиратель. Люди суетятся, стараются помочь ему вылезти. Кто-то принес веревки и доски. Ничего не помогает. Тогда Щербаков подошел будто бы поближе и спрашивает: «в чем дело?» Ему отвечают: «Да вот околоточный надзиратель завяз в грязи и не может вылезти». Тогда Щербаков сказал: «Напрасно стараетесь, покажите ему три рубля – он сам из любой грязи вылезет».
Реприза имела большой успех. Но, как пишет отец: «Щербаков с первого абцуга обратил на себя внимание полиции. После представления его разыскивал пристав». 9 сентября отец записывает: «Бедняге Щербакову не везет. Полиция за каждую малость, его преследует. Он отчасти сам виноват, вооружает ее против себя». 10 сентября запись о том, что «губернатор под страхом закрыть цирк запретил дирекции ставить бенефис Щербакова. Работать же до жалованья разрешил, под расписку — ни звука не говорить на политические темы, а то из цирка в тюрьму».
Я привожу эти записи, чтобы показать, в каких условиях работали в то время артисты цирка. Главным образом условия эти отражались на работе клоунов, так как они были единственными артистами цирка, которые говерили с арены.
23 сентября состоялось последнее представление в Перми, цирк погрузился на пароход и отправился в Казань. Погода стояла прекрасная, и трое суток, проведенных на пароходе, были для нас праздником.
На первом представлении в Казани у отца получился конфликт с полицией. Шел номер «акробатические качели». Из комбинации тел клоуны делали качели. Партнер отца спрашивает его: «Ну как качается?» Отец отвечает: «Как наша конституция»,
«Дежурный пристав 4-й части, — записывает отец, — заявил претензию на меня директору за фразу — конституция. Вот и разберись: что можно в Питере при министрах, того нельзя в Казани при приставе 4-й части». Запись от 30 сентября гласит: «Брат вчерашнего пристава сегодня дежурил и привез от полицмейстера приказание под ответственностью немедленной высылки из города и закрытия цирка ни слова не говорить на политические темы. Интереснее всего то, что вся наша администрация на стороне полиции. Получается отвратительное положение: полиция молчит — дирекция хвалит, полиция протестует — дирекция порицает».
Приведенные мною выписки очень характерны и ярко рисуют ту общественно-политическую обстановку, в которой шла работа клоунов.
В Казани мы закончили работу поздней осенью. Начались холода, выпал снег, а мы все еще работали. Администрация выхлопотала разрешение устроить пять представлений с подарками. Тогда весь реквизит, вещи артистов и лошадей отправили в Самару. Артисты оставили себе только легкий багаж. Мы с матерью уехали вперед, отец остался доигрывать последние представления в Казани.
Цирк в Самаре еще не был готов. Строился он местными богачами-рыбниками братьями Калиниными. Здание было каменное и по тому времени для провинции грандиозное.
Открытие цирка состоялось только 1 декабря. Сорок дней труппа была в бездействии, так как полицмейстер все время назначал какие-то комиссии и подкомиссии для осмотра цирка. Делал он это потому, что дружил с державшим в Самаре театр антрепренером Чужбининым и оттягивал открытие цирка, который, конечно, был конкурентом театру.
Наконец, полицмейстер назначил испытание крыши цирка. Крышу нагрузили тысячепудовым грузом, она его выдержала. Губернатор разрешил открыть цирк, полицмейстер же подписил афишу в день открытия только в четыре часа дня.
Долгожданное открытие цирка состоялось. Директора и братьев Калининых встретили шумными аплодисментами. Во время своего номера отец сказал: «Кто мог подумать, что маленькая рыбка может построить такое здание». Отец намекал на строительство цирка рыботорговцев Калининых.
Последнее время отец стал пользоваться злободневными темами, беря и выискивая их из газет. Публике это очень нравилось.
На втором спектакле в антре отец прошелся по поводу самарского депутата Челышева. Намек его вызвал бурные рукоплескания всего цирка. Отец целую минуту должен был ждать, пока публика успокоится. Когда же отец упомянул о кадетском депутате Родичеве, исключенном на пятнадцать Заседаний из Государственной думы, публика так наэлектризовалась, что все антре начинались и кончались громом аплодисментов.
У отца опять появилось много друзей», и он с горечью записывает: «Откуда и старые и новые знакомые взялись? И ужины, и шампанское. А то сорок дней ни одного чорта не видно было. Вот она, минутная слава артиста, Все и все для тебя, пока ты наарене, вне ее хоть с голоду умри».
Политические вставки и злободневные темы, не прошли отцу даром. На шестом представлении перед самым выходом ему было заявлено: «Под ответственностью высылки из города в двадцать четыре часа не касаться ни общеполитических, ни местных тем…»
Отец пишет: «Заявление неожиданностью меня обескуражило, повлияло на весь ход сегодняшней работы. Антре прошло отвратительно».
7 декабря отец объясняется с полицмейстером: «По мнению его, — пишет отец, можно ими пользоваться (злободневными темами), но «не напирая на педаль, и главное не касаться полиции» и «жить с ней в ладу».
После первых представлений сборы в цирке упали. Мешал театр, где шли «Черные вороны», делавшие битковые сборы[33].
«Сборы в цирке — слезы, — пишет отец, — в таком богатом здании, когда мало публики, то просто жутко».
В один из таких дней Бернардо вышел с репризой к дрессировщику Блинову, выступавшему с номером «Лошадь-артиллерист». Лошадь Блинова сама стреляла из пушки. Реквизитор спьяна зарядил ружье, которое вкладывалось в пушку двойным зарядом. При выстреле оторвался запал, и им убило наповал сидевшего в пятом ряду матроса. Бернардо случайно остался жив. Реквизитора арестовали и на суде дали пять лет каторжных работ.
Цирк посещался мало. Соболевскому приходилось платить артистам за сорок дней, в течение которых цирк не играл; сборы же все время были очень неважные. Дирекция пригласила гастролеров, но они мало помогли. Дела цирка поправились только тогда, когда начал свои гастроли борец Иван Заикин. Он работал с железом и тяжестями. Силой он обладал феноменальной. Он не только работал с гирями, но и гнул на руке браслет из полосового железа, а на плечах сгибал строительную балку. На грудь ему клали большого веса камень и разбивали молотком.
После нескольких выступлений Заикина открыли чемпионат французской борьбы. Сборы чемпионат делал прекрасные.
Назначили бенефис отца и Бернардо. Отец объявил об этом с арены и сказал, что главным их номером будет борьба с Пуришкевичем. Заявление это вызвало гром аплодисментов. Бенефис прошел хорошо. Борьба с Пуришкевичем, конечно, была словесная. Отец, обращаясь к Бернардо, просил не паясничать, угрожая исключить его из представления и прогнать с арены так же, как прогнали из Думы Пуришкевича.
Помогли бенефису и борцы. В этот день первый раз боролся с Заикимым уроженец Самары Елисеев. В дальнейшем борьба их на пяти представлениях шла вничью. Тогда объявлена была борьба «без срока и до результата». Елисеев узнал, что Заикин решил «положить» его во что бы то ни стало, и на борьбу не явился. В цирке начался скандал. Губернатор запретил борьбу. Больше цирку в Самаре делать было нечего. Решено было ехать в Ташкент.
24 февраля на последнем представлении отец пожелал самарцам «поменьше пивных и побольше народных школ».
«Энтузиазм публики был полный», — пишет отец.
ГЛАВА XI
Ташкент. Старый и новый город. Быт и колорит города. Цирк. Первый дебют акробатов братьев Альперовых. Смерть бабки. Встреча с Максом Высокинским. Ярмарка в Ташкенте. Цирк Фарруха. Рассказы о цирке эмира бухарского. Придворные артисты, клоуны Тимченко и Фердинандо. Обваренные кипятком министры. Узбекские артисты. Самарканд. Уход от Соболевского с векселями. Контракт с Труцци на зимний сезон в Москву. Отъезд матери и сестер. Красноводск. Баку. Контракт на месяц с Никитиным на Нижегородскую ярмарку. Астрахань. Две недели работы в Царицыне. Сад «Конкордия». На пароходе «Ксения». Соединение с труппой Никитиных. Нижегородская ярмарка. Москва.
От Самары до Ташкента мы ехали пять дней. В Ташкенте было тепло, Ташкент делился на два города: старый и новый. Старый город был окружен канавами — арыками. Быстротекущая вода этого своеобразного водопровода охлаждала в жаркие дни прохожих, в арыках же мыли пищевые продукты и стирали белье. Эту же воду ташкентцы пили. В новом городе бросалась в глаза смесь европейскоих с местным. Вперемежку шли лавочки узбеков и русских. Торгуя фруктами, рисом и красным товаром, местные торговцы тут же на тротуаре варили себе плов.
Узбеки были доверчивы, простодушны и терпели много обид и притеснений от русской администрации. Русская администрация относилась к ним со снисходительным презрением. Жизнь в Ташкенте была очень дорогая. Дешевы были только дичь и фрукты: и тем, и другим Ташкент изобиловал. Помню, мы, дети, объедались особым сортом груш, очень крупных и таких сочных, что от одной груши можно было набрать полстакана соку. Узбеки питались пловом из курдючной баранины, варили его около своих лавочек на угольях, ели руками и после еды мыли руки и рот в ближайшем арыке. Мы жили как раз против базара и могли наблюдать за жизнью, столь необычной для нас.
Цирк окружен был большим двором. Крыша у цирка была железная, а стены низкие глиняные. Уборные обиты войлоком и кошмой, чтобы предохранить артистов от скорпионов. Скорпионами нас очень пугали. Мать, испуганная рассказами об укусах, тщательно следила за нашими(кроватями. На базаре постоянно можно было видеть следующую картину: сидит узбек с ведром, полным горящих угольев, встает, говорит что-то на своем языке, обходит публику с бубном. Ему в бубен бросают деньги. Он пересчитывает их, делает из горящих угольев огненное кольцо, вынимает из тыквенной коробочки палочкой двух-трех скорпионов и пускает их в кольцо. Вокруг кольца со скорпионами собирается толпа зевак. Если подходит русский, ему всегда с некоторой опаской уступают место. Скорпионы ползают по кругу, подползают к раскаленным угольям и ползут обратно, а узбек палочкой сдвигает уголья, делая круг все уже и уже. Скорпионы, видя, что выхода нет, убивают себя, жаля хвостами в голову. Тут же идет бойкая торговля деревянным маслом, настоенным на скорпионах. Маслом этим успешно лечили скорпионовые укусы.
Интересно было наблюдать узбеков во время национальной игры в пустыре за цирком. Игра была очень незамысловатая. Чертили на земле круг. В круг (в зависимости от состояния кошельков играющих) клали серебряные или медные узбекские монеты. Иногда это бывала таньга (наш пятиалтынный) или пуля (мелкая медная монета в четверть копейки). Играющих всегда собиралось много, человек до двадцати. У всех были свинчатки. Игра состояла в том, чтобы свинчаткой выбить деньги из круга.
Кто сколько выбьет, тот столько и получит. Мы наблюдали за игрой из конюшни и видели, до какого азарта доходили играющие. Игра сопровождалась выкриками (Иок… Иок…), ударами кулаком в грудь, сверканьем глаз.
Цирк наш посещался узбеками только по пятницам. Наибольший успех имели женские номера.
9 марта мы с Костей первый раз выступили с самостоятельным, акробатическим номером. В этот день мы начали тяжелое поприще циркового артиста. Помню хорошо наши приготовления. Наше волнение. Мать так волновалась, что не могла присутствовать на представлении и ходила вокруг цирка, пака мы не отработали нашего номера. Отец записал: «Знаменательный день для нашего семейства. Первый дебют Мити и Кости. Лично я не берусь судить, но, по отзываем всей труппы, можно ждать от мальчиков своевременный толк. Номер прошел с ошибками, но за скоростью трюков это было почти незаметно. Оба очень нервничали и потому скоро лишились воздуха, особенно Костя».
Сначала мы участвовали только в дневных представлениях, потом нас поставили и на вечернюю афишу. Так незаметно мы стали втягиваться в цирковую работу.
В Ташкенте отец пригласил к нам репетитора-студента. Студент занимался с нами грамотой. Побывали мы с отцом не раз, и в старом городе. Это был своеобразный, не тронутый европейской культурой город. Богат пестротою расцветки был базар. Текучесть быстрой речи, узость улиц, блеск на солнце шитых золотом тюбетеек и вышитых серебром халатов создавали сказочное впечатление, несмотря на то, что грязь всюду была непролазная. Удивляли нас тамошний быт и обычаи. Идешь по базару и видишь: сидит узбек, торгует, а время полдень — пора обедать. Узбек снимает с себя платок, которым подпоясан халат, вешает его на веревочку перед дверью в свою лавочку, снимает халат, складывает его, снимает второй платок, закрывает им товар, а сверху на платок кладет свою тюбетейку. Лавочка закрыта, — торговец идет в чайхане покурить трубку или пообедать, или выпить кок-чай с особым запахом. В жаркие дни особенно много поедали они местного мороженого — снега, политого медом.
Любопытны были нищие с птицами. Держишь в руках монетку, маленькая птичка подлетит, вынет у тебя из пальцев мотету и отнесет ее нищему, затем сейчас же летит обратно за другой монетой.
Так птица собирает для своего хозяина милостыню.
Интересна была стража в старом городе. На стражниках-умзбеках мундиры времен Скобелева, одеты они неряшливо, часто босы. На спине ружья времен чуть ли не екатерининских. Стража эта составляла, войско эмира бухарского.
14 марта пришло письмо с известием о смерти бабки, матери отца. Отец очень любил мать. В записной книжке он отмечает: «Несчастный день в моей жизни. Получил письмо с траурным извещением о кончине 28 февраля дорогой, незабвенной нашей старушки-матери. Редко, когда так грустно проводил антре, как сегодня. Из всех стараний замаскировать свое грустное настроение ничего не вышло. Прямо всю душу выматывает. Какое тут антре в голову полезет».
В Ташкенте же произошло и радостное событие в жизни отца: он встретил своего учителя и друга Макса Высокинского. Из рассказов Макса мы узнали, что за время их разлуки он пережил многое. Пробовал держать свой цирк и кончил тем, что скопил денег и открыл, как тогда говорили, синематограф. С этим синематографом он разъезжал по Закаспийскому краю. Макс часто приходил к нам в гости и произвел на меня чарующее впечатление.
Никогда не забуду, как взволнован он был, когда первый раз попал к нам в цирк. Мы сидели с ним в ложе, он дрожал, следя за программой, а когда вышли на арену отец и Бернардо, на его глазах были слезы. В антракте он. пошел к отцу в уборную, хвалил его, расцеловал и заплакал: «Ай да Сережа! Куда уж мне. Вот здорово!»
Говорил, что такого состава труппы он не видел, да и не мечтал, чтобы цирк мог так пойти вперед. Искренности его мы могли поверить, так как был он человек прямой. Большинство артистов труппы попрежнему было от Чинизелли. Несмотря на это, цирк был наполовину пуст. Макс объявил, что сейчас время неудачное, что если бы такая труппа работала в Ташкенте в августе и сентябре, то все представления шли бы с аншлагом. Он по собственному опыту знал, что, после пасхи надо два месяца отдыхать и никуда с кино не ездить, так как сборов все равно не будет. Сам он работал в Ташкенте каждый год только три первых пасхальных дня. В эти дни он давал до пятнадцати сеансов по сорок пять минут каждый с перерывами в пятнадцать минут.
Макс советовал непременно построить цирк на ярмарке. Это была большая ярмарка края, продолжалась она всего три дня. На ней, обычно работало штук десять балаганов и три-четыре цирка. Макс говорил, что, построив цирк на ярмарке, надо давать сеансовые представления.
Соболевский его не послушал, и сам потом горько жалел об этом, когда увидел колоссальность ярмарки и успешность работы на ней балаганов и цирков.
Ярмарка действительно была грандиозная. Площадь ярмарки, находившуюся за городом, нельзя было окинуть взглядом. Казалось, ей нет конца. Повсюду стояли груженые товарами арбы, запряженные мелкими туркестанскими лошадьми, ослами, верблюдами. Скот стоял целыми гуртами. Хлопок, ковры, материи, фрукты — все шло вперемежку. Ковры расстилались прямо на земле; по ним проходили лошади и люди. Это делалось для того, чтобы сбить с ковров лишний ворс. Уверяли, что тогда ковры ценятся дороже.
Рядами шли на ярмарке чай-хане, увешанные клетками с перепелками. Здесь можно было увидеть бои перепелок. Хозяин одной перепелки предлагал другому хозяину побиться с его перепелочкой. Хозяева вытаскивали птиц из рукавов, и начинался перепелиный бой.
Эта ярмарка ничем не напоминала Нижегородскую. Всего много, все навалено на земле, желтеет тыквенная посуда, рябит в глазах от пестрых халатов. Яркость тканей, ковров, струящийся говор, сверкание золотого и серебряного шитья создавали незабываемую красочную картину.
Макс оказался прав, на ярмарке было несколько посредственных русских балаганов и работало три цирка. Цирки давали до десяти представлений в день, каждый раз они бывали переполнены публикой, приехавшей на ярмарку. Большим успехом пользовался цирк Фарруха. Цирки Юпатова и Винокурова были менее интересны. При цирке Фарруха был зверинец, очень неважный по подбору зверей, но в программах стояло: «Гастроли Альпера и Пашеты Фаррух». Гастролерами были сын Фарруха и его ученица. Они входили в клетку одновременно и заставляли лъвов проделывать разные номера и строиться группами.
В других цирках программа состояла из довольно слабых номеров. Материально же они работали удачно, и артисты их подсмеивались над нами, когда встречали нас иа ярмарке.
Во всех трех цирках были женские хоры. Хор состоял из двадцати — двадцати пяти женщин неопределенных профессий и двух-трех солисток. Солистки занимались с хором. После окончания своего номера хористки выходили на раус и заманивали публику разговорами и кокетством. Потом из хористок выбирался хор для эмира бухарского, — конечно, выбирали тех, кто был покрасивее.
Узбеки охотно шли в цирк, брали билеты на три-четыре представления подряд. Посещали цирк и местные женщины. Приходили они под покрывалами. За все время моего пребывания и Ташкенте я не видел тамошней женщины с открытым лицом.
На ярмарочной площади выступали канатоходцы. Между высокими шестами протянуты были канаты, и артисты ходили прямо над головами публики. После номера собирали деньги в поднос или тюбетейку.
Ярмарка жила оживленною жизнью, а в городе чувствовалась прежняя спячка. Из особенностей старого города надо отметить еще работу парикмахерских. Местный парикмахер в течение получаса втирал в лицо и голову посетителя мыло, предварительно растирая его на ладони с какой-то глиной. Во время работы парикмахер непрерывно пел песни, возбуждающие смех окружающих. Как мы потом узнали, песни эти были нецензурного содержания. Заработок парикмахера и посещаемость его парикмахерской зависели от его уменья остроумно преподносить эти песни своим посетителям. Когда корни волос от втирания делались мягкими, парикмахер брал полукруглый нож и быстро начинал брить им. С одного раза он так чисто и ловко обривал, что получался голый череп. Отец утверждал, что его нигде не брили так хорошо, и все наши артисты ездили бриться в старый город.
Через месяц по окончании ярмарки артистов цирка обычно приглашали к эмиру бухарскому. Ехали директора Юпатов или Фаррух. Везли они женские номера и обязательно женский хор. Возвращались они оттуда с деньгами, подарками, богатыми халатами. По их рассказам, там происходило много мерзкого. Эмир приглашал к себе женщин без мужчин. Происходило у него так называемое «чаепитие». Тем, кто не соглашался итти к нему, подавали арбу. Арба означала приказание уехать из Бухары, причем уезжавшего везли не по дорогам, а умышленно по неровному месту, чтобы вытрясти из него дорогой всю душу. Артисты, не желавшие брать с собою к эмиру бухарскому своих жен, выходили из положения, привозя к нему под видом жен женщин вольного поведения. Женщины возвращались с деньгами и подарками, а мнимого мужа награждали халатами, орденами и звездой эмира бухарского.
У эмира были два придворных артиста-любимца: клоуны Тимченко и Фердинандо. Они говорили по-узбекски. Репертуар их был скабрезный. Эмир, по рассказам, особенно полюбил их после случая с самоваром. Передаю его так, как слышал от наших артистов.
По традиции в бухарском цирке в первом ряду сидели министры и ближайшие советники эмира. Эмир сидел в специально для него устроенной ложе. Обычно бывало так: что нравилось эмиру, то принималось и его двором. Смеялся эмир — смеялись и министры. На одном из представлений клоуны жонглировали кипящим самоваром, поставленным на палку с площадкой. Самовар был прикреплен к площадке крючками. Был в номере такой трюк: клоун, будто споткнувшись, валился с самоваров на публику, та в ужасе шарахалась от него. Самовар же оставался стоять на подставке, так как крепко держался на крючках. В тот вечер самовар был плохо закреплен на крючки, кипящий самовар упал прямо в ряды министров. Эмир, видя переполох среди своих приближенных, заливался смехом. Должны были, смеяться и министры, несмотря на то, что многие из них получили ожоги. Спасли их халаты, которых на каждом было по несколько штук, и головные уборы. Те же, которым кипятком обварило лицо и руки, корчились от боли, в то время как их владыка смеялся до слез.
Ярмарка в Ташкенте кончилась. Сборы в цирке стали хуже. Соболевский решил попытать счастья и сыграть в старом городе. Здесь цирк вмещал до десяти тысяч народу. Был он из земли, ряды поднимались амфитеатром, крыши не было. В цирке разносили чай, еду, курения. За вход взималась ничтожная плата, но после каждого номера артисты обходили публику с подносом и собирали деньги. Над входом в цирк на возвышении стояли два музыканта с длиннейшими трубами и зазывали публику. Звук у труб был необычайно громкий, и слышали его самые отдаленные кварталы.
Цирк, работавший под открытым небом без крыши, назывался «Орей-плац». Труппу решили на это представление выпустить смешанную. В первом отделении выступали узбекские канатоходцы и акробаты. Канатоходцы были чрезвычайно ловкие и поражали наших артистов своим мастерством. Акробаты же не шли дальше примитивной акробатики. В первом отделении был танец бачей. Вышло шесть накрашенных мальчиков в женских одеждах и под звуки узбекского оркестра начали медлительно двигаться по арене, чуть покачивая бедрами и передергивая плечами. Музыка постепенно убыстряла темп, переходя в буквально бешеный, и, когда танец достигал высшего напряжения, музыка опять становилась более медленной.
Представление было дневное, шло на солнцепеке. Наибольший успех выпал на долю бачей. Зрители прищелкивали языками, хлопали в ладоши и щедро бросали на поднос деньги.
По договору с узбекской труппой, Соболевский получил семьдесят процентов сбора, а узбекская труппа — тридцать.
Из программы нашего цирка даны были конные номера и номера партерного характера.
Вот запись отца по поводу этого представления: «Чудно-редкостное зрелище представляет из себя Орей-плац с тысячной толпой на крышах. Ввиду благоприятного результата завтра хотят попробовать сыграть еще раз».
На следующий день сильный дождь помешал представлению, и оно не состоялось.
В Ташкенте полицмейстер не разрешил отцу поставить на афишу: «Бернардо у экспроприаторов». Он потребовал, чтобы слово «экспроприатор» было заменено словом «разбойник».
Из записи отца видно также, что в городском саду в Ташкенте происходил благотворительный базар, на который полиция ухитрилась продать в одном только старом городе двадцать тысяч билетов.
12 мая цирк Соболевского закончил гастроли в Ташкенте и перекочевал в Самарканд. Поезд, в котором мы ехали, два раза по дороге останавливался, — через железнодорожное полотно сплошной массой ползли черепахи. Из окна вагона казалось, что все поле ожило и куда-то двинулось. Черепахи призводили впечатление оживших камней.
Самарканд выглядел гораздо красивее и живописнее Ташкента. Весъ город в тополях, много и другой зелени. Город изрезан арыками, и некоторые улицы так узки, что по ним ходишь, как по коридору.
Старый город расположен далеко от нового. В старом городе башня и могила Тамерлана. Оба здания покрыты мозаикой. Нам рассказывали, что с башни бросали заложников. Перед храмом много юродивых, которые производили жуткое впечатление.
Публика, которая посещала цирк, говорила, что такого цирка в Самарканде еще не было. Несмотря на это, сборы были слабые.
Артистам приходилось плохо, так как Соболевский выплачивал жалованье частями. Отцу же он был должен уже около восьмисот рублей. Отец решил бросить работу у Соболевского и как-нибудь пробиться до сентября. С сентября же у него был подписан договор в цирк Труцци, который должен был работать в Москве в цирке Саламонского. Сам Саламонский хворал, цирка не держал, а сдавал его за проценты другим крупным циркам.
Отец пробовал из Ташкента писать в ряд цирков, чтобы устроиться на работу до сентября, но никто не хотел ангажировать артистов на такой короткий срок. Тогда он решил отослать мать и сестру в Москву, и ехать с Бернардо, его сыном и нами двумя искать счастья. У нас было три готовых номера: мог выступать Бернардо с сыном акробатом, я с Костей и отец с Бернардо (антре).
Заявление отца об уходе из цирка произвело на труппу тяжелое впечатление. Отец получил от Соболевского векселей на восемьсот рублей, и с этим мы уехали. Такую «валюту» многие из артистов получали на прощание от директоров цирков.
Итак, впятером мы сели в поезд и направились в Красноводск. Мать с сестрами должна была через несколько дней выехать в Москву.
Переезд наш был очень тяжелый, так как жара достигала сорока восьми градусов. Воду доставали с трудом, да и то теплую. По дороге у меня украли башмаки. Приехали мы в Красноводск в десять часов утра. Все магазины были заперты. Купить башмаки было негде, а в одиннадцать часов уходил пароход, и мне пришлось босому итти через весь город по раскаленному асфальту. Мы все-таки успели попасть на пароход «Куропаткин», и на нем поехали в Баку. В Баку нам не повезло: за работу нас пятерых в вечер, то есть за три номера, нам предложили в одном летнем саду десять рублей, квартиру и стол. Отец на это не согласился, и мы в тот же день в семь часов вечера сели на пароход «Сивач» и уехали в Астрахань через Петровск. Во время перехода Баку-Петровск нас очень качало. Пароход наш тащил за собою баржу «Кубань», и вместо одиннадцати часов ночи мы отошли от Петровска только на другой день в час дня. На этот раз мы ехали так спокойно, словно это было не море, а Волга. Но из-за «Кубани», ее погрузки и выгрузки, мы потеряли двое суток и приехали в Астрахань в два часа дня.
В Астрахани мы сейчас же отправились в цирк Никитиных. Там нашли знакомых, и отцу удалось получить ангажемент от Никитиных с 20 июля по 20 августа на Нижегородскую ярмарку.
Пока же, до 20 июля, наша маленькая труппа оказалась безработной. Отец решил попытать счастья в Саратове. На пароходе «Боярышня» мы отчалили от астраханской пристани. В Царицыне мы во время стоянки сошли с парохода и увидели афишу летнего сада «Конкордия». Отец нанял извозчика, и мы поехали с ним в «Конкордию». Программа оказалась очень слабой. С отцом покончили с двух слов, дав ему двести пятьдесят рублей, обед и ужин за две недели наших выступлений. Обратно мы гнали извозчика изо всех сил, чтобы успеть собрать вещи и получить багаж, сданный до Саратова. Отцу едва удалось упросить капитана задержать отбытие парохода, пока из трюма доставали наши чемоданы.
Работать мы начали на другой же день. Первый дебют прошел успешно. Тяжело было только то, что номер отца и Бернардо дали последним, в два часа ночи, и нам было очень утомительно ждать их.
В саду было очень мало народу. Как это ни странно, но публику разогнали комары: они буквально стояли стеной и так кусали, что многих доводили до слез, а некоторые артисты уходили со сцены, не докончив номера.
В крытом помещении сада играла драматическая труппа, и мы после нашего номера бежали в театр смотреть игру артистов. Труппа была хорошая, в ней были такие артисты, как Нароков и Нелидов-Касторский[34].
Гастроли наши в саду «Конкордия» окончились. Отец решил дождаться проезда из Астрахани парохода, заарендованного для цирка Никитиным, чтобы вместе с остальной никитинской труппой добраться до Нижнего.
15 июля пришел пароход «Ксения». Нам сейчас же отвели каюту, и мы хорошо устроились.
Любопытна запись отца, сделанная после дневного пребывания на пароходе: «Пьяно-разгульный дух в труппе все тот же, что и был десять-пятнадцать лет назад. Две язвы никак не могут искорениться в этом цирке: водка и карты». Отец тоже начал пить, сел играть в карты и на другой день записывает: «едва мог выговорить «мама». «Дети очень хорошо сделали, что выманили у меня все деньги».
Семь дней мы ехали на пароходе от Царицына до Нижнего.
За это время приходилось наблюдать и веселье одних, и слезы и огорчения других. Игра в карты и лото шла с большим азартом, и, когда мы подъезжали к Нижнему, многие были очень грустно настроены.
Отец пишет по этому поводу: «Гоп-компания начинает понемногу приходить в себя — серьезные лица. Пустые карманы, видно, сделали свое дело. Большинство ходит с опущенным носом, что часто бывает после большого веселья. Бедняга Кульпа (артист), проигрался до гроша, ходит, как в воду, опущенный».
Первое представление цирка на Нижегородской ярмарке состоялось 20 июля. На самой ярмарке все было по-старому, — впечатление такое, словно мы только вчера были на ней. Жили мы в номерах при цирке, сами готовили себе обед. Работали только отец и Бернардо. Акробатические номера в программу не входили. Мы, мальчики, были таким образом совершенно свободны.
Труппа цирка, как всегда, составилась большая, было много гастролеров, ангажированных специально для ярмарки. Из наполнителей постоянной труппы надо отметить сына Акима Александровича Никитина, Николая, считавшегося в те годы одним из лучших жонглеров на лошади. У него потом появилось много подражателей, но все они были гораздо слабее его.
Выступала группа артистов с номером «Полет Дехардс». Был номер велосипедиста Краева, который проделывал на велосипеде очень трудные фигуры. В конце работы он делал сложный трюк. Стоя на педалях велосипеда, он швунгом поднимался вместе с велосипедом по восьмиаршинной лестнице и, взобравшись наверх, летел оттуда вниз на пружинный матрац, оставаясь на велосипеде.
Наиболее сильное впечатление на публику и на артистов производила артистка Ван-дер-Вальд. Номер ее состоял в следующем:
На манеже устраивался квадратный бассейн в три аршина, глубиною в два аршина. Бассейн наливался водой. Артистка забиралась под самый купол и становилась там на мостик. Поверх воды в бассейн наливался бензин. Бензин поджигали и артистка с высоты купола цирка бросалась в горящий бассейн. От ее падения всплески воды тушили огонь, артистка выходила из бассейна невредимой. Номер был жуткий. Артисты всегда волновались за Ван-дер-Вальд, в особенности, когда она для эффекта долго не показывалась из-под воды. Публика замирала от напряженного ожидания, и появление артистки вызывало гром аплодисментов. Несмотря на большую уверенность в своей работе, артистка перед номером каждый раз выпивала полбутылки коньяку.
Надо отметить еще клоуна Бабушкина. Работал он под Дурова, выходил на манеж с животными, наряженный в шутовской костюм. Крупных животных у него не было. Наиболее интересным его номером были собаки сен-бернары, проводившие санитарную службу. Бабушкину сразу не повезло. Отец пишет: «Администрация в лице полиции и дирекции цирка запретила Бабушкину под страхом высылки из города говорить что бы то ни было».
В тот год в России была холера. Она сильно свирепствовала и в Нижнем. Отец принимал все меры, чтобы мы не ели сырых овощей и фруктов. За цирком ввиду все развивающейся эпидемии стали строить холерные бараки. Отца и нескольких наших артистов в гостинице прозвали «холерники» за то, что они отпечатали (по инициативе отца) воззвание об осторожности в еде, расклеили его по всей гостинице и роздали во все номера. Всех, кто приходил с базара, особые дежурные заставляли фрукты и овощи обваривать кипятком.
В гостинице ночью после спектакля начиналась игра в карты. Играли до утра. Некоторые выносили столы из номеров, чтобы не мешать семье спать, и располагались со столами в коридоре. Потом спали весь день до самого представления.
У отца тоже не обошлось дело без столкновения с полицией. 9 августа он записывает: «Очень удачно в первый раз употребил каламбур относительно мукденского отступления[35]. Публика не сразу поняла его, но после нескольких мгновений раздался гром аплодисментов». 10 августа вторая запись: «Мукденский реприз мне, кажется, дорого обойдется. Сегодня полицмейстер доложит губернатору, и очень просто упекут на недельку под Главный дом». «Говорил с приставом относительно наложения на меня штрафа за Мукден. Оказывается, полицмейстер доклада губернатору не делал, а велел Никитину меня снять на три дня с программы. Как бы то ни было, но решил больше ни гуту на злободневные темы, а то вместо открытия в Москве как раз попадешь в тюрьму. Веселая перспектива!»
5 августа отец записывает, что все зрелища на ярмарочной территории запрещены, за исключением оперы, да и то потому, что там идет «Жизнь за царя».
Очевидно, полиция считала, что во время этого оперного спектакля скопление публики не опасна и под «Жизнь за царя» никто заразиться холерой не может.
Мы с Костей, пока цирк работал, были включены в программу утренников. С Костей перед самым отъездом из Нижнего случилась беда. Играя с другими детыми, он забрался на одиннадцатиаршинную башню, выстроенную для водяной пантомимы, и сорвался оттуда. К счастью, он зацепился за пожарную лестницу, это замедлило его падение, так как звенья лестницы задерживали его. Не будь этого, он разбился бы насмерть. Он пролежал несколько часов без сознания и всю ночь бредил. Мы с отцом не отходили от него.
21 августа работа в цирке Никитиных была закончена, и мы уехали в Москву. В Москве матери удалось устроиться очень хорошо, она наняла большую, светлую комнату на Трубной улице в номерах «Белосток». При комнате были две маленькие темные спальни и отдельная кухонька. Мы навезли матери и сестрам подарков, они же напекли нам пирогов и всяких сладостей, и у нас был пир горой.
Вечером я пошел с отцом в цирк. Там я присутствовал при встрече отца с Рудолыфо Труцци и совсем уже больным Саламонским. Отец говорил с Труцци по-итаяьянски, а с Саламонским по-немецки.
Цирк мне очень понравился. Труцци его отремонтировали заново. Места обили бархатом, повсюду сверкала позолота. В цирке было уютно. Не то было в уборных для артистов. Казарменного типа, со стенами наполовину из листового железа они производили неприятное впечатление. Для клоунов отвели отдельную уборную.
Собственно, с этого московского периода начинаются мои непосредственные, более сознательные наблюдения над работой в цирке. Уже о многом я могу судить не по рассказам, а по собственным впечатлениям, и этот период я выделяю в особую главу.
ГЛАВА XII
Состав труппы Труцци в Москве, Цирк Труцци — «академия циркового искусства». Конные номера. Богатые костюмы и реквизит. Клоуны Лепом и Эйжен. Реприза об обвале потолка в Государственной думе. Охранник Марков. Письма из других цирков. Дрессированные собаки – акробаты артиста Филис. Пантомима «Пан Твардовский». Чтение газет в клоунской уборной. Пантомима «Шерлок Холмс». Бернардо — Шерлок Холмс. Гонорары борцов. «Прыжок смерти». Гадбина. Агенты по устройству ангажементов. Мадам Рассохина. Смерть артиста Дехардса. Пантомима «Пираты». Чемпионат Петра Крылова. Старая Русса. Цирк Изако. Самостоятельная работа. Акробаты брат и сестра Альперовы. Режисер Фишер и балетмейстерша Термина Зак. Неудачное выступление в роли рыжего. Работа с клоуном Анджелло Чинизелли. Письмо отца по поводу работы. Болезнь. «Шерлок Холмс» в старой Руссе. Рыбная ловля. «Подарки».
Труппа Труцци в Москве в сезон 1908/9 года была очень большая. Было много заграничных номеров высокой квалификации. Выступали знаменитые акробаты Инас, турнисты Деметреско и Попеско, семья наездников Леонс и молодой Кук. Из клоунов: Лепом и Эйжен, Вилли Кремзер и Принц Бонжорно, музыкальные клоуны Травелли, Алеке и Коко.
В то время цирк Рудольфо Труцци считался среди артистов «академией циркового искусства», а Рудольфо за его ум и коммерческие способности называли Бисмарком. Второго так организованного и поставленного цирка не было, недаром артисты говорили: «Кто год прослужит у Рудольфа Труцци, может потом служить в любом цирке мира, страшно не будет».
Порядок и дисциплина в цирке были образцовые. Все артисты обязаны были участвовать в пантомимах. Если артист не умел мимировать, с ним занимался балетмейстер Прозерпи или сам Рудольфо. Еженедельно кто-нибудь гастролировал, обычно гастролера выпускали в субботу. 3а сезон перебывало множество гастролеров. Наряду с этим шли крупные постановки.
Режиссером был Прозерпи. Несмотря на это, каждый вечер Рудольфо сам стоял в униформе или в переднем проходе и вел программу по часам, соблюдая темп спектакля. Перед выходом он осматривал артистов, не выпуская их, если они не загримированы, не побриты или не попудрены. Униформу цирковой парикмахер должен был стричь и брить бесплатно. У униформы была особая обувь. В униформе стояли артисты и берейторы. Было несколько униформистов не артистов для грязной и тяжелой работы. Берейторов было десять человек, они получали приличное жалованье. Их обязанность была — утром помогать дрессировке лошадей, участвовать, если нужно, в лошадиных маневрах и стоять вечером в униформе.
Конюшня была большая, в сто лошадей. С семи часов утра и до часу дня шли конные репетиции. С семи до девяти конюхи прогоняли всех лошадей. С девяти до десяти берейторы проводили черновую подготовку. В десять приходил дрессировщик и занимался с лошадьми до прихода Труцци. Рудольфо появлялся всегда ровно в одиннадцать. С вечера Рудольфо давал распоряжения на следующий день и, приходя, всегда проверял работу берейторов или дрессировщика. Если лошадь плохо шла, он занимался с нею сам, указывая на то, что с ней, очевидно, плохо занимались, и непременно каждый раз проходил на репетиции всю вечернюю работу. До начала общей первой репетиции оставалось самое большее минут пятнадцать. В эти минуты на манеж выбегали дети и тренировались в прыжках. Рудольфо был суровый человек, но детей очень любил. Часто, замечая, что дети ждут конца конной репетиции, он прекращал ее, шел в места, закуривал сигару и смотрел на тренировку детей. Иногда доставал рубль и вручал тому, кто лучше проделал свое упражнение.
Программу Рудольфо составлял всегда сам, рассчитывал ее по часам и давал артистам указания, сколько должен был итти каждый из номеров. Артист обязан был точно соблюдать отведенное ему время. Характерна запись отца: «Сегодня вместо назначенных пятнадцати минут, мы антре сделали в десять минут. Рудольфо поставил нам это на вид. Итальянская аккуратность».
На этой почве произошел у Рудольфе инцидент с турнистами Дмитреско и Попеско. Их номер стоял первым во втором отделении. Рудольфо, видя, что спектакль затянулся, сделал антракт только в пять минут. Они не сумели в такой короткий срок установить свой аппарат и вступили с Рудольфо в пререкания. На другой день он поставил их первым номером программы и ставил так до конца контракта.
Каждый день назначались общие репетиции. Опаздывать разрешалось на пять минут, не больше. Иногда на репетициях нечего было делать, и все же режиссер давал звонок для сбора артистов, говорил: «мальцейт», и все расходились. Не притти на репетицию, раз была вывешена авиза (объявление), было невозможно.
Несколько раз опрашивали Труцци, зачем он собирает артистов, раз репетировать нечего. Он отвечал, что делает это для поддержания порядка. Рудольфо аккуратнейшим образом выплачивал артистам жалованье, но доставалось оно им нелегко. О картах в цирке и помину не было. Пьянство было редким явлением.
Характерна запись отца: «Крупный инцидент в цирке: Рудольфо накрыл в парикмахерской уборной Эсьена капельмейстера распивающего водку».
Из лошадиных номеров Труцци часто давал маневры разных эпох. Был очень примечательней номер с гирляндами. Выезжало восемь всадников; все они держали гирлянды так, что один конец был у одного всадника, а другой у следующего за ним. Получалась подкова из цветов. Всадники проделывали разные номера вольтижировки и управляли лошадью, не выпуская гирлянд из рук. Номер этот был очень трудный и исполнялся лучшими наездниками.
У Труцци имелось много номеров, которые разнообразили программу и ничего ему не стоили. Номера эти были сделаны основательно, без всякой спешки. В костюмерной цирка стояло больше ста сундуков с директорскими костюмами, таких больших сундуков, что перетаскивали их четыре человека. В костюмерной работали портной и портниха с шестью помощниками. На сундуках сверху делалась опись содержимого. За всем имуществом цирка следила жена Рудольфо, Мариетта. Когда постановка оканчивалась, костюмы проветривались, чистились, гладились и перекладывались папиросной бумагой. Потому-то они служили много лет. За упаковкой сундуков тоже всегда следила сама Мариетта, никому не доверяя этого дела.
В цирке работали два шорника. В складе при конюшне лежало множество сбруй.
Цирк Рудольфо Труцци был, в сущности, по своим достоинствам первым в России. Артист, прослуживший в труппе Рудольфо год, становился законченным артистом.
Из группы клоунов надо отметить Лепома и Эйжена[36]. Эйжен начал свою карьеру акробатом. Сломав ногу, он переменил амплуа и стал рыжим. Он очень рано начал толстеть, это был первый толстый рыжий. Несмотря на полноту, он был очень ловок. Он обладал прекрасным голосом и хорошо пел. Интонации его, ломаная немецко-русская речь так к нему шли, что только он откроет рот, в публике сразу начинается смех. Он был редкостным мимистом. Все вместе делало его фигуру незабываемой. Лепом тоже был хороший мимист, но у него был природный недостаток: «каша во рту» и гортанный звук голоса. Это не мешало им вдвоем быть безукоризненным клоунским дуэтом и создавало каждому из них неповторимое своеобразие. Когда они впоследствии разошлись, то потеряли многое оба.
Отец пробовал и в Москве вставлять в антре злободневные темы. Когда в Государственной думе обвалился потолок, отец вечером на представлении задал партнеру загадку: «Кто это: когда не нужно стоял, а когда нужно упал? Не знаете? Так я скажу: потолок в Государственной думе». Загадка вызвала восторг публики.
После этой невинной загадки последовало приглашение отца и Бернардо в охранное отделение к поручику Маркову. 10 сентября отец записывает: «Проклятая черная сотня, из-за нее столько тарарама. Мы ходили в охранное, где нам любезно объявили, что при повторении имени кого-либо из правых партий нас без объяснений в ту же ночь вышлют из Москвы.
Рудольфу градоначальник обещал закрыть цирк без права приезда в столицы. Вечером перед антре местный пристав еще раз прибежал в уборную напомнить Рудольфо, и нам чуть ли не десятый раз одно и то же твердит. Словно официального заявления поручика Маркова было мало».
Работая у Труцци, отец не терял из виду своих товарищей-ар
тистов в других цирках и переписывался с ними. Из письма наездника-жонглера Николая Никитина, ангажированного на зимний
сезон к Чинизелли, мы узнали, что предполагавшееся открытие
цирка Чинизелли 15 сентября не состоялось, так как многие иностранные артисты не приехали в Россию из-за холеры. Открытие состоялось только через двадцать пять дней, и Чинизелли артистам, приехавшим к сроку, ничего не заплатил. Это сделал богач, получивший в сезон до ста тысяч прибыли. Его поступок горячо обсуждался артистами. Из других цирков приходили известия, что многие директора стали говорить: «раз Чинизелли
не платит, то нам-то и сам бог велел».
Приблизительно в это же время приехал артист Александр Момино, попавший к Труцци после работы у Петра Никитина в Казани. Отец под впечатлением его рассказов записал следующее: «Шура Момино рассказывал в уборной при всех отвратительные вещи про игру в карты в цирке вообще и про Петра Никитина. На хлеб ни копейки, на карты хоть за месяц вперед».
Если сопоставить то, что я только что писал о Рудольфо Труцци, с тем, что рассказывали и писали о двух других крупнейших русских цирках, то, конечно, все симпатии должны быть на стороне цирка Труцци.
В середине сезона был дебют артистов Филис, выступавших с дрессированными собаками. Собаки подражали акробатам. Хозяин их становился на руки, и собаки становились на передние лапы. Он становился на бутылки, и тотчас же собака становилась на бутылки. Акробат делал кульбит, и собака, копируя его, повторяла все его движения. Под конец оба, и дрессировщик и фокстерьер, делали сальтомортале под шумные рукоплескания.
Балетмейстер Прюзерпи начал репетировать пантомиму «Дуэль после бала». Репетиции шли с часу до четырех или пяти часов вечера. Понтомима дана была в богатой постановке. Но долго она в программе не удержалась, ее сменил балет «Бахус».
Дебют артистки «дамы-стрелка Винчестер» прошел очень успешно. Артистка стреляла необыкновенно метко. Во время своего дебюта, пользуясь отсутствием на арене Рудольфо, она позвала униформиста, положила ему на голову яблоко и, отойдя от него на всю ширину арены, выстрелила из ружья прямо в середину яблока. Когда Труцци узнал об этом, он строжайше запретил униформе принимать участие в таких номерах.
В скором времени пошла пантомима «Пан Твардовский»[37]. Пантомима эта была трудной для артистов. Приходилось раза по четыре переодеваться, а для этого надо было бегать наверх в уборные. Цирк был очень неприспособлен для постановок. С удобством артистов даже в благоустроенных цирках не считались. О них никто никогда не думал.
Приблизительно в это время отец ввел в обычай читку газеты в клоунской уборной. Читка происходила вечером или в антракте или в свободное от работы время. Рудольфо часто стал заходить в уборную клоунов и подолгу засиживался там. По поводу газетных статей и сообщений поднимались горячие споры. Случалось, что спорящие опаздывали на звонки. Рудольфо смотрел на такие провинности сквозь пальцы.
На одной из таких бесед Труцци рассказал артистам, что думает поставить пантомиму «Шерлок Холмс». В это как раз время Москва была наводнена книжками о похождениях Шерлока Холмса. Можно было видеть у киосков даже взрослых людей, которые стояли и ждали нового выпуска похождений сыщика. Рудольфо взял для пантомимы эпизод пребывания Холмса у фальшивомонетчиков и очень удачно его аранжировал. Как оказалось потом, такая пантомима шла уже в цирке Энрико Труцци. Рудольфо ездил смотреть ее, но переработал и сделал все грандиознее.
Роль Шерлока Холмса играл почти без грима Бернардо. Он был на него очень похож: сухой, бритый, нос горбинкой, да и характером он несколько походил на Шерлока Холмса. Пантомима прошла блестяще. Любопытно отметить, что на другой день Рудольфо объявил отцу и Бернардо, что решил пока что не выпускать их в клоунских номерах. Вот запись об этом отца: «Рудольфо из-за Шерлока не ставит наше антре, боится, что появление Бернардо рыжим может испортить у публики впечатление о пантомиме, когда он появится в роли Шерлока Холмса. Ценная предосторожность».
Здесь интересен и самый факт и оценка этого факта отцом.
Пантомима в течение двадцати дней делала битовые сборы.
Сюжет ее был несложен, но авантюрно увлекателен. Мы, подростки, под влиянием этой пантомимы разыгрывали сцены, из «Шерлока Холмса».
Провинциальные директора цирков, прослышав, что пантомима делает битовые сборы, приезжали смотреть ее, чтобы поставить у себя, «Шерлок Холмс» вскоре пошел в Петербурге у Чинизелли. Приехал смотреть его и Аким Никитин.
В разговоре с отцом Никитин рассказал, что на лето берет для поездки по Волге чемпионат борьбы на жалованье, а не на проценты, как делал раньше. В связи с этим небезынтересна запись отца о тех условиях, на какие приглашались борцы: «Аким Никитин рассказывал про состав чемпионата французской борьбы, составленного им на лето для Волги. Поддубный — две тысячи пятьсот рублей в месяц, Збышко-Цыганевич — две тысячи рублей, Заикин — две тысячи рублей».
После пантомимы начались гастроли артиста Гадбина. Он исполнял номер «Смертельный прыжок», действовавший на нервы публике и потому имевший большой успех. Все приготовления и аппаратура создавали нервное напряжение. Выходил Гадбин на арену в черном трико с черепами. На веревке его подтягивали под купол цирка на площадку, на руки он надевал перчатки, похожие на боксерские, на голову — шлем. Из-под купола он прыгал на десятиаршинную изогнутую доску и по ней съезжал вниз. Когда изогнутая доска кончалась, он дальше совершал спуск по наклонной доске. В этом, в сущности состоял весь номер, но он его преподносил очень эффектно.
В эти годы в России под влиянием Запада развелось очень много агентов по устройству ангажементов. Брали агенты десять процентов и больше. Часто отхватывали львиную долю, особенно когда им удавалось устроить артистов цирка в варьетэ. Был ряд артистов, которые бросали работу в цирке и выступали только в варьетэ. Они и работали меньше, и получали больше. Многие артисты выдумывали себе иностранные фамилии, делали вид, что не умеют говорить по-русски, приезжали в зохолустные города и выступали как иностранные гастролеры. Другие давала широковещательную рекламу в журнальчик «Варьетэ», который существовал на объявления, попутно занимаясь агентурой, деря с артистов три шкуры. Сильно страдали артисты от агентов. Об этом говорит запись отца: «Приехал жонглер Пащенко и рассказывает про пресловутую мадам Рассохину, которая сбила его с места каким-то несуществующим предложением в манеж. А оказалось, что директор Левицкий с ней и дел не желает никаких иметь. Бедняга Пащенко потерял постоянное место у Никитиных, истратился на дорогу — сто рублей — и тетерь не знает, что делать. Вот так агентство Рассохиной!»
Из Тифлиса в это время пришла телеграмма о смерти артиста Никитинского цирка Дехардса, а через несколько дней письмо с описанием обстоятельств его смерти. Дехардс влез на трапецию и даже еще не начинал работать как следует. Сбор был очень маленький, публики было мало. Он стал валять дурака, изображая пьяного, шутил с сидящими на местах артистами, повалился назад и упал в сетку. Все смеялись. Но он продолжал лежать. Кто-то из униформы влез в сетку. Когда его вынули, оказалось, что у него сломан позвоночник. Через час Дехардс скончался. Смерть его произвела впечатление чего-то нелепо-дикого.
Последней новинкой сезона была постановка пантомимы «Пираты». Красочно был сделан большой корабль.
На второй неделе поста открылся чемпионат французской борьбы с редкостным составом. Чемпионат держал Петр Крылов. В чемпионате Ван-Риль-Корич, Микул, Оскар Шнайдер. Начали они с маленьких оборов и так сумели разжечь страсти публики, что следующие спектакли шли сплошь с аншлагом. Я никогда до того времени не видел, чтобы публика так бесновалась. Купчихи буквально сходили с ума. Они закидывали борцов цветами.
Кумирами были Ван-Риль и Микул. Публика съезжалась к десяти часам вечера только на борьбу. Весь Цветной бульвар бывал запружен собственными выездами. По окончании борьбы вереница дам с цветами ожидала борцов. Парад состоял из двадцати пяти — тридцати человек, и все имели поклонниц. Даже четырнадцатипудовая туша Томас Пик Блан уходил в сопровождении дам.
Это сумасшествие длилось около трех месяцев при битковых сборах.
С открытия чемпионата труппу разделили на две части. До начала борьбы давалось только восемь номеров. Артисты, выступавшие в этих восьми номерах, были оставлены в Москве с остальной труппой Рудольфо Труцци уехал в поездку по провинции. Оставлен был московский цирк на попечение управляющего Труцци — Александра Кремзера, человека примечательного. Был он прежде всего редкий умница. Ни один инженер не мог так все предусмотреть при постройке деревянного цирка, как Кремзер. Был он безграмотен, не умел даже читать, скрывал это и всегда просил кого-нибудь прочесть, ссылаясь на плохое зрение. Подписывался он с трудом, чаще всего прикладывал печатку со своею подписью, но говорил по-французски, немецки и итальянски.
У отца в сентябре кончался контракт с Труцци. Он решил подготовить меня к себе в партнеры, постепенно создавая нужный реквизит. С разделением труппы на две части я стал в униформу. Это меня очень радовало. Простоял я до закрытия сезона и получил первый самостоятельный заработок. Униформа мне дала много, я выходил к отцу в антре и привык разговаривать на манеже.
Четвертого мая состоялась раздача призов. При раздаче призов вышел скандал. Ван-Рилю было выдано из призовых денег девятьсот рублей. Когда за кулисами хозяин чемпионата Крылов попросил у Ван-Риля обратно деньги, то тот отказался их ему дать. Крылов ударил его; Ван-Риль выбежал на арену и обратился к публике на немецком языке. Арбитр хотел замять это дело, но кто-то из публики вышел на арену и перевел то, что кричал Ван-Риль. Публика заволновалась, на арену полетели, стулья, трости. Начался такой скандал, что вызвали наряд полиции. Ван-Риля окружили и вывели из цирка. Он утверждал, что Крылов его убьет, но так и не отдал Крылову девятисот рублей.
Семья наша стала обсуждать вопрос о дальнейшей работе. На семейном совете я внес предложение разделиться. Отец пусть поедет с Труцци, а я с Костей подпишем контракт в маленький цирк как акробаты и лето попробуем проработать самостоятельно. Я смогу еще выступать как клоун с репризами. Отцу мое предложение очень понравилось. Он списался с цирком Изако и получил от него предложение на нашу работу и на свою по окончании контракта у Труцци. Мать и сестры должны были ехать с нами в Старую Руссу, где находился цирк Изако. Решено было также, что для успеха нашего акробатического номера Костя должен надеть костюм девочки.
Костя сначала запротестовал, но потом согласился, и ему заказали костюм и парик.
Шестого мая семья наша разделилась. Отец уехал в Екатеринослав, мы в Старую Руссу. Из писем отца видно, что ему пришлось тяжело во время поездки с Труцци. Труппа была очень сокращена. Из клоунов оставались только отец и Бернардо. На них свалился весь пантомимный репертуар. Переезжал цирк из города в город, и везде Труцци давал большие пантомимы. Работы таким образом было очень много.
За лето отец отработал с Труцци в четырех городах: в Екатеринославе, Курске, Рыбинске и Ярославле. Из Ярославля он приехал к нам в Старую Руссу.
Старая Русса, маленький провинциальный городок, уже тогда была прекрасным по природным данным курортом. В городе был хороший парк с мощным, бьющим прямо из земли фонтаном. Фонтан производил такой шум, что его слышно было за полверсты. Шум этот мешал слушать спектакли в летнем театре. Городок был приятный, тяжелое впечатление производили только многочисленные больные.
Цирк расположился на базаре. Построен он был из струганого леса. Этого мне еще не доводилось видеть. Леса же в тех краях было очень много, и потому его почти ни во что не считали. Мы с матерью ходили смотреть, как сборщики собирали плоты. Они баграми сгоняли бревна и крепко связывали их; если бревно отрывалось, то, стоя на толстом бревне, балансируя багром, сборщик подплывал к отбившемуся бревну, как на лодке, брал его на буксир и плыл с ним к плотам. Проделывал он это так ловко, что издали казалось, будто он расхаживает по воде.
Труппа съехалась, и 14 мая 1909 года состоялось первое представление. Дебют наш прошел очень хорошо. Способствовало этому и то, что Костя одет был девочкой. Нас забросали конфетами и яблоками. Я так волновался и так устал, что не мог уснуть. Заснул только под утро после приема валерьянки и проспал до вечернего представления. Труппа на меня произвела хорошее впечатление. Она была небольшая, но довольно приличная. Товарищества было заметно больше, чем в цирке Труцци, артисты охотно общались друг с другом. Все цирковые дела вела Сайда Абрамовна Изако, жена молодого директора Франца Изако. Старика Изако не было, он уехал куда-то на гастроли. Артисты говорили, что это и лучше: тише и меньше скандалов. Не было и Франца, он тоже куда-то уехал, не то в Архангельск –готовить здание цирка, не то куда-то в другой город за артистами. Про него говорили, что он человек взбалмошный и легкомысленный. Бывало прервет репетицию, позовет всех в буфет пить лимонад и есть пирожные, наобещает такое, что потом Сайда Абрамовна и выполнить не может. В Старой Руссе он не выступал, и, как он работает, я не знал.
В цирке был опытный режиссер и постановщик пантомим Фишер. Работала балетмейстерша Термина Зак. Ставили маленькие пантомимы, чтобы разнообразить афишу. Сборы были средние. Через некоторое время я сшил себе костюм рыжего и попросил выпустить меня с репризой к наезднице. Фишер согласился. Я загримировался и вышел на манеж. Я столько раз видел, как выходили другие, знал все на-зубок, и все же у меня ничего не получилось. Любопытно, что то же происходило не раз не с такими четырнадцатилетними мальчиками, как я, а происходило на моих глазах со взрослыми людьми, когда они меняли амплуа и первый раз выходили в роли клоуна. Видя, что ничего не получается, такие артисты бросали свои попытки и больше не выступали. Я сознавал свой провал, понимал, что грим был неудачен (загримировался я под Эйжена) и все же решил просить Фишера выпустить меня еще раз. Фишер не согласился. Я стал уламывать его и, наконец, добился его согласия.
Я надел тот же костюм, но загримировался иначе. Почти не положил грима, чуть-чуть подкрасил нос, попудрился, накрасил губы. Выйдя в репризе, не комиковал, а говорил только два слова: «Можно попрыгать?» Реприза состояла из прыжков, и, как мне потом говорили артисты, это было не плохо. После этого Фишер ставил меня на программу каждый вечер. Я начал готовить трюк со свечами и подсвечниками и все, что мне приходилось видеть, из акробатических трюков. На мое счастье в цирк приехал Анджело Чинизелли — клоун, племянник петербургского Чинизелли. Он знал меня по Петербургу еще мальчиком. На другой день по приезде был назначен его дебют. Он попросил меня помочь ему в антре. Я с большой охотой согласился, и в день дебюта рано утром мы репетировали раз шесть антре «Опера». Вечером перед самым представлением он меня загримировал и хотел в уборной еще раз меня проверить. Я все забыл, хотя мудреного ничего не было, но я так волновался, что у меня зуб на зуб не попадал. Выручил меня Костя, он записал, что после чего идет, и сказал, что будет мне подсказывать. Потом я поражался сам, отчего я так волновался. В тот же вечер я отработал акробатический номер и был совершенно спокоен.
Но вот я вышел на первый трюк. Чинизелли разыгрывал знаменитого певца и, разговаривая со шталмейстером, размахивал палкой. У меня же на руке под рукавом пиджака подложена была дека на войлоке. Я выхожу смеясь, протягиваю руку, Чинизелли бьет меня по руке, раздается треск от удара, и я, корчась от боли, ухожу. Эта первая сценка вызвала дружный смех. За кулисами Костя мне начинает подсказывать то, что я должен говорить дальше. Я спокойно отвечаю ему: «иди в места, я все помню». Первый удачный выход, аплодисменты публики, и я все вспомнил и сделал все так, как было нужно. Антре прошло хорошо. Даже Фишер похвалил меня.
Придя домой, я стал обдумывать все, что было, и старался понять, в чем дело, почему я провалился на первом дебюте? Я долго не мог уснуть, встал и написал отцу подробное и правдивое письмо обо всем, что со мной было на этих двух выступлениях. Через несколько дней пришел ответ. Отец объяснил мне, что когда я загримировался под Эйжена, то получилась фальшь, которую тотчас почувствовала публика. Она видела под гримом мальчика и не верила в создаваемый мною типаж. Публику не проведешь, и она сразу чувствует фальшь. Надо брать для себя то, что в твоем характере и близко к правде, тогда зрители тебе поверят, и ты возьмешь их в руки. «У тебя получилось то, что у Бернардо, — писал мне отец, — кого бы он ни увидел из рыжих, он тотчас старался их копировать, и получалось очень скверно, а когда он делал что-то свое, то это было прекрасно. Когда ты мало загримировался, публика видела, что ты молодой, прыгаешь, она питала к тебе симпатию…» «Очень хорошо, что ты помогаешь Анджело, продолжай это делать. Слушай его, что бы он ни сказал, и вообще ни от чего не отказывайся. Учись. Пробуй. Учись с умом».
Этого письма отца я никогда не забывал и не забуду. Он меня окрылил и показал путь, по которому надо итти. Я старался всем помочь и брался за всякую работу. Мы с Анджело работали каждый день, меняя через день репертуар. Но вскоре я серьезно заболел. Во время работы с Костей у меня на манеже пошла кровь горлом. В цирке присутствовал на представлении курортный врач Глинка. Он пришел к нам в уборную и хотел дать нам за наш акробатический номер по золотому. Мы с Костей отказались. Сказали, что денег не берем, а если он хочет, то может нас угостить конфетами. Тогда он пошел в буфет и, принес нам оттуда конфет. Я в это время раскашлялся и у меня опять показалась кровь, он обратил на это внимание. В это время подошла мать; врач велел привести меня к себе в курортную больницу. Я от матери скрывал свою болезнь, но Костя выдал меня и сказал, что это у меня уже дней пять случается, что он до сих пор не говорил матери потому, что я обещал побить его, если он скажет.
На другой день мы с матерью пошли к доктору Глинке. Он сказал, что у меня слишком быстрый рост и слабые легкие и от форсированной работы одно повреждено. Сказал, что нужно принять срочные меры. Запретил мне акробатическую работу, а из антре разрешил исполнять только самые легкие. Дал совет приналечь на питание. Через пятнадцать дней я перестал кашлять. Ел я, как вол. Поглощал масло, яйца, Пил по четверти молока в день. Дней через двадцать я возобновил мои выступления с Костей.
Пришлось мне в Старой Руссе невольно стать помощником Фишера по режиссерской части. Вздумали ставить «Шерлока Холмса». Никто из артистов этой пантомимы на манеже не видал. По просьбе дирекции я стал помогать Фишеру. На репетиции капельмейстер не подобрал к последнему акту музыки. Обещал он сделать это в день премьеры. Афиши о пантомиме привлекли публику, и сбор был хороший. Все шло гладко до финала, в котором горожане с национальными флагами приветствуют Шерлока Холмса за избавление от фальшивомонетчиков. Шерлок выезжает в коляске со своим помощником Гарри (я играл роль Гарри). На манеже его встречают все участники пантомимы с флагами. Мы выезжаем и вдруг слышим оркестр играет «Смейся, паяц…» из оперы «Паяцы» Леонкавалло. Вот так триумфальный выезд под такую музыку! Затем на арене кучер так неумело завернул, что Шерлок вылетел из коляски прямо в публику, я же едва усидел, схватившись за край. А оркестр в это время жарит: «Смейся, паяц…» Вся труппа покатилась со смеху. Публика тоже. Только артисты, кажется, смеялись больше публики. Шерлок Холмс почертыхался и ушел с манежа. Артисты долго потом не могли без смеха слышать «Смейся, паяц…» Случись такой скандал у Труцци, он бы убил и себя, и капельмейстера, и труппе бы влетело, а тут все сошло так, как будто это так и надо.
Дни, когда мы не играли, были для нас днями праздничными. Тогда после представления вся труппа отправлялась на ночь ловить рыбу, и возвращались мы с ловли только на другой день.
В Старой Руссе все горожане занимались рыбной ловлей, и рыба ловилась очень хорошо. Особенно сомы. Ловили их особым способом, «на натирку». На руку надевали ременную петлю, к этой петле была крепко приделана палочка в пол-аршина, вроде хлыстика, от палочки шла длинная леска. На крючок насаживали горох. Забирались в реку по пояс и шли, ногами поднимая муть со дна. Это называлось «натирать дно». В эту мутную воду бросали леску с грузом. На такую удочку, прикрепленную к руке, попадались большие сомы. Однажды по городу пронесся слух, что утонул мальчик и его нашли за сорок верст от города. Оказалось, что десятилетний мальчик ловил рыбу «на натирку». Он стоял в воде, вдруг нырнул и больше не показывался. Когда тело его всплыло и было подобрано рыбаками, то на руке его увидели ремень с палочкой и леской, стали тянуть и вытянули четырехпудового сома. Очевидно, сом утащил мальчика в воду, а у того не было сил ему сопротивляться.
На похоронах мальчика было много детей с полевыми цветами. После этого случая мать запретила нам, к нашему большому огорчению, ловить рыбу.
В цирке сборы стали падать. Два хороших сбора сделали новая пантомима. Начался чемпионат, но и он мало расшевелил публику, пока в конце не выступил местный силач-грузчик. Наконец, приехал Франц Изако и уговорил местного исправника разрешить устройство «подарков» на пять дней. Сейчас же отказали чемпионату и, чтобы борцы не спорили и не испортили дело с «подарками», подписали с Мартыновым контракт на Архангельск.
Первые дни «подарки» шли очень слабо, едва себя оправдывали. На пятый день в цирк пришел исправник с семьей и тоже взял билеты в надежде выиграть один из главных выигрышей. Их было два: часы и серебряный сервиз. Оба они ценились по пятидесяти рублей. Как только Изако увидел исправника, он заволновался, забегал, позвал к себе наиболее близких ему артистов и стал держать совет, как сделать, чтобы один из главных выигрышей достался исправнику.
Тогда старый приятель старика Изако артист Василевский оказал: «Давай на четверть водки, и исправник твой выиграет».
Изако согласился. Василевского поставили помогать, в то время как ребенок из публики будет тащить номера с выигрышами. Заранее узнали в кассе, какие билеты взял исправник и какие на них записаны номера лотерейных билетов. Часы выиграл кто-то на галерке, а исправнику дали выиграть серебряный сервиз в роскошном футляре. Нужно было видеть, с какою жадностью он крикнул «Здесь», когда объявили его номер.
Василевский был хороший санжировщик, и, когда мальчик, тащивший из урны билетики с номерами выигрышей, подал ему очередной билет, он подменил его тем, который держал в руке между пальцев. Так исправник выиграл сервиз, а Василевский — четверть водки.
Подарки после этого были продолжены. Через десять дней пришла телеграмма из Новгорода о запрещении «подарков». Тогда исправник разрешил их на свою ответственность без афиш. По городу ездила телега, увешенная плакатами с объявлением о главных выигрышах. С каждым днем цена «подарков» увеличивалась, и сумма сборов росла соответственно. Галерку догнали до полтинника. Исправник часто приходил в цирк, брал билеты за деньги, и ему каждый раз давали что-нибудь выиграть покрасивее или побогаче. Он всегда был в восторге от выигрышей.
Раз произошел скандал. Объявили на представлении, что разыгрывается самовар или выдается за него двадцать пять рублей деньгами. Старуха Изако перепутала контрамарки и раздала их на базаре своим знакомым. Вечером на объявленный самовар оказалось два претендента с лотерейными билетами одного номера. Поднялся шум, крики, публика начала орать: «У вас лавочка!.. Плутня!..» Пошли сличать контрамарки. Оказалось, что у одного из претендентов контрамарки на следующий день. Хорошо нашлись, сказали, что это опечатка типографии и выдали обоим выигравшим по самовару. Все время, пока продолжался розыгрыш, боялись, чтобы это не случилось с главным выигрышем,
оцененным в двести рублей. Старухе Изако дали нагоняй, и на
следующий день были заказаны другие контрамарки. Наконец,
из Новгорода был прислан губернатором чиновник, чтобы проверить дела и закрыть цирк. «Подарки» были сейчас же прекращены, дано было на прощанье два представления, мы погрузили на поезд лошадей и выехали в Архангельск хотя знали, что цирк там еще не готов.
ГЛАВА XIII
Архангельск. «Французский цирк Франца Яковлевича Изако». Дневные спектакли. Труппа. Программа. Гастролеры. Японская труппа Ямада-Сан. Ночной обыск в цирке. Работа с отцом. Первые антре. Борец Иван Леший. Холод. Отъезд. Цирк Изако в Туле. Два месяца без работы. Харьков. Цирк Мисури. Опять Тула. Акробаты и клоуны Альперовы. Бенефис. Факир Нэп Саиб. Живой мертвец. Слоны Джерри Кларк. Колоссальный торт на слонах. Пуля-гам. Ликвидированный во время представления пожар. Чемпионат. Калуга. Антре «Колодец» и княгиня Горчакова. Протокол. Привлечение к суду.
Архангельск был городишко маленький и очень грязный. Переезд наш прошел в общем благополучно, хотя поезд тащился по узкоколейке медленно, на станциях и разъездах стояли долго, и матери тяжело было с тремя маленькими девочками. Мы же с Костей, сознаюсь, мало помогали ей.
Поезд остановился на левой стороне Северной Двины, город же находился на правой. Цирку пришлось погрузиться на пароход и баржу, чтобы попасть в Архангельск. Приехав, мы тотчас отправились к цирку. Здание цирка расположено было на окраине. За цирком шел один квартал и дальше начинался лес, кустарник и тундра. Около самого цирка были еще не срубленные деревья (останки прежнего леса), поэтому казалось, что он стоит и саду.
Здание было большое, летнее. Закончено оно еще не было. Зыбкость почвы сильно затрудняла работу. Оставив вещи, Костю и сестер в цирке, мы с матерью пошли искать себе жилье. После долгих поисков мы нашли комнату у хозяина пивной. Мать была не очень довольна, так как ходить мы должны были череч пивную. В наших долгих поисках мы совершенно забыли о времени. Небо ясное, светлое, когда же мы посмотрели на часы – оказалось, что уже около полуночи. Это была белая полярная ночь. Освещение нам казалось странным и все предметы необычными.
Мы с матерью отправились за Костей и сестрами. Пришли с вещами в комнату и легли спать на мху, сухом и мягком, который нам принес хозяин в больших мешках. Соломы в Архангельске найти было нельзя. Только уснули, как проснулись все сразу: тело жгло, как от ожога крапивой. Нашествие клопов было такое, какого я никогда не видел ни в одном городе. Пришлось встать, будить хозяина и ночью вместо сна заниматься уничтожением клопов.
Утром от товарищей-артистов, встреченных на базаре, узнали, что все они пережили такую же неприятную бессонную ночь.
Базар в Архангельске был особенный. На базаре — ни крытых ларьков, ни открытых стоек. Торговцы раскладывали все свои товары на рогожах на земле. Базарная площадь находилась на самом берегу. Все время к берегу подъезжали лодки, груженые рыбой. Рыба переносилась на столы, стоявшие на берегу. Ожидавшие рыбаков бабы острыми ножами распластывали рыбу, солили и укладывали в приготовленные для нее бочки. Тресковый жир продавался большими кусками, и его покупали все.
Я никогда не видел более беспорядочного базара. Обычных для базаров центральной России рядов не было. В больших лоханях стояла рыба, и тут же баба продавала молоко из берестяного ведра. За наваленной на рогожу, сверкающей на солнце солью высилась гора копченых оленьих языков. Оленьи дохи, лесные ягоды, меховые шапки, грибы всех сортов, ботинки из лосевой кожи, тресковый жир, оленьи рога, глиняная и фаянсовая посуда, оленье мясо, овощи — все лежало вперемежку, создавая необычайную по яркости красок картину.
По базару прохаживались прекрасно одетые иностранные торговцы, ходили поморы в промасленных до отказа тужурках и шляпах с лихим загибом вверх. Мелькали матросские фуражки, и цветные наряды баб и девок.
И над всем этим палящее солнце, синее небо и невероятная вонь трескового жира.
Около самого берега стояла большая затопленная лодка, и из нее за рубль огромным сачком вытаскивали покупателю разнообразных размеров и пород рыбу. Молоко и овощи привозились на базар на собаках, которых вьючили как ослов.
Мы закупили провизии, вернулись в нашу пивную, напились чаю и отправились в цирк. К этому времени туда собралась уже почти вся труппа.
Ввиду дешевизны леса в Архангельске, цирк был сбит из прекрасных, хорошо струганных и пригнанных досок. Ко времени нашего приезда шло устройство манежа. Привезены были чернозем и глина. Когда же пустили шестерку лошадей утрамбовывать чернозем, цирк задрожал, заколебался так, что, казалось, он сейчас рухнет. Старик Изако рассказал мне, что, когда вбивали мачту для шапито, пришлось вырыть яму глубиною в пять аршин. Опустить туда деревянную, плотню обитую крестовину и на ней укрепить мачту. Яму потом засыпали щебнем, камнями и1 землей. Стоило выйти из здания цирка, в любом месте воткнуть в землю железную палку, как сейчас же выступала вода.
Постройку цирка должны были закончить только через два дня. Мы репетировали, знакомились с городом и отдыхали. В Архангельске я встретился и познакомился со стариком Изако, отцом нашего директора. Это был типичный балаганный фокусник. Раньше он разъезжал с балаганом по глухим уголкам Сибири. Передвигалея не по железным дорогам, а в кибитках, запряженных, парою лошадей. Давал он представления на ярмарках, в школах и казармах. Возил с собой афиши, заманчивые по содержанию. Увнавал дни полковых праздников, сговаривался с начальством о плате за представления для солдат (плату брал с солдатской головы) и являлся в город к назначенному сроку. Во время этих поездок он скопил деньжат и устроил в Белой Церкви балаган с полуманежем. Гораздо позднее сын его открыл цирк. Старик считал, что он обижен сыном, и, как только напивался (а пил он каждый день), начинал ругать сына.
— Основатель французского цирка, — говорил он, — это я, Абрам Яковлевич Изако, а не сын мой Франц.
В хмельном состоянии он был смел необычайно, надевал Лучшую пару, цилиндр, брал золотые часы с цепочкой и отправлялся в канцелярию губернатора или к полицмейстеру. Там он жаловался на сына, уверял, что сын его мошенник, что только что в таком-то городе (назывался последний город, в котором работал цирк) он украл у такого-то бриллианты. Сообщал полиции, что сын скрывает у себя политиков-студентов. Варианты эти он пускал в ход, смотря по вдохновению. Иногда он припутывал имя сына к какому-нибудь наиболее нашумевшему уголовному процессу.
Сын приходил в отчаяние от его выходок и умолял мать: «Хорошо, покупай ему водку, покупай… Но пусть пьет дома. Пьяного запирай его и не пускай в город».
А старик в той же элегантной паре и цилиндре забирался в самый низкопробный трактир, угощал и кормил всех трактирных гуляк и опять жаловался на сына. В доказательство же того, какому таланту не дают ходу и какого человека затирают, показывал фокусы. Чтобы выманить старика из трактира, посылали его приятеля артиста Василевского, и оба возвращались после многих часов пьяные вдрызг.
Иногда старик Изако на несколько недель, даже месяцев, исчезал, забирая с собой все свои механические фокусы. Это означало, что Абрам Яковлевич отправился «работать». (Возвращался он с подарками и деньгами, так как фокусник он был действительно первоклассный. Был он манипулятор-санжировщик, то есть проделывал мелкие фокусы, основанные на ловкости рук. Были у него и механические фокусы, очень хорошо по тому времени сделанные. Была «летающая лампа», при выстреле перескакиваюшая с одного стола на другой.
Жена его вела хозяйство. В цирке были ученики-подростки, и ей приходилось кормить человек двенадцать. Старик вечно с ней ссорился. Однажды она поехала на базар за провизией, а так как провизии она накупила много, то и возвращалась домой на извозчике. Старик случайно оказался на базаре. Вид старухи-жены с покупками на извозчике привел его в бешенство. В один прыжок очутился он около пролетки, стал в позу и начал кричать на весь базар:
— Основатель французского цирка Абрам Яковлевич Изако пешком ходит, а шкура барабанная на извозчиках разъезжает… Слезай… слезай, тебе говорят, слезай.
И так как старуха сопротивлялась, он выхватил из ее рук макотру со сметаной и к удовольствию всего базара надел ей макотру на голову.
Таков был старик Абрам Яковлевич Изако.
Через два дня цирк был готов, и в городе красовались афиши о его торжественном открытии. В тот же день к двенадцати часам все билеты были проданы. Успех был ошеломляющий. Сейчас же открыли продажу на два воскресных представления. К девяти часам вечера в кассе не оставалось ни одного билета.
Такой неожиданный успех объяснялся, с одной стороны, тем что в этом году в Архангельске выдался совершенно небывалый улов рыбы и население располагало свободными деньгами, а с другой — тем, что в город восемнадцать лет не заглядывал ни один цирк.
До Архангельска Изако сильно «горел», в Старой Руссе дела его были тоже очень неважные, и потому неожиданные сборы подбодрили его.
Он вывесил в цирке такую авизу (объявление):
Чтобы понять такую нелепую с точки здравого смысла авизу надо знать степень суеверия Изако, да собственно и всех директоров и большинства артистов цирка. Открытый в цирке зонтик, семечки считались знаками несчастья. Да разве одни эти приметы принимались в соображение. Встреча с попом, как признак грядущего неблагополучия, была распространенной приметой и среди циркачей. У Труцци и Саламонского в пятницу не бывало репетиций. Когда строился цирк Никитиных, вырыли в разных местах несколько ямок. В одну из них старший Никитин бросил медную монету, в другую — серебряную, в третью — золотую, в четвертую — кредитную бумажку.
Ямки были зарыты и утоптаны так, чтобы нельзя было потом отыскать их.
У жены директора Сура был главный билетер и поверенный по всем делам — горбун Василий. Мерседес Сур была убеждена, что горбун приносит им счастье. Когда горбун, разбогатев, ушел от них, она горевала и утверждала, что все невзгоды, которые посыпались на них, произошли из-за отсутствия ее любимца.
У большинства кассиров и директоров цирка была такая примета: если при продаже билетов к кассе первой подходила женщина или девочка, — это было плохим признаком. Хороший сбор предвещал мальчик.
Стараясь обмануть судьбу, подсылали к кассе первым в очередь мальчика, а женщине и девочке под каким-нибудь предлогом отказывались продать билет.
В конюшнях цирка «для счастья» всегда стояли козлы. У Изако козел Васька обнаглел до того, что ходил во время представления по местам для публики и выпрашивал у зрителей папиросы, которые тут же моментально сжирал. Раз он съел соломенную шляпу одного из артистов. Другой раз подошел неожиданно к полицмейстеру и выхватил у него из рук только что вынутую папиросу.
Тот так испугался, что отскочил от козла и замахал на него руками.
Любопытно отметить, что при плохих сборах директора чувствовали себя неважно. Актеры же раздражались и даже иной раз покрикивали на директоров, обвиняя их в неумелом ведении дел. При хороших сборах положение менялось. Аккуратно выплачивая жалование, директор чувствовал себя хозяином положения, важничал, придирался, покрикивал на артистов и вывешивал всяческие объявления и предупреждения.
Первое представление в Архангельске с нашей профессиональной точки зрения прошло неважно. Вероятно, потому, что все слишком волновались. Но горожане были очень довольны и утверждали, что такого цирка в Архангельске никогда не бывало.
Привожу программу первого представления.
Упоминаемая в программе «парфорс-наездница» м-ль Дора работала в очень быстром темпе. «Парфорская езда» в буквальном переводе означает «езду через силу» или «непосильную езду».
АРХАНГЕЛЬСК
ФРАНЦУЗСКИЙ ЦИРК
ФРАНЦА ЯКОВЛЕВИЧА ИЗАКО
Июля 19-го 1910 года
ОРКЕСТР ПОД УПР. Г. РЫСКИНА
Отделение первое
1. Оркестр — Увертюра
2. Вольтижировка — Мисс Элла
3. Упражнение на трапеции — г. Даниленко
4. Малолетние акробаты — брат и сестра Альперовы
5. Парфорс-наездница — М-ль Дора
6. Комический выход — исп. рыжий Франц
7. Выход директора цирка — Франца Яковлевича Изако с парком дрессированных на свободе лошадей
Антракт
Отделение второе
8. Оркестр
9. Упражнение на тройном турнике — французский акробат Мариани
10. Выезд Любови Яковлевны Изако — высшая школа верховой езды на чистокровном англо-арабском жеребце
11. Упражнение на двенадцатиаршинном перше — выход директора цирка Ф. Я. Изако и арт. Г. Василевского
12. Музыкальные клоуны на разных инструментах — трио Травелли
13. Выезд Дерби-Жокея
Антракт
Отделение третье
14. Оркестр
15. Кор-де-Волан — г. Аппелът
16. Выход лапотной капеллы — семейстзо Гурских.
17. Кавказская джигитовка — г. Пац
КОНЕЦ
В случае болезни лошади или артиста дирекция имеет право заменить один номер другим.
Курить в здании цирка строго воспрещается.
При цирке буфет с крепкими напитками.
Режиссер ФИШЕР
Первый спектакль прошел не без осложнений. Когда Изако вывел «табло» из восемнадцати золотистых лошадей и начал работать с ними, то зыбкая (несмотря на все принятые меры) почва стала так сотрясаться, что среди публики поднялось смятение. В это время раздался треск и рухнула часть галерки, особенно переполненная публикой. От сотрясения воздуха потухли две газокалильные лампы.
Начавшуюся было панику удалось остановить. Номер с лошадьми докончен был благополучно. Никто из публики на галерке не пострадал, Полиция составила было протокол, но потом ему не дали хода.
Труппа наша была довольно сильная.
Сам Изако был плохим дрессировщиком. Для дрессировки он держал специалиста. Сам же он по обычаю выводил лошадей на манеж и, надо сказать, только портил их, давая им неправильное направление, так как совершенно не умел владеть шамбарьером.
Я должен отметить, что наиболее замечательными дрессировщиками были: Александр Чинизелли, Рудольфо Труцци и Альберт Сур. Все они в совершенстве владели шамбарьером и могли «тушировать» лошадь в любое место.
Говоря о нашей архангельской труппе, я должен прежде всего вспомнить турниста Мариани. Он был чрезвычайно близорук, носил очки, читал через лупу. Как ему удавалось при такой близорукости с необыкновенной четкостью работать на турнике, для меня было и остается загадкой. Казалось бы, турнисту глазомер необходим прежде всего. А какой же глазомер может быть при близорукости. Мариани, когда я вспоминаю о нем, до сих пор кажется мне каким-то чудом. Работал он без очков, и публика не подозревала о его близорукости, а он, уходя за кулисы, не мог на своем столике найти очки, если кто-либо случайно переложит их на другое место.
Среди женщин выделялись Маруся и Леля Гурские, прекрасные танцовщицы с музыкальным образованием. Обе хорошо играли на рояле, что в цирке было редкостью, и с большим успехом выступали в пантомимах.
Был у нас еще хороший жокей Борисов, молодой и красивый. Казалось, его ждет блестящее будущее, но он погиб, как и многие другие талантливые русские люди, от водки.
Общим любимцем артистов был Василевский. Звали мы его «вице-директором», потому что он когда-то работал со стариком Изако и был дружен с ним. Когда артисты, смеясь, грозили ему, что Изако-сын выгонит его за пьянство, он отшучивался:
«Выгонит? Возьму как вице-директор половину конюшни и уйду. А вот вас выгонят — посмотрим, что вы делать будете».
Настроение в труппе было товарищеское, и сами Изако этому способствовали. Через неделю после открытия директор устроил нам товарищеский шашлык. Купили и зарезали двух баранов, приобрели закуски, сластей. Только водки дирекция никогда не покупала, вернее всего, из экономии. Водку всегда приносили сами артисты, и пить ее не возбранялось. Вечеринка обычно кончалась игрою в лото.
Две недели программу обслуживала своя труппа. Афиши выпускались каждый день новые, чтобы публика не теряла интереса к цирку. Каждый из нас, артистов, мог дать несколько номеров, и потому программа бывала разнообразная.
Обычно по приезде в новый город афиша была «глухая», без упоминания имен, потом постепенно появлялись имена то одного, то другого артиста. Когда все имена были уже известны публике, Изако выписал гастролеров. Первой прибыла японская труппа Ямада-Сан. Труппа состояла из двадцати четырех японцев. Среди артистов было несколько гейш. Они во время представления или играли на национальных инструментах, или составляли декоративное украшение. Труппе было отведено третье отделение программы. Среди японских артистов были прекрасные воздушные гимнасты, которые поражали даже нас, привыкших к большому мастерству. Они казались какими-то чертями, умевшими держаться за воздух и как бы ходить то нему. Был искусный жонглер-антиподист.
Началось выступление японцев парадом. Аристы выходили в великолепных парчовых, тканных золотом халатах. Их представляли публике, выкрикивая их диковинные имена. Все номера были эффектны зрительно и носили заманчивые названия, выгодные для афиш. На заборах «Крест смерти» сменялся «Колосом смерти» или «Лестницей смерти». Основаны были номера на рискованных трюках, вызывавших у публики напряженное состояние, полное волнения. По городу артисты ходили в японских костюмах. В труппе были подростки и дети.
Вывез эту труппу из Японии русский предприниматель Морозенко. Он платил Ямада-Сану за гастроли тысячу рублей, а сам получал определенный доход с каждого представления. Насколько ему это было выгодно, можно судить по тому, что впоследствии он построил себе каменный дом в одном из поволжских городов.
Труппа Ямада-Сана состояла из его родственников, и он платил им всем гроши, которых едва хватало на пропитание. Морозенко рассказывал, что в Японии артисты голодали, и ему легко было уговорить их попытать счастья в далекой России. Самым ошеломляющим и потрясающим зрителей номером было «харакири». За этот номер Ямада-Сан получал от Морозенко добавочные двадцать пять рублей.
Первый раз «харакири» прошло при битковом сборе, его пустили без афиш, чтобы публика сама разнесла весть об этом номере по городу. Номер этот, продолжался максимум три минуты и совершался японскими артистами во главе с Ямада-Саном с изумительной быстротой и ловкостью. Номер производил такое потрясающее впечатление своим правдоподобием, что многим из зрителей делалось дурно. Давали «харакири» не сразу, а на пятое или шестое представление. Дежурного околоточного во время этого номера старались увести в буфет, так как бывали случаи, когда полиция запрещала его. Исполнялся этот номер следующим образом.
На арене появлялся Морозенко и объявлял публике, что сейчас будет исполнено самое настоящее японское харакири. За ним выходил Ямада-Сан с четырьмя гейшами и двумя детьми. Гейши играли на национальных японских инструментах, мальчики-японцы били в барабаны.
Ямада-Сан мимикой показывал, что совершает молитву. Во время молитвы два японца выносили длинные и острые ножи, ходили с ними по рядам, показывали их публике, чтобы убедить ее, что ножи настоящие и очень острые. Когда процедура с ножами кончалась, оркестр цирка неожиданно играл галоп. Ямада-Сан быстро брал стакан воды, срывал с себя рубашку, обрызгивал обильно руку водою, всаживал в нее нож и с окрававленной рукой бегал по арене, показывая залитую кровью руку. Публика в ужасе шарахалась от него. Тогда Ямада-Сан брызгал водою ногу, проводил ножом по икре и скакал по арене на одной ноге, показывая струящуюся по икре ноги кровь. На арену выбегал мальчик-подросток. Два японца схватывали его, подымали за голову и за ноги, клали на стол и держали. Подбегал окровавленный Ямада-Сан, срывал с мальчика рубашку, брызгал его водою и полосовал его ножом несколько раз от низа живота к горлу и обратно. Подростка, залитого кровью, заворачивали в простыню и уносили.
Публика приходила от этого номера в необычайное волнение. Лица были бледные, губы дрожали.
На втором или третьем представлений «харакири» я стоял в проходе. Представление только что окончилось. Мимо меня пронесли завернутого в простыню мальчика. Вслед за этим ко мне подошел какой-то студент и спросил меня, видимо взволнованный: «Скажите, что же с мальчиком? Ему ведь нужно подать помощь. Куда они его дели?»
Я по традиции нашего искусства нe мог выдать, секрета японских артистов и ответил шутливо:
— Как куда? Они каждый раз выписывают из Японии нового-мальчика.
— Ну, а этого?
— Этого зарывают в цирке под галеркой.
Студент растерянно посмотрел на меня и ушел.
Ранним-рано на следующее утро прибежал Изако и стал ругать меня. Он рассказал, что ночью цирк был оцеплен конным нарядом полиции и городовыми. В здании цирка под руководством самого полицмейстера был произведен обыск. Разбудили поздней ночью Изако, велели ему зажечь все лампы, полезли под галерку и там лопатами перерыли всю землю. Изако думал, что полиция действует по одному из доносов отца и ищет в цирке воображаемые бриллианты. Только по окончании обыска полицмейстер сказал, что они искали труп зарезанного во время «харакири» мальчика. Вызваны были Морозенко и Ямада-Сан. Когда Морозенко перевел Ямада-Сану слова полицмейстера, Ямада-Сан расхохотался, потребовал, чтобы принесли нож, употреблявшийся во время «харакири», и тут же на глазах полиции продемонстрировал номер, который состоял в том, что в ручке ножа находился желоб, по этому желобу от нажима кнопки сыпался фуксин, попадал на смоченное водою тело и давал полную иллюзию раны, из которой обильно струилась свежая кровь.
При общем хохоте полицмейстер огласил поданное в канцелярию губернатора заявление, в котором говорилось, что на главах публики в цирке ежедневно убивают японских мальчиков, хоронят же их под галлереей в самом цирке, как об этом сказал акробат, делавший упражнения с девочкой.
Изако, услышав это, засмеялся и оказал: «У нас не только живых людей режут, но и из мальчиков делают девочек. Акробат, на которого ссылается подавший заявление, делает свои упражнения на самом деле с мальчиком, а не с девочкой».
Полиция после разъяснений ушла успокоенная. Мне же здорово влетело за мою шутку.
Несмотря на выяснение всех приемов «харакири», губернатор запретил его исполнять.
Уже во время гастролей японцев Изако начал вести переговоры с дрессировщиком львов Ваяни. Ваяни дал согласие на гастроли, как вдруг от него неожиданно пришла телеграмма, что львы заболели сапом и расстреляны. Писал, что им куплено шесть новых львов, но он пока не решается выступать с ними перед публикой. Ему нужны восемь-десять репетиций. О жалованьи он в силу таких обстоятельств вопроса не поднимал. Изако телеграммой просил его приехать с новыми животными.
Ваяни приехал к концу гастролей японцев. Он рассказал им о своем несчастьи. Дело в том, что для кормежки львов была куплена администрацией дохлая лошадь. Она оказалась сапной. Львы заболели, их пришлось расстрелять и весь реквизит сжечь.
Скоро прибыли с особыми провожатыми новые львы. Ваяни храбро вошел к ним в клетку. После пяти репетиций он рискнул выступить перед публикой. Дебют его прошел с колоссальным успехом.
Нельзя было поверить, что Ваяни работал со львами всего несколько дней.
Изако хотел воспользоваться тем, что Ваяни не договорился с ним и назначил ему очень маленькое вознаграждение. Ваяни не согласился на условия Изако, отработал в цирке три-четыре раза и уехал обратно в Вятку, откуда приехал и где у него погибли прежние львы. Там, по слухам, он делал битковые сборы, так как публика знала о его несчастьи. Позже до нас дошло, что и вторая партия зверей заболела сапом, и их пришлось тоже расстрелять. Рассказывали, что Ваяни не уничтожил красную гусарку, в которой работал с первой группой лывов. Зараза была перенесена, и звери погибли.
11 сентября без предупреждения приехал отец. Мы очень обрадовались его приезду. Опять вся наша семья была вместе. Отец приехал на работу по приглашению Изако. Работать он должен был со мной. На следудощий день мы с ним начали репетировать. Пятнадцатого сентября состоялся мой первый выход в качестве «рыжего».
Говорить о своей работе трудно. Приведу запись отца о нашем дебюте: «Первое самостоятельное антре с Митей. Две очень трудных задачи, особенно для первого дебюта. Никогда не деланное антре и новый аккомпаниатор[38] — Митя. Митя не дал своего, но зато ансамбля не портил», и 16 сентября им записано: «Антре прошло редкостно хорошо, даже слишком, как для новаторов…
Я поражался апломбом Мити и его инициативой. Антре прошло под дружные аплодисменты».
Аятре, о котором пишет отец, называлось: «Продавец яиц».
21 сентября у него записано: «Разговорные вещи, можно делать сразу. Митя очень легко воспринимает их, что — громадный плюс в общем ходе работы над репертуаром».
С этих выступлений в Архангельске началась моя долгая работа с отцом. Отец теперь уже не зависел от Бернардо. А я был счастлив и горд, что работаю с ним.
Сезон приходил к концу. Приехал французский чемпионат борьбы во главе с директорами Мартыновым и Милоном-Аренским. Чемпионат сразу стал делать хорошие сборы.
В Архангельске давно уже ходил слух о каком-то поморе необычайной силищи. Рассказывали, что Иван Леший (так звали помора) выпивает по пять четвертей водки, один поднимает сорокаведерную бочку, рукой останавливает паровоз.
В публике не раз слышалось: «Будь тут на представлении Иван, он бы вашим борцам ребра переломал».
Предприниматели чемпионата решили поехать в Соломбалу отыскать Лешего. Им это удалось: по их приглашению Леший приехал в Архангельск. Вечером во время представления разнесся слух, что Леший находится в буфете. Я отработал свой номер, пошел в буфет, но Лешего там не было. Тогда я решил воспользоваться перерывом в работе, пойти за цирк и там накопать червей для завтрашней рыбной ловли. Я вышел из здания цирка и пошел между деревьями. Дорожка освещалась фонарями. Только я присел к кусту, чтобы копать червей, как увидел нечто, что показалось мне чудовищем. Со страху я решил, что это привидение и со всех нот бросился обратно к цирку.
Когда началось третье отделение, то сначала вышел парад борцов. За борцами на арену вышло «чудище» в рубахе с раскрытым воротом, в широкополой поморской шляпе. Нос чудища был величиною в кулак, лицо как у лошади, руки необычайной длины, а кисти рук так велики, что Леший мог одним пальцем закрыть серебряный рубль. При первом взгляде на него я понял, кого видел между деревьями позади цирка.
Около Лешего ходили его «дружки» (на нашем жаргоне «подъелдыки»). Бороться с Лешим вышли сразу три борца. Они были из слабых борцов, и дирекция дала им приказание не противиться силачу-помору.
В течение минуты Леший без всяких приемов французской борьбы похватал борцов своими длинными и могучими руками и уложил одного за другим. Восторг публики перешел все границы, она буквально неистовствовала.
Остальных борцов публика смотреть не пожелала, и валом повалила в буфет, где Лешего все наперерыв угощали водкой.
За каждую борьбу Леший получал по пятидесяти рублей. На шестой борьбе он заявил, что за такую цену бороться не будет, и просил набавить пятерку. Дирекция, конечно, согласилась.
Пока в цирке боролся Леший, сборы продолжали быть хорошими. Его выступления привлекали в цирк поморян. Улов рыбы, как я говорил уже, был в тот год редкостный. Иногда бывало, что днем группа поморов-рыбаков, на несколько часов попавших в Архангельск, заходила в цирк, шла в буфет и, развеселившись, покупала целое дневное представление. Дирекция посылала за артистами по домам, и мы работали для семи-восьми человек, жадно смотревших на никогда не виданное ими зрелище.
Такое представление обычно кончалось угощением всех выступавших артистов в буфете.
К концу сентября погода стала меняться, начались сильные заморозки. В цирке было так холодно, что перед представлением на арене зажигали три костра. Борьба кончилась. Цирковую программу архангелыцы знали наизусть, естественно, что сборы упали.
Отец и я продолжали нашу работу. Выступления даже при малых сборах для нас были важны, так как мы готовили новый репертуар. Отец был клоун необычного порядка. У него были готовые номера, но часто он начинал импровизировать, надо было и его партнеру проявлять находчивость, а у меня ее и по молодости лет и по малой опытности еще не было.
5 октября мы еще играем, и отец записывает: «Снег и холод застали врасплох в летних уборных. Не дай бог работать в таких условиях… но выполнение задачи — подготовки репертуара — заглушает все невзгоды».
18 октября состоялось последнее представление в Архангельске. После него цирк снялся и переехал в Тулу. Переезд наш длился пять дней. В Туле мы сняли очень большую комнату недалеко от цирка и могли с отцом репетировать дома.
Тула казалась мне городом кустарей. Они жили почти в каждом доме, во дворах же часто были кузницы. Повсюду выделывались мелкие металлические вещицы.
Цирк был деревянный, бревенчатый. В нем вечно пахло дымом и, несмотря на электричество, было тускло, темно и сыро. На «главной» улице города помещались два кино, цирк и зимний театр. Здание цирка принадлежало известному борцу Поддубному. Оно отапливалось, и в нем была устроена сцена, так что, когда здание не было занято цирком, в нем могли выступать гастролеры и могло работать кино. Артистические уборные были довольно теплые и сносные, но в самом цирке было холодно.
27 октября состоялось открытие. Сбор вышел средний, хотя дирекция для пополнения труппы выписала знаменитых по тому времени акробатов с подкидной доской, артистов, Азгартс. Выступала и лапотная капелла Гурских. Все номера провожались аплодисментами. Большой успех имело наше антре «Скорая помощь». Нам почти не давали говорить. Отец узнал, что в городе только что появилась карета скорой помощи на паре лошадей, с сигнальным рожком. Карета была предметом насмешек, так как всегда опаздывала и приезжала тогда, когда пострадавшему уже была оказана помощь.
По ходу антре отец ударяет меня. Я хватаюсь за щеку и ору. Вмешивается шталмейстер, заглядывает мне в рот и заявляет, что у меня сломан зуб и мне нужна скорая помощь. Отец убегает за кулисы, надевает белый халат и выезжает на арену с ящиком на колесах, трубя в рожок. Его выезд вызывал смех и аплодисменты. Он вырывал у меня зуб большим молотком, бил меня по голове. Я в судорогах падал. Тогда он укладывал меня в ящик, я в него не помещался, он огромным долотом и молотком забивал меня в него и увозил с арены. Наше выступление было отмечено в тульской газете, где хвалили всю труппу, а нас с отцом в особенности. На следующий день у отца произошел с дирекцией крупный разговор из-за оплаты нашей работы. Дирекция хотела дать нам за два номера двести пятьдесят рублей, отец же требовал триста пятьдесят. Этот разговор окончился тем, что отец отказался продолжать работу и велел снять себя с афиши.
Ангажемента у нас не было, и отец стал рассылать телеграммы во все города, где имелись цирки. Пятнадцать дней мы были без работы, дома мы репетировали, в цирк не ходили, по вечерам играли в домино и шашки. Отец учил нас беречь копейку, чтобы не быть в зависимости от предпринимателей-директоров, заставляющих работать за гроши.
Нам с Костей было тоскливо, и мы ныли. Под боком был цирк, слышна была музыка, а мы не работаем. Наконец, из Харькова от Мисури пришло предложение приехать на пятнадцать дней. Отец колебался, но нам так хотелось поскорее начать работу, что мы уговорили его.
12 ноября состоялся наш дебют у Мисури в большом, ему принадлежавшем, каменном красивом здании. Труппа была очень маленькая, ставка цирка была на борьбу. До борьбы проходило только одно отделение. Времени для него отводилось немного: так как по требованию полиции борьба должна была оканчиваться в двенадцать часов.
Чемпионат был большой: три борца-негра и человек copoк борцов русских и иностранных, а цирковое представление только для привлечения публики. Такого рода работа ни отцу, ни нам не нравилась. В Харькове мы получили предложение от Жижетто Труцци на годовой контракт, но жалованье нас не устраивало, и отец не согласился.
В то время надо было уметь установить себе цену, раз уж получаемое жалование было трудно повысить. Отец получил приглашение и из цирка Никитиных, но тоже на такой оклад, на который нельзя было итти. Было ясно, что директора, не знакомые с моей работой, побаивались, не зная, идет ли наша работа с отцом так, как надо.
Неожиданно пришло письмо от матери из Тулы о том, что Изако приглашает нас обратно в Тулу, что он предлагает сейчас триста рублей, а с пасхи триста пятьдесят. Мы не знали, на что решиться. В это время со мной и случилось несчастье; заряжая для работы револьвер, я прострелил себе палец. Выстрел, по счастью был холостой, но и то я вырвал клок мяса и раздробил кость. Отец, видя мое положение, решил уступить лучше Изако, чем таким тузам, как Труцци и Никитины.
30 ноября 1910 года мы вернулись в Тулу к радости матери и сестер. Семья наша жила дружно, и мы не любили расставаться. Труппа приняла нас очень радушно, и первого декабря опять началась наша работа у Изако. Несмотря на мой простреленный палец (мне пришлось надеть на руку резиновую перчатку), работа в Туле шла куда успешнее, чем в Харькове. Как важно для артиста спокойствие в работе. В Харькове нас все время погоняли: «Скорее!.. скорее!..» Там никто не интересовался работой и публики было мало. В Туле за работой следили и дирекция, и артисты, а главное — публика шла на цирковое представление, а не на борьбу.
Отец записывает: «Антре прошло очень гладко. Митя молодец, совсем преобразовался, против Харькова не узнать».
В труппе началось бенефисное время. Перед праздниками сборы были низкие. Нам с отцом также предложили бенефис. Это был мой первый бенефис. Мы стали к нему готовиться.
До нас был бенефис клоуна Русинского, который вызвал много раэговоров. Рушиский на свой бенефис ие явился, так как был пьян. Сборы после этого упали. Тогда все артисты решили поднажать на работу. В воскресенье сбор был приличный. Отец записывает: «Сплошной, чуть ли не с первого шага, фурор. Редко с Бернардо так шла работа. Восторженно принимали антре, за каждую фразу, за каждый намек на злободневные темы аплодисменты. Приглашали на бенефис собравшуюся публику. Если также сочувственно отнесутся к посещению, как аплодировали, то успех гарантирован». О самом бенефисе следующая запись: «8 декабря. Бенефис явился самым удачным в сезоне и по сбору (312 рублей, нам — 58 руб.) и по оправданию афиши. Все в труппе поражены таким сбором в сравнении с другими, Митя старался всеми силами оправдать свой первый бенефис. Нервничал, как никогда, и, правда, провел все свои сцены, новые для него, очень хорошо».
17 декабря такая запись: «Полнейший произвол. По случаю стоянки гроба с прахом в. к. Михаила Александровича и приезда императора все зрелища 19 и 20 запрещены…» 19 декабря: «Тело в. к., оказывается, будет здесь стоять самое большое полчаса и в столицах, кроме императорских театров, все играют, а нам не разрешается ни за какие коврижки. Вот уж именно бессудная земля!» «…ходили ко всей нашей городской администрации просить разрешить играть в воскресенье, но увы, ответ один: в столицах можно, а у нас нельзя».
Дирекция ставила нас на программу через день. Это дало нам возможность побывать в театре. Отец всегда, где бы мы ни были, в свободный вечер посылал нас в театр, часто сам ходил с нами, а потом говорил об игре артистов и о пьесе. В Туле мы видели «Орленка» и «Черные маски» Андреева. Привожу запись отца: «Пошли смотреть «Орленка». Боже, что у них получилось. Ни дать, ни взять наша пантомима. Тот же балаган, только чуть больше мишуры. Днем ходили смотреть «Черные маски». Трудно понятная аллегорическая пьеса, вполне в духе андреевских пьес. Успех средний».
В цирке начались гастроли факира Нэн Саиба. Номер его производил неприятное впечатление. Он прокалывал себе язык, кожу на груди, мускулы, пришпиливал к телу на французских булавках небольшие гири. Его выступление кончалось тем, что на манеже вырывали могилу, он ложился в нее и его засыпали песком. В руку ему давали веревку, которую привязывали к звонку. Его разрывали только после второго звонка. Минут двадцать на манеже шли номера, а он все не бнаруживал никаких признаков жизни. Публика уже начинала волноваться. В середине номера вдруг раздавался резкий звонок.
Раздавались возгласы: «Разройте его!.. разройте!..» Публику успокаивали. Через некоторое время звонок звонил чуть слышно, как будто у звонившего уже нехватало силы звонить громче. Публика начинала, кричать: «Скорее!.. скорее». Бросались на манеж, чтобы помочь разрывать могилу.
Весь номер представлял собою нездоровую игру на нервах. Когда факир вылезал цел и невредим и шел, пошатываясь, ему устраивали бурную овацию. Номер этот назывался «живой мертвец» и сильно анонсировался. Проделывал его Нэн Саиб довольно просто. Как только факира начинали зарывать, он тотчас сгибался и становился в своей могиле на коленки и на руки, таким образом под ним образовывалось наполненное воздухом пространство, которое позволяло ему провести под землею минут двадцать.
После факира начал свои гастроли дрессировщик слонов Джерри Кларк.
В бенефис слонов для них был сделан огромных размеров торт в несколько пудов весу. За несколько дней торт был выставлен в одном из лучших магазинов с колоссальной рекламой, гласивший, сколько яиц, сахара, сала и муки пошло на торт и сколько поваров делали его. В день бенефиса два слона на носилках перенесли торт из кондитерской в цирк. Их провожала громадная толпа народа. Такая живая реклама была лучше сотни афиш. Цирк был полон. Десять человек, одетые в поварские колпаки, резали торт. Слонов не кормили до того дня два, и нужно было видеть, с какой быстротой и жадностью они в течение десяти минут под сплошной хохот всей публики сожрали весь торт. Сделан он был из простой муки и очень красиво убран– кондитерами. Дирекции он ничего не стоил, так как кондитерская сделала его для собственной рекламы.
В Туле мне не повезло.
В какой-то день у нас испортился револьвер. Сбор был маленький, и отец, чтобы сделать программу интереснее, предложил антре «Пуля-гам». Содержание антре следующее.
Отец объясняет, выйдя на арену, будто изобрел револьвер с таким винтиком, что может остановить пулю там, где захочет. Он готов это сейчас доказать на деле. Он поставит меня на одном конце арены, сам станет на другом, выстрелит и остановит пулю у моих губ. «Вот будет аттракцион!» — говорит отец, обращаясь ко мне. — «Десять лет каторжных работ», — отвечаю я. Весь диалог наш построен на комических фразах, и я ясно показываю свою боязнь быть убитым. Мы становимся друг против друга на манеже. Он стреляет, я мимирую, что поймал ртом пулю и выплевываю ее на тарелку. Он предлагает повторить опыт еще раз. Считает до двух, и я раньше времени выплевываю пулю на тарелку. Публика смеется, что я сам раскрываю наш обман. Отец разбивает с досады у меня на голове тарелку.
Часто задают вопрос, как это у клоуна на голове разбивали тарелку и ему не было больно. Все, что проделывают клоуны на арене друг с другом, вообще никогда не вызывает боли. Но приготовить такую тарелку, которую можно потом безболезненно разбить на голове, очень трудно, для этого нужна большая тренировка.
Делают это так. Берут простую глиняную тарелку самого дешевого сорта, оголяют локоть и быстро трут тарелку о локоть, пока она не нагреется, тогда потихоньку стукают тарелкой по локтю. Она надтрескивается, т. е. трескается ее верхний слой со стороны эмали. Такая тарелка уже пригодна к тому, чтобы ее разбить безболезненно на чужой голове. Но сколько надо перебить тарелок, пока получишь такую трещину, какая необходима.
В тот вечер у отца испортился револьвер. Он попросил знакомого офицера дать ему для выхода свой револьвер. Тот дал, предупредив отца, что револьвер заряжен.
Мы с Костей отработали наш акробатический номер, через два номера было наше антре с отцом. В это врмя на конюшне произошла драка между кучерами. Один запрещал другому курить там, где лежало приготовленное для лошадей сено. Тот же, кому было сделано замечание, обозлился и ранил другого кучера вилами. Началась драка. Дерущихся розняли, и так как оба были ранены, то начали перевязывать обоих. Я побежал было переодеваться, но в это время из конюшни повалил дым. Все бросились тушить начавшийся пожар. Одна из балерин заорала во все горло: «пожар!…» Ей сейчас же заткнули глотку и с помощью пожарных стали тушить пожар своими средствами.
На арене идет программа. Зрители не подозревают о переполохе. Режиссер, боясь перерыва в представлении и могущей возникнуть паники, крикнул отца, чтобы он одевался, так как через номер наше антре. Отец быстро оделся, наспех загримировался, и мы вышли.
Мы провели наше антре, как обычно, гладко. Только после выстрела я увидел, что давший револьвер офицер схватился за голову и сорвался со своего места. Мы вернулись в уборную, начали уже разгримировываться, как вдруг вбегает офицер, бросается ко мне, кричит: «ты жив!.. ты жив!..» и начинает целовать меня. Отец как бы прирос к месту, глаза у него стали просто страшными, он только сейчас вспомнил, что забыл в суматохе разрядить револьвер и стрелял в меня боевыми пулями. Офицер же по звуку понял, что выстрел не холостой. Меня спасло только то, что отец стрелял вверх.
В уборной столпились артисты, все волнуются, судят и рядят, как это случилось, что ни я, и никто из публики не пострадал. После представления пошли искать пулю. Нашли ее в доске над головами стоявшей на галерке публики. На отца этот случай очень подействовал. Он долго ходил расстроенный и не делал ни одного антре с выстрелами. Отнял у нас свое оружие и порох (этим раньше ведал я), купил шкатулку с ключом и на ней написал крупными буквами: «проверь патроны и револьвер». Ключ взял себе и никогда нам его не давал.
После масленицы сборы упали. Город был полон пьяных. Повсюду слышны были звуки гармоники, пьяные песни. Мы с отцом ездили в Чулково смотреть, как по главной улице катаются в разукрашенных розвальнях и на тройках. Тут же пьют водку, закусывают. На одних розвальнях был даже поставлен стол, а на столе самовар и два подгулявших купчика с гармонией ехали и распивали чай, вызывая смех и шутки прохожих. Купец Аршинов пригласил нас с директором на блины. Мы поражались, как могли они съесть такую уйму горячего теста. Народу было очень много. И народ этот не ел, а просто жрал. Услужающие не успевали обносить гостей блинами.
Так гуляло в те времена сытое купечество.
Ходили мы смотреть кулачные бои между городскими и чулковскими. Принимали участие в боях и жители Косой горы, в большинстве фабричные. Все сходились на реку к Чулкову и шли друг на друга стена стеной. Начинали бои мальчишки, а кончали седобородые старики. Дрались и бились до тех пор, пока кто-нибудь из противников не падал. Лежачего уже не трогали. Бывали во время этих драк и смертные случаи. Полиция делала вид, что разгоняет дерущихся: ей хорошо платили, и она смотрела на такие вещи сквозь пальцы.
В первый понедельник после масленицы цирк не играл. Мы ходили на базар, куда съезжались с окрестных сел и деревень с капустой всех сортов, огурцами, грибами. Жители запасались постной пищей на все семь недель. Собирались замаливать грехи, а к вечеру весь базар был пьян, и разъезжались крестьяне с песнями, несмотря на уже начавшийся пост.
Целую неделю цирк не работал, и артисты жалованья не получали. Хочешь, не хочешь, а поневоле будешь соблюдать пост. Утром по привычке репетировали, затем после четырех часов шли обедать, а там засаживались за лото до двенадцати часов ночи. Лото устраивали по очереди, у семейных артистов; ставили, кто какое мог угощение, и за лото обсуждали цирковые дела и судачили.
На второй неделе начали играть. Сборы были жуткие: десять-пятнадцать рублей в вечер. Город как будто вымер, даже на улицах народу было меньше обыкновенного. Изако решил пригласить чемпионат, но борцы стали делать сборы только, когда выступил местный борец тульчанин Аксенов. Он был громадного роста, тяжеловес. Борцы приглашены были на проценты со сбора. Чемпионат забирал львиную долю. Труппе оставалось в итоге немного.
На последней неделе поста цирк выехал в Калугу. В Калуге мы наняли маленькую квартирку недалеко от цирка. Отец записывает: «Город хотя и небольшой, но довольно грязный и вполне истинно-русского типа. На всем отпечаток Иоанна Грозного «Каждый день хожу обозревать по разным направлениям город Калугу и с каждым днем убеждаюсь воочию, что вряд ли еще наши дети доживут увидеть хоть намек на вступление на путь прогресса… про который так усиленно кричат все слои. Долго еще придется ждать, пока очистимся от вековой засосавшей нас грязи в губернских городах, а уже про уездные и говорить можно только — очистится, когда рак свистнет».
Цирк начал играть на второй день пасхи. Сборы всю неделю были хорошие, и дела наши поправились, затем сборы сразу упали, и мы, что называется, «форменно горели». Способствовал нашему прогару и рядом стоявший городской театр, где успешно гастролировала украинская труппа Льва Сабинина.
После недели работы Изако разделил труппу на две части. Мы остались в Калуге, а другая часть артистов уехала в Вологду. Наш бенефис материально прошел неважно. На нем произошел следующий инцидент.
Княгине Горчаковой не понравилось наше антре «Колодец» Я тону, меня хоронят, а отец плачет надо мной и брызгает на меня метелкой. Княгиня нашла, что это насмешка над православным обрядом. Отец поехал к ней объясняться, и ему казалось, что все улажено. Оказалось, что в это дело вмешалась полиция. Отец записывает: «Пришлось ехать к полицмейстеру. Он даже не удостоил меня своим приемом. Пришлось объясняться с помощником Мне было объявлено, что протоколу будет дан законный ход Что княгиня считает инцидент исчерпанным — это еще не все. Княгиня одна не составляет общественного мнения. Поживем увидим».
Отцу удалось случайно познакомиться с судьей. Судья сказал, чтобы отец не волновался, так как он ознакомился с его делом, считает его пустяшным и назначит его к слушанию тогда, когда отец уже уедет, а там за ненахождением обвиняемого дело будет прекращено.
Цирк наш влачил в Калуге жалкое существование. Не помогла борьба, не помогли выписанные слоны, даже торт сделал только один сбор. Дирекция не знала, что делать, куда ехать. Неожиданно приехал передовой Анатолия Дурова, Ленский, и предложил гастроли Дурова.
Дирекция с радостью согласилась.
Дана была большая реклама, и через несколько дней приехал Дуров.
Анатолий Дуров — большое явление в цирковом искусстве, он оказал такое влияние на наш с отцом репертуар, что о нем я должен говорить совершенно отдельно, вне зависимости от его выступления в Калуге.
ГЛАВА XIV
Анатолий Дуров. Вологда. Репертуар, созданный под влиянием А. Дурова. Архангельск. «Разговор с рублем». «Прежде и теперь». Сергей Сокольский — «некто в рваном». Вологда. Чемпионат Петра Крылова. Вражда братьев Дуровых. Владимир Дуров в Вологде. Опять цирк Никитиных. Казань. Труппа. Батуд. Человекообразная обезьяна Мориц. Иваново-Вознесенск. Японцы на раусе. В цирке Малевича в Одессе. Элен Варье-Шуман. Я — кандидат в помощники Пуришкевичу. Столкновение с приставом. Клоунский клуб. Полеты Ивана Заикина. Чума в Одессе. Антре с крысой. Спуск Уточкина на велосипеде с одесской лестницы. Мориц в скэтинг-ринке. Кишинев. Измаил. Работа в кино. Опять Кишинев. Безработица. Рихтер и его зверинец. Витя Толстый.
0б Анатолии Дурове можно было бы написать целую книгу. На цирковой арене второго такого самородка не было. В театре нашем не раз бывали, самородки, например, Щепкин и другие, но в театре есть и были школа, метод и культура. В цирке же каждый артист доходит до всего сам. Анатолий Дуров был новатором, он — интереснейшее явление эпохи расцвета русского цирка. Куда ни приезжал Дуров, цирк был полон. Приезжал же он обычно не более как на четыре-пятъ дней, причем, гастролируя, брал с дирекции львиную долю: пятьдесят процентов с валового сбора. Все же расходы относились за счет дирекции: дирекция давала здание, свет, рекламу, труппу. Любопытно отметить, что после дуровских гастролей цирку нечего было делать в городе, — сборов не было, приходилось «сматывать удочки».
Анатолий Дуров был необычайно талантлив, это сказывалось во всем. Одно время он увлекался рисованием, стал очень хорошо рисовать, причем и тут ему хотелось внести что-то свое, и он рисовал на стекле особым способом, делая задний план картины на обратной стороне стекла и более близкие предметы изображая на передней его стороне. Писал неплохие стихи, хорошо лепил. За что бы он ни взялся, вое ему удавалось. Он был интересным и очень остроумным собеседником и в то же время человеком взбалмошным и большим самодуром. Не раз бывало, что все билеты на представление проданы, а Анатолий Дуров заявляет дирекции, что сегодня работать не будет. Дирекция волнуется, протестует. Дуров же спокойно заявляет: «Не беспокойтесь, завтра придут». Забирает всю труппу и едет с ней кутить в ресторан.
Он первый из клоунов решил выступить без грима, в богатом костюме. Первый заговорил с арены чистейшим русским языком, стал читать стихи, рассказывать анекдоты. Как клоун-сатирик, он не раз подвергался репрессиям со стороны полиции и высылался из ряда городов без права въезда в них. Я видел его раньше до его гастролей в Калуге и всегда вспоминаю о нем с восхищением. Второго Дурова, повторяю, нет, и вряд ли появление его возможно.
Он стоит перед моими глазами как живой.
Первый дебют в Калуге. Цирк полон. Вся труппа в униформе. Режиссер объявляет: «Анатолий Дуров!» — и цирк дрожит от аплодисментов. На арену торжественно выходит среднего роста человек в пестром парчевом костюме, весь увешанный жетонами, с бриллиантовой звездой эмира бухарского. Лицо без грима.
Маленькие усики. Он раскланивается с приятной улыбкой на все стороны. Цирк затихает. Вое напряженно ждут, что скажет Дуров. А с арены уже доносится:
В глубокую старинушку,
В домах бояр причудливых
Шуты и дураки носили колпаки.
А в нынешнее время
Мы видим в высших обществах
Шутов и дураков без всяких колпаков.
Голос и дикция у Дурова были изумительные. Дар слова — неповторяемый. Так свободно говорить с арены умел только он один. Животных у Анатолия было очень мало. Четыре или пять собачек, петухи, крыса и кошка, свинья и пеликан. Главное Действующее лицо в его выступлениях был он сам и его удивительно меткий и образный язык. На манеже он бывал около часа, каламбуры его прерышлись показом животных, показом, который тоже сопровождался каламбурами.
Привожу несколько его реприз. Пеликан его изображал, как мелкий чиновник ходит перед начальством. Птица вся изгибалась и ползала по земле. Дуров выводил свинью и, демонстрируя ее, говорил: «Смотрите, свинья эта куцая, как наша конституция». Из-за свиньи он был выслан из Нижнего. Позже уже при губернаторе Хвостове ему также было запрещено говорить о конституции. Тогда он на другой день вывел свинью с завязанным хвостом. Бго стали опрашивать, почему у свиньи хвост завязан. Отвечал: «Не могу сказать. Про хвост Хвостов запретил говорить».
За это он был вторично выслан.
Была у него такая реприза. По ходу действия разговор в репризе идет об обмане. Дуров начинал жаловаться и говорил: «Если министр министра обманывает, то говорят, что это — политика. Генерал генерала обманывает — это стратегия. Купец купца обманьшает — коммерция. А наш брат, если кого надует на целковый, все хором кричат: «Жулик!»
В репризе по поводу русско-японской войны у него был следующий диалог. «Почему у нас на Дальнем Востоке так мало пулеметов? — Потому что своя рубашка ближе к телу: зачем отдавать пулеметы чужим, когда они нам нужны для своих».
Была реприза, выясняющая основы российской политики.
Униформа выносила огромные буквы и строила из них слово «доклад». Дуров говорил: «Министры у нас делают каждый день доклад».
Он убирал букву «д» и продолжал: «Чиновников интересует оклад».
Убирал, букву «о»: «Для бюрократов старый режим клад».
Убирал одну за другой две последние буквы: «Правительство всеми силами старается, чтобы был лад».
«А на самом деле у нас на Руси — ад».
Привожу стихотворение, которое каждый раз имело большой успех.
Дом покосившийся, стекла разбитые,
Вместо забора следы частокола,
Двери и окна для ветра открытые —
Вот русская сельская школа.
Домик уютненький, все так приветливо.
Солнышко. Травка. — Здравствуй, сиделец!
— Наше почтение. Скинута шапка.
Вот казенная винная лавка.
У Анатолия Дурова был знаменитый горшочек с землей. Он выносил его, брал оттуда землю и пригоршнями бросал ее на арену.
Его спрашивали, что он делает. Он отвечал: «Это горшочек земли для крестьян. Землицей их обделяю».
Заканчивал он свою программу аллегорическим шествием животных. Орел в клетке в цепях был символом конституции. Выезжал на осле со свистком Пуришкевич, шла в поводу у генерала корова Стесселя[39]. Шествие заключала городская управа в виде двугорбого верблюда. На горбах надписи: «водопровод» и «канализация». Шествием программа заканчивалась.
На второй день Анатолий Дуров давал «качели». В качелях сидели свиньи, а Дуров пел куплеты под музыку из оперетты «Веселая вдова». Показывал «Войну животных». Для этого номера он покупал в городе кур, гусей, поросят. Поросята и куры рассматривали военную карту, на которой была разложена пища. Репетировал он с ними всего несколько дней. Учил их на корм. Его крысы и кошка сами забирались в дирижабль, который летал на веревочке. Обращаясь к крысам, он говорил стихи, вызывавшие восторг зрителей,
Порошок от крыс купите, — объявление гласит.
Он в минуту радикально всех вам крыс поистребит.
Но, скажите, отчего же нет отравы никакой
Против тех двуногих крыс, что размножены войной.
Против тех, кто без стесненья провиант солдатский сгрыз…
И т. д. И кончал:
Против этих крыс двуногих, обыщите весь вы свет,
К сожалению, поверьте, никакой отравы нет.
Всех каламбуров Дурова не припомнить. Успех он имел главным образом у галерки. Партер порнографическое предпочитал политике. Дуров каламбурил не только на арене, он любил острить и в жизни. На станции Клин побили сербского драгомана[40], хотевшего пройти в буфет. Инцидент на разные лады обсуждался газетами. Через два дня станцию Клин проезжает Анатолий Дуров и посылает в газеты телеграмму: «Проехал Клин благополучно. Дуров».
Дуров проработал у нас в Калуге шесть дней (апрель 1910 года). Цирк снялся и переехал в Вологду. Отец уехал в Москву, чтобы услышать о новинках и сообразить, как там построить репертуар. Мы твердо решили работать, выступая с злободневным сатирическим репертуаром. Отчасти на наше решение повлияла проходившая только что перед иашими глазами работа Дурова, отчасти оно созрело под влиянием публики, которая жаждала злободневности. Несколько реприз дал нам Дуров. Затем мы стали следить за газетами и журналами.
В Вологде мы застали второе отделение цирка Изако и ждали, пока оно уедет, чтобы начать нашу работу. Отец привез из Москвы «Разговор с рублем» и «Прежде и теперь». Эти две вещи положили начало нашему сатирическому репертуару. «Разговор с рублем» дал отцу Сергей Сокольский. Настоящее имя Сокольского — Сергей Ершов. Отец его был цирковой артист, работал в маленьких цирках на трапе. Однажды он упал с трапеции и разбился.
С Сережей мы познакомились в Астрахани. Мы работали у Никитиньгх, он--на открытой сцене в саду «Отрадном». Встретившись с отцом в Москве, он подарил ему свои фотографии и помог нам советами при; создании нового репертуара. Сам он выступал в Москве в шантане «Золотой якорь» как «Некто в рваном», «Человек-пулемет», «Говорящее существо», произносящее тысячу слов в миниту. Отец очень хвалил его выступления.
Текст «Прежде и теперь» сообщил отцу гармонист Петр Невский.
Когда мы приехали в Вологду, то Изако тотчас же предупредил нас, чтобы мы не касались политики, иначе цирк будет закрыт. Публика в Вологде, по выражению отца, «была мягкая, но с черносотенным душком». Мы с отцом стали разучивать «Прежде и теперь». Читали попеременно, каждый по две строки, отец о том, что было прежде, я о том, что есть сейчас.
Прежде деды наши жили лучше нас, хотя и были
Неученые.
А теперь у нас мальчишки понимают все интрижки.
Просвещенные!
Через два дня мы выступили с чтением и имели большой успех. Успех «Прежде и теперь» показал нам, что надо продолжать выступать с чтением. Отец заставлял меня каждый день разучивать разные стихотворения и декламировать их. «Разговор с рублем» читал он сам. Я привожу это стихотворение потому, что скоро его стали читать повсюду: в цирке, в шантанах, с эстрады. Но взято оно было цирком, конечно, с эстрады или из шантана. Отец выходил с серебряным рублем в руках или его ему подавали на подносе. В последнем случае он спрашивал, зачем ему этот рубль и от кого он. Шталмейстер предлагал отцу спросить об этом рубль. Отец подбрасывал рубль и начинал:
Скажи мне, стертая монета, откуда ты ко мне пришла?
Я жду подробного ответа. Где родилась и где была?
Чрез сколько рук ты проходила, что покупали на, тебя,
И много ль душ ты загубила? Интересует все меня.
Быть может, с горькими слезами и страшной злобой на судьбу,
Тебя добыть чтоб, вечерами мать продавала дочь свою?
Иль, может быть, тебя в казенку наш бедный пахарь притащил
И, распевая спьяну звонко, тебя он в день один пропил?
Откуда ты ко мне явился? Прошу тебя, скажи, целкач.
Когда ты только в мир явился, какой тебя схватил ловкач?
Ты бюрократу ли в награду впервые выдан был, друг мой?
Иль пенсию кому в отраду изобразил тогда собой?
Но ты, целковый, не желаешь и разговаривать, со мной.
А разве ты того не знаешь, что господин я над тобой?
Могу тебя забросить в реку, могу купить, что захочу.
На то и дан ты человеку. А впрочем… я шучу…
И т. д.
Стихотворение это было в те годы очень и очень, как говорили, модным. Было у нас с отцом много мелких реприз, но мало интересных. На политические же темы в Вологде говорить было нельзя, да и в других городах репрессиям мог подвергнуться не только тот, кто говорил, но и дирекция цирка. Артисты же были в полной материальной зависимости от дирекции.
В Вологде вскоре открылся чемпионат Петра Крылова[41]. Сам Крылов был любопытный человек, и о нем стоит сказать несколько слов.
Он был раньше штурманом дальнего плавания. Всех людей он делил на «джентльменов» и «паразитов». Ходил всегда надутым и постоянно качал головой для того, чтобы шея у него была толще. Если при встрече кто-нибудь говорил Крылову: «Что-то ты похудел», Крылов становился его заклятым врагом. Он сейчас же надувался и говорил сердито: «Это вы, джентльмен, врете. Я только сегодня взвешивался и прибавился за неделю на два фунта с четвертью. Кроме того, я за последнее время не качаю».
Это «не качаю» означало, что он не тренируется с двухпудовыми гирями.
Он сиял, когда ему говорили, что он пополнел и что мускулы у него, как налитые, и сейчас же приглашал собеседника в кафе пить кофе. Как-то раз жена его Валерия, красивая, полная женщина, ему изменила с клоуном Бонжорно. Крылов узнал об этом, пришел в уборную и стал плакать, говоря: «Джентльмены, что же это такое? Валерия, шкура, мне изменила. Да хоть бы с человеком, а то двух пудов выжать не может!»
Крылов был очень силен, но большой трус.
Чтобы объявить населению о начинающейся борьбе, перед цирком и в городе на щитах расклеены были многокрасочные плакаты, отпечатанные за границей. Борцы изображены были при всех регалиях, жетонах и крестах.
И я сам наблюдал, как деревенские старушки подходили к плакатам, всматривались в них, крестились и говорили со вздохом: «Верно новые святые объявились».
Борьба, несмотря на рекламу, сборов не сделала. Дирекция стала вести переговоры с Владимиром Дуровым, братом Анатолия. В главе VI я уже рассказывал, со слов отца, как началась вражда двух талантливых братьев Дуровых. Говорили, что как человек, Владимир был лучше Анатолия. Разобраться в их вражде было очень трудно, так как оба они всегда жаловались друг на друга, а кто был прав, кто виноват — понять было нельзя.
В работе же они имели каждый свои достоинства. Анатолий как клоун-сатирик не имел конкурентов. Как дрессировщик зверей Владимир был выше Анатолия. У Владимира было очень много животных. Программа его была разнообразнее, и он мог дать большее количество представлений, постоянно меняя номера. У Владимира были редкие экземпляры животных. Был маленький слон, бычок-карлик, морские львы. Возил он с собой вагона четыре зверей, и, когда с вокзала их переправляли в цирк, это было лучшей рекламой, сборы были гарантированы. Но говорить он не умел; и на арене того апломба, какой был у Анатолия, у него не было. Братья постоянно крали друг у друга остроты и потом спорили, кто первый пустил остроту в ход.
Вражда их продолжалась до конца жизни обоих.
Владимир Дуров приехал по приглашению дирекции в июне 1910 года, и сборы во время его гастролей были хорошие. В это время мы с отцом получили предложение от Малевича из Одессы работать у него весь следующий зимний сезон. Сезон у Малевича должен был начаться 7 октября. Дать мы должны были два номера: акробаты и антре. Жалованье Малевич нам предложил хорошее — пятьсот рублей. Отец решил принять предложение Малевича, расстаться сейчас же с Изако и до октября работать по садам. Он оставил нас в Вологде, а сам поехал искать работу в Ярославль. Из Ярославля он хотел проехать пароходом в Нижний. План его удался, и в Нижнем он сговорился с Никитиными, которые пригласили нас до октября. Ехать надо было сначала в Казань, потом в Иваново-Вознесенск. Мы оставили часть багажа в Вологде у хозяина, чтобы не таскать его с собой, и уехали.
Я очень боялся моего первого дебюта в Казани. Там привыкли видеть отца с Бернардо — и вдруг выступать буду я. За номер с Костей я был спокоен и зпал, что он у нас пройдет хорошо. Но антре с отцом? Я волновался ужасно и не спал всю ночь. В Казани директором был Петр Никитин. Аким Александрович был в Нижнем на ярмарке.
Для дебюта нас с Костей поставили третьим номером в первом отделении. Выступать с отцом я должен был в первом отделениишестым номером. Акробаты Альперовы были уже два мальчика в белых костюмчиках. Работали мы в быстром темпе, восемь минут,
делая за это время много трюков. С Костей мы отработали не особенно удачно, меня так волновала предстоящая работа с отцом, что это мешало мне в работе с Костей. Клоунский номер наш прошел очень хорошо. Все артисты поздравляли нас с успехом. Я так
устал и был вce время в таком напряженном состоянии, что, придя домой, свалился и заснул.
На другой день вся работа прошла очень хорошо, и Никитин предложил нам остаться в цирке на год. Отец показал Петру Акимовичу подписанный с Малевичем контракт.
Труппа в Казани была сильная. Из старых наших знакомых здесь были братья Костанди, наездники Фабри, акробаты Бальцерс, которые приехали из-за границы с новинкой. Они привезли с собой резиновый матрас, который на цирковом языке называется «батудом». Батуд этот представлял собою двухаршинный квадратный железный каркас, на котором натянут на резинках (в палец толщиною) брезент, рядом е батудом ставят пьедестал. С пьедестала акробат прыгает на брезент, туго натянутый на резинках, его поддает, и он крутит сальто. Приходя на плечи к другому акробату, или же делает подряд бесконечное количество сальто, приходя каждый раз на батуд и снова отталкиваясь от него.
В цирке произошел курьезный случай. По программе первым номером должна была выступать гимнастка Элеонора. Она выходила на арену, взбиралась на пьедестал, снимала манто, нажимала рычаг, и ее пружиной подбрасывало вверх аршин на семь; она хваталась за трапецию и начинала свою работу. Реквизитор Степан до начала представления загребал на арене песок, заправляя манеж. Окончив, он сел на пьедестал и начал крутить козью ножку, чтобы выкурить махорку. Нечаянно он задел рычаг, его подбросило вверх, по направлению к местам он летел архангелом и на другой день ни за что не хотел итти загребать песок на манеже.
На гастроли в Казань приехала труппа Ямада-Сана, о которой я уже писал, и человекообразная обязьяна Мориц Второй. Обезьяна, из породы шимпанзе, была очень похожа на человека. Не хотелось верить, что это обезьяна. В публике говорили, что это человек-лилипут. Работал Мориц бесподобно. Разрезал пищу ножом, ел с вилки. Откупоривал штопором бутылку. Раздевался и одевался сам. Сам расшнуровывал себе ботинки, завязывал и развязывал галстук, умывался. Он катался на роликах и прекрасно ездил на велосипеде.
Но всего интереснее было наблюдать Морица у него в комнате. По договору ему была отведена отдельная уборная. Она была обита войлоком и утеплена, При Морице всегда находился дрессировщик или его помощник. Спал Мориц в большой клетке под одеялом. Как только он просыпался, его сейчас же заставляли одевать штанишки, фуфайку и ботинки, поили его теплым молоком, давали ему яйцо и фрукты. Ел он, как человек. После еды он влезал на кольцо или трапецию и там проделывал изумительные упражнения. Если же присутствующие увлекались разговором и переставали обращать на него внимание, то его обезьянья природа брала верх, он незаметно снимал ботинки и начинал лазить по всей комнате.
Я просиживал у него часами, играя с ним. Играть он любил, как ребенок. Дрессировщик занимался с ним ежедневно по четьире часа. Учил его причесываться. Положит ему гребешок в руку и заставляет причесываться и так много раз под ряд, пока, наконец, Мориц не научился это делать. Был он необычайно любопытен. Если его что-нибудь заинтересует, то он забывает все и смотрит только в ту сторону, где находится заинтересовавший его предмет. Очень любил детей.
Обезьяна была на редкость интересная и пользовалась громадным успехом у публики.
9 сентября 1910 года мы закончили работу в Казани и переехали в Иваново-Вознесенск. Город этот нисколько не изменился за наше отсутствие: та же непролазная грязь, частые дожди, холод и сырость в цирке, те же балаганы на ярмарке, та же толкучка. К нашему удивлению перед цирком был выстроен payc. Оказалось, что выстроили его специально для труппы Ямада-Сана. В праздничные дни Никитин давал несколько утренников только силами японцев, совсем не занимая труппу.
Балаганщики роптали на Никитина: «Ишь, миллионщик у нас хлеб отбивает».
Отработав в Иванове-Вознесенске, мы уехали в Одессу к Малевичу. Труппа у него была очень большая. Были приглашены несколько мелких цирков с конюшнями (Вяльшина, Нони Бедини, Егорова). Цирк был открыт Малевичем не на свое имя, а под фирмой ангажированной им из-за границы наездницы высшей школы верховой езды баронессы Элен Варье-Шуман. Клоунов в цирке было много: братья Фернандо, Вуд и Май, Жакомино, Савосто, Вольдемар и Альперовы отец и сын.
Первое представление прошло очень торжественно. Когда мы вышли на арену, отца встретили аплодисментами. Он начал с того, что представил публике меня: «Позвольте представить вам моего нового партнера. Молодой человек в декадентском стиле. Всем ничего, но у него (отец показал на мою голову) шкатулка рассохлась, привез я его к вам подлечить На лимане, а вылечу, пошлю в помощники Пуришкевичу».
В первую минуту цирк как бы застыл, потом как по мановению жезла все головы повернулись в сторону губернаторской ложи, где сидел губернатор Одессы Толмачев.
После нашего номера публика наградила нас шумными рукоплесканиями. Ничего не подозревая, мы пошли за кулисы, видим — стоят два городовых. Так как был антракт, то за нами вошло много народу, видно было изрядное количество студенческих фуражек. Откуда-то сразу появился пристав и стал грозить отцу арестом за то, что он своего дурачка (пристав указал на меня) называет именем члена правой партии. Скандал разгорелся только потому, что Малевич[42] взял пристава под руку и увел его. Потом через некоторое время вернулся к нам и сказал, чтобы мы не обращали внимания на этот инцидент, что он все уладит. На другой день нам было запрещено говорить про кого-либо из правых партий.
Запрещение стало известно в городе. 8 октября отец записывает: «Малевич привел к нам в уборную двух редакторов, чтобы мы им рассказали о вчерашнем инциденте с полицией».
История эта кончилась ничем. Нам пришлось только перестроить репертуар и не касаться политических тем.
Скоро в цирке организовался клоунский клуб. Хотели примкнуть к клубу и остальные артисты, но их не приняли. Исключение сделали только для балетмейстера Нижинского. Каждый вечер шел какой-нибудь аттракцион, и клоуны в третьем отделении были свободны; они поочередно приносили закуски и вина, читали газеты, говорили о своей работе, и, просидев с часок-другой, расходились по домам. Беседа проходила очень дружно и интересно.
В Одессе появились огромные афиши, извещавшие о полетах на аэроплане Ивана Заикина. В день полетов на бега потянулась вся Одесса. Я первый раз увидел аэроплан и полеты. Аэроплан был куплен для Заикина богачами Пташниковыми. 3аикин поднимался в этот день (15 ноября 1910 года) раза три и летал удачно. Последний раз неудачно сел и сильно разбился. Он пролежал в больнице дней десять. Полеты Заикина вызвали в цирке много разговоров, а когда он пришел, наконец, выписавшись из больницы, в цирк, то своим появлением произвел фурор.
Отец записывает: «Говорил в уборной с Заикиным. Последнее падение его ничуть не смущает, наоборот, он глубоко верит в свое новое дело, и если убьется, то… прежде чем умереть, он хочет заставить говорить о себе весь мир».
В Одессе были обнаружены чумные заболевания. Было объявлено, что полиция за каждую пойманную крысу платит по рублю. В клоунскую уборную пришел фельетонист газеты и рассказал отцу, что полиция платит за доставленную крысу по рублю, и сама отсылает их в Петербург и получает за каждую крысу по три рубля. Фельетонист предложил отцу как-нибудь продернуть полицию за это с арены. Отец передал об этом разговоре Малевичу. Малевич разрешил отцу сделать репризу, сказал, что ответственность берет на себя.
На субботнем представлении, когда публики под праздничный день было больше, мы выступили со следующей репризой.
По арене пробегала большая бутафорская крыса. Я бежал за кулисы, привозил тележку с капканом, ловил крысу, прыгал на нее. У крысы в животе был воловий пузырь, он лопался с треском. Я брал крысу за хвост с явным намерением ее выбросить. Отец останавливал меня и говорил, что бросать крысу не нужно, что она с Малой Арнаутской улицы (на этой улице было особенно много чумных случаев), что он снесет ее кое-куда, получит за крысу рубль, а кое-кто получит за нее потом три рубля.
Последняя фраза была принята с восторгом.
На следующий день в цирке был получен приказ «клоунам Альперовым на арене говорить не разрешается», вечером мы сделали акробатическое антре. После этого через арену пробегала крыса. Я без слов ее ловил, убивал, оставлял на арене, убегал за кулисы и возвращался на тележке с белым флагом (на чумные случаи Толмачев выезжал обычно с белым флагом) в одежде санитара с рыжими, как у Толмачева, усами. Было это в воскресенье. Цирк дрожал от аплодисментов. Малевич пришел в уборную и сказал, чтоб я не боялся, так как он заручился разрешением, где надо, и если нас вышлют из города, то мы от него будем получать жалованье до конца контракта. На другой день он нам сообщил, что говорить нам с арены разрешено, но чтобы с белым флагом мы не выезжали и про чуму и Пуришкевича не говорили. Сказал, что его вызывал к себе Толмачев, но, о чем они говорили с Толмачевым, нам не сообщил.
В сезоне было поставлено несколько пантомим как для взрослых, так и для детей: «Веселая вдова», «Вокруг света», «Конек-горбунок», «Кот в сапогах». Больше всего прошло представлений с повышенными ценами, когда начались гастроли Морица. Буквально вся Одерса говорила о Морице, какие-то сумасшед шие дамы присылали ему любовные записки. Я не видался с Морицем с Казани, т. е. три месяца.
Когда я пришел в его уборную, он сидел в клетке. Увидев меня, он стал биться и просить, чтобы его выпустили. Клетку открыли, Мориц бросился ко мне, стал меня обнимать, тормошить. Дрессировщик рассказал мне, что он в последнее время стал много проказничать, что от него уже два раза отбирали утащенные им спички. Рассказал также, что его предшественник Мориц Первый погиб оттого, что спрятал подмышкой спички, а когда все ушли, стал зажигать их и поджег находившуюся в клетке солому. Когда прибежали, клетка была вся в огне, и обезьяна погибла.
Однажды все мы пошли на знаменитую одесскую лестницу, и Уточкин за бутылку коньяку спустился на велосипеде с этой лестницы. Как он после такого фортеля остался жив, мне непонятно до сих пор.
Одесса в тот сезон (1910-11 год) увлекалась роликовыми коньками. В городе было два скетинг-ринка. Артисты наши бывали в одном из них почти каждый день от четырех до семи часов. Раз я вместе с дрессировщиком и Морицем отправились туда и катались там вместе с Морицем. Сделано это было, конечно, для рекламы. Морица закидали цветами.
Лучшим роликобежцем считался Сережа Уточкин и как фигурист, и как гонщик. Я не встречал более талантливого спортсмена. За какой бы спорт он ни брался, он всегда достигал первенства.
22 декабря 1910 года мы выехали в Кишинев, где было отделение одесского цирка. Зима в этот год стояла лютая, и работать в деревянном, плохо отапливаемом здании при двадцатиградусном морозе было мукой. Программа давалась одесская, часто менялись гастролеры, но из-за холода публика не шла в цирк. О выступлениях на политические темы нечего было и думать, город был черносотенный, и выбран от него был в Государственную думу черносотенец Крушеван. Как курьез можно отметить, что отцу дежурный пристав запретил исполнять на гармошке «Последний нонешний денечек», заявив, что песня эта революционная.
В местной газете вначале, пока цирк давал туда объявления, хвалили труппу, но как только объявления давать перестали, началась руготня. Привожу запись отца: «Бессарабец» из-за отнятого объявления начал пускать насчет цирка грязные стрелы, специально направленные в дирекционную сторону и лишь косвенным образом касаясь труппы вообще, не упоминая имён.
Вещь в нашей цирковой жизни заурядная». Газета продолжала каждый день уделять внимание цирку. Клоуны в долгу не оставались, и началась перестрелка. Отец придумал такую репризу. Я выходил на арену с собачкой, а он начинал угощать собаку колбасой, давал ей ее, а собака не ела. Я заявлял, что моя собака есть колбасы не будет.
— Почему? Колбаса плохая?
— Нет, потому что она завернута в газету «Бессарабец».
По записи отца видно, что 16 января (1911 года) полицмейстер прислал предупреждение, чтобы никто не говорил ни слова о «Бессарабце», грозил в случае неисполнения его требования закрыть цирк. На этом конфликт газеты с цирком окончился. В «Бессарабце» больше не появилось ни одной статьи о цирке.
7 февраля закончился наш контракт с Малевичем. Ничего в виду у нас пока не было. Неожиданно из Измаила пришло предложение из тамошнего синематографа выступать после каждого киносеанса. Синематограф предлагал нам не жалованье, а двадцать пять процентов со сбора. Мы решили оставить мать и сестер в Кишиневе, а сами отправились в Измаил на работу. На поезде мы доехали до Троянова вала, а оттуда сорок восемь верст сделали на лошадях. В Измаиле, маленьком городке, нам были приготовлены две комнаты. Отец сговорился с хозяйкой, чтобы она кормила нас Она попросила за нас троих два рубля в день. Такой дешевизны мы нигде до того не видали. Зато дороги были в Измаиле дрова, вернее — их нельзя было достать ни за какие деньги. И печи топили длинным камышом, причем камыш не резали, а клали в печку целиком и потом сидели около печки и подталкивали туда камыш, как только конец его сгорал. Вино в Измаиле стоило семь копеек кварта. Вино было молодое, в нем плавал виноград. Оно было очень вкусное и казалось слабым, но через некоторое время от него чувствовалась необычайная тяжесть в ногах.
Измаил стоит на берегу неширокой речки. С противоположного берега доносились голоса и лай румынских собак.
10 февраля состоялся наш первый дебют. Мы работали после двух киносеансов. Мне пришлось два раза работать с Костей и два раза с отцом. Заработали мы за вечер втроем четыре рубля восемьдесят пять копеек. Цены на билеты были очень низкие, а потому мы за свой труд получали гроши. За десять дней работы мы втроем заработали 93 рубля, причем работали после четырех сеансов, то есть я работал за вечер восемь раз. Мы вернулись очень быстро в Кишинев.
С 21 февраля начался великий пост. Впереди не было никакой перспективы. Без работы мы тосковали и скучали. Отец посылал телеграммы во все цирки. Из ряда цирков просто не было ответа, другие писали, что на пасху, может быть, наши услуги им будут нужны и предлагали перед пасхой списаться.
Положение было скверное. Хорошо, что отец всегда откладывал в удачное, в смысле работы, время немного денег на черный день. А сколько было на Руси артистов, которые, работая, жили на одном хлебе, а оставаясь без работы, буквально голодали. Ничего еще, если безработица застигнет тебя в большом городе, где есть трактиры. Там на хлеб так или иначе можно было заработать, так как всякая цирковая семья играла на каких-нибудь инструментах: гитаре, мандолине или балалайке. Одна семья могла составить небольшой оркестр и этим просуществовать некоторое время. Плохо только было, если пасха ранняя и холодная. Итак, мы застряли без работы в Кишиневе. По вечерам играли с отцом в шашки, читали. Днем репетировали дома, а иногда, когда было потеплее, ходили в пустой цирк и там тренировались. Каждый день вся наша семья с нетерпением ждала почты. Но писем не было.
Как-то мы заметили, что на базаре в одном из пустых магазинов открылся маленький зверинец. В зверинце были: обезьяна, три попугая; белка, лиса, енот и курица с человеческим лицом. Тут же показывали карлика и двенадцатилетнего мальчика Витю, в котором весу было до тринадцати пудов. Содержателем этого зверинца оказался старый цирковой артист Рихтер. Мы с ним никогда не встречались и вместе не работали, но он слыхал о клоунах Альперовых, и, когда мы к нему зашли, он очень обрадовался. Мы стали проводить у него в зверинце много времени, он подолгу беседовал с отцом, рассказывал ему, как удалось ему открыть его маленький зверинец, говорил, что, работая со зверинцем, он уже мог купить небольшой домик в Бендерах и отдать детей в гимназию. Однажды он остался, так же как мы в Кишиневе, на бобах в маленьком бессарабском городишке. Познакомился с шарманщиком-болгарином, у которого была обезьяна, и они стали вместе ходить по Бессарабии. Рихтер был акробат и мог делать каучук.
В одно из скитаний шарманщик заболел и умер. Перед смертью он дал Рихтеру адрес сына и просил его переслать ему в Болгарию шарманку. Обезьяну же подарил Рихтеру. Рихтер некоторое время походил еще с шарманкой. Раз к нему подошел человек в пенсне и просил его притти с обезьяной и шарманкой в городскую школу. Сказал, что за представление свое Рихтер получит с каждого ученика по пятачку. На другой день Рихтер отправился в школу. Там собралось около ста детей, и Рихтер получил за свою работу с обезьяной и за игру на шарманке пять рублей. Это навело его на мысль перестать ходить по дворам. Он стал прежде всего заходить в школы и предлагать там свои услуги. За лето он сумел уже приобрести ежа и белку и решил открыть зверинец. Он отослал шарманку в Болгарию. Начал ездить по ярмаркам, снимал пустующие магазины, вывешивал плакаты, нарисованные масляной краской. Где-то подвернулся ему Витя Толстый, который служит у него на всем готовом за сто рублей в месяц уже второй год. Рихтер жаловался отцу, что Витя жрет слишком много и непомерно толстеет. Так же случайно попал к нему и карлик.
— На наш век дураков хватит, — говорил Рихтер, убеждая отца последовать его примеру, — только зверинец открывай небольшой. Базары всегда дадут деньги. Вот у меня вход по десять копеек в городе, а на базаре по двадцать пять. Сто человек придут — вот уж двадцать пять рублей и набежало. А расходов почти никаких. Помещение и корм — три рубля в день. А тут еще курица помогает. За нее отдельно по пятачку беру. Мне она самому двести рублей стоила, цыгану отдал, который мне ее еделал. Я теперь сам таких куриц сотню сделать могу. Вот видишь, а теперь у меня и домик, а главное — дети учатся. Не хочу, чтобы они балаганщиками были. Бросай работу, открывай зверинец. Меня же потом благодарить будешь.
Отец начал колебаться. Писем попрежнему ни от кого не было. Он начал склоняться к тому, чтобы поехать в Москву и там купить мелких животных, но против этого категорически восстала моя мать. Она и слышать не хотела ни о каких зверинцах, да и мы начали протестовать и даже не раз поплакали от огорчения.
Отец ворчал: «Не хотите жить на одном месте, ну и скитайтесь, ваше дело».
Мы с Костей постоянно торчали в зверинце Рихтера и подружились с Витей. Мы старались не подчеркивать, что он так неимоверно толст. По договору он после объяснений Рихтера по поводу зверей выходил и сообщал посетителям, как его зовут, сколько ему лет. Говорил, что родился он от нормальных родителей и уже сейчас поднимает два пуда, а ему только двенадцать лет (на самом же деле ему было шестнадцать), предлагал посетителям свою карточку с приложением биографии за пять копеек. Собранные деньги он потом делил поровну между собой и Рихтером. Ему очень не нравилось, когда его спрашивали, как он ест. Он явно сердился и отвечал: «нормально». А на самом деле он вечно что-нибудь жевал. От него мы узнали, как делается курица с человеческим лицом и руками.
14 марта 1911 года пришла, наконец, телеграмма от Бескоровайного из Феодосии. Отец послал согласие, мы быстро собрались и уже 15-го выехали. Мы радовались, что опять начинается работа, что скоро мы будем в цирке, среди своих цирковых артистов.
ГЛАВА XV
Феодосия. Жуткие сборы. Батум. Владикавказ. Цирк Первиля. Арест Рибо. Цирк Рудольфо Труцци. Музей Анатолия Дурова. Чемпионат Вани Лебедева. За кулисами борьбы. Балалаечник Пропащий. Парашютист Древницкий. Цирк Поторжинского. Цирк Альберта Сура. Полтава. Энрико Растелли. Воронеж. Нижний. Павлово. Муром. Ярмарка в Касимове. Ян Польди. Козлов. Губернаторская ложа. Конец работы у Альберта Сура.
Погода в Феодосии стояла теплая. Цирк был каменный, и принадлежал он Бескоровайному. В труппе старые знакомые: клоун Рибо с животными[43], наездник Курто с женой. Состав труппы очень приличный. Отец просил дать ему два дня для подготовки номеров. Дебют наш прошел очень хорошо, но сборы в цирке были просто жуткие. Отец ворчал: «Ну вот вам и цирк. Говорил, — надо зверинец открывать. Не хотели, — теперь сидите на бобах».
Бескоровайный ходил угрюмый и решил на пасху ехать в Батум. Поехали мы пароходом. Город показался мне сказкой. Пргода жаркая, на бульварах тропические растения и море роз. Зато здание цирка было ужасное, без окон, темное, сделанное из какого-то сарая. Мы начали играть только на второй день пасхи. Времени свободного было много, и потому мы с отцом ходили часто в Ботанический сад, любовались там столетними пальмами и другими тропическими растениями.
Накануне пасхи над Батумом пронесся ураган. Мы пошли с отцом посмотреть на море. У меня дух захватило от страха, и от волнения, и от восхищения. Казалось, что огромные волны сейчас бросятся на землю, зальют и поглотят ее. Мне было так страшно, что и (уже взрослый) крепко сжал руку отца. Совершенно невольно перед этим страшным и величественным зрелищем вспоминалась пословица: «кто в море не бывал, тот страху не видал», и мысли устремлялись к тем, кто сейчас носится по этим грозным волнам.
На другой день погода была опять прекрасная. Директор пригласил человек пятнадцать артистов. Мы вместе с ним и с его друзьями — турками — отправились на нескольких фаэтонах в опоры за десять верст, в какой-то расположенный в горах духан есть шашлык и пить вино. В духан пришли местные музыканты, и мы до самой ночи кутили в горах.
Первое представление прошло. Сбор был плачевный. Несмотря ни на какие афиши, несмотря даже на объявленную кавказскую борьбу, публика не шла. Объявлено было: «дамы бесплатно», но и это не помогло. В той гостинице, где мы жили, жили и артисты драматической труппы Константина Шорштейна. У них дела были настолько плохи, что им не на что было уехать. Их передовой обещал им прислать денег на дорогу, а они уже и все перезаложили и сидели полуголодные. Шорштейн бывал у нас, мать угощала его обедом или ужином, и он чуть не плакал
от отчаяния.
Отец надоумил его предложить какому-нибудь обществу дать спектакль в его пользу с тем, чтобы часть сбора пошла артистам. Шорштейн обратился к Вольной пожарной дружине. Та согласилась, и сама продала все билеты. Мы в вечер пектакля были свободны и пошли смотреть труппу Шорштейна его самого. Шла пьеса «Семья преступника». Билетов было продано на двести рублей, артистам дали сто рублей, Шорштейн был трагик и свою роль провел отлично.
На другой день драматическая труппа получила известие, что их передовой устроил им десять гастролей в Екатеринославе и выслал им на дорогу пятьсот рублей. К вечеру пришел телеграфный перевод. На радостях труппа устроила пир, а на другой день вечером артисты уехали. Мы же остались влачить жалкое существование, играя через два дня в третий.
Отец опять стал рассылать телеграммы, ища более верного заработка.
Наконец, из Владикавказа пришло предложение от директора цирка Первиля приехать к нему на два месяца работы. Других предложений не было, и мы решили ехать во Владикавказ. Отец заявил Бескоровайному, что уезжает, и, как часто бывало в последнее время, получил от него в уплату за работу векселя.
Во Владикавказе цирк достраивали. Первиль держал цирк не ради наживы, а потому что любил его и ему без него было скучно. Он пригласил хороший чемпионат дяди Вани Лебедева и к нему подобрал одиннадцать артистических номеров. Программу он хотел составить таким образом: в первом отделении восемь номеров, во втором — три номера и в третьем — борьба. Мы приехали во Владикавказ под проливным дождем, и дождь лил, как из ведра, подряд целую неделю, так что нечего было и думать об открытии цирка.
19 мая 1911 года состоялось первое представление. Сбор был полный. Труппа маленькая, но зато большой чемпионат. В нем Вахтуров, Шемякин, Фриц Мюллер, Клементий Буль, два негра. Всего в чемпионате было человек тридцать пять борцов и арбитр дядя Ваня. На два первых отделения публика собиралась слабо, но к борьбе цирк наполнялся.
Первые представления прошли хорошо, потом опять начались сильные дожди, да и чемпионат был не на высоте. Не сумел его сорганизовать дядя Ваня. Наприглашал он одних знаменитостей. Никто из них не хотел ложиться, а это не давало возможности разжечь азарт и заинтересовать публику. Каждый из чемпионов желал взять первый приз и не. Уронить своего престижа, и потому получалась сплошная ерунда. Вахтуров выходил из себя, так как утром он с Лебедевым составлял программу борьбы, а вечером начинались споры и скандалы. Знаменитости не слушают, хотят вести борьбу по-своему. Мелких борцов всех уже уложили, а сильные никак не могут сговориться.
Чемпионат хорош только тогда, когда все правильно организовано, всем розданы определенные роли, и каждый знает свое место. В каждом чемпионате — свои герои, злодеи и комики. Все должно быть хорошо срепетировано, это та же труппа с хорошим или плохим ансамблем.
Нет ничего хуже, чем когда собрались одни чемпионы и начинается борьба в «бур»[44]. Публика заснет от скуки, так как борцы не показывают никаких приемов, либо стоят в стойке либо лежат в партере, пыхтят. В каждом чемпионате один из борцов был, как его называли, «буровик». Весь чемпионат его клал, но если приходил чужой борец и вызывал премьеров, то ему говорили: «Вы сперва нашего слабенького борца попробуйте». На самом же деле это был не слабый, а сильный борец, он мог бы положить любого из чемпионов. Конечно этот слабенький ломал чужого борца, и тот после такого неудачного начала смывался.
Знаменито составлял борцовую программу Лурих, он делал сборы почти повсюду. Основой чемпионата был он, брат его Аберг и Збышко-Цыганевич. У Луриха была хорошо подобранная труппа сыгранных борцов. Финал они разыгрывали между собой, не стеснялись ложиться на лопатки, лишь бы заинтересовать публику и добиться таким образом сборов.
Чемпионатов в те годы было много, но лучшими были: Лурих со Збышко, Крылов с Карлом Микулом, Мартынов с Милоном Аренским, Макдональд с Кохутой. Это были лучшие труппы борцов, и у них все было поставлено артистически. Чаще других мне пришлось наблюдать Крылова и Микула. Я очень любил смотреть, как они проводили борьбу. У них нередко арбитрствовал отец. И хотя все артисты заранее знали, чем окончится борьба, все же смотрели на нее с удовольствием, как на хорошую артистическую игру. Во время борьбы комиков-борцов можно было умереть со смеху. Лучшим борцом-комиком из тех, кого я видел, я считаю Михеля Майера. Он ходил по городу в своем национальном тирольском костюме. Работал он
В чемпионате Крылова.
В чемпионате Луриха был комик Муханура, тоже прекрасный комический артист.
Но мне больше нравился Михель Майер. Его борьба вызывала сплошной смех, причем всё что он проделывал на арене, он исполнял с таким серьезным лицом, так артистически, что мы всегда, поражались. Когда его противник-борец брал его подмышки, он изображал, что боится щекотки, и орал на весь цирк. Нужно было видеть, как он во время перерыва пил воду и захлебывался, а когда публика смеялась, он так строго смотрел на нее, что нельзя было удержаться от смеха. Уходя в перерыв в уборную, он нарочно мазал все тело валезином. Боровшийся с ним после перерыва борец возмущался этим, брал его на передний пояс и клал за ковром. Он же весь в опилках, прилипших к телу, хватал борца и клал его на лопатки. Цирк неистовствовал. Победы ему никогда не засчитывались. Его роль была чисто комическая. Это огорчало его иногда до слез. Нужно было видеть этого толстенького, низкого человека в слезах оттого, что ему не дают никого победить. Каждую борьбу он что-нибудь придумывал: или остановит музыку и вместо марша заставит играть ойру, или влезет на стол жюри, или сдерет с барьера ковер.
При правильной постановке дела финальная борьба давала несколько полных сборов. Надо было только уметь борьбу хорошо инсценировать. Особенно хорошо умели это делать Крылов и Микул. В Воронеже, в цирке Рудольфо Труцци, они делали бешеные сборы до глубокой осени. Сумели провести четыре реванша Крылов-Микул.
Карл Микул был «любимцем, публики», Крылов — «зверем», его любила галерка. Однажды они боролись сто десять минут вничью. Была объявлена вторая борьба без перерыва до результата. Перевес был (так это было задумано) на стороне Крылова, но под конец Микул положил Крылова за ковром. Крылов встал весь в опилках. Половина цирка кричала: «Правильно!», а вторая заявляла : «Неправильно!» А Крылов плачет и орет на весь цирк: «Православные, у кого крест на груди! Джентльмены! Вы же видите, что он меня за ковром положил».
В жюри — смущение. В публике — споры, крики. Крылов заявляет, что дает пятьсот рублей, если его положит Карл Микул.
Словом, каша заварена. Следующий сбор обеспечен. Во время третьей борьбы Микул все время жмет Крылова. Впечатление такое, что вот-вот он его положит. Наконец, перевес на стороне Крылова, и он несет его вверх ногами, вниз головой и так ударяет, что Микул падает без чувств, и его увозит карета скорой помощи. Последнее тоже было инсценировано.
После этого идет борьба на первый приз. Приз берет Крылов. Если рассказывать о всех борцовских трюках, то, пожалуй, не хватит и нескольких глав. Для меня же важно установить, что борьба — это артистическая игра, хорошо обставленная и срепетированная. Были, например, такие борцы-великаны, что их приходилось во время борьбы поддерживать, чтобы они не упали, и нельзя было их тушировать, то есть подавать вид, что они слабы, нельзя было брать их на прием. Бывали во время борбы и случайности, Так, во Владикавказе стушировал Вахтурова маленький борец Черный. В чемпионате все его клали. Начал с ним бороться Вахтуров и должен был по уговору положить его в шесть минут. Вахтуров должен был взять Черного на передний пояс, войти с ним на мост и там положить его, этим должна была закончиться борьба. Но когда Вахтуррв взял Черного на передний пояс и пошел с ним на мост, то случайно споткнулся и шлепнулся прямо на спину, держа на переднем поясе Чёрного, и так остался лежать. Арбитр во-время не засвистал, уже публика заорала ему: «Свисти!., свисти!., положил!..»
Получился конфуз. Когда Черный пришел за кулисы, борцы накинулись на него, и он получил пару здоровых затрещин. Он же, конечно, виноват не был.
В Сибири был очень популярен борец Бесов. Он прекрасно работал с железом и имел свой чемпионат. Его для рекламы возили оклеенного перьями в клетке и рассказывали, что он питается сырым мясом. С ним работал Терентий Корень, хороший поясник. Он был сильный человек: мог разорвать две сложенных вместе колоды карт; вбивал в двухдюймовую доску кулаком гвозди (доску предварительно клали в воду, чтобы гвозди легче шли).
Публику очень занимала борьба, и она приходила от нее в азарт. Часто можно было видеть, что на борцов ставили деньги.
Борцы не любили, когда им приходилось надевать маску. Это означало, что борец не должен ни с кем видеться, не имеет права выходить днем на улицу и целый день должен сидеть дома. Правда, борцы в масках получали увеличенное вознаграждение[45]. Среди борцов были фанатики своего дела. Они непрерывно тренировались.
Несколько раз за сутки мерили шею и би цепсы сантиметром, и если у него спросишь, какой он носит воротничок, он обязательно скажет на два-три номера больше. Стоило кому-нибудь сказать Крылову: «Такой-то хороший борец». А он в ответ: «Ну, какой же это борец, когда у него воротник сорок два».
Из борцов-зверей некоторые были на амплуа «злодеев». Таким «злодеем» был негр Жан-Амалью ля-Трибели, то есть страшный. Он во время борьбы бил, кусал. Публика возмущенно кричала и негодовала, и в момент наибольшего негодования борец-герой клал борца-злодея на обе лопатки. Это был один из трюков. Публика неистово аплодирует, герой убегает за кулисы, а злодей обращается к жюри и публике и заявляет, что сделал это случайно, в исступлении. Продолжая игру, тоже «в исступлении» он переворачивает стол жюри и уходит за кулисы. Оттуда же выбегает герой и заявляет публике, что зверь-борец хочет убить его. В итоге не нужно никакой рекламы, — сбор обеспечен. А вечером после представления герой и зверь, живя в одной квартире, дружелюбно разогревают себе на ужин котлеты и распивают очередную полбутылку водки. И зверь-трагик жалуется, что герой слишком нажимал на него коленкой и у него в непристойном месте синяк, ворчит, что во время борьбы не надо увлекаться и следует помнить, что ему сорок восемь лет, а не двадцать два года, как герою. После полбутылки они засыпают богатырским сном, забыв об инсценированной на арене вражде, а через день, заранее сговорившись, опять разыгрывают комедию, драму или трагедию, и все это только для того, чтобы сделать сбор.
Такова была оборотная сторона борьбы, которая привлекала массу зрителей, на которую тратились огромные деньги. Повторяю, что среди борцов были талантливые люди, которые играли в борьбу артистически.
Во время нашего пребывания во Владикавказе мы познакомились с очень известным в России балалаечником Пропащим, о которое много слышали раньше, но с которым нам не доводилось встречаться. Вот запись по этому поводу отца: «Дебют Пропащего без афиш прошел с большим успехом. Это лучший лапотный балалаечник, которого я в жизни видал».
Пропащий был преинтересный человек. Пьяница, но не буян, а тихий. Никогда никто от него не слыхал ни одного бранного слова. В цирке он появлялся всегда неожиданно и так же неожиданно исчезал. Имя его еще стоит в программе, а его уж и след пропал. Он очень любил молодежь. Всегда его все обижали. А этот талантливый человек придет скромненько к директору и скажет: «Я — Пропащий, дайте мне немного подработать». И даже о цене не уславливается, берет то, что дадут. Получил он за каждый выход. Проработает так пять-шесть дней и пропадет. Поездом он никогда не ездил, а ходил из города в город пешком или ехал на телеге.
— Что может быть красивей, — говорил он, — идешь ранним утром, солнышко встает. Кругом лес, поля. Идешь и думаешь, и легко на душе. Деньги есть — в лесу и поешь и выпьешь. А нет денег — подруга выручит,-он указывал на свою балалайку, — и в деревне, и в любом трактире накормит.
Он провел у нас пять дней, и я с ним очень сдружился. Мы предложили ему одеваться у нас в уборной. А он там и ночевал, там и пил. Пил он по маленькой рюмке, один, каждые десять минут. Но перед выходом на арену он часа за два бросал пить и все сидит, настраивает балалайку. Ну и действительно, она у него просто пела. Лучшим, что он исполнял, было попури из русских песен и затем скороговорки и поговорки разных губерний. Сколько он их знал! Перед тем, как начатъ играть и их нараспев говорить, он непременно скажет, где, в какой губернии это слышал. Публика его вызывала без конца. Он все исполнит и скажет: «Все».
Уйдет и больше не выходит — и сейчас же за водку. Я его любил, и он для меня по моей просьбе играл «Солнце всходит и заходит…» Как он эту песню исполнял! Играет — и как будто где-то кандалы звенят. Играет, а сам плачет и ничего не говорит. Ушел он от нас через пять дней. Приходим в цирк, а его уже нет. Встречал я его и позже. Он мало изменился, играл так же прекрасно. «Подружка» все еще слушалась и выручала его.
В первых числах апреля во Владикавказе появились рекламы о полете на свободном воздушном шаре и о спуске с него на парашюте парашютиста Древницкого. Полет состоялся на Тереке. Народу собралось множество.
Огромный воздушный шар надули необычайно упрощенно. Зажгли мокрую солому, от нее поднялся теплый дым, этим дымом наполнили шар. Под шаром была трапеция, на которую сел Древницкий с парашютом. Когда шар достаточно надулся, его отпустили, и он устремился вверх. Наконец, шар перестал подниматься. Древницкий дернул кольцо и бросился с парашютом вниз. Парашют раскрылся, и Древницкий спустился на землю. Шар продолжал лететь. За ним на извозчике поехал организатор полетов, стал следить, где он сядет, чтобы во время взять, а то боялись, что его порежут. Зрелище это по тому времени было новое и необыкновенное.
В конце сезона дядя Ваня уехал, и чемпионат распался. Первиль выписал другой чемпионат, но дело было уже испорчено, и борьба сборов не делала. Во Владикавказ приехала украинская труппа Суходольского. Сборы у труппы были тоже плохие. Тогда Первиль решил пригласить их выступать в цирке. Программу составили так: в первом отделении цирковые номера, во втором — украинская труппа, в третьем — борьба. Сборы по прежнему были слабые. Три сбора сделала пантомима «Тарас Бульба», поставленная силами цирка и украинской труппы. Играли ее и на манеже и на сцене, выстроенной для украинцев.
Первиль решил цирк закрыть. Его затея ему обошлась в две-тысячи рублей. Опять мы, так же как и другие артисты, оказались без работы. Опять телеграммы и письма, рассылаемые в разные города. Неожиданно, на наше счастье, во Владикавказ приехал директор цирка Поторжинский набирать артистов для открываемого им в Пятигорске цирка. Он дал нам пятьдесят рублей аванса, и мы решили поехать поработать у него.
В Пятигорске мы нашли прекрасную комнату и пошли осматривать город, так как открытие цирка должно было состояться только через два дня. Неприятное впечатление производила пятигорская публика, разодетая и праздная. Казалось, люди приехали не лечиться, а фланировать и выставлять напоказ свои туалеты. Цирк был сделан из сарая, публика сидела по обе стороны манежа. Условия для работы неважные: света мало и оркестр плохой. Труппа тоже была слабовата. Придя после первого представления домой, мы не могли без смеха вспомнить, как смешон был директор цирка на лошади. Ездил он сносно, но одет был необычайно. Черные чулки, желтые бархатные штаны, розовая рубашка и красный галстух. Сборы, конечно, были слабые. Курортная публика в цирк не шла, а городской состоятельной публики было мало. Одна надежда оставалась на борьбу. Анонс начальством был подписан, но когда пошли за разрешением на дамский чемпионат, такое разрешение не было дано, и сколько дирекция ни хлопотала, так разрешения и не получила. А дамский чемпионат делал везде хорошие сборы и начинал входить в моду. Лучший дамский чемпионат был у Алекса Миллера. У него было двенадцать дам-борчих крупного сложения. Они боролись в трико и вызывали на борьбу любителей.
На меня женская борьба производила очень неприятное впечатление.
Цирк наш влачил жалкое существование. И дирекция не знала, что придумать.
Мы с отцом после представления ходили принимать серные ванны, но не в курзал, а к источнику, который тек прямо с гор. Там была сложена из камней огромная ванна, вернее бассейн, где помещалось разом человек пятнадцать. Купались там одновременно и женщины, и мужчины. Ванны эти назывались «бесстыжими». Первое время нам было как-то неудобно, но все относились к такому совместному купанью просто и не обращали друг на друга никакого внимания. Доктора же говорили, что здесь вода теплее и насыщеннее и что такие ванны полезнее. Так прошли мы курс лечения, хотя было неизвестно, от чего мы лечимся.
В Пятигорске отец получил телеграмму, что клоун Ричард Рибо арестован. Вот запись отца по поводу ареста: «20 июля 1911 года Рибо привезли из Георгиевска сюда в тюрьму за реприз «Редкости». Обвиняют в политической неблагонадежности. Посажен он по распоряжению наказного атамана. Просит притти к нему в тюрьму»; А 21 июля он записывает: «Приехала по телеграмме вызванная мадам Рибо, несчастная, разбитая параличом. Дело с его освобождением осложняется. Им что, один сваливает на другого. Эта грязная история ему обойдется в хорошую копеечку, да сколько нравственно переварить придется». 23 июля отец пишет: «…Дело начинает принимать крутой оборот. В дело вмешалось бельгийское посольство, а наказной атаман жене Рибо сказал, что через десять дней его освободят, и затем советовал ехать хлопотать в Тифлис к наместнику. Словом, легко в тюрьму попасть, да не легко вырваться». 24 июля отец идет на свидание к Рибо, но его к нему не пропускают как к политическому, а 25 июля записывает: «Сегодня выяснилось положение Рибо. Наказной атаман просьбу жены о его освобождении оставил без последствий. Значит, ему придется, бедняге, сидеть неизвестно сколько, до трех месяцев. Завтра животных отправляют в Москву, и завтра уезжает мадам Рибо. Отвратительный финал. Говорили о вмешательстве в это дело бельгийского посла, но это только разговор». 14 августа отец добился свидания с Рибо. Тот был очень тронут его визитом.
Цирк Поторжинского закрылся, и мы опять вместо денег получили векселя. Отец решил ехать всей семьей в Москву. 22 августа мы сели в переполненный поезд и двинулись в Москву. В Воронеже отец увидел около вокзала афишу цирка Рудольфо Труцци. Он сошел с поезда, а мы поехали дальше в Москву. В Москве нас ждала телеграмма от отца, чтобы мы возвращались и Воронеж, так как он подписал на месяц контракт к Труцци, пробно, с правом пролонгации. Мы купили билеты, сели в поезд и поехали обратно в Воронеж.
30 августа состоялся наш дебют в цирке Труцци. Рудольфо в Воронеже не было. Он уехал в отделение цирка, работавшее в другом городе. В Воронеже была Мариетта и управляющий Кремзер.
Не успели мы после работы войти в уборную, как к нам ввалилась полиция. Привожу запись отца: «Вся работа, прошла, как дай бог, всегда. Но от громадной неприятности из-за Пуришкевича и чиновников спас меня только Кремзер. Черносотенная администрация во главе с чиновником особых поручений при губернаторе на стенку полезла. Хотели сейчас же ночью нас выдворить, из города. Вот до чего попал в точку. Только хорошие отношения Кремзера с полицмейстером нас спасли. И то и с нас, и с дирекции взяли подписку под страхом немедленного выселения из города ни звука не говорить в манеже острого». На следующий день отец записывает: «К нашему антре как бы сговорились. Целая куча полиции. В переднем выходе Кремзер и мадам Мариетта. В ложе вице-губернатор с полицмейстером. И вот, когда вся эта напряженно следящая за каждым нашим шагом ватага собралась, ахнуть бы что-нибудь крепкое политическое. Боже! С Кремзером бы наверное сделался разрыв сердца».
Чиновнику особых поручений не понравилась, как нам потом сказали, наша реприза о чиновниках. Шла она так.
Отец спрашивал, отчего меня не было видно и куда я на такой длинный срок уезжал. Я отвечал, что был в Японии чиновником, но мне пришлось уехать оттуда потому, что я заболел страшной японской болезнью «бери-бери».
— А что это за болезнь?
— Нечто вроде нашей чумы; если заболевший не переменит климат, то он умирает.
— Здорово! А я тебе хотел спросить, ты знаешь, какая разница между японским и русским чиновником?
— Не знаю.
— Не знаешь? Так я тебе скажу. Японский чиновник от «бери-бери» умирает, а русский чиновник от «бери-бери» карманы набивает.
Весь инцидент с полицией произошел из-за этого реприза.
В Воронеже обосновался Анатолий Дуров. У него был здесь дом, и дом этот он превратил в музей. Стоял дом Дурова на склоне горы. Высилась в живописном саду беседка, из нее открывался чудный вид. Дурова в Воронеже не было, но в дом и сад нас пустили, и мы с любопытством осматривали дуровский музей. Чего только там ни было, начиная с египетской мумии и кончая вертящейся комнатой и катакомбами. Все, что только в своей скитальческой жизни Анатолий Дуров видел интересного, он скупал и привозил в музей. У него было много хороших картин, была туркестанская комната с редкой коллекцией оружия. Он часто месяца по два не выходил из дому, с большим вкусом устраивая свой музей. Сам рисовал эскизы, сам работал с мастерами, делая все необходимое для размещения экспонатов. Музей его мне казался земным раем. Особенно красиво было вечером, когда весь сад с его гротами и беседками освещался электричеством.
В цирке скоро открылся чемпионат борьбы Крылова и Карла Микул. Состав был хороший, вели чемпионат умело, и он делал прекрасные сборы. Последние десять дней все время был аншлаг.
Наши служебные отношения с Рудольфо Труцци все как-то не налаживались. В Воронеж он не приехал и нас не видел. Пробный месяц наш кончался, и Труцци предложил отцу за те же триста пятьдесят рублей ехать работать в Ригу. Отец не соглашался. Он знал, что если сразу себя не зарекомендуешь как надо и не получишь хорошее жалованье, да еще в большом цирке, то потом трудно будет, как говорят артисты цирка, «поднимать себе марку».
11 октября 1911 года труппа уехала на зимний сезон в Ригу, а мы опять остались без работы. Мадам Мариетта и Кремзер уговаривели отца согласиться и ехать в Ригу, он стоял на своем. После отъезда труппы отец поехал в Харьков и в Киев искать ангажемент. Вернулся он ни с чем. Только после упорной и длительной переписки мы получили, предложение от Альберта Сура сына старика Вильгельма Сура на двести пятьдесят рублей в месяц. Отец согласился, и 16 ноября 1911 года мы выехали в Полтаву.
Цирк еще не был готов. Строил его старый цирковой управляющий Михнов. Отец хорошо знал Михнова, по вечерам он приходил к нам, и за игрой в шашки они с отцом вспоминали о старых цирковых работниках, о старых цирках, о происшествиях и работе в них.
Скоро приехал Альберт Сур. Он ничем не был похож на своего отца. Это был человек на редкость доброй души. Отец мой говорил, что он «не от мира сего», и называл его «идеалистом». Открытие цирка предполагалось 1 декабря. Цирк был построен хорошо, с теплыми уборными, и несмотря на это, в нем все же было холодно. Сур очень любил выделять молодежь. У него были ученики и ученицы, он сам занимался с ними и ездой и балетом. Очень любил (несмотря на свой преклонный возраст) репетировать. Это был высокий, уже седой человек, необыкновенно симпатичный. За все время службы у Альберта Сура я не помню, чтобы он про кого-нибудь оказал дурно. И труппа, и дети цирковых артистов его очень любили и уважали, он ни с кем никогда не бывал груб. Даже самые отчаянные дебоширы, и пьяницы его слушались. Сур подойдет, подзовет скандалиста и тихо ему скажет: «Мамочка, ваш пьяный, я вас просит итти спать». И вот человек, которого перед тем и с полицией нельзя было вывести из цирка, смиряется, как по мановению магического жезла: «Сейчас, мосье Сур, иду… только для вас, иду…»
Цирк у Сура был небольшой, жалованье он платил тоже небольшое, но был необычайно аккуратен в расплате. Часто без всякой расписки летом принесет жалованье домой, а зимой придет выдавать его в артистическую уборную. Если он чем-нибудь увлекался, то с юношеским пылом и страстностью. Вставал он каждый день в восемь часов утра и начинал репетировать с лошадьми. В десять часов приходили ученики, и он занимался с ними сам часов до двенадцати. После этого садился в ложу и читал до часу газету. В час начиналась общая репетиция, а если ее не было, то Сур отправлялся в буфет и там играл с артистами в шашки. Этой игрой он очень увлекался, и серьезным противником ему был отец. Они часто просиживали за шашками по три-четыре часа подряд, играя с необыкновенным азартом. Интересно было наблюдать за Суром, когда он перед выходом сам чистил себе ботинки. Этого он никогда не разрешал делать ученикам. Даже утром он чистил их сам. Единственное ругательное слово, которое он употреблял, было: «Ма сволочь!» При этом то же слово он произносил, когда от чего-нибудь приходил в восторг. Если хотел кого-нибудь из нас похвалить, то говорил: «Ма, сволочь, как это хорошо». Случалось, на представлении он сидит, смотрит, артист делает трудный трюк, а никто не хлопает, тогда он обращался к публике и говорил : «Ма, это «очень трудно! Хлопайте! что же вы сидите и не хлопаете?!» — и сам первый начинал аплодировать артисту.
В каждом городе, где он бывал, его очень любили. И каковы бы ни были до этого сборы, его бенефис всегда был обеспечен. Он всегда брал его последним и получал много подношений.
В Полтаве у него составилась вполне приличная труппа, но с очень экономным бюджетом. У него было много номеров своих и его учеников, но первое время он их не давал. Артистов он брал не больше как на месяц. Ангажируя, он не рассчитывал на сборы. Он говорил: «Я беру артистов тогда, когда у меня их жалованье лежит в банке, а на сборы я не рассчитываю».
У его жены были деньги, но, как он говорил: «Мамочка больше не даст. Она дала столько-то на труппу, и я должен так сделать, чтобы хватило».
Вот программа цирка Сура в Полтаве 1 декабря 1911 года.
Открытие состоялось при переполненном цирке. С четверга до воскресенья все представления шли с аншлагом, и Сур оправдал месячный бюджет труппы. А во вторую неделю покрыл и все свои расходы на здание. Сборы все время были блестящие.
На следующий день после открытия отца вызвали к полицмейстеру. Он записывает: «Ходил к полицмейстеру на кофе. За «Четыре человека» и «Бери-бери» после обычного наставления отпустил с миром, советуя с ним не ругаться».
В цирке началась горячка. В труппе было много молодежи, и по распоряжению Сура манеж с двенадцати до двух часов предоставлялся в наше распоряжение. Шло соревнование в прыжках, каждый показывал свои трюки и репетировал новые. Выделялся среди молодежи Энрико Растелли, который впоследствии стал мировым жонглером. В Полтаве он работал со своим отцом в номере «Полет». Полет состоял из четырех человек: отца, матери, Жоржа Дехардса и его самого, причем он был в парике и одет девочкой. Он так боялся летать и упасть, что мы все над ним подтрунивали. Наконец, он объявил отцу, что будет делать все, что угодно, только чтобы не летать и не лезть на мостик. Кроме полета, он работал еще с отцом своим во втором номере. Отец его был хорошим жонглером и обещал разрешить ему не летать, если он сделает свой самостоятельный жонглерский номер. Энрико очень обрадовался и принялся репетировать. Это была уже не репетиция, а какая-то горячка. Он уходил в семь часов утра и до четырех непрерывно репетировал. Чтобы не наклоняться самому за падающими во время упражнений предметами и меньше уставать, он нанял мальчика, который подавал ему падающие мячи, тарелки к тому подобное. В четыре часа он шел обедать и спать, в семь часов приходил в цирк и занимался до начала представления. Окончив свои номера, он сейчас же шел домой спать, чтобы рано утром опять начать репетировать. Репетировал он очень охотно и не терял ни минуты. Потом у него это вошло в привычку настолько, что он и в жизни все время что-нибудь вертел или бросал.
После того как он сделал два самостоятельных жонглерских номера, мне довелось с ним работать в двух городах, и позже я встречал его в Москве в «Эрмитаже». Он выработал себе определенный режим, репетировал очень много, и ничто, кроме этого его не интересовало. Бывало летом позовешь его купаться. Он пойдет и обязательно возьмет с собой шарики. Выкупается, сидит на солнце и бросает, и ловит. Он был моложе меня на четыре года и очень дружил с братом Костей. В Воронеже мы жили с ними в одном доме, и часто то мы обедали у них, то они у нас. За столом, пока подадут еду, он сидит, разговаривает, сам уже начинает бросать, то ножик, то вилку, то шарики из хлеба. Мать моя его за это часто ругала. Позже, когда он был уже знаменит как жонглер, кто-то спросил его: «Энрико, почему ты все время что-нибудь бросаешь, ведь ты и так хорошо жонглируешь?» Он: стоял в это время у умывальника, чистил зубы и подбрасывал то мыло, то зубную щетку. Он удивленно посмотрел на спрашивающего и ответил: «Еели бы я все время не бросал, я бы никогда не был хорошим жонглером». Жонглерство один из труднейших цирковых жанров. Нелепо прервалась жизнь Энрико Раетелли — одного из лучших жонглеров. Погиб он от палочки, которую держал в зубах во время работы и на которую ловил мяч. Утром он вырвал себе зуб, а после обеда пошел в варьете, где работал, и начал репетировать. Палочка была наканифолина. Он, как всегда, взял ее в рот и проделал все, что было нужно. Вечером он работал. На другой день у него распухла щека и у него началось заражение крови. Умер он в 1933 году. Однажды, уже в революционное время, я встретил в Москве жонглера Каро, когда-то не менее знаменитого, разговорился с ним и спросил: «Ну, как Энрико за границей работает?» — «Что говорить, – ответил он мне, — наши старики приехали смотреть его в Винтер-гартен. После его выступления оба они, и Солерно и Чинкевалле, пошли к нему в уборную, по их словам, им и в голову не приходило, что можно делать такие штуки. Да и я, даже в мой расцвет, ему в подметки не годился бы».
Сур поручил мне заниматься акробатикой с учениками, а сам со мной занимался мимикой и ездой на лошади. В цирк мы приходили к десяти часам и уходили из цирка в четыре. У Сура был управляющий Байдони. Жалованья он не получал, а мог безвозмездно пользоваться буфетом. Отец мой называл его «кабатчиком». Сам Сур его недолюбливал, а жена Сура его жаловала. Эта, когда-то красивая женщина была раньше шансонетной танцовщицей. Выступала она под фамилией Мерседес. Сур влюбился в нее, ушел от отца и открыл свой цирк. Она вела всю хозяйственную часть цирка и ведала балетом. Была она француженка, своим ученицам давала иностранные имена: если приходила Катя, то она перекрещивала ее в Кармен, Наташу называла Нелли, и т. д. Весь балет состоял из Кармен, Марго, Эльз, Кетти, Жужу, а на самом деле это были Насти, Кати, Маруси, Анюты и Дуни. Тех из девушек, кто был поспособнее, Сур ставил на лошадь и делал из них наездниц.
«Сурша» (как мы ее звали) была женщина нелюдимая, черствая и держала, самого Сура в руках. Она располагала крупными деньгами, но была очень экономна и давала их только в случае крайней необходимости. В то же время не любила никому должать и при плохих сборах брала деньги из банка и платила жалованье артистам полностью. Несмотря на угрюмость своего характера, она любила молодежь, и у нее были фавориты.
Первое место среди них занимал упоминавшийся ранее Вася-горбун. Мерседес была убеждена, что он приносит им счастье, он был ее доверенным лицом и главным билетером. Выделяла она еще шорника Тимонина и осветителя Фирсова, специалиста, по raзовому освещению. Оба они стали (не бросая своей работы) хорошими артистами-гимнастами.
Труппа жила дружно. Сур умел так управлять, что мы считали его не директором, а командиром и очень уважали. Артисты делали в цирке все. Им об этом говорить не надо было. Даже, если нужно было, вешали шапито. Выходило так, что цирк был нашим общим делом. Такой дружеской атмосферы не было ни в одном цирке. Однажды заболели две балерины, yчаствовавшие в пантомиме. Заменить их никто из женщин не мог. Тогда Энрико и Костя предложили Суру свои услуги. Вечером они надели парики и женские костюмы и удачно справились со своими ролями.
Сур поставил пантомиму «Дрейфус», и, как это ни странно, она в те годы делала сборы. Дрейфуса играл отец, а Эстергази — я.
В Полтаве мы, наконец, получили вещи, оставленные нами в Вологде. Привожу запись отца: «Наконец-то вологодский багаж получен. Восторгу нет конца. После шестнадцати месяцев все вещи совершенно целы и кажутся какими-то странно новыми. Весь вечер были заняты разборкой, в особенности Костя до часу ночи копался в своем сундучке».
Работа у Сура после других цирков казалась особенно приятной. Не было недовольства, натянутости, фальши. Все делалось с охотой. Сур любил поощрять молодежь. Нам с Костей он предложил выступать на утренниках, заменяя отца. В программе стояли Д. и К. Алыперовы. Отец был свободен, и Сур говорил ему: «Ма, у вас взрослые дети. Давайте им работать. Пусть учатся».
Наблюдал, как мы выступаем, и давал советы.
В январе сборы упали, так как стояли сильнейшие морозы. Публика не могла высидеть всего представления и уходила. Не помогли сборам ни гастролеры, ни чемпионат Крылова. Партнер Крылова, тридцатилетний геркулес Карл Микул, умер в Луганске от брюшного тифа, и Крылов один держал чемпионат.
Весь пост мы пробыли в Полтаве и перед пасхой переехали в Воронеж. Первое представление состоялось в первый день пасхи 26 марта 1912 года. Публика нас встретила очень тепло, как старых знакомых. Но нам не повезло. Мы давали номер «Продавец яиц». По ходу номера я ставлю корзинку яиц на длинный шест, спотыкаюсь и валю эту корзину в публику. Корзина прикреплена к шесту, яйца деревянные, привязаны на веревочке, и потому в публику они не падают, а остаются болтаться на шесте. И вдруг в то время, как я наклонил шест в публику, он сломался, и корзина с деревянными яйцами и половина шеста улетели в публику. Мы ушли с арены без единого хлопка и были очень огорчены. Сур сейчас же пришел к нам в уборную и сказал, чтобы мы готовили другое антре, так как он нас выпустит в третьем отделении. Новое наше выступление сгладило впечатление от первого неудачного.
Несмотря на все еще стоявшие холода, цирк посещался охотно.
В городе состоялось в один из дней торжественное открытие памятника поэту Никитину, уроженцу Воронежа[46]. На открытие было привезено от разных обществ и учреждений много серебряных венков. Хранились эти венки в городской управе, и когда у нее на что-то нехватило средств, управа эти венки заложила. Весть об этом мигом облетела город и послужила нам темой для одного из номеров. 8 апреля 1912 года у отца следующая запись: «Каламбур про никитинские венки произвел фурор. Полицмейстер, хотя и смеялся, но просил к нему в управление зайти на чашку кофе. Ох, уж это кофе! Знаю я его! Каламбур про венки, конечно, запретили».
Вскоре Сур разделил труппу на две части. В Воронеже он оставил чемпионат Крылова при шести маленьких номерах. Когда по городу были расклеены афиши о чемпионате, жители стали говорить: «Опять Крылов». Тогда Крылов придумал трюк. Он уехал из города, и чемпионат работал без него десять дней. Первое место занял Людвиг Келлер. На десятый день в воскресенье на арене появляется борец в маске и вызывает на борьбу весь чемпионат. Келлер борется с Русаковым и кладет его запрещенным в цирке приемом борьбы. Поднимается невероятны шум. Тогда с мест срывается борец в маске, берет Келлера за задний пояс и кладет его на обе лопатки. В цирке необычайное оживление, шум, говор, аплодисменты. Вскакивает Келлер и сдирает с положившего его противника маску. Под маской оказывается Крылов. Что сделалось в цирке! Я думал, что он рухнет от аплодисментов.
Так Крылов вступил в чемпионат. На другой день он ходил петухом и все спрашивал артистов: «Ну, как, джентльмены? Здорово получилось? А вы говорите — Крылов не артист».
Очень любил Крылов эффектные трюки. Одним из излюбленных приемов его был следующий. Уже конец чемпионата, остается только финальная'борьба, а Крылова в цирке еще нет. В публике крики протеста и в01змущения. Арбитр предлагает заменить борьбу Крылова и его противника любой парой из чемпионата на выбор. Публика не соглашается, кричит: «Лавочка!.. Давайте Крылова!» Но Крылова все нет. Наконец, за пять минут до полицейского часа, т. е. до двенадцати часов, с криком, в одной жилетке, с болтающимися сзади помочами вбегает на арену Крылов и кричит, что он опоздал из-за неправильного хода часов. Сует всем под нос золотые часы. На них одиннадцать часов. Он взволнован. Тут же на арене снимает под общий хохот штаны, рубашку, все еще с часами в руках. Он хочет бороться, но арбитр заявляет, что полицейский час, и он не может выпустить ни одной «пары. Крылов ругается, плачет и как хватит от злобы часы об арбитрский стол. Часы, конечно, вдребезги. Борьба откладывается до следующего раза. Публика расходится, веря Крылову, что он опоздал. А в уборной Крылов спрашивает: «Ну, как, джентльмены? Здорово? Еще сборик обеспечен. А часы всего двадцать пять рублей стоят. Да еще золото в лом сдам. Не обманешь — не продашь, джентльмены!»
Другим частым трюком Крылова было «кровопускание». Проборовшись минут пятьдесят, он уходил в перерыв за кулисы и там брал в рот маленький резиновый пузырь, наполненный красными чернилами. На арене противник кладет его за ковром передним пассом, на лопатки. Б это время он раскусывает резинку прямо в лицо противнику и размазывает на своей физиономии льющуюся изо рта кровь. Ну, конечно, борьба прекращается до следующего раза. Ходил про него слух, что где-то он по ошибке наполнил в темноте резиновый пузырь черными1 чернилами вместо красных. Во время борьбы раскусил и выплюнул, тогда только заметил ошибку и пришел в бешенство. Потом, когда его спрашивали: «Петр Федотович, а как там получилось с чернилами?», он строго смотрел на спрашивающего и говорил: «Молчи, щенок. Это, джентльмены, все анекдоты. С кем они не бывали»
Из Воронежа мы поехали с цирком Сура в Нижний Новгород. Но не на ярмарку, а в город. Taм построили на сенном базаре цирк под шапито. Открытие цирка состоялось 30 апреля 1912 г. Несмотря на очень приличную труппу, сборы были крохотные. Нижний без ярмарки был пустой город. Кроме того, в нижегородском театре играли постоянно гастролеры. Все это вместе взятое и влияло на сборы. Сур был в отчаянии. Надежда оставалась опять-таки только на борьбу.
В Нижнем в нашей семье произошло прибавление. Родилась сестра Клеопатра. Мы все наперебой няньчилисъ с ней. Ходили мы с отцом смотреть на то место, где обычно бывала ярмарки. Странно выглядели ряды, закрытые магазины, пустующая площадь. Kaк будто попали мы в сонное царство, где все и вся спит мертвым сном. Кроме сторожей мы там никого не видали.
7 мая отец записывает: «Сегодня всем клоунам полицмейстер запретил говорить нецензурированные вещи, взяв от Сура подписку». 15 мая он отмечает: «Состоялся наш бенефис. Но гастроли в театре Варламова, как и нужно было ожидать, подорвали наш сбор».
29 мая мы выехали в Павлова, живописный городишко, который считался селом, а не городом. Жители Павлова не соглашались переходить на положение горожан, считая, что тогда придется платить больше налогов и им не разрешат иметь в каждом доме кузницу.
Цирк был открыт, но публика не шла, сборы были по десять-пятнадцать рублей в вечер. Тогда Сур решил давать общедоступные представления. Это было правильно, сборы сразу поднялись до двухсот рублей. Кустари Павлова зарабатывали очень немного, так как делали только черновую работу для фабрик и получали за нее гроши. Фабрики же их (как теперь говорят) полуфабрикаты доделывали, шлифовали, никелировали и пускали в продажу.
По настоянию Сура в день нашего бенефиса по улицам Павлова разъезжала кавалькада из двенадцати извозчиков и десятка цирковых лошадей. Артисты ехали верхами, на извозчиках был размещен оркестр. В руках у артистов были большие плакаты: «Сегодня бенефис клоунов Альперовых». Вечером сбор был наивысший за все пребывание в Павлове. Сур торжествовал, что его идея оказалась удачной.
Дом, в котором мы жили, принадлежал женщине, муж которой был сослан на каторгу как фальшивомонетчик. Хозяйка, простая, недалекая женщина, рассказывала, что муж ее делал рубли из лома серебра и совершенно, как настоящие. Он не попался бы, если бы не дети, которые случайно взяли для игры недоделанные рубли. Полиция нагрянула с обыском. Взяла штамп и совершенно готовые пятьсот серебряных рублей. А на суде делавшие обыск полицейские показали, что нашли только штамп. Пятьсот же рублей остались в карманах полицейских.
18 июня 1912 г. мы покинули Павлово. Уезжали мы в восемь
часов утра на Кочковском пароходе «Проворный». Отец записывает: «Провожают, масса народу иа пароходе и пристани. Высыпало все село. Тысячи платков и шапок приветствуют. Трогательный момент».
Мы переехали с цирком в Муром, где должна была открыться ярмарка. Ярмарочная площадь была немощеная. Палатки деревянные. Много щепного товара: дуги, колеса, лопаты. Все это горами навалено прямо на землю. Торговцы ночуют тут же на возах, в палатках, оберегая свое имущество. На ярмарке два балагана и кино. И повсюду главный ярмарочный российский товар — водка. Пьяных можно было встретить в неограниченном количестве и днем и ночью. А тоску русский человек изливал в бессмысленной, на мой взгляд, песне «Пускай ма-а-а-гила меня накажет за то, что я ее люблю…» Песня эта рыдающим воплем стояла над всей ярмаркой. Отец записывает: «Город специфический — в «русском» духе. Гнездо союзников. Вся наша администрация советует на манеже быть осторожными».
Муром — город красивый. Много зелени. Прекрасный сквер с рестораном. В построенной на берегу Оки четырехярусной беседке мы просиживали с отцом до восхода солнца, любуясь на огни пароходов, темные ночью плоты с единственной светлой точкой от разложенного костра.
Работа иа ярмарке покрыла Суру все материальные недохватки в Павлове и Нижнем Новгороде. Десять представлений прошло с аншлагом.
В Муроме Сур решил продать одну из своих школьных лошадей, которая плохо поддавалась дрессировке. Лошадь была седая в яблоках. Выучил он ее только испанскому шагу, да еще умела она под марш выбрасывать передние ноги. Сказал Сур барышникам, чтобы они ему подыскали покупателя. Барышники сообщили, что настоятелю монастыря нужна лошадь. Байдони стал сговариваться с настоятелем. Попробовали лошадь: идет в паре с другой серой лошадью хорошо. Настоятель решил, что можно будет на ней встречать архиерея и возить иконы, и стал закидывать удочку, не пожертвует ли Сур лошадь для монастыря. Байдони нашелся сейчас же и сказал: «Напрасно будешь говорить, батя, ведь хозяин — немчура». Настоятель покряхтел и заплатил требуемую сумму. Угостил Байдони коньяком и к сумме продажной расписки приписал стоимость двух бутылок коньяку и себе рублей двадцать пять. Байдони согласился подписать расписку только с условием, чтобы и на его долю было приписано десять рублей. Расписку переписали, и десять рублей Байдони, конечно, тут же пропил.
Через несколько дней приехал архиерей. Приехал он поездом, ему подали коляску, запряженную двумя серыми лошадьми: он должен был проехать через всю ярмарку в собор. На вокзале его встречало духовенство и много народу из горожан. Мы на вокзале не были, а пошли вместе с Суром и Байдони посмотреть, как он выедет на большую дорогу, шедшую мимо ярмарки. Видим — едут, лошадь идет хорошо. Как только коляска поровнялась с ярмарочной территорией, в балагане оркестр заиграл марш. Наш «Монплезир» давай выкидывать передние ноги в такт музыке, сбивая этим с шага и вторую лошадь. Кучер дергает возжи, а он то испанским шагам идет, то в такт музыке. Это было так смешно, что мы катались от смеху. Один Сур волновался, хотел поправить дело, подбежал с палкой к лошади и стал приказывать ей. Она же, заслышав его голос, старательнее стала делать па под музыку. Пришлось остановить экипаж, архиерей пересел в другую коляску. Духовенство было в смущении, а мы долго вспоминали «Монплезира», его испанский шаг и растерянные лица архиерея и сопровождавшего его духовенства. Все «благолепие» выезда пропало.
В Муроме все постройки были деревянные. И потому, как только где-либо начинался пожар, люди бросали все и бежали тушить. В городе была только одна пожарная часть. В день нашего бенефиса ударил набат. Вся публика моментально-бросилась вон из цирка. Не осталось ни одного человека. Мы не доканчивали спектакля. На другой день шла пантомима «Тарас Бульба». Я играл Андрея. Меня только что убили, я упал, лежу и вдруг слышу опять набат. В минуту цирк опустел. Слышу голос отца: «Вставай. Не для кого играть». Я вскочил, бросился в уборную, наскоро снял грим и помчался с другими артистами на пожар. Прибежали мы, смотрим — пожарных нет. Оказывается, загорелось сразу в двух концах города. Жители бегают, тушат сами. Искры сыплются на соседний дом, и он вот-вот загорится. Тогда мы, циркачи, бросились на крышу дома, нам подали туда простыни, одеяла и из рук в руки начали передавать ведра с водой. Мы сидели на крыше и поливали одеяла из простыни. Таким образом, пока тушили пожар, нам удалось отстоять соседний дом, и пожар был ликвидирован. К концу пожара приехал исправник и благодарил нас. Когда же, наконец, приехала пожарная команда, толпа встретила ее смехом и тюканьем.
На другой день Сур собрал нас на манеже и категорически запретил нам, молодежи, бегать на пожары.
Ярмарка кончилась. Сборы сразу упали. Площадь очистилась от картонных домиков, возы с последней кладью уехали, и только, как большой, доживающий последние дни гриб, посреди площади стоял цирк.
На пароходе мы перебрались в Касимов; город красивее Мурома, но к нему трудно добраться зимой: стоял он в пятидесяти верстах от железной дороги. В городе много татар. Особенность города: обилие очень красивых лошадей. Цирк находился между городом и ярмаркой. Часто можно было видеть: едет татарин, упряжь у него небогатая, а лошадь — загляденье. Мы почти каждое утро ходили смотреть торг. На ярмарке продавалось много лошадей и всякого другого скота. Огромное поле — его взглядом не окинешь, и все лошади. Часто слышалось: — держи!., лови!.. Это означало, что лошадь сорвалась и убежала. Мы в первое время думали, что вора ловят, но в этом отношении касимовская ярмарка составляла счастливое исключение. Воры сюда на гастроли не приезжали, так как знали местный обычай: если поймают вора, то тут же с ним расправлялись самосудом. На ярмарке не было ни «тринадцатой веры», ни «трех листков».
Вечером перед цирком выстраивались телеги, брички, фаэтоны, линейки. Татары приезжали на представление целыми семьями.
В Касимове у нас начали выступать гастролеры — труппа дагомейцев. Они показывали быт и жизнь «диких» чернокожих племен. По улицам они ходили почти голые. На них были только юбочки из соломы. У женщин много.бус. По-моему, вид их привлекал толпу, и сборы были хорошие. Они исполняли воинственный танец, ходили босиком по битому стеклу и пили горячее олово.
В это время шел спор между Яном Польди и англичанином Честер-Диком. Англичанин объявлял в цирковом журнале, что он предлагает пятьсот рублей тому, кто сделает такое сальто-мортале с велосипедом в воздухе, какое делает он.
Ян Польди решил во что бы то ни стало сделать это сальто.
Он заказал себе особый аппарат. Была поставлена наклонная доска, разбегом в восемь аршин. На конце доски сделаны были перила. На верхней части наклонной доски скобы, которые за колесо держат велосипед с седоком. Когда снизу дергают за веревку, то скобы отпускают велосипед, и он катится по наклонной доске. Ударяясь внизу о перила, ездок вместе с велосипедом переворачивается в воздухе и приходит с четырехаршинной высоты на пружинный помост колесами. Для выполненья этого трюка надо было иметь точный расчет аппарата. Над этим как раз и трудился Ян Польди, и это ему плохо удавалось. Мы над ним подсмеивались и еще больше раззадоривали его. Он тратил на аппарат свои последние сбережения, переделывая его несколько раз. Наконец, у него нехватило денег и он пришел просить отца дать ему денег для уплаты за переделку. Отец дал. Аппарат принесли, поставили, и Польди начал репетировать. Я держал ему лонжу. Сначала у него дело не клеилось, потом постепенно наладилось. Сур настаивал, чтобы он и вечером делал трюк на лонже, так как это было безопаснее. Польди согласился. Вечером он выступал. Вот запись по этому поводу отца: «Сегодня сальто с велосипедом прошло с полным фиаско. Не доехав до пункта, пустил руки с руля и, не крутя, полетел вниз, ударившись лбом о стойку. Не будь лонжи — прощай, Ян Польди! Голову он себе разбил здорово».
На другой день артисты судили, рядили и нашли, что подушка, на которую приходит после сальто Польди, слишком тверда. Опять надо было переделывать аппарат. Польди со слезами на глазах говорил, что проклинает день и час, когда связался с этим аппаратом.
— Добьюсь, — говорил он, – найду себе сначала покой, а потом — он махал безнадежно рукой. — Но все равно поворота назад быть не может.
Ярмарка в Касимове кончилась. Цирку здесь делать было нечего. Мы прожили в городе еще несколько дней. Ходили ловить рыбу, купаться и пить кумыс на другую сторону Оки. В городе была одна достопримечательность — это могила шута Балакирева[47]. Он родом из Касимова, его похоронили здесь и над могилой поставили памятник.
Родился в 1699 году. Был привлечен к суду в процессе Moнca и сослан. Из ссылки возвращен при Екатерине I и произведен в поручики. Существует ряд сборников «анекдотов Балакирева», т. е. рассказов об остроумных выходках, приписываемых Балакиреву, как шуту Петра I. В эти сборники вошли анекдоты из различных источников, русских и иностранных.
Из Касимова мы двинулись пароходом на Рязань, чтобы оттуда попасть в Козлов, где для нас уже строился цирк.
Цирк в Козлове стоял на базаре. На открытие приехал из Тамбова губернатор. Первое отделение прошло очень хорошо. Во втором отделении первым номером стоял «Полет на голове через весь цирк».
В цирке натянули трос. К нему на скользящих колесиках подвязали трапецию. На трапецию должен был стать на голову артист и по наклонному тросу, съехать с переднего хода к выходу на конюшню.
В переднем ходу трос был привязан за губернаторскую ложу. Она была построена наверху, и в нее нужно было подниматься по лесенке. Началось второе отделение. Артист Верст проделал свои упражнения на трапеции, подошел к тросу, сел на подвешенную трапецию, подтянулся на руках и стал спускаться. Доехал до середины и, вдруг чувствует, что проволока как-то поддается, обвисает. Заметила это и униформа и не может понять, в чем дело. Видят только, что в ложе губернатор машет руками, а дети, сидящие с ним в ложе, плачут и кричат. Артист перестал скользить и повис на проволоке. Ничего не подозревающий оркестр шпарит во-всю. Бросились к губернаторской ложе — смотрят: она наклонилась и отъехала от лестницы аршина на полтора. В ложе — паника. Дети плачут, губернатор взволнован, вокруг бегает полиция и не знает, как ей вытащить из ложи губернатора и губернаторских детей.
Наконец, кто-то догадался вызвать пожарную команду, находящуюся рядом. Подставили лестницу, и все были сняты из ложи. Губернатор уехал, приказав Суру завтра явиться к нему. Представление кое-как было закончено.
Под впечатлением этого скандального случая ночью все принялись укреплять ложу. Оказалось, что столбы, на которых она стояла, были плохо врыты в землю. Михнов, строивший цирк, не проследил, как врыли столбы. Утром. Сур поехал объясняться к губернатору. Он пробыл у него долго и, приехав, рассказал, что губернатор объяснялся с ним по-французски, расспрашивал, как это случилось, нет ли тут подвоха, не было ли это сделано нарочно. Сур рассказал о плохо врытых по небрежности столбах и заверил, что подвоха никакого не было. Губернатор заметил: «Будь я один, это бы неважно, а то я был с семьей и знакомыми».
Он не разрешил цирку играть до осмотра здания комиссией. Комиссия же предъявила такие требования, что их выполнить в один день было невозможно. Пришлось цирк на три дня закрыть. Сур поехал в Тамбов к губернатору с актом комиссии.
В это время отец получил письмо от Рудольфо Труцци с предложением заключить с ним контракт на год и начать с 28 сентября 1912 года играть в Риге. Отец долго не мог сказать этого Суру. Привожу его запись: «Собрался с духом окончательно заявить Суру о своем уходе из труппы в сентябре. Изумился, поразился и просит до завтра не посылать Труцци контракта и дать ему возможность протелеграфировать жене в Касимов, откуда пришел ответ: пусть мы закончим в первую получку».
Тогда отец заявил Суру, что мы уже кончили, и просил нас больше на программу не ставить. Это было на репетиции при всех артистах. Отец мне с братом крикнул: «Собирайте сундуки!» Сур, видя, что отец рассердился, начал уговаривать отца и дал ему слово, что мы закончим тогда, когда нам будет нужно.
Артисты noтом жали руку отцу за его решительный и независимый разговор с Суром. А Сур был один из наиболее мягких и деликатных директоров, правда, он находился в материальной зависимости от жены, которая ни одним из указанных свойств не отличалась.
Раздражение отца было вызвано тем, что артисты получали жалованье два раза в месяц и все договоры и расчеты пригонялись к этим числам. Можно было получить ангажемент на месяц, на два месяца, но очень трудно на две недели. Артисты, конечно, старались перейти со службы из одного цирка в другой.
Вечером на семейном совете отец говорил: «Вот что значит жить скромно и беречь копейку на черный день. Я могу диктовать и не подчиняться капиталу только потому, что у меня есть какие-то сбережения».
В этот день вечером отец записывает: «Растелли, узнав мой ответ Суру, пришел мне пожать руку за храбрость и стойкость, за артистическую независимость и поражение капитализма».
13 августа был скромно отпразднован тридцатилетний юбилей Сура. Сур поблагодарил переполнявшую цирк публику за внимание к его юбилею. Артистам он заранее строго-настрого запретил делать ему какие-либо подношения. После спектакля всю труппу пригласили в буфет, где был сервирован очень скромный ужин. Юбилей прошел тепло.
24 августа над Козловом разразилась буря с ливнем. Бурей в клочья разорвало шапито цирка. Хорошо, что Сур был человек предусмотрительный и у него было запасное шапито. Все же цирк два дня приводили в порядок.
У отца грустная запись, относящаяся к этим двум свободным от работы дням: «…целый день провел дома, ибо не к кому пойти и не с кем скоротать время. Старая, но печальная правда. Все мы цари, пока цирк играет… на манеже цари, а шаг за манежем и цена нам грош».
4 сентября 1912 года мы выехали из Козлова в Серпухов. Серпухов произвел на нас прекрасное впечатление. В нем, по выражению отца, «проглядывал дух Москвы». Цирк открылся при полном сборе. Из записи отца видно, что антре «Четыре человека» принято было «восторженно». А реприза о Пуришкевиче до публики не дошла.
Я думаю, что это произошло потому, что на серпуховские фабрики, где в это время работали преимущественно женщины, газеты столичные попадали мало, а местная была реакционного направления. Про Пуришкевича могли и не знать. А реприза «Четыре человека», очень проста и потому доходчива. Отец, спрашивал, сколько у нас главных людей на свете. Я говорил:
— Не знаю.
— Не знаешь, так я скажу: четыре человека.
— Кто ж они?
— Первый человек-городской голова.
— Почему?
— Потому что он за всех думает. Второй — адвокат.
— Почему?
— Потому что он за всех врет. Третий — доктор.
— Почему?
— Потому что он всех лечит. Четвертый действительно главный— крестьянин,...
— Это почему?
— Потому что он за всех работает и платит всем.
12 сентября состоялся наш бенефис. Сбор был плохой, так как бенефис совпал с поминальным обедом по фабриканте Коншине, погибшем во время автомобильной катастрофы. Запись отца: «Нашему бенефису помешал затянувшийся до поздней ночи поминальный обед в собрании по случаю смерти фабриканта Коншина. Весь город был в трауре. Мы ходили смотреть. На фабричном дворе были сбиты столы, и для рабочих фабрики был тоже устроен обед, хотя в этот день фабрика работала».
24 сентября 1912 года мы в последний раз отработали в цирке Альберта Сура и выехали в Ригу. Провожать нас на вокзал пришла вся труппа. Пришел Сур с оркестром музыки, но жандарм на вокзале не разрешил оркестру играть, несмотря на все протесты Сура. Проводы были очень трогательные.
ГЛАВА XVI
Рига. Цирк Рудольфо Труцци. Труппа. Пантомима «Иван и директор». Строгий режим. «Собор Парижской богоматери» и «Тысяча и одна ночь». Юлий Убейко. Смерть Яна Польди. Речь отца. «События на Балканах». «Роберт и Бертрам». Цирк Афанасьева в Пензе. Тяжелое положение цирков и цирковых артистов. Пермь. Цирк Стрепетова. Встреча с Черным Куком. Похороны клоуна Старичкова. Поэт Василии Каменский. Троицк. Бегство артистов от Стрепетова. Борец Мухин. Маскарад. «Мадам Монополька». Уфа.
Двадцать седьмого сентября мы приехали в Ригу. Город нас приятно поразил своей чистотой и дешевизной. Общее впечатление, что это город не русский. Когда мы с матерью попали на базар, то удивились еще больше. Чистотота, порядок образцовые. Мясо на белоснежных простынях, мясники в белых фартуках, на руках у них лаковые нарукавники, чтобы не пачкать обшлага и рукава. Крестьянки на возах с капустой, овощами и молочными продуктами в белых передниках и в шляпках. На каждом шагу будочки, но не с квасом, а с горячим кофе и булочками. Извозчики откликались только, если к ним обращались со словом «фурман». Вывески тоже не наши российские: «Казино де Пари», «Капри» и т. д. Когда же, бродя по городу, путник попадет на площадь Ратуши или на Старую рыцарскую площадь, то кажется, что ты попал в средневековый город.
Труппу Труцци подобрал прекрасную. Из наездниц были: Виктория, Калина Дюбуа, Тереза Кешмур. Из наездников — Наполеон Фабри, Вееб, Паркер, Крастон. Из клоунов — Розетти, Брасо и Фриц, Литль-Джим (маленький Джим) и Альперовы. Из акробатов — Саланди, Квясовские, Лонгфильд, турнисты — Попеску и много других.
Первое время программа строилась только на номерах. У артистов оставалось много свободного времени. Интересно было наблюдать, как труппа разделилась на две части: на иностранных и русских артистов. Первые приходили в цирк за корреспонденцией, получали ее и шли домой. В шесть часов их можно было встретить в кафе за газетами и журналами. Русские артисты с вечера, сразу после представления, забирались в ресторан и часто проводили там время до утра. До двенадцати или часу дня проводили время в цирке, потом шли спать.
Иностранцы были бережливы и расчетливы, а наши жили во всю, завязая в авансах и гуляя от получки до получки.
Вскоре Труцци отдал распоряжение поставить пантомимv «Иван и директор» при участии всего клоунского аиеамбля. Невозможно не дать описания этой пантомимы, шедшей как в самых маленьких балаганах, так и в самых больших цирках, Сюжет этой пантомимы, как мне кажется, был взят гораздо позднее театром «Семперанте» для пьесы «Гримасы». Фабула «Иван и директор» такова.
На арену выходит человек и заявляет, что он антрепренер и открывает кафешантан. Он дал анонс в газеты и ангажирует артистов. Антрепренер садится за стол. Появляется потертого вида субъект с чайником в руке, похожий Аркашку из «Леса». Он предлагает свои услуги в качестве артиста-певца. Но ни голоса, ни вида артистического у него нет. Антрепренер приглашает его на место швейцара. Тот соглашается и начинает встречать артистов. Сначала по его утрированному поведению его принимают за директора, но настоящий директор одергивает его и ставит на место. Все сценки найма артистов очень смешны и проходят необычайно живо и весело, Пантомима, идущая под сплошной хохот, заканчивается танцами. Это одна из первых разговорных пантом, появившаяся в цирке. При хорошей сыгранности артистов она вполне заслуженно пользовалась успехом и не сходила долгое время с программы цирков. Залог успеха — отличное исполнение ролей директора и Ивана. Обычно главные роли исполняли два клоуна, работавшие вместе.
В Риге пантомима прошла двадцать раз подряд. Труцци был так доволен, что специально пришел в клоунскую уборную благодарить исполнителей-клоунов. Это с ним бывало редко.
30 октября отец записывает: «В цирке Содом и Гомора. Труцци обалдел. Всему виною внезапно приехавший в цирк первый раз губернатор. Труцци совсем с ума сошел. Пятнадцать раз менял программу. Бегал по всему цирку, как бешеный волк, и на всех рычал, как зверь. Словом — весело».
Вскоре мы начали сразу репетировать две пантомимы «Собор Парижской богоматери» и «Тысяча и одна ночь». Репетиции шли с часу до пяти вечера. Таких строгостей, как у Труцци, во время репетиций я нигде не видал. Занят или не занят артист в пантомиме, — все равно на репетиции он обязан присутствовать. Всяческие разговоры были в это время запрещены, с балетными артистами мы, другие артисты, вообще не имели права разговаривать.
Как-то раз я зашел в дамскую уборную после репетиции. Кто-то это видел и сказал Рудольфо Труцци. Что было! Он позвал меня и полчаса меня отчитывал. Я знал, что перебивать его нельзя, а нужно ждать, пока он кончит. Когда он, наконец, кончил, я ему спокойно и тихо сказал: «Синьор Рудольфо, я зашел в уборную для того, чтобы переменить книжки. Я очень люблю читать и обмениваюсь книгами с артистками».
Тут же я показал ему книги, которые были у меня в руках. Книги Труцци посмотрел и сказал, что чтение — вещь хорошая, но в уборную все же ходить он не разрешает, а то, он знает, все начинается с книг.
Первой прошла пантомима «Собор Парижской богоматери».
Отец играл роль аббата, я — роль Квазимодо. Пантомиму пришлось очень долго репетировать, потому что она шла в сопровождении музыки. Поставлена она была красочно, но особого успеха не имела, так как там не было никаких трюков, а без трюков пантомимы в цирке всегда проходили с меньшим успехом.
Пантомима «Тысяча и одна ночь» производила большое впечатление на зрителей. По ходу действия пантомимы Пьеро убивает Арлекина, кладет его на стол и разрезает на части. Затем он составляет из отдельных частей целого человека и добрая фея оживляет Арлекина. Рассечение Арлекина на части и его оживление особенно нравились публике. Делали же это просто.
Арлекина, убитого стариком — отцом Коломбины, клали ни стол, накрывали простыней. Стол поварачивался на оси. Арлекин уходил, под стол, а на место его поднималась с другой стороны из-под стола кукла. Старик отрезал Арлекину-кукле руки, ноги и голову. Потом отходил к заднику декорации, где был сделан контур фигуры Арлекина, подставлял к контуру ноги, которые проваливались, за декорацию, а за декорацией стоял живой Арлекин и в контур вставлял свои ноги. Таким же образом в декорации появлялись руки и голова Арлекина, и в конце концов, когда все части были собраны, он оживал. Все это проделывалось незаметно, фигуры походили друг на друга, и публике эти сцены нравились. Для нас с отцом это была очень трудная пантомима, так как мы ни на минуту не уходили с манежа. Отец играл Пьеро, я — Арлекина.
6 декабря начались гастроли труппы арабов, приехавших к нам из-за границы. О приезде труппы была выпущена огромная реклама. Работа арабов вся состояла из пирамид и прыжков. Среди них было два феноменальных прыгуна. Несмотря на действительно артистическую работу, сборов труппа не делала, и это очень сердило Труцци. Он принялся ставить пантомиму за пантомимой, давая их чуть ли не каждые три дня. Это было мучительное время для артистов. Таким быстрым темпом были сделаны пантомимы: «Космополит», «Бабушкины именины», «Снежная королева».
Служить у Труцци было очень тяжело. Невольно вспоминался Сур с его дружеским и внимательным отношешим к актерам. В это время отец получал, как и всегда, много писем из провинции от своих друзей-артистов, разбросанных по всей стране и работающих в разных цирках. Цирки повсюду влачили жалкое существование. Многие играли не каждый день, а через два дня в третий. Артисты голодали. Мы понимали, что заработок у Труцци давался нелегко, но это искупалось, по крайней мере, уверенностью в завтрашнем дне.
18 декабря во время акробатического номера упал Костя. Отец записывает: «Антре под впечатлением падения Кости. Бросившись на сальтомортале, он не докрутил, ударился спиною о землю. Затворило дыхание, пришлось выносить с манежа. Через два номера наше антре. Это было не антре, а просто: «Смейся, паяц!..»
Через несколько дней Костя выздоровел, и все пошло по-старому.
На гастроли в казино приехал артист Юлий Убейко. Он пришел в цирк, зашел к нам в уборную, остановился перед отцом и спрашивает его: «Узнаете ли вы меня?» Отец был в недоумении. — «А вы не помните Юльку в Ростове, который вам помогал сначала корзины носить, а потом помогал вам, выступая в антре. Юльку помните?» Отец стоял с открытым от изумления ртом; — «Вот я теперь Юлий Убейко. С вашей легкой руки сделался артистом».
Они обнялись, расцеловались, и начались разговоры, воспоминания и рассказы. Вечером мы пошли послушать выступление Убейко. Он подарил мне монолог на «ются», который я потом любил читать. Монолог этот очень нравился публике. Убейко писал все стихи для себя сам, никогда ничего не заказывал авторам. Монолог тоже был написан им. Привожу его текст в выдержках.
…Итак, речи мои начинаются
О том, как люди рождаются
И в жизни своей проявляются…
…Посмотришь,— друг друга чуждаются,
Все алчные стали, кусаются,
И на наживу, как звери, бросаются.
То интенданты под суд попадаются,
То банки дотла ограбляются,
А кассиры за границу удрать стараются,
То люди людьми убиваются.
Все богато жить добиваются.
А наш брат — повсюду страдают и маются
(жест в сторону галерки),
Черным хлебом питаются.
А если о нужде говорить заикаются,
То за это далеко высылаются
И оттуда уж не возвращаются.
Тут речи мои прекращаются.
До свидания. Меня дожидаются.
Через два дня мы с отцом выступили с «Бери-бери», «Чиновниками», и я читал это стихотворение. Запись отца: «31 января 1913 года, Дежурный пристав приходил спрашивать цензурированный сборник и, узнав, что такового не существует, просил на его дежурстве стихов не говорить. Если на этом кончится, то беда невелика».
Приехал к нам на гастроли Ян Польди. Он подписал с Труцци контракт на велосипедное сальтомортале. Аппарат у него не был закончен, но он надеялся закончить его на фабрике Лейнерта. Труцци его все время торопил, желая поскорее поставить номер на афишу.
1 февраля на репетиции Польди проделал весь номер прекрасно. Ему держали лонжу. Вечером на спектакле он проделал свой трюк, попав одним колесом на подушку, а другим мимо нее. Весь удар с большой силой пришелся ему на живот. Он едва ушел с манежа.
После номера Польди шел балет, где я был занят. После балета я пошел к нему в уборную, чтобы поздравить его с удачей. Он сидел в гардеробной на стуле, закинув голову назад и стонал. Я поздравил его, поцеловал. Он стал жаловаться на боли в желудке. Я бросился в цирк. Узнал, что в цирке находится врач, попросил его притти. Он охотно пошел, осмотрел Яна Польди и сказал, чтобы я пошел в двенадцатую ложу, в которой находился врач-хирург. Я сейчас же отправился в указанную им ложу. Хирург пришел, осмотрел больного и велел немедленно вызвать карету скорой помощи, чтобы везти Польди в больницу. Все это было тотчас сделано. Хирург сел с больным в карету и сам поехал с ним в больницу, не досмотрев представления. После представления, уже поздно вечером, мы, несколько человек, пошли в больницу с братом Польди. Хирург сказал нам, что он Сделал Яну операцию, что у него от удара разорвалась кишка Сказал, что положение его тяжелое, так как у него, кроме всего во многих местах есть знаки от прежних ушибов.
6 февраля отец записывает: «Мы возвращались с арены, окончив балет «Спящая царевна». Персоналу передали о кончине разбившегося Яна Польди. Впечатление потрясающее. Все намазанные лица покрылись бесподдельными слезами. Грустная цирковая бытовая картина. Мир праху твоему, отзывчивый, хороший товарищ»,
7 февраля. «Антре невозможно грустно. Ни я, ни Митя не можем настроиться под впечатлением неожиданной безжалостной смерти Яна Польди».
Из Берлина от артистической интернациональной ложи было получено извещение, что они берут похороны Польди на счет ложи.
Труцци ответил благодарственной телеграммой и сообщил, что дирекция принимает похороны артиста Польди на свой счет. Трогательное отношение ложи взволновало артистов.
В это время уже существовала Интернациональная ложа артистов в Берлине. У нее было много членов по всему свету. Были ее представители и в Москве. Ян Польди был инициатором и организатором русского отдела ложи. Он был очень передовым человеком, прекрасным товарищем, и его преждевременная гибель опечалила очень многих цирковых артистов. Его похоронили 11 февраля 1913 года на Покровском рижском кладбище. Отец пишет: «В двенадцать часов дня похоронили Ивана Константиновича Подрезова — Яна Польди. Надгробное слово, сказанное мною, произвело на всех глубокое впечатление. Смотритель кладбища и тот плакал. Похороны прошли очень пышно». Было много народу своего циркового и артистического и просто горожан. Масса цветов. Спортсмены-рижане сделали погибшему Польди вместо венка из цветов велосипед.
В середине февраля в цирке начались усиленные репетиции пантомимы «События на Балканах». 11 марта пантомима прошла с большим успехом. Публика устроила овацию, потребовала исполнения гимна «Шумна Марица» и бесконечное число раз вызывала Труцци. Поставлена пантомима была очень хорошо. На арену выезжал паровоз с вагонами, выкатывалась артиллерия. С разрешения полиции войско-и пехота и артиллерия-было
выстроено на улице.
Публике больше всего нравилось, когда герой, раненный в голову и в ногу, шел, прихрамывая, со знаменем, а за ним шла его раненная в ногу лошадь и тоже хромала.
Делалось это очень просто. Никакой дрессировки тут не надо было. Лошади перевязывали платком сустав и оттого, что он был туго затянут, она хромала. Этот прием верный, много раз проверенный.
2 апреля состоялся наш бенефис. Материально он был очень удачен.
Труцци стал работать над приключенческой пантомимой «Роберт и Бертрам». Сюжет — приключения двух разбойников. Заканчивалась пантомима ярмаркой и поднятием воздушного шара. Из шара в финале вылетали две куклы, изображавшие Роберта и Бертрама. Подмена была очень хорошо сделана и эффектно обставлена.
Приблизительно в это время Труцци предупредил труппу, что на лето он цирк закрывает. Конюшню отдает в цирк Бекетова в Копенгаген, а сам с женой едет на курорт. Это сообщение опечалило всю труппу. Надо было искать места и работы. Отец опять стал рассылать телеграммы. Наконец, получилась депеша от Афанасьева, бывшего арбитра, извещающая, что он открывает в Пензе цирк и приглашает нас к себе на работу. Никаких других предложений не было, и отец послал согласие.
21 апреля закрылся сезон в цирке Труцци, и мы выехали в Пензу. Здесь нам пришлось испытать все прелести работы в мелком провинциальном цирке. По словам отца, он даже в дни своего ученичества не переживал ничего подобного.
В Пензе началось с того, что мы едва нашли квартиру. Цирк был под шапито. Труппа — раз, два и обчелся. Сборы вроде труппы. Директор — бывший арбитр. Он нашел себе где-то жену, жившую на содержании у какого-то помещика. Женщине этой понравилось звание директриссы цирка, а в то время для этого звания нужны были только деньги, на которые можно было бы купить четыре униформы, плохонький подержанный ковер, шапито, несколько обученных уже лошадок. Приобретено все перечисленное — и цирк готов. Остается только дать анонс в шантанно-цирковом журнале «Варьетэ и цирк», что там-то, тогда-то открывается цирк и для него нужны артисты, — и как бабочки на огонь полетят полуголодные люди, оставшиеся без работы. Директор протелеграфирует: «Выезжайте, аванс на месте». И полетит в заклад последнее добро многосемейного артиста, чтобы на полученные деньги он мог купить билет себе и своим близким. А там смотришь, пока артист едет, директора уже м след простыл, а доверчивый человек обречен на голодовку и нищету в городе, где нет ни души не только родной, но и просто знакомой.
Такого приблизительно рода оказался цирк, куда мы попали. Отец сразу понял, с кем имеет дело, и начал следить за аккуратной выплатой жалованья. Вначале в этом смысле положение еще было терпимым, хотя сборы были неважные. Да и какие могли быть сборы, когда в городе работали оперное товарищество и украинская труппа, а в Народном доме шли драматические спектакли. Кроме того, в Пензе было четыре кинематографа и три шантана.
Полиция в Пензе сразу отнеслась к нам с подозрением. По записям отца видно, что помошник полицмейстера вызвал администрацию цирка и предупредил, чтобы мы зажигательных вещей вроде «Нет местов» не говорили». 15 июня состоялся наш бенефис. Сбор был триста рублей. Это явилось и для нас, и для дирекции неожиданностью. Отец записывает: «Все волнения и тревоги за успех сегодня вознаградились горячим вниманием публики, которая отнеслась к нам и ко всей программе, как дай бог везде».,
В Пензе открылась небольшая ярмарка. 20 июня запись: «Видели, как приехавшие в город балаганы… торговались с городом за места. Курьезно-печальное зрелище, как кулак-город пользуется случаем, выжимает зачастую последние гроши у чернорабочего комедианта». Проклятый капитализм вечно будет царствовать над трудом. Старо, как мир».
Ярмарка просуществовала всего пять дней. Погода все время была отвратительная, и ярмарка сборов не подняла. Дирекция назначила нам еще один бенефис. Отец пишет: «На редкость веселый денек. С четырех часов утра и до девяти часов вечера гром, гроза и проливной дождь. Все бы это полгоря, если бы некто Коянов перед самым началом представления не явился с судебным приставом и не наложил арест на кассу, взыскивая с Афанасьева триста пятьдесят рублей. Тогда я заявил, что весь бенефис принадлежит мне. Потребовал возврата денег публике и отказал бенефис».
В это приблизителыно время приехали из Туркестана приглашенные в цирк на работу старые артисты-акробаты и музыкальные клоуны Распини, служившие с нами у Никитина. Они рассказали, чего только они ни натерпелись, работая в Туркестане. Сборы были настолько плохие, что им не на что было выехать и не на что отправить багаж — пришлось половину вещей оставить на месте.
Дела цирка были очень плохи. 26 июня отец пишет: «Один из веселых дней моей жизни под дирекцией Марии Дмитриевны Бухариной (с подставкой в лице Афанасьева). Приехавший спасать Бухарину ее опекун, отставной подполковник Лапин, заботливо вывел ночью описанных лошадей из цирка, а также заботливо сломал сундук, спасая бухаринскую сбрую. Словом, обовсем позаботился; забыв только нас, тружеников. Нам не заплачено сто семьдесят рублей, акробатам Барьби — сто сорок рублей, Распини — двести пятьдесят рублей. Силой полиции отняли инвентарь и играли сами товариществом. Сбор — сто двадцать шесть рублей. Нам пришлось девять рублей шестьдесят пять копеек и Липе за балет — рубль».
Товарищество проиграло десять дней. Играть артистам было невыгодно потому, что приглашенный раньше чемпионат забирал львиную долю и артистам оставались буквально гроши. Опять
полетели телеграммы в разные города. Товарищество продало оставшийся от дирекции инвентарь (шапито, ковер, пять униформ, десять балетных костюмов за сто тридцать пять рублей). Артисты разделили между собою деньги и разъехались искать счастья кто куда. Это было еще благополучным выходом из положения. Случалось так, что дирекция, скрывая свой прогар, объявляла, что переезжает с цирком в другой город с обещанием выплатить все долги на новом месте, выдавала артисту билет на руки, забирала у него багаж и уезжала. А с приездом в указанное место артист узнавал, что никакого цирка здесь нет, никто не приезжал и куда делась дирекция и багаж — никому неизвестно.
27 июля мы выехали из Пензы, доехали до Казани, сели на пароход и по Каме двинулись в Пермь в цирк Стрепетова. 3 августа 1913 года состоялся наш первый выход в Перми. Труппа была большая. Среди артистов оказалось много старых знакомых. Особенно радостна была для отца встреча с Черным Куком. Он, уже старик, имел взрослых детей, которые все были известными наездниками и акробатами на лошадях. Его дочери Луиза и Виктория считались лучшими наездницами того времени.
Увидали мы и других артистов, с которыми работали раньше: Розетта, Доню Старичкова. Отец его, артист Старичков[48], лежал при смерти.
Сам Стрепетов был когда-то ламповщиком у старика Вильгельма Сура, затем был управляющим в нескольких маленьких цирках, наконец, попал в цирк к Соболевскому. Когда Соболевский решил закрыть цирк и ехать работать наездником в цирк Чинизелли в Петербург, Стрепетов выпросил у него цирковое имущество и часть лошадей с тем, чтобы часть прибыли шла Соболевскому. Соболевский согласился, но поставил условием, чтобы Стрепетов не работал в Сибири, так как сам Соболевский намеревался работать там опять с цирком летом. Стрепетов дал Соболевскому слово, но его не сдержал и в двух сибирских городах сделал бешеные сборы. Стрепетов вернул Соболевскому его имущество, приобрел все, что было необходимо для цирка сам. Размах у него был большой. Труппа очень значительная. Делил он ее на две части и работал в двух городах. И несмотря на это, предприятие его было (как любят говорить артисты) карточное. Принцип был такой: есть — хорошо, а нет — тоже неплохо. Первые деньги со сборов всегда попадали в карман дирекции. Ему-то на жизнь хватит, ну, а артисты подождут. Это вещь обыденная, и к ней не привыкать стать работникам арены.
Вскоре часть труппы уехала в Челябинск, а вторая половина осталась в Перми с чемпионатом французской борьбы. Сборы были средние, так как чемпионат обставили организационно неважно.
4 сентября 1913 года скончался друг отца, клоун Василий Савельевич Старичков. Его хоронили на следующий день. Таких похорон никогда в жизни не видал и вряд ли увижу. Это были, так сказать, «веселые похороны». Своему сыну Донату перед смертью Василий Савельевич указал на подушку, на которой покоилась его голова. После его смерти в подушке нашли две тысячи рублей. Перед смертью покойный просил, чтобы по нем не плакали, а как следует выпили и его помянули. Приказал, чтобы не забыли положить с ним в гроб колоду карт.
Донат все это выполнил. Устроил пышные похороны и хороший поминальный обед с выпивкой. На кладбище тоже было не погребение, а какая-то комедия, так как отпевавший покойника поп все время прерывал службу. Ходит, поет и в промежутках спрашивает: «А кто у вас клоун? Господи, помилуй! (опять поет) — А есть ли хорошенькие балерины? Господи, помилуй! — А наездницы есть у вас? Ну, и как, ничего? Помяни господи!..» Мы, молодежь, несмотря на то, что любили Старичкова и жалели его, не могли удержаться от смеха. После того как погребение было окончено, Донат сказал попам: «Батюшки, вы уж с нами на поминальный обед пожалуйте».
Попы произвели такое впечатление, что отец записывает:
«Видал много алчных людей, но таких, как пермские попы, ни
когда. Предмет разговора всей труппы за поминальным обедом,
во время представления и по окончании в буфете. Словом, попы
заняли всю нашу труппу».
Время подходило холодное. Сборы все время шли на убыль.
В Перми у цирковых артистов был друг — поэт, авиатор Василий Каменский. Он дневал и ночевал у нас в цирке. Был он изобретателем и как раз тогда работал над конструкцией «водных саней», которые могли бы доставлять почту из Перми в пригороды.
3има установилась скоро. Мы закрыли цирк 1 октября. Было уже очень холодно. Дела цирка были так плохи, что Стрепетову едва удалось найти денег на дорогу. Пришлось заложить ненужный артистический багаж. Со всем этим провозились несколько дней и выехали в Троицк только седьмого.
Троицк оказался не городом, а самой настоящей деревней. Улицы немощеные, тротуары деревянные, грязь повсюду непроходимая. В городе два кино и драматическая труппа. Цирк большой, образцово построенный. Сборы с самого открытия очень слабые, и на лучшее рассчитывать было трудно. Труппа же большая. В Троицке нам также пришлось пережить все прелести работы в провинциальных цирках. Дирекция артистам жалованья не платила, а выдавала по три-пять рублей через три-четыре дня, чтобы сам артист и его семья не умерли с голода. Играл цирк через день. Перспектив на улучшение дел никаких. Немудрено поэтому, что артисты стали потихоньку разъезжаться, получая от Стрепетова векселя и немного денег на дорогу. Отец тоже начал переписываться с разными цирками, подыскивая себе работу, но вести приходили самые неутешительные. Сборы повсюду были неважные, и директора ангажировали артистов с большой осторожностью. В то время по всей России работало до шестидесяти известных цирков и почти столько же неизвестных. В конце книги дан перечень цирков тех лет.
Положение цирковых артистов почти всюду, кроме столиц, оставалось тяжелым. Были директоры, которые хотели платить и не могли, но большинство таких, которые могли платить и не хотели. Такое отношение входило в систему, и много горя приходилось переживать в связи с этим циркачам-артистам. Не только работай, но еще и думай о том, как получить жалованье. В маленьких цирках бывали иногда такие случаи. Влезет артист под купол цирка на трапецию и оттуда заявляет публике, что он два дия уже ничего не ел, так как жалованье ему дирекция не выплачивает. Говорил, что если ему наверх не подадут следуемую ему сумму, то он бросится с высоты цирка вниз головой, так как больше ему делать нечего. В цирке поднимались волнение, шум, крики и брань по адресу администрации. На веревочке артисту подавали деньги, он проделывал свой номер, спускался вниз и, конечно, сейчас же старался (на таким отчаянным способом полученные деньги) уехать из этого города в другой город, где был цирк.
26 октября в цирк явился оренбургский губернатор Сухомлинов, ревизующий свою губернию. Дирекция стала просить у него разрешения на «подарки», но он наотрез отказал.
А сборы становились все хуже и хуже. Не помогли и бенефисы. Артисты буквально разбегались. Бежали так, как бегут крысы с обреченного на гибель корабля. 12 ноября отец записывает: «Бедняга Мюльберг, уезжая, оставил свою жену, не имея возможности взять для нее билета. Это после пятилетней службы у Стрепетова, имея за Стрепетовым около четырех тысяч задолженности».
Стрепетов и его управляющий уехали, чтобы найти город, где бы продолжать работу. Наконец, от них пришла телеграмма, что они покончили с Уфой и ремонтируют там цирк.
В троицком цирке в это время началась борьба. Первое время сборов она не делала, но когда начал выступать борец Хаджи Мухан, в цирк стали приходить татары и киргизы, и сборы значительно возросли.
Хаджи Мухан был не кто иной, как борец Муханура, работавший в чемпионате Луриха на амплуа комика. У нас в Троицке он перешел на амплуа героя. Он был мусульманин, от его имени зависели сборы, и потому он сразу из Мухануры превратился в Хаджи Мухана и из комика в героя. Он, конечно, клал всех, это приводило мусульман в восторг, и они после борьбы собирали ему в шапку деньги. К его бенефису в цирк киргизы и татары приехали на своих лошадях чуть ли не за пять часов до начала представления и расположились вокруг цирка табором. Программу почти не смотрели. Когда вышел Хаджи Мухан, цирк сотрясался от рукоплесканий. Сначала он работал с гарями и гнул железо. Уже после этого номера ему на арену вынесли подарки: халаты, деньги, лошадь и двух живых баранов. После борьбы богачи Яушев и Валеев подарили ему дом, расположенный на окраине города, и с домом вместе жену.
Цирк в Троицке играл через день, и потому у нас было много свободного времени. В городе начался сезон маскарадов. Я и друг мой Володя Эйжен ходили на эти маскарады. На одном из маскарадов я получил за костюм первый приз. Отец записывает: «30 ноября 1913 года Митя произвел сенсацию на маскараде в ресторане «Биржевка», нарядившись в сарафан и кокошник. На кокошнике вышито «Россия». В руках вместо ребенка четверть водки и на фартуке написано: «кормилица и поилица России мадам Монополька». Появление его в зале вызвало несмолкаемую бурю аплодисментов. Единогласно всей залой первый приз — серебряный сервиз — присужден Мите».
К концу борьбы от Стрепетова получена была телеграмма, что 6 декабря в Уфе назначено открытие цирка. Мы очень обрадовались, что нас выделяют для Уфы. Отец твердо решил получить от Стрепетова весь долг (свыше трехсот пятидесяти рублей) и бежать от него.
4 декабря мы выехали из Троицка в Уфу, куда приехали 6-готтутром. После длительного пребывания в Троицке каждый город покажется столицей. Такой нам и показалась Уфа. Открытие прошло успешно. Для Уфы приглашено было много новых артистов, но из клоунов попрежнему были только мы и Розетти. Розетти уезжали через несколько дней. Таким образом мы очутились в выгодном положении, а тут еще неожиданно пришло предложение от Альберта Сура из Уральска приехать работать к нему. Отец послал согласие и решил к рождеству перебраться в Уральск.
Все как будто бы понемногу налаживалось, как вдруг заболел отец. Мне и Косте пришлось комбинировать работу. Сделали мы это довольно удачно и проработали одни и за себя и за отца десять дней.
Отец оправился, и работа пошла нормально. 3 января 1914 г. у отца запись: «Антре имело большой успех, но рассказ про гимназистов не понравился полицмейстеру, который без предупреждения приказал составить протокол об оскорблении педагогического начальства и его циркуляров. В какие-нибудь полчаса весь цирк узнал о протоколе, который возмущал положительно всех, включая и дежурного пристава, составлявшего протокол и посоветовавшего мне в антракте поговорить с гр. Толстым. Толстой, узнав о причине протокола, обещал сделать все возможное, чтобы не дать хода этому нелепому, по его словам, протоколу». На следующий день запись: «Ходили к полицейместеру на кофе. Просьба не упоминать про какие бы то ни было распоряжения и циркуляры административных лиц под страхом вчерашний протокол пустить в ход. А пока, по желанию вице-губернатора гр. Толстого, его (протокол) затушуют».
10 января 1914 г. мы закончили, наконец, работу у Стрепетова и выехали в Уральск.
ГЛАВА XVII
Опять Альберт Сур. Уральск. Багрение. Свадебный обряд. Игра в снежную горку. Уральская грязь. Учредительное собрание русской артистической ложи. Капитан Бессмертного полка. Козлов. Шуя. Цирковые хулиганы. Бедняга Пац. Антре об экзамене дочери дворника. Муром. Уха старика-баканщика. Мобилизация. Патриотические манифестации. Отказ Сура от директорства. Цирк Товарищества русских артистов. Проводы эшелона. Проверка документов. Транспорт раненых. Цирк Копыльцова в Калуге. Переезд на постоянное жительство в Москву. Радунский — директор цирка Саламонского. Московская труппа Бим и Бом. Бенефис. Наш экробатический дебют. Антре «Стаканы». Одновременные гастроли братьев Дуровых.
Мы попали в Уральск в то время, когда к нему со всех окрестностей съезжались на багрение. Запись отца гласит: «18 января приехали в столь долгожданный Уральск. Какое горькое разочарование. Грязная деревня с поразительным сходством во всем с Троицком».
Нам удалось найти небольшой отдельный домик, который хозяева нам отдали в наем за восемнадцать рублей. Жизнь в Уральске была недорога. Цирк холодный, но уборные в нем оказались хорошо устроенными и теплыми. Стоял он на базарной площади на очень выгодном месте, так как через площадь вели все дороги и в центр города, и на окраины.
Уральск был очень своеобразен по укладу жизни. Мы ездили с Альбертом Суром и Байдони за 25 верст смотреть на багрение. Народу туда понаехало очень много. Всю дорогу мы видели со всех сторон направлявшихся на багрение казаков на санях в тулупах, с длинными шестами. Повозки ехали одна за другой, гуськом. Народу собралось несколько тысяч, наверное. На реке в присутствии губернатора был отслужен молебен. Ровно в двенадцать часов раздался пушечный выстрел. Все бросились на лед и начали ломами пробивать в нем отверстия. В образовавшуюся большую сравнительно дыру опускали шест и начинали шарить им по дну. Если удавалось нащупать большую рыбу, то звали на помощь, чтобы ломать лед, если же рыба была среднего размера, справлялись с ней сами. Иногда попадались белуги чудовищной величины.
Самую крупную рыбину преподносили губернатору. Ее потрошили тут же на берегу, промывали икру и угощали ею губернатора, чиновников и духовенство. Так начиналось знаменитое багрение. Торги происходили часто еще тогда, когда рыба была подо льдом. Возьмутся и продавец и покупатель за багор и торгуются. Были такие специалисты, которые удивительно точню умели определить вес и размер рыбы, ощупав ее только багром. Казакам же деньги были нужны прежде всего на водку. Без нее нигде дело не обходилось.
Дня через два после того, как началось багрение, на площади вокруг цирка сплошной стеной, как бревна, стояли стоймя замороженные рыбины огромных размеров. Некоторые из них были на десяток пудов. А рыбу все везли и везли. С подъезжавших саней спрыгивал казак, вставлял в снег на площади два багра, привязывал к ним поперечный шест и ставил стоймя свою рыбу. Если улов был удачный, то образовывалось нечто вроде палатки из рыб.
Мелкую рыбу продавали местному населению. Нас очень интересовал вопрос, как они узнавали, где нужно проламывать лед и искать рыбу. И нам рассказывали, что как только на реке осенью появляется первый «жирок», казаки ночью с факелами ходят по берегу и смотрят, где уснула рыба. Эти места отмечают метками и зимою уже прямо бегут на намеченное заранее место. Рыбу покупали наглаз, с удивительной точностью определяя вес рыбы и икры в ней.
Перед постом в городе после удачных багрений можно было видеть свадебные процессии. Свадебный обряд здесь тоже проходил своеобразно. После венчания в церкви бывал скромный обед, и молодые уходили к себе. На другой день начиналась гулянка, пляски, водка, песни и веселье. Всей компанией отправлялись по родственникам. Женщины в лентах и цветах под гармонию пляшут и поют. Если невеста до брака была целомудренна, то у всех в бутылках и четвертях водка. Бутылки и четверти перевязаны лентами. По дороге пьют и закусывают из мисок, которые несут с собой. У знакомого дома останавливаются, вызывают хозяев, угощают их, те со своей стороны выносят угощение. Такое хождение по знакомым продолжается дня два.
Если же невеста оказывается женщиной, а не девушкой, то в бутылках и четвертях несут молоко. Свахи по дороге причитают. Невеста идет заплаканная. Ходят только к родным, у знакомых ие останавливаются. Жених срамит невесту тут же на улице, а свахи плачут и горланят. Водку пьют только в доме, и весь расход по свадьбе родители невесты берут на себя.
Надо было видеть эту процессию, чтобы понять, до какого унижения можно довести человека и насколько темен и жесток был народ.
20 января 1914 года состоялся наш дебют в Уральске. Прошел он успешно. Сборы в цирке были средние. По субботам не играли, так как публика в цирк не шла и давать представления было бессмысленно.
Масленица в Уральске проходила тоже своеобразно. У каждого дома строилась горка из снега. Хозяин выносил (смотря по своему состоянию) поднос с водкой и закуской. Ставил поднос на горку. Молодежь верхами на лошадях нападала на горку, а защищала ее пешая молодежь с кнутами, на концах которых привязаны были обледенелые лапти. Этими обледенелыми лаптями и орудовали с таким азартом, что часто разбивали в кровь лица и носы и вышибали зубы. Кому удавалось завладеть горкой, тот получал закуску и выпивку.
Ходили друг к другу в гости на блины и наедались их до одурения. Блины подавались с каймаком. Каймак — снятые с молока пенки, наложенные одна на другую и подмороженные. Жирен каймак до приторности.
Первое время сборы в цирке были очень хорошие, но в марте они стали падать из-за потепления и начавшейся непролазном грязи. Трудно себе представить, что творилось. Ходить можно было только в сапогах и то не по всем улицам. К цирку — не подойти и не подъехать. Если едешь на извозчике, то приходилось поднимать ноги, так как грязь лилась через пролетку. Ехавшие на верблюдах клали ноги на его горб, чтобы не запачкаться. Вот запись отца: «Не играем из-за неприступной грязи. К цирку не пройти, и проехать на лошадях нет возможности. Сур из-за невозможности добраться до цирка на репетиции не был, так как извозчики отказались ехать. Вечером хотели пойти в кино, но вернулись. Причина простая: добраться до главной улицы невозможно. У квартиры Сура утонула у извозчика лошадь в луже. Невиданное до сих пор зрелище».
Цирк не играл с 16 по 25 марта из-за грязи. Сур очень волновался, но платил артистам жалованье сполна. Так пробивались до конца марта. В конце месяца Сур с частью труппы переехал в Козлов. Отец уехал на несколько дней в Москву на учредительное собрание Русской артистической ложи.
Он вернулся в Козлов тогда, когда еще не были известны результаты выборов в правление ложи. Уже по возвращении обратно в Козлов отец получил письмо от Эди Джерети, что избраны были Рибо, Бим Радунский и В. Дуров. Избрание их мотивировалось тем, что они чаще других бывают в Москве: «Решение мудро, но своеобразно, — пишет отец, — поживем — увидим». Он был недоволен, что выбраны первачи-артисты, очень обеспеченные, из неимущей же артистической братии никто в правление не попал.
7 апреля состоялось открытие цирка в Козлове. Всю пасхальную неделю представления шли с аншлагом. Сур воскрес. Но скоро опять случилась неприятность. Цирк стоял на базаре; мальчишки заранее забирались на крышу и ножами прорезали шапито. Один из кучеров увидел, что мальчишка режет шапито, и ткнул его палкой, чтобы согнать с крыши. По случайности он попал ему в глаз. Мальчишка начал орать. На крик его сбежались крестьяне, находившиеся на базаре, и сначала хотели разнести цирк, а потом стали таскать к цирку солому, чтобы поджечь его. Находящаяся рядом пожарная команда
подоспела во-время и предупредила пожар. Происходило это рано утром. Сур прибежал в одних кальсонах и в пальто, накинутом на плечи. Едва удалось уговорить толпу разойтись, и она успокоилась только тогда, когда кучера повели в участок.
В это же самое время пришло письмо от управляющего Байдони, который остался с частью труппы в Уральске. Байдони писал о происшедшем в уральском отделении цирка несчастном случае, жертвой которого сделался борец Чуркин, выступавший в номере «Капитан бессмертного полка». Чуркину дан был бенефис. Номер его усиленно рекламировали. Заключался он в следующем. На арену выносили шомпольное ружье, тут же на арене его заряжали. Приносили стекло на поларшина в квадрате. «Капитан бессмертного полка» брал в руки стекло, держал его у груди. Стрелявший в него человек отходил на десять шагов и стрелял. Стекло разлеталось вдребезги, а картечь падала к ногам капитана. Номер был эффектный и очень выигрышный для бенефиса. Делался он просто. Заказывалась магазинка по размеру дула, легко входящая в него. На манеж выносят шомпольное ружье и поднос со всеми принадлежностями, чтобы ружье можно было зарядить. Одному из публики предлагают насыпать порох в ружье и забить его пыжом. Ружье переносят на другую сторону арены; ассистент «Капитана бессмертного полка» незаметно опускает в дуло магазинку и предлагает кому-нибудь из публики опустить в ружье картечь. Когда все это проделано, ассистент брал пыж, на глазах у публики забивал его шомполом и шомполом же незаметно вытаскивал магазинку с картечью так, что заряд получался холостой. Капитан, надевал перчатки; вместе со стеклом ему незаметно подавали нагретую картечь. Стекло было надрезано алмазом. Когда раздавался выстрел, капитан нажимал на стекло, ломал его и бросал картечь на ковер. Вот и весь секрет этого номера.
По рассказам Байдони, на этот раз, когда ассистент забивал шомполом пыж, то никак не мог вынуть магазинку. Ничего никому не сказав, он побежал за другим шомполом. Чуркин же думал, что все готово, вызвал на арену стрелка, взял стекло и скомандовал: «стреляй».
Весь залп с картечью и магазинкой попал ему прямо в грудь, и он упал на арену, обливаясь кровью. Через несколько минут он скончался. На следствии выяснилось, что было приготовлено два ружья, но перепутали шомполы, и когда ассистент побежал за другим шомполом, то уборная оказалась закрытой на замок, он стал искать, у кого ключ, никому йичего не говоря. Чуркин этого не знал, думал, что все в порядке. В это-то время и произошла вся трагедия.
Следствие велось долго, и потребовалось довольно много денег чтобы замять это дело. Как ни странно, полицейская власть обвиняла Байдони, а он в это время был в кассе и принимал сбор от кассирши. Цирк закрыли, не дав отработать чемпионату. Байдони вывернулся только потому, что афиша была подписана полицмейстером, и он утверждал, что сам не знал, как делается этот номер. Суру вся эта история обошлась около трехсот рублей. Конечно, много значило и то, что у Чуркина не было родных, что был он одиноким человеком.
В Козлове я на собственном опыте убедился, что такое тренировка вообще и для циркового артиста в частности. Я хотел по приезде дать номер с аэропланом. Не тут-то было: номер не шел. Правда, трюк был довольно трудный. Проходил он так: я говорил отцу, что у меня есть аэроплан собственной конструкции. Выносили на арену четырехаршинный шест диаметром в обхват руки. Отец спрашивал: «А где же мотор?» Я уходил на передний ход, становился на барьер, брался за шест и скакал на нем, держась за верхушку и поддергивая шест всем телом кверху в такт музыке. Так я проскакивал всю арену. При каждодневной тренировке я это проделывал легко, но стоило мне только 15 дней не потренироваться, как я этого номера выполнить не мог. Так бывало не со мной одним, и, конечно, это лучшее доказательство необходимости тренировки, в особенности для жанров акробатических. Нельзя доводить себя, тренируясь, до усталости, но тренироваться необходимо каждый день.
23 апреля состоялось открытие чемпионата борьбы Петра Крылова. Несмотря на приличный состав чемпионата, сборы вначале были средние, но потом публика начала входить в азарт, и цирк бывал полон.
11 мая 1914 года мы с лучшей частью труппы из Козлова выехали в Шую. В Козлове мы оставили несколько номеров для первого отделения и борьбу. Они должны были закончить сезон.
Шуя — город очень маленький, скорее большое село, чем город. Цирк не был готов, так как новый администратор Сура запьянствовал и не приготовил цирка во-время. По приезде Сур сам энергично принялся за стройку. Мы по его просьбе разбрелись по городу и базару в поисках плотников. 15 мая в Шуе был «престольный» праздник, и Суру непременно хотелось открыть цирк в этот день. Нам удалось найти плотников, и мы принялись помогать им. Таскали доски, пилили, убирали цирк. Пятнадцатого мая в семь часов вечера цирк был готов. Сур послал всех домой отдохнуть и хоть два часа поспать, и в девять с половиною часов открытие состоялось в переполненном народом цирке. Представление во всех своих частях прошло очень хорошо. Но нас исправник просил зайти к нему на другой день «на кофе».
Из записи отца видно, что исправник просил не касаться ни членов Государственной думы, ни самой думы. Далее запись следующая: «Пошел завтракать в общественное собрание, где буфетчик заявил, что советом старшин постановили в собрание артистов нашего цирка не пускать. Поводом к этому послужила грязная выходка акробатов Богуславских. Хорошая реклама для цирковых хулиганов, из-за которых и создалось у общества существующее извращенное мнение о всех циркачах. Сур, узнав это, послал за произведенный дебош извиниться, и если это еще раз повторится, он решил рассчитать Богуславских».
Надо сказать, что в труппе всегда было два-три человека, которые считали хулиганские выходки особым ухарством, причем они, проделывали каверзы не только вне цирка, но часто и на работе, особенно процветало хулиганство в тех цирках, где дирекция не особенно энергично боролась с этим явлением. Но и в цирках со строгой дирекцией бывали так называемые цирковые шутейники. Начиналось это обычно с мелких шуток и кончалось крупными скандалами. Хорошо ещё, когда скандалы происходили в стенах цирка. А то в труппе подбиралась компания таких шутейников, которые после представления, в ресторанах, как говорили циркачи, «давали пачек»: не только скандалили с теми, кто их задирал, но и приставали сами к мирной публике. Кончались такие вылазки в рестораны протоколом и участком.
Шутки в цирке начинались большей частью с «мешка». Эта шутка так вкоренилась в жизнь цирка, что стоило появиться на арене постороннему человеку во время репетиции, как уже кто-то кричит: «Давай мешок». Хватают на конюшие первый попавшийся мешок (в лучшем случае попадается мешок из-под овса, а то часто грязный и пыльный), забираются в губернаторскую ложу или в оркестр и бросают мешок, стараясь накинуть его на намеченную жертву, а сами убегают. Если это проделано с артистом, он говорил: «Ну подожди, я тебя угощу». И вечером брал замок, на дужку его надевал петли пиджака, брюк, пальто и т. д., а ключ забрасывал. Виновник шутки с мешком не мог одеться до тех пор, пока не сломает замка,
Или возьмут шутейники и зашьют подкладку в рукавах пиджака, или наложат в карманы навоз, или засунут в ботинки тухлое яйцо, или прибьют к полу гвоздиками галоши. В конце концов это обычно кончалось скандалами и дракой.
Хуже всего бывало, когда начинали шутить во время работыты: жонглерам мазали все предметы вазелином. С ними трудно было работать, и они падали; насыпали в трико чесательного порошка; крошили в грим ляписа, а на другой день, когда выйдешь на солнце, все лицо покрывалось темными пятнами.
Несмотря на строгость, «шутили» даже у Рудольфо Труцци. Так, во время постановки «Пана Твардовского» артисты во втором акте одеты чертями в трико и масках. В следующем действии они быстро должны преобразиться в знатных поляков. И вот кто-то взял и вымазал маски чертей в средине сажей. Когда маски были сняты, то у всех артистов лица оказались перепачканными. Все они опоздали к выходу. Труцци давал пятьдесят рублей тому, кто раскроет виновника этой выходки. Все молчали.
Когда артисты в этой пантомиме одеты были чертями, их трудно было узнать, и многие из них нарочно бегали в буфет, брали пирожки и, бросив буфетчику «за мной», убегали. Буфетчик не знал, за кем записывать взятое. Это вошло у «чертей» как бы в привычку. Буфетчик жаловался Труцци — ничего не помогало. Количество неоплаченных пирожков и бутербродов росло. В труппе был джигит Пац. Он был по характеру очень тихий и смирный человек. Ему рассказали про пирожки, и он тоже раз, загримированный чортом, зашел в буфет, взял пирожок, сказал «за мной!» и ушел.
На другой день Труцци собрал всех артистов, выстроил их в ряд и велел всем протянуть руки. Оказывается, буфетчик заявил, что пирожки и бутерброды в буфете берет тот, у кого нет одного пальца. Одного пальца на руке не оказалось у Паца, ему пришлось уплатить буфетчику двадцать пять рублей и штраф десять рублей. Его нарочно подзадорили, чтобы он взял пирожок, а сами предупредили насчет его пальца буфетчика. Пац по простоте своей за один съеденный пирожок поплатился тридцатью пятью рублями, что для него, конечно, было нелегко.
Чего только ни придумывали шутники. Посылали письма, назначали свидания в отдаленной части города и потом смеялись над тем, кто верил таким письмам. Подговаривали городового, и тот несуществующей печатью запечатывал комнату. Владелец комнаты бегал по полицейским участкам, разыскивая того, кто наложил печать, чтобы снять ее. Посылали на дом знакомым гробы или предлагали дешево купить костюм и посылали гробовщика снимать мерку.
Часто шутки бывали очень грубые и приносили человеку и материальные и душевные страдания. Отец мой не любил этого, и нам не позволял шутить над товарищами и разыгрывать их. Если же мы, увлекшись цирковой традицией, позволяли себе это делать, то нам всегда от него попадало.
Но вернусь к Шуе и нашей работе в шуйском цирке.
28 мая отец записывает: «Антре редкостно стройно и публике очень понравилось. Взрыв рукоплесканий вызвала вставка о срезавшейся на экзаменах в женской гимназии дочери дворника. Все, ее знающие, прочили ей золотую медаль. Новый директор гимназии, ставленник и родственник Касоо[49], повернулся спиной к плебейкам и на экзаменах резал и косил все низшие классы, особенно девушек недворянского происхождения. Мы эту грустную историю провели в начале антре, — прием был очень горячий».
Вскоре в цирке начал работать чемпионат. Сур решил давать только два отделения. Труппа разделилась, и мы выехали в Муром.
19 июня состоялось открытие муромского отделения цирка.
Впечатление от города было такое, как будто мы только вчера уехали отсюда. Цирк выстроен был на том же месте. Та же ярмарка, с тем же пьяным угаром, те же лица. Приехали мы с чемпионатом, и труппа при нем была небольшая. Публику сразу захватила борьба, и сборы все время были хорошие. У нас было много знакомых в городе, и мы часто гуляли и ездили за город.
Однажды с одним местным богатеем мы поехали на уху к рыбакам в Карачарово на моторной лодке. Я первый рав видел, как приготовляют уху рыбаки. Мы взяли с собой из города лимоны, перец, лавровый лист и чистую простыню.. Когда мы приехали, рыбаки забродили сети. На берегу был разведен большой костер, и над ним повесили порядочных размеров котел. Вытащили сети, сейчас же отделили всю мелкую рыбу и часть ее в простыне положили в котел. Пока котел закипал, рыбаки чистили на реке стерлядь. Рыба в простыне хорошо прокипела, ее вынули вместе с простыней, отжали крепко, выбросили вон, наложили свежей рыбы и опять положили в котел.
Так они делали три раза. Когда вся мелкая рыба была еварена, тогда только в бульон из-под нее положили сначала специи, а затем стерлядь. Получилась такая уха, какой я в жини не едал. Мы все просто объелись и едва вечером работали. Уху приготовлял старый рыбак с большой седой бородой. Ему было уже восемьдесят пять лет. В Карачарово он приехал десятилетним мальчиком со своим отцом. С тех пор не уезжал отсюда и все время работал с рыбаками, а потом стал баканщиком. Отец его умер, когда мальчику было пятнадцать лет, пришли люди с попом, отпели отца, но нести его десять верст до села не захотели и закопали его тут же на косе. Он сам потом сложил отцу из камней крест.
17 июля 1914 года мы закрыли цирк. В этот день объявлена была мобилизация,
18 июля мы выехали обратно в Шую. Но расписание было отменено из-за мобилизации, и мы вместо девяти часов уехали из Мурома в одиннадцать. В Шуе мобилизация была в полном разгаре. Сур очень боялся, что у него могут по мобилизации отнять лошадей. Но страх его был напрасен, так как имущество иностранных подданных не подлежало мобилизации.
20 июля отец записывает: «Патриотическая манифестация, забрав от нас наш оркестр для демонстрации по городу, не дала нам открыть представления, хотя полиция ничего не имела против. Речь белобрысого студента перед цирком при тысячной толпе и портретах царя сделала свое дело, и мы не играли».
На другой дань Сур собрал всю труппу и заявил, что дирекции Сура больше ие существует. Сказал, что цирковое имущество принадлежит его жене, французской подданной. Предложил нам составить товарищество и играть на марки. Мы согласились. Но исправник, несмотря на то, что на афише стояло «Товарищество русских артистов», нам играть не разрешил, пока все не успокоится. Окончилось дело тем, что неожиданно пришел приказ в трехдневный срок снести цирк. Мотив был тот, что Сур — германский подданный..
Таким образом, мы, как и все остальные артисты, остались без работы. Отец послал в разные места письма с предложением наших услуг, но ответа ниоткуда не получил. От Сура при расчете мы получили сто пятьдесят рублей вместо заработанных двухсот тридцати. Положение Сура было действительно, тяжелое и артистам поневоле пришлось пойти на уступки.
С цирка было снято шапито, мы ходили репетировать под открытым небом. Через несколько дней
Сур стал распродавать лошадей. Мы продолжали жить в Шуе, ожидая писем, а арена цирка начала уже порастать травой.
30 июля отец записывает: «Первая отправка из Шуи двух эшелонов на театр войны, проводы не поддаются описанию».
Труппа стала понемногу разъезжаться. Мы не получали ни откуда ответа. Сидели и ждали ангажемента. Цирк разобрали. Мы репетировали или во дворе, или в лесу, куда ходили с отцом. 21 августа у отца запись: «Давидсон своей фамилией показался здешней полиции подозрительным, результатом чего явилась проверка. Нас всех вызвали с паспортами в полицию».
А 28-го он записывает: «В девять часов вечера при громадном стечении народа привезли транспорт раненых. Волновавшаяся до прихода поезда масса с остановкой поезда застыла. У многих на глазах слезы. Момент, редко в жизни переживаемый. Городское управление и земство оказались на высоте своих обязанностей. Всё приготовлено и все предупреждено в самой лучшей форме… Приготовленным санитарам народ не дал притронуться до больных, всех несли сами».
Неожиданно пришло предложение от директора Копылъцова из Калуги. Мы очень обрадовались, но решили оставить мать с девочками в Шуе, а сами налегке отправились в Калугу, распрощавшись навсегда со стариком Альбертом Суром.
Цирк в Калуге был плохой, деревянный, под шапито. Труппа слабая, второе отделение занимала борьба. Сборы средние. Дирекция, явно не крепкая, могла существовать только со сборов. Есть сборы — и артистам будет выплачиваться жалованье, нет сборов — ищи ветра в поле. Нас устраивало это единственно постольку, поскольку мы могли репетировать и не забывать своего репертуара. Отец воевал с дирекцией, вырывал жалованье по грошам. По слухам, со всех концов России доходившим до нас, мы знали, что артистам сейчас всюду приходится туго. Исключение представляли Крым и Кавказ, где еще не объявили мобилизации. Много иностранных артистов, немцев и австрийцев, было выслано в Сибирь. Казалось, что в цирках должна быть недохватка артистических сил, и, несмотря на это, по собственному опыту мы видели, как трудно получить ангажемент.
В эти первые месяцы войны в Калуге сильно было развито пьянство. В магазинах вином не торговали, зато его продавали в ресторанах; и там пьянка шла жуткая. Правда, за появление к нетрезвом виде жители подвергались штрафу в двадцать пять рублей. В цирке сборы были очень и очень средние. Подняли их гастроли дрессировщиков львов и медведей Альпера Фарруха и Пашеты. Они собрали публику на несколько представлений. Выпал снег, начались большие холода, и мы решили уехать обратно в Шую к матери и сестрам, которые ждали нас с нетерпением.
Вскоре, после нашего приезда на семейном совете решено было в Шуе не оставаться, а всей семьей перебраться в Москву. Москва была центром всех артистических дел, туда съезжались все директора, и это нас, конечно, устраивало. Порешили иметь постоянную квартиру в Москве, мы же с отцом должны были разъезжать, возвращаясь по окончаний ангажемента в Москву.
4 ноября отец выехал один, а 10-го перебрались в Москву и мы. Отцу удалось опять снять в номерах «Белосток» большую комнату с двумя темными спаленками, и у нас получилась опять подобие отдельной квартиры.
Пришло предложение из Сибири от Изако приехать к нему. В цирке Саламонского в это время директором был Радунский — Бим. Директорство его было случайным и вынужденным. Сиял цирк Саламонского Девинье и ангажировал на зимний сезон среди других артистов Бима и Бома. Вскоре Девинье был выслан из Москвы как германский подданный. Цирк остался без руководителя. Тогда после долгих уговоров всей труппы Радунский взялся быть руководителем труппы и директором цирка.
Хотя труппа была уже скомплектована, Радунский все же предложил отцу работать в цирке, на жалованъи в двести пятьдесят рублей. Мы долго думали, принять ли его предложение, и, наконец, решили, что лучше получать меньше и жить в Москве всем вместе, чем при большем жалованьи жить на два дома и скитаться по провинции.
Бим предупредил отца, что не будет загружать нас работой, приберегая нас на следующий сезон. Мы должны быть, так сказать, внештатными. Все это, конечно, нас мало устраивало, но делать было нечего, положение повсюду оставалось очень сложным и неопределенным.
Программу цирка составили с большим вкусом. Она была неболъшая, но крепкая и доходила до публики. В труппу входил прекрасный наездник Баренко, очень искусные акробаты Брусио и Маджио, гладиаторы-акробаты Аполлонос, танцоры-акробаты Мизгуэт и Максли, упражнение на кольцах — труппа Цапа, «мертвая точка» — Шерай, лошади Дратянкина, плясунья на канате негритянка Техас-Хети, наездница Анета Аберг, клоуны Брасо и Фриц.
Очень талантливым артистом был клоун Фриц. Он был хороший прыгун и редкостный комик. К сожалению, только два-три из его антре можно действительно назвать первоклассными. В других антре он работал уже гораздо слабее. В жизни это был человек ракамболевских похождений. Артист на манеже, он вне манежа, казалось,, собрал в себе все хулиганские выходки того времени.
В цирке, кроме всех мною перечисленных артистов, работала еще труппа –арабов. Программу заканчивали Бим и Бом — И. С. Радунский и М. А. Станевский. Они создали совершенно новый жанр в цирке. Опыт большого пройденного пути и внутренняя культура создали неповторимую пару Бим-Бома. Многие пытались их копировать, но это всегда было лишь жалкой потугой. Я с большим вниманием следил за их работой. Из всех музыкальных клоунов, которых мне приходилось видеть, я считаю их лучшими. Вся работа их была построена на разговоре, музыке и пении. Бом обладал очень приятным голосом. Ему не раз предлагали перейти в оперетту. Выходил он на арену в черном смокинге, чуть-чуть шаржированном (например, нарочно заказывал себе брюки короче обычного). Он первый начал носить цветные парики — фиолетовый, зеленый, красный и носки в цвет парика. Был он симпатично-смешон, прекрасно смеялся и плакал. Номер свой они планировали так: выходили с репризой, потом шла музыка, давали злободневную репризу, опять музыку и кончали куплетами на злободневные темы. Иногда в середине номера Бом пел с огромным успехом комический романс. Исполняемый ими куплет «Труба и барабан» вошел в репертуар огромного числа цирковых и эстрадных артистов, и его исполняют и до сих пор.
В те годы номеров с арены цирка не объявляли, но достаточно было оркестру заиграть для выхода Бим-Бома, и публика шумно приветствовала их.
Трудно было стать «любимцем публики», но раз уже любовь ее была завоевана, то публика горячо принимала отмеченных ею артистов. У Бим-Бома весь репертуар был подобран и сделан на редкость талантливо, с большим вкусом и артистическим тактом.
14 ноября в их бенефис цены были бешено подняты, но цирк тем не менее переполнен до отказа, арена завалена цветами и ценными подарками.
Репертуаром они располагали очень обширным, всего его не передашь и не перескажешь. Я остановлюсь только на нескольких номерах.
Приведу куплеты, которые они распевали на манеже про французский и русский язык.
БИМ. Что француз нам ни взболтнет, выйдет деликатно.
БОМ. Ну, а русский как загнет, берегись, понятно.
БИМ: По-французски — ле савон, БОМ: А по-русски — мыло.
У французов — миль пардон, А у русских — в рыло.
По французскому — рояль, А у нас — гармошка.
У французов — этуаль, А у нас — Матрешка.
У французов — все салат, А у нас — закуска.
По-французски — променад, А у нас — кутузка.
У французов — редерер, А у нас — присядка.
По-французски — «шмен-де-фер» А у нас — накладка.
По-французски — сосьете, А по-русски — шайка.
У французов — либерте, А у нас — нагайка.
У французов — все фромаж, А У нас — бутылка.
По-французски — ле вояж, А по-руссски — ссылка.
По-французски — диллетант, А у нас — любитель.
У французов — интендант, А у нас — грабитель.
В своем роде любопытны были патриотические куплеты, написанные поэтом Славянским, который впоследствии пытался подражать Бим-Бому. Бом выходил загримированный турецким султаном с шарманкой и обезьянкой и пел эти куплеты, начинавшиеся словами:
Я султаном смирным был,
На Босфоре мирно жил.
Как я упомянул выше, многие пытались копировать Бим-Бома, но никто из подражателей не был так талантлив, как они сами. Скажу, между прочим, о скверной цирковой традиции — подражании. Достаточно было появиться на арене какому-нибудь новому номеру, приему или жанру и его разновидности, как моментально его подхватывали, начинали имитировать и затаскивали до того, что потом уже и талантливый создатель новшества не имел того успеха, который справедливо заслужил. А сколько творческих мук переживал талантливый цирковой артист, обдумывая свою работу, новый номер или прием. Ведь помощи ниоткуда он не получал, все им придумывалось и выполнялось самостоятельно. А добьется артист совершенного исполнения после многих месяцев работы и тренировки, посылает предложение дирекции, — дирекция отвечает, что у нее этот номер уже исполняет такой-то артист, совершенно не признавая преимущественных прав автора на исполнение созданного им номера
Как только закончили работать Бим-Бом, цирк стал готовиться к гастроли Анатолия Дурова. На одной из репетиций выяснилось с большей определенностью наше положение. Вот запись отца от 13 ноября: «На репетиции мальчики поразили всех акробатов своим трюком — поворачиваться. Старик Фиоки и Гавана поразились комбинацией и красотой трюка. Под этим впечатлением Радунский предложил на пробу отработать в воскресенье днем».
Нас с Костей огорчило предложение отработать днем. Наш номер был не хуже номеров других акробатов, получавших в цирке большое жалованье. К общей радости нашей семьи работа наша прошла очень удачно. Нас смотрела вся труппа, явилась даже вторая жена Саламонского. Отец пишет: «Дебют мальчиков прошел очень хорошо. Бим — Радунский выразил удовольствие по поводу дебюта». Но одни похвальные отзывы нас с Костей не устраивали. Работая у Труцци в Риге или у Альберта Сура, мы занимали определенное самостоятельное положение. Труцци никому не давал гулять и всегда говорил, что ему нужны маленькие артисты столько же, сколько и большие. Здесь же в Москве все было по-иному. Программа составлялась только из номеров артистов, уже имевших имя.
Наш дебют с отцом состоялся 21 ноября. По совету Бома — Станевского, мы выбрали антре «Стаканы». Разговора в этом антре почти нет. Я проделываю ряд за рядом несколько сальто, каждый раз вынимая из кармана стаканы с пивом. Последний раз я вытаскиваю из кармана большую кружку с пивом, а после нее маленький аэроплан. Антре почти без слов прошло у нас хорошо. Но я опять не был доволен. Пробовал говорить с отцом, он отвечал одно: «Теперь не время. Кроме того, тебе скоро призываться. Нужно все терпеть».
Как-то поставили меня одного с репризой к наезднице, я взял и прочел в репризе «ются». Публика мне много аплодировала. Я опять начал уговаривать отца, просил его выступать с разговорными репризами, но он стоял на своем: не надо с этим спешить.
Через несколько дней меня увидел в репризе Бом. После номера он сказал мне, что говорить не нужно, а лучше делать репризы гимнастические. Это меня навело на мысль, что наша администрация не любила, когда клоуны говорят.
27 ноября 1914 года отец записывает: «Из-за «ются», которые Митя читал ежедневно, местный пристав создал целый инцидент, чуть не дошедший до протокола, от которого удержал мой довод». Отец заметил приставу, «что у начальства протокол вместо нашего порицания вызовет вопрос, почему он не запретил стихотворения сразу, а только через восемь-десять дней?» При помощи администратора Сазонова удалось пристава уломать, и инцидент оказался исчерпанным.
Начались у нас в цирке гастроли Анатолия Дурова, а в цирке Никитиных на Садовой-Триумфальной — гастроли его брата Владимира Дурова. Это был очень любопытный в цирковой жизни момент. Мы все напряженно ждали, что будет. Более неудачных гастролей мне не приходилось видеть. У отца следующая запись: «В первый раз пережил ужасное чувство при колоссальном фиаско, которое мне когда-либо приходилось видеть. Это сегодняшний дебют А. Дурова, который при вступлении на арену не мог вспомнить вступительное стихотворение, и, сколько раз ни старался, не выходило. Так и бросил. В публике — подавленная, мертвая тишина, которая и продолжалась во все время его номера…»
Случилось же следующее. Как только Анатолий Леонидович начал работать в нашем цирке, Никитин тотчас пригласил к себе Владимира Леонидовича. В городе одновременно появились рекламы двух цирков с именами двух братьев. Дебютировали они в один день. Дебют брата приводил Анатолия в нервное состояние. Он просил меня ему помочь. Я оделся в униформу и пошел на манеж. Свое выступление Анатолий Леонидович должен был начать со стихотворения, которое он на репетиции твердо знал. Стихотворение было недлинное и нетрудное. Начиналось оно словами:
Я снова здесь, как в оны годы…
И кончалось:
Чтоб хоть на миг забыть кошмар войны,
К веселью всех я призываю…
Немного развлекаться все должны…
Итак, я начинаю.
Анатолий Дуров обладал, как я уже говорил, феноменальной памятью и острым даром слова. Вышел он под гром аплодисментов и начал: «Я снова здесь, как в оны годы…» Сказал первую строчку и молчит. Я стоял сзади и сейчас же начал суфлировать ему вторую строку. Он молчит. Я подаю ему первую строку. Он молчит. Я опять повторяю первую строку. Тогда он начинает опять: «Я снова здесь, как в оны годы…», умолкает и говорит, обращаясь к публике: «Господа, я волнуюсь… сегодня брат мой выступает в цирке Никитина… Я снова здесь, как в оны годы…» Молчит опять, затем, не слушая того, что я ему суфлирую, обращается к униформе: «Дайте моих собачек!..»
Он вывел собачек и закончил номер при жидких аплодисментах.
Когда я пришел к нему в уборную, он сидел на стуле, запрокинув голову назад, и ни с кем не разговаривал. Жутко было смотреть на него. Я ушел, ничего не понимая. Для меня и сейчас его провал — полная загадка. Неужели же ненависть к брату, выступавшему на другой арене в том же городе, была так велика, что овладела им всецело и мешала ему вести свою, привычную ему, работу?
Немного попозже я опять зашел к нему в уборную. Он, очевидно, и сам был поражен, тем, что с ним случилось. Прочел мне стихотворение несколько раз подряд, затем начинал его с любой строки, наконец, прочел снизу вверх так же безошибочно.
Через двадцать дней состоялся его бенефис. Отец записывает: «Сбор — слезы. В манеже кто-то с мест бросил бенефицианту завернутую в газету метлу. Впечатление отвратительное.»
Так закончил свои гастроли Анатолий Дуров в цирке, где его так недавно забрасывали цветами и ценными подарками. Одна маленькая неудача — и все было забыто. Любимец, которого уносили с арены на руках, превратился в неудачника, которого надо гнать с манежа метлой.
1 декабря 1914 года у отца запись: «Антре прошло очень хорошо, но с протоколом. Какие-то два франта, назвавшись один присяжным поверенным, а другой почетным мировым судьей, потребовали составления протокола на администрацию за то, что она допустила наше антре в присутствии пятисот солдат, на которых похороны со свечкой и посыпание песком подействуют кощунственным и нарушающим благочиние образом, тем более в переживаемый момент войны. Все смеются нелепости такого протокола. Управляющий Вольбург даже ручается, что хода протоколу не будет, но все-таки в отзыве своем отметил, что за все выходы клоуны отвечают самостоятельно. Значит, дружба — дружбой, а табачок — врозь. Словом, нужно быть наготове. Везет в Москве на протоколы. За месяц в Москве — уже второй». А запись от 7 декабря гласит: «По словам Вольбурга, делопроизводитель градоначальства сообщил ему, что на протоколе за антре «Колодец» градоначальник наложил резолюцию: «выслать». Инициаторы (протокола) были лично у градоначальника с объяснениями. По делу может помочь только одно лицо, к которому он (Вольбург) завтра поедет и все устроит. Поразительно глупое положение. Никаких объяснений. «Выслать» и баста».
Инцидент был улажен управляющим Вольбургом, и дело замято.
20 декабря отец отмечает: «Ходили с кружками Красного креста по улицам. Успех средний. Заметно публика охладела и к раненым и к войне».
19 января 1915 года вся артистическая Москва производила сбор табака для посылки на передовые позиции. Цирк собрал больше всех.
25 февраля в фойе цирка Никитина состоялось утверждение устава Российского общества варьетэ и цирка. Было выбрано правление общества. Избранными оказались: Н. Бутелер, В. Дуров, Н. Никитин, Бом-Станевский и С. Алъперов.
9 марта отец отмечает взятие Перемышля русскими войсками. «На Тверской грандиозная патриотическая манифестация».
7 апреля было закрытие сезона 1914-1915 года. На закрытии разыгрался колоссальный скандал. Борец Шемякин заявил о неуплате ему арбитром-хозяином следуемых ему денег за то, что он не хотел лечь под Поддубного. В цирке началось невообразимое смятение. Была пущена в ход вся полиция, которая постепенно очистила цирк от публики.
После закрытия сезона мы получили приглашение выступать шесть дней в кино в Муроме, работая после сеансов за двадцать пять рублей в день, так как решено было, что мы начинаем оседлый образ жизни в Москве, то отец снял квартиру из шести комнат. Три комнаты мы сдали, а три оставили себе. После этого мы выехали в Муром.
Работа в кино мне не понравилась. Когда работаешь несколько раз в вечер одни и те же номера, то нет необходимого подъема, чувствуешь себя ремесленником и делаешь все механически.
Покончив через силу с кино, мы вернулись в Москву и через несколько дней выехали в Дмитров в цирк Байдони (бывший управляющий А. Сура).
Мы получили предложения и в большие цирки, но я в самое ближайшее время ждал призыва и потому не мог заключать длительных контрактов. Цирк Байдони был под шапито.
В таком маленьком цирке мне еще не приходилось работать. В нем было только четыре ряда скамеек, а за ними шли стоячие места. Труппа крохотная. Цирк играл через день. Жалованье мы получали аккуратно в тот вечер, когда играли. Сборы были хорошие. Проработав семь дней в Дмитрове, Байдони решил ехать в Вичугу. До моего призыва оставалось десять дней, и мы решили поехать с Байдони. Вичуга представляла собою большое фабрично-торговое село. Но крупная фабрика братьев Разореновых не работала: ярмарка, ко времени которой прибыл цирк, оказалась довольно многолюдной. На нее приехало много крестьян из окрестных сел и деревень. Ночевали они под открытым небом. Ночью жгли костры, и, когда мы возвращались после представлений домой, нам казалось, что кругом расположилось какое-то древнее становище. По обеим сторонам мелькали огни костров и слышался неустанный, несмолкаемый, говор тысячи людей,
Сборы приличные, а и у меня и у отца настроение плохое, трудно работать, когда впереди призыв. Из Вичуги мы отправили Костю в Москву, а сами поехали через Рыбинск в Петроград, где я должен был призыватъся.
С тяжелым чувством подъезжал я к Петрограду. Итти служить с перспективой попасть на войну — и это в то время, как я курицы не мог зарезать. А тут еще сознание, что отец остается с моим уходом без помощника и семья без материальной поддержки. А моя любовь к цирку? Я так любил его, что скучал в те дни, когда не было представления, шел в пустой цирк и весь день проводил там. Я был совершенно подавлен и угнетен. Отец понимал мое состояние, он записывает: «При всем старании, елико возможно, всеми имеющимися средствами отвлечь мысли мрачно настроенного Мити мне это не удается. Страх за исход его призыва слишком ясно отпечатан наего лице».
ГЛАВА XVIII
Петроград. Клоун Жакомино. Призыв. Немецкий погром. Цирк Сайковского. Монологи. Цирк Рудольфо Труцци. Ревель. Екатеринослав. Укротитель зверей Гамильтон-Веретин. Киев. Цирк Рудольфо Труцци и Стрепетова. Встреча с Бернардо. «Гала-ган в цирке». Курск. Недостаток артистических сил в цирках. Цирк Горца. Нижегородская ярмарка 1916 года. «Квасни». Шантаны. Московский цирк Никитиных. Работа на заводе. Вильямс Труцци. М. Н. Ермолова. Елка в Большом театре. Демонстрация. Арест Бутлера. Февральская революция.
Восемнадцатого мая мы приехали в Петроград. Пользуясь свободным временем, побывали в цирке «Модерн» на Петроградской стороне. Цирк большой, деревянный. Труппа хорошая. Мы провели в этом цирке целый день. Встретили там клоунов Костанди. Ночевать мы пошли к Жакомино, который был фаворитом Петрограда.
Жакомино как клоун ничего из себя не представлял. Начал он свою артистическую карьеру на моих глазах. У Чинизелли бегал под ковер. Позднее мы встречались с ним в Одессе в цирке Малевича. Он был симпатичный человек в жизни, владел четырьмя языками, иа арену выходил «красавцем». Раньше служил в труппе акробатов, прыгал прилично, и все его антре были построены на акробатике. Но он умел и любил себя рекламировать.
В те времена, когда интерес к цирку был большой, артисты цирка почти нигде не бывали. Их можно было встретить только в ресторанах. Жакомино в этом смьисле был исключением. Он бывал везде: в собраниях, в клубах, в литературных кругах. Дружил с литераторами. Рассказывал повсюду о цирке, приглашал в цирк нужных и интересных людей. Подписывая последний контракт с Чинизелли, он по договору с ним имел в цирке свою ложу и в нее приглашал тех, кто мог ему помочь и в смысле газетных заметок и в смысле рекламы. Рекламу он любил. Возьмет и закажет тысячи маленьких кружочков со своим портретом. Обратную сторону прикажет вымазать гуммиарабиком и, выйдя из цирка, соберет мальчишек, которые всегда вертятся у цирка, раздает им по сотне, другой кружочков и велит расклеить в определенном районе на окнах, перилах, дверях и скамейках. А за это потом пропускает мальчишек бесплатно в цирк на представление.
Сделал он еще такую штуку: заказал себе штамп со своей фамилией. Придет в магазин, где его знают, и попросит поставить штамп на оберточную бумагу, в которую завертывают покупки. Так его фамилия становилась знакомой широкой публике.
Бывало и так. Позовет он артистов с собою в кафе и уславливается:
— Я отойду вперед, а вы войдите; в кафе попозже. Увидите меня и кричите: «Жакомино, Жакомино, ты здесь?» Кричите так, как будто видите меня сегодня первый раз. За кофе плачу я.
Ну, конечно, услышав громкие голоса и знакомую по афишам фамилию, посетители кафе оборачиваются, смотрят и говорят вполголоса:
— Смотрите, вот клоун Жакомино.
В Петербурге он добился большой популярности, и его бенефисы назначались заранее на три дня подряд. Билеты можно было получить с трудом. Бенефицианта засыпали цветами и подарками. Знали его все. Он жил в прекрасной, хорошо обставленной квартире. Чего только у него ни было. Когда я ночевал у него, он показывал мне целую гору разнообразных
фотографий, массу подарков и отдельный чемоданчик, полный бумажниками, полученными от публики.
Я переночевал у него одну ночь и на следующее утро в десять часов утра пошел на призыв. Когда я увидел себя среди голых тщедушных тел своих сотоварищей по призыву, то решил, что песенка моя спета и что меня обязательно возьмут на войну. Был я среди них великаном. Голыми проторчали мы в приемной с часу до половины третьего. Наконец, городовой выкрикнул мою фамилию, и меня вытолкнули в другую комнату, где за столом сидело несколько военных. Когда я вошел, кто-то произнес: «Ну вот, хоть один в гвардию».
У меня в руках было удостоверение от професоора-ушника. В одном ухе у меня не было барабанной перепонки. Ее мне повредил во время акробатического упражнения Костя, Слишком твердо придя ко мне после сальтомортале на плечи. Удостоверение у меня из рук взяли. Доктор осмотрел мне зеркалом ухо и сказал: «Полнейшее прободение. Негоден».
От радости я сразу как был голый, проскочил через две комнаты к отцу, который в волнении ждал меня на лестнице.
Когда я отыскал свои вещи и оделся, мы вышли на улицу и пошли бродить по Петрограду, отец записал в дневнике: «Митя возвратился из кабинета присутствия навеки свободным человеком. Свободен по чистому билету. Что делалось со мной за время отсутствия его, нет сил передать. Но если бы я жил неограниченное время, я бы ни за какое число лет не забыл этот час. Мне кажется, я постарел на полвека, но все-таки это самый счастливый день моей жизни».
Разговаривая, мы пробродили по улицам Петрограда до полуночи и только в вагоне вспомнили, что забыли послать матери телеграмму о моем освобождении и за целый день ничего не ели.
На следующий день мы прибыли в Москву. Мать плакала от радости, настроение у всех было праздничное.
28 мая в Москве начался погром немецких фирм. По всей Москве творилось что-то невообразимое. Я никогда не забуду, как с четвертого этажа летели пианино и рояли и, падая, издавали совершенно особое, незабываемо-жалобное дребезжание. А за ними, как белые птицы, летели нотные листы ценнейших партитур. То громили фирму Циммермана. Громилы ходили толпами, выискивали магазины с нерусскими фамилиями и начинали погром, а, вернее, просто грабеж. Случалось, что наряду с немецкими магазинами грабили магазины дружественных держав. Где уж тут было разобраться: иностраищы! Громи, грабь, ломай!..-
В доме, где мы жили, был винный подвал Егора Леве. Громилы ворвались в подвал, выкатили бочки, тут же повыбили из них днища и пили, пили досыта, а потом валялись пьяные на дворе.
Отец записывает: «Все ужасы, пережитые мною за жизнь, ничто в сравнении с сегодняшним погромом немецких магазинов. Не хуже, чем после землетрясения в Мессине». 29-го запись: «…не ограничились разгромом магазинов, большинство из них предано огню… Черкасский переулок весь объят пламенем… говорят, убытки всех разоренных фирм равняются чуть ли не миллиарду. Ходят упорные слухи, что на некоторое время закроют все увеселения в Москве».
Мы пробыли, отдыхая от всего пережитого, в Москве около недели.
8 июня мы выехали в Рыбинск к Сайковскому, с которым отец договорился на месяц работы.
Цирк в Рыбинске был под шапито и очень маленький по размерам. Директор — простой человек, своеобразный по складу. Открытие вышло очень неудачным, так как вся труппа еще не съехалась и программа была неполная. Эта первая неудача отразилась и на последующих сборах. Мы с Костей решили давать номер другого, необычного для нас характера. Я выходил в смокинге, а он комиком. Первое время работа наша была сырой. Постепенно мы поняли, что нужно, и привыкли к своим костюмам.
Костюм в работе артиста цирка имеет огромное значение. Перемена его очень нервирует и отражается на ходе всей работы. Костюм того же покроя, но новый, уже разлаживает работу. Да что костюм! Ботинки и то дают себя чувствовать. В работе каждое движение рассчитано, а тут привходит что-то новое, необычное.
За время пребывания в Москве мы с отцом подготовили новый репертуар. В то время вошли в большую моду политические монологи. Их можно было купить на артистической бирже, которая бывала с двенадцати до трех у Филиппова в кафе. Здесь встречались директора, приехавшие для ангажемента с артистами, ищущими работы. Сюда приходили и артисты цирка, и артисты шантана. В эти часы вы могли за столиками встретить и антрепренера и журналиста. Тут заключались контракты и совершались сделки.
Монологи почти все строились на один лад. У нас их было несколько: «Черный царь», «Кровавое танго» и «Шакалы». Пожалуй, «Шакалы» были талантливее остальных. Я во всяком случае предпочитал это стихотворение. В нем проводится аналогия между шакалами, пожирающими раненых и трупы павших на войне, с теми мародерами войны, которые наживаются в дни народного бедствия.
Любопытно, что в разных городах эти стихотворения принимались разно.
Мы с отцом больше всего любили выступать с мелкими злободневными репризами, в которых вскрывались неполадки бытового и продовольственного характера. Публика их принимала хорошо, так как они касались ее жизненных интересов. Часто патриотические монологи диктовались администрацией. Случалось, что администрация запрещала чтение того или иного стихотворения, находя его слишком «левым». Как пример, приведу запрещение Акимом Никитиным монолога «В защиту солдат», с которым я выступал на арене весною 1917 года. Кончалось это стихотворение так:
Эй вы, сидящие в бриллиантах и уюте,
Не смейте их судить!
Смысл был такой: не смейте судить солдат за то, что они хотят кончить войну и уходят с фронта.
Б Рыбинске мы получили предложение от Рудольфо Труцци подписать с ним контракт на год. Отец послал согласие. На последнем представлении Сайковский пришел к нам в уборную, чтобы расплатиться с нами за работу. Он попросил нас закрыть дверь на крючок и спросил, есть ли у нас ножницы. Когда дверь была закрыта и ножницы ему даны, он снял штаны и стал пороть подкладку кальсон. Вынул из-под подкладки мешочек с деньгами. Вынул деньги, отсчитал то, что причиталось нам, передал отцу и, подмигивая ему, сказал: «Ни жене, ни банку не доверяю. Как соберутся деньги, сейчас меняно на крупные и в кальсоны. Уж тут не пропадут».
В наших дальнейших странствованиях мы не раз вспоминали Сайковского и его «банк в кальсонах».
В Рыбинске нам часто приходилось выступать в лазаретах, развлекая раненых. Патриотический пыл среди населения прошел, и раненые находились часто в очень скверных условиях. Нам приходилось бывать и у немецких пленных офицеров. У них всего было вдоволь: и конфеты, и шоколад, и хорошие папиросы. Обидно становилось за наших солдат, у которых часто не то что дешевых конфет или махорки, но и хлеба не было. Я был знаком с сестрами, расспрашивал их, в чем тут дело, они всегда отвечали, что это распоряжение «свыше».
Мы уехали от Сайковского, пробыли два дня в Москве у матери и сестер и отправились к Труцци в Ревель.
Ревель многим мне напомнил Ригу, только жить в нем было очень дорого. Отец записывает: «На вид базар грандиозный, но купить что-либо можно с большими затруднениями, главным образом за недоступностью цен. Соль и та шесть копеек фунт. Что-то сказочное».
Ревель был на военном положении, и ходить по улицам разрешалась только до часу ночи. По первому гудку все окна должны были закрываться, чтобы не проходил свет. Город погружался тогда в абсолютную тьму. Часто во время спектакля раздавался гудок, свет тушили, публика в темноте тихо уходила из цирка. Все с этим мирились, никто не роптал; ощупью добирались домой.
Часто бывало, что во время представления входил военный, говорил что-то коменданту, и тогда все зрители-военные быстро вставали и уходили.
В Ревеле было много англичан-военных из командного состава английских подводных лодок.
Несмотря на военное положение и постоянную тревогу, цирк работал в смысле сборов превосходно. Труппа у Труцци была небольшая, но, как всегда, из квалифицированных артистов. Наездники были: Альберто-де-Вре, «человек-лягушка» — Перкинс, дрессировщик — Коломбо, японская труппа — Яма-саки, французские эксцентрики — Базола, клоуны — Бонжорно и Коко, Ж. и П. Момино и С. и Д. Альперовы. Балетмейстер Прозерпи ставил небольшие пантомимы.
Когда Труцци просмотрел наш с Костей номер, он предложил переименовать его, и на афишах стали писать: «Оригинальные комики-акробаты Констан и его партнер Диметр». Номер наш прошел с большим успехом.
Работать у Труцци приходилось очень много. Мы с Костей радовались. У Труцци нельзя было не работать, это не то что в Москве. Отец же ворчал, говорил, что Труцци все соки выжимает.
8 августа у отца запись: «В городе царит невообразимая неразбериха, по поводу бомбардировки города Пернова. До истинного положения нельзя добраться. Болтают, кто во что горазд. В частности в труппе панику наводят Прозерпи и Бонжорно. Хнычут, суетятся, а сами ни с места. Курьезнее всего, что в цирке полные сборы. Никакого впечатления на толпу это поистине военное положение не производит. Как будто это — в порядке вещей. Целый день слышна была канонада».
24 августа отец записывает: «Получена официальная телеграмма, запрещающая играть с 26-го по 29-е. Как говорят, инициатива этого симпатичного распоряжения исходит от попов, которым кажется, что если не будет в эти дни увеселений, то мы обязательно выиграем войну».
В конце августа в городе стал чувствоваться недостаток во многом, — то нельзя достать сахара, то нет керосина. На базаре же цены на них спекулятивные. В магазинах была объявлена распродажа галантереи и предметов первой необходимости. Рассказывали, что распродажа шла по распоряжению сверху. Говорили, что производилась негласная эвакуация.
12 октября, когда мы давали в Ревеле наше последнее представление, наступила настоящая зима. Несмотря на холод в цирке, работающем под шапито, все представления шли в октябре с аншлагом.
Труцци с большим трудом через связи с военными властями удалось выхлопотать вагоны для лошадей и два классных вагона для артистов. Маршрут наш был: через Москву без пересадки в Бкатеринослав. В Москве нам удалось побывать дома и повидаться с матерью и сестрами.
17 октября мы прибыли в Екатеринослав. Первую ночь пришлось ночевать в цирке, так как ни в одной гостинице не было свободных номеров. Комнату мы нашли только через день. В городе заметно было значительное количество военных. Несмотря на запрещение продажи водки, на улицах шаталось много пьяных. Рассказывали, что все шантаны торгуют виноградным вином и в них идет настоящий разгул.
Во время представления, когда мы с братом исполняли наш номер, на арену неожиданно вышел офицер с георгиевскими крестами. Он был совершенно пьян, размахивал обнаженной шашкой. Ни полиция, ни офицерство не попытались остановить его. Если бы мы с Костей не отскочили в сторону, он, наверное, ранил бы нас.
Цирк в Екатеринославе отапливался; несмотря на это, играть было холодно. Здание выстроил Жижетто Труцци, который уступил его брату Рудольфо, так как тот из-за войны не мог играть в Риге. Рудольфо старался не ударить лицом в грязь и давал самые лучшие номера. Но из-за холода публика слабо посещала цирк. После ревельских сборов Рудольфо все казалось плохим. Он был не в духе, не знал, на ком сорвать зло и, конечно, в первую очередь обрушивался на артистов.
Гастролеры сменялись у нас чуть ли не через день. Шталмейстер Джиовани был совершенно измучен, так как Труцци почти каждый день вытаскивал из сундуков новые сбруи и показывал новую дрессировку. Он был самолюбив и тщеславен: ему хотелось, чтобы после его отъезда говорили, что цирк Рудольфо сильнее цирка Жижетто Труцци.
Из гастролеров самым интересным являлся укротитель Гамильтон с группой львов и тигров. Звери были на редкость добродушные. Настоящая фамилия Гамильтона была Веретин. Был он русский, свою карьеру укротителя начал с того, что еще мальчиком прислуживал и работал около зверей. За двадцать лет работы с ними он изучил все привычки и повадки артистов-зверей, то есть тигров и львов.
Как он умел обращаться с ними, как кормил их, как лечил в случае болезни! У льва Каро был флюс, и я сам видел, как Веретин в клетке подтаскивал его к себе и прикладывал ему к больному месту горячие припарки. Звери лизали ему руки, он же себя чувствовал среди них совершенно спокойно. Подчинялись они ему беспрекословно. Странно было видеть, что дикие звери так охотно и дружелюбно подчиняются человеку.
Однажды он попросил, чтобы мы, человек десять, вошли вместе с ним в клетку и снялись с ним и со зверьми. Мы согласились. Все шло очень хорошо. В клетку мы вошли спокойно, расселись. Вдруг вспышка магния, звери всполошились и стали кидаться в разные стороны. Мы, конечно, перепугались и бросились к выходу, но достаточно было приказания Веретина — и тотчас все львы и тигры пошли по местам. Вторая вспышка магния прошла при полном спокойствии зверей, и вышла прекрасная фотография.
Гамильтон-Веретин делал битковые сборы.
Вскоре пришла телеграмма, что с 26 декабря мы должны освободить здание. Труцци с управляющим уехали на поиски другого здания для цирка. В Киеве им удалось сговориться со Стрепетовым, снявшим Гиппо-палас Крутикова, о совместной работе в одном здании. Артисты сомневались, чтобы три кита: Крутиков, Рудольфо Труцци и Стрепетов могли ужиться вместе.
23 декабря мы выехали в Киев. Приехали 24-го и увидели, что по городу уже расклеены афиши об открытии 26-го декабря цирка Труцци и Стрепетова в Гиппо-паласе.
Программа была очень большая, так что половина артистов сидела без дела и не работала. Одних клоунов было шесть пар. В представлении принимали участие четыре пары, две пары отдыхали. В числе приглашенных на работу клоунов оказался старый партнер отца — Бернардо. Работал он в паре с клоуном Вольдемаром, и работа их шла не очень ладно. Встреча отца с Бернардо была очень трогательной. Мы сняли номера в одной гостинице и все время проводили вместе. Бернардо жаловался, что ему не везет. Когда он увидел меня, то был поражен моим ростом. Ход нашей работы на арене, ее слаженность его очень удивили.
У нас с отцом был свой жанр, и конкуренция других клоунов нам не была опасной. Работа шла так: мы выходили с двумя-тремя репризами, потом отец читал монолог, его сменял я, заканчивали мы мелким комическим трюком. Монологи принимались публикой очень хорошо и всегда имели успех. Они вносили в программу разнообразие. Перед нами было три клоунских выхода, мы заканчивали программу. Три пары клоунов, работавших до нас, давали буффонаду, наш же жанр был другим, на них не похожим.
После первого дебюта Вольдемара и Бернардо поставили на программу в первом отделении вторым номером. Это их обоих очень укололо. Отец пишет: «Вольдемар хотел итти к дирекции протестовать против такого унизительного нарушения их авторитета. У нас антре — с громом».
Мне было очень жаль Бернардо, когда он со слезами на глазах жаловался, что ему на старости лет приходится работать вторым номером. Только следя за их работой, я понял, что значит сработанность в клоунском искусстве. Бернардо был исключительным комиком, Вольдемар хорошим клоуном, но вместе у них не было ансамбля, той необъяснимой словами внутренней связи, которая так необходима для клоунского ансамбля.
Нет связи, нет внутреннего огонька — нет и успеха. Это отсутствие внутренней спайки публика ощущает с поразительной чуткостью. Часто бывало — работают два клоуна вместе, имеют уже хорошее имя, расходятся. Сходятся затем с другими партнерами, прекрасными артистами, но работа не идет, не чувствуют они друг друга, нет законченности, нет нужной простоты. И публика не верит в то, что они дают. Нет у них правды, а в клоунском жанре — это главное. Клоунское искусство в том и заключается, что ты даешь несуразности, детски-наивные вещи, но сам веришь в них, и они доходят до публики. В этом — залог успеха клоуна. У Бернардо и Вольдемара этого необходимейшего в работе качества не было.
В цирке происходило много неприятностей из-за того, что три директора никак не могли поладить между собой. Рудольфо Труцци расплачивался с нами аккуратно. Стрепетовские же артисты не получали в срок жалованья. Каждый из директоров старался выдвинуть своих артистов. Таким образом создавались всяческие трения и недоразумения.
8 февраля 1916 года в цирке состоялся гала-спектакль в пользу Русского театрального общества. Участвовать должны были лучшие театральные силы Киева. Афишу выпустили умопомрачительную, цены на билеты назначили бешеные. Валовой сбор дошел до пятнадцати тысяч рублей. Первый ряд стоил двадцать пять рублей.
Представление начали в десять часов вечера, так как декорации не поспели к сроку. На манеже были сооружены колоссальные колонны греческого храма, на фоне которого шла «Прекрасная Елена». Елену исполняла артистка Пионтковская.
В первых двух отделениях драматические артисты, как выразился один из рецензентов, «игрались в цирк», причем делали они это очень неудачно. В публике раздавались по их адресу свистки. Отец записывает: «Материальная сторона вполне удовлетворительна, но зато художественная часть прямо-таки сплошной низкопробный балаган. Исключение — Люсина Месаль. Гг. Барский и Руденков взялись за клоунскую часть и были забавны и комичны — как английское воскресенье».
Через день появилась рецензия «Гала-ган (вместо балаган) в цирке», в которой разносили в пух и прах всю программу. Кончалась рецензия так: «… если театральному обществу в следующем году понадобится пятнадцать тысяч рублей, мы их ему дадим, но просим не устраивать таких позорных спектаклей».
После спектакля театрального общества сборы в цирке упали. Незаметно подкрался пост, самое глухое время в цирке. 5 марта на улицах расклеены были объявления о переосвидетельствовании белобилетников. Отец заволновался и телеграммой вызвал в Киев мать, чтобы дать ей возможность повидаться со мной, если меня заберут.
Мать моя тотчас приехала. Настроение у нас было угнетенное. В назначенный день я отправился в призывной пункт. Вдруг выходит секретарь и объявляет, что переосвидетельствование приостановлено на неопределенный срок по телеграмме из Петрограда, но что уже ожидающих комиссия осмотрит. Я сразу сообразил, что надо во что бы то ни стало уйти. Но как это сделать? Я оделся, подошел к секретарю и сказал, что я артист цирка. Он бывал в цирке, узнал меня и дал совет уйти как можно скорее, сказал, что бумаги мои он от председателя возьмет. Он пошел к председателю, а я стал соображать, как мне уйти. У дверей стояли часовые и городовой. Секретарь вернулся с бумагой, подошел к городовому, и что-то сказав ему, затем обернулся ко мне и тихо сказал, что бумаги у него. Я не знал, что мне делать. Вдруг городовой говорит: «Кто в уборную, за мной иди». Я и еще два человека пошли за ним. Вошел я в уборную, вижу окно. Рванул раму. Рама открылась. Смотрю — второй этаж. Во дворе никого. Под окном сложенные ящики. Одна минута — и я на окне, затем на ящиках, сделал прыжок — и я на дворе. Прошел спокойно двор, вышел на улицу и пошел домой.
Дома рассказал обо всем отцу, тот испугался, как бы чего не вышло, но на другой день в газетах появилось официальное извещение о том, что переосвидетельствование отложено на неопределенный срок.
Вечером секретарь принес мне бумаги в цирк и с удовольствием смотрел наше представление.
Еще через день в газетах появилось извещение, что призыв 18-го года должен приписаться к воинским присутствиям. В этот досрочный призыв попадал уже брат Костя.
4 апреля труппа Труцци переехала в Курск — городок маленъкий, грязный, разбросанный частью в низине, частью на гористой местности. С большим трудом артисты нашли себе пристанище. Нам посчастливилось и удалось устроиться недалеко от цирка.
На второй день пасхи, 11 апреля, состоялось открытие цирка. Отец записывает: «После нашего антре пришел управляющий Никольский просить, чтобы мы купцов не трогали». Я прочитал как раз монолог «Шакалы». Публика аплодировала мало. Очевидно, шакалам «Шакалы» не понравились. Дальше отец пишет: «Большинство города состоит из заправских шакалов. Давно не видал такой хамской публики, как здесь. На пикантный трюк совсем не аплодируют, а подавай только одно сало, да побольше».
В это как раз время с арены цирка стали преподносить публике очень сальные репризы. Принимались они одобрительно, особенно партером. Откуда пошла тяга к пошлостям, я затрудняюсь сказать. Может быть, война и общее огрубение нравов, связанное с ней, имели влияние на снижение и огрубение репертуара. Большие мастера не прибегали к пошлостям, но мелкие и средние артисты делали все, чтобы только заслужить аплодисменты, причем заслужившая одобрение публики реприза сейчас же кралась артистами других цирков и получала широкое распространение.
Приведу одну из них, более «невинную» по содержанию.
Выходил клоун и говорил, что с его женой случилось несчастье. Она поехала кататься на автомобиле, шофер неудачно повернул руль, машина повернула вправо, жена упала влево, попала под колесо, ей переехало ногу, и с тех пор нога у нее пухнет, пухнет и пухнет.
Рыжий отвечал, что его жена тоже летом каталась на автомобиле, шофер повернул влево, жена выпала вправо.
Клоун (перебивая). Ну, и попала под колесо…
Рыжий. Нет, не под колесо, а под шофера.
Клоун. Ну, и что же?
Рыжий. С тех пор жена моя пухнет, пухнет и пухнет…
Такими репризами пользовались главным образом те клоуны, у которых не было своего, выработанного ими самими репертуара.
В цирках на третий год войны стал чувствоваться недостаток в артистах. Артисты-немцы были военнопленными. Из русских артистов многие были взяты в солдаты, притока свежих артистических сил из-за границы не было. Даже столичным директорам приходилось посылать в провинцию управляющих или ездить самим, подыскивая себе нужных артистов.
В Курск приехал Н. А. Никитин с целью набрать труппу на зиму в Москву и в Нижний на ярмарку. Он ангажировал нас, и отец покончил с ним, подписав контракт.
1 мая у отца запись: «Печальная новость: запретили ввоз в Курск столичных газет и журналов. До тошноты скучно без газет, а местный суррогат не удовлетворяет… «Курскую быль» (пыль) и в руки брать ие хочется».
Жить в Курске становилось все труднее и труднее. За мясом стояли длинные очереди чуть не с ночи. Костя уехал в Москву призываться. Труцци хотел уменьшить нам жалованье, хотя мы с отцом стали давать больше реприз. Отец не согласился. Мы порвали с Труцци и раньше времени уехали в Москву.
В Москве спрос на артистов был в это время очень большой — от предложений не было отбою. Косте дали на три месяца отсрочку по болезни. Он решил за эти три месяца пройти курс мотоцикла, чтобы не попасть в рядовые.
Бом — Станевский открыл в Москве на Тверской кафе, и вся артистическая биржа перекочевала к нему. Мы встретили там директора цирка Горца, и он предложил нам поехать на месяц в Смоленск.
Мы с отцом решили ехать к Горцу вдвоем. Костя же остался в Москве на курсах по мотоциклу.
Труппа в Смоленске оказалась очень слабою. Цирк — под шапито. Вся программа рассчитана на чемпионат. Руководство и состав чемпионата приличные, сборы хорошие.
Наш бенефис прошел при битковом сборе. Аншлаг повесили уже в три часа дня. После бенефиса мы вернулись в Москву. Дней десять мы потратили на то, чтобы подобрать репертуар, который годился бы и для Нижнего на ярмарку и зимою для Москвы. Нашли несколько удачных реприз и монолог «Страшный суд». Монолог этот пользовался успехом. Содержание его: суд над спекулянтами-купцами, которые «в тяжкий год морили голодом народ» и над «лукавыми отцами города», которые обманывали своих сограждан. Кончался он восклицанием: «Ура, свободная страна!»
Монолог этот по своим художественным достоинствам был не выше тех, что я уже приводил. И пользовался он успехом потому, что тяжелое экомическое положение уже давало себя чувствовать, продукты систематически исчезали с рынка, и когда опять появлялись, то цены их возрастали в два-три раза.
Обнищание страны уже сильно чувствовалось. Особенно заметно это было, когда мы попали на Нижегородскую ярмарку. Запись отца от 15 июля 1916 года в этом смысле очень характерна: «Что будет дальше, не знаю. Пока же, несмотря на поднятие флага, ярмарка больше чем наполовину пуста… увеселительных мест открыто много». Дальше он отмечает толпы людей в Азиатском переулке и бросающиеся в глаза «цветистость» женских платьев и защитные гимнастерки солдат. «Водкой не торгуют, но пьяных много». «Пили все — и политуру, и ханжу, и одеколон».
Пьянство на ярмарке было прежнее, но бьющая ключом жизнь и особый ярмарочный угар, оживление, шум и гам исчезли. Все звуки, которые шли с ярмарочной территории в окна нашей гостиницы, воспринимались мною, как какой-то замогильный стон. Ночью по переулкам ходить было страшно, и всю ночь то тут, то там раздавалось: «Караул! грабят!..»
Балаганов на ярмарке было меньше. Работали они по будням; от шести до семи часов вечера, по праздникам и воскресеньям — целый день. Все балаганщики жаловались на плохие сборы.
Самое жуткое и отвратительное впечатление производили находившиеся на Самокате «квасни». «Квасня» делилась на два отделения или, вернее, закутка. В первом стояла бочка с квасом, бутылками и стаканами, лежала на тарелке ржавая селедка с луком и нарезанный ломтями хлеб. В квас прибавляли ханжи. Второе отделение было завешено рогожей. В нем на сколоченных из досок нарах лежала женщина. Она часами не вставала со своего ложа, принимая в день до двадцати посетителей и получая с каждого из них от пятидесяти копеек до рубля.
Страшно было смотреть на стоявших около квасни и ждущих своей очереди людей. Сюда тянулись и раненые на костылях с георгиевским крестом на гимнастерке, и уволившиеся в отпуск солдаты, и грузчики, и просто оборванцы, которых всегда много на Каждой ярмарке. Всех их тянуло на Самокат. А где-нибудь рядом с «квасней» шла игра в «очко». Тут же среди толпы пробирался пикет, проверял документы и забирал солдат без увольнительных записок. И только издали слышалось:
— Православные, ратуйте!.. да за что же я кровь проливал?
Жуткая и страшная была жизнь. А в городе ночью в шантанах разгул офицерства, бессмысленная трата денег, переодетые сестры милосердия, спекулянты всех родов, наживающиеся на войне. Вина в шантанах сколько угодно разница только в том, что подают его в кувшинах, а попозже, когда посетители перепьются и администрация шантана напоит дежурного полицейского, появится вино и просто в бутылках. В третьеразрядных шайтанах для вида и дивертисмент, и хоры, но в сущности в этих грязных, наскоро сколоченных помещениях все расчеты построе ны на продаже вина. На маленькой, плохо сбитой сцене идут номера, а за столиками посетители угощаются водкой и вином, наливая их из чайников. В каждом шантане был свой агент по поставке спирта. Агенты получали его или по подложным документам для армии и заводов, или за взятки. Водка и вино были главной приманкой; гуляли с каким-то бешенством и ценами не стеснялись.
Был такой случай.
В шантане «Россия» кутили студенты, рядом за столиком два стриженых в скобку купца пили чай из самоварчика. Студенты попросили самовар и льду, вылили из самовара воду в ведро, вытрясли угли, в трубу наложили льду, в самовар налили шампанского, потребовали чашек и стали пить шампанское с блюдечек, подражая манерам купцов.
Купцы заметили, что над ними смеются и их передразнивают. Один из них подозвал официанта и велел позвать из хора толстую и некрасивую хористку. Когда хористка пришла, купец велел ей принести булавки. Хористка недоумевала, но приказание купца исполнила и принесла целую коробку булавок. Купец полез за пазуху, достал толстый засаленный бумажник, вынул оттуда три пачки кредиток разного достоинства и давай прикалывать к платью некрасивой хористки трех– пяти– и десятирублевки. Когда запас булавок истощился, а хористка вся сплошь была увешана кредитками, купец пнул ее сзади коленом: «Ступай к чортовой матери!» Потом крикнул студентам: «Ну, вы, храпоидолы, видали, как наши гуляют! Не чета вашим!» — и под дружные аплодисменты сидящих за столиками купцы вышли из зала и пошли продолжать чаепитие в отдельный кабинет.
Нередко бывало, что подвыпившая и загулявшая компания звала хозяина шантана, платила ему крупную сумму; хозяин удалял всю постороннюю публику, оставшаяся компания звала хористок и шансонеток, и кутеж шел до утра.
Хорошо торговали бани в Азиатском переулке. Ездили туда не мыться, а играть в карты. Снимут номер за пять рублей в час и дуются до рассвета. Тут же достают водку, закуску же приносят с собой.
Часто номера в банях служили пристанищем евреев, не имевших права жительства в Нижнем. Соберется их несколько человек, снимут номер и сидят в этом номере днем и отдыхают ночью. Паспорта с них не требовали. Оплата производилась по часам, один-два рубля с человека в час. Полиция в бани не заглядывала, получая регулярно от хозяев бань свою долю.
Такова была Нижегородская ярмарка в 1916 году.
В цирке сборы все же были битковые. Труппа была приличная, но без обычного никитинского размаха. Встретили нас артисты по-родственному, публика нас принимала очень горячо. У отца следующая запись по поводу нашего бенефиса:
«Вчерашний небывалый сбор (две тысячи рублей) на наш бенефис продолжает служить темой разговора всей труппы и по справкам старой дирекционной записи оказался рекордным сбором. Никто еще на ярмарке не делал такого сбора. Этого бенефиса я не забуду, он поднял нам престиж в глазах всей труппы».
27 августа работа на Нижегородской ярмарке окончилась, цирк снялся, и мы переехали в Москву.
За время нашего отсутствия брата взяли на военную службу, он попал в мотоциклетный отряд, имевший свои мастерские в Москве.
Труппа подобрана была хорошо. Из иностранцев в нее входили только итальянцы и французы. Наездники были: труппа Прозерпи, новый жанр езды — акробаты на тройке. На арене расстилался белый ковер и на невидимых публике колесах выезжали сани, запряженные тройкой. Но сани были особого устройства, и на них проделывались акробатические упражнения, пирамиды и различные трюки. В труппу была ангажирована семья Лавровых — клоуны. Был приглашен «эквилибрист на эйфелевой башне» Степанов, ставший от постоянной тренировки на голове ненормальным. К открытию приехали акробаты Папи Бруно, наши старые знакомые, и жонглер на лошади Н. А. Никитин. Коверным рыжим был Алекс Цхомелидзе, прекрасный клоун и пантомимист. Режиссером и дрессировщиком – Преде. Из наездниц были сестры Гамсакурдия.
Открытие состоялось 30 августа очень торжественно,
Цирк по устройству и убранству был одним из лучших в России. Во множестве зеркал дробился и переливался свет и отражались людские толпы. За рядами партера шли ложи. За ложами — балкон. На балконе много рядов скамеек, за ними еще ярус и уже совершенно отдельно галлерея с особым входом прямо с улицы.
Цирк был так построен, что не было видно ни одного столба.
Конюшню устроили в два яруса — светлую и темную. Только артистические уборные, хотя и достаточные по величине, не отличались особыми удобствами.
При постройке цирка архитектор был связан пространством, отведенным для здания, и ему нехватило площади, чтобы широко развернуть все служебные помещения цирка.
Публика посещала цирк Никитина охотно, и сборы его были выше сборов цирка Саламонского. Играло роль и местоположение цирка на стыке Тверской и Садовой-Триумфальной. В него приходили, как говорится, «на огонек», мимоходом, а к Саламонскому на Цветной бульвар надо было ехать специально.
Цены были доступные и по праздникам галерка набивалась доотказа. В цирке в праздничные дни было очень душно и жарко, и часто с галерки раздавалось: «Тише! не давите так!.., ох, задавили совсем!..» И народ, как волна, подавался то в ту, то в другую сторону.
У отца следующая запись, относящаяся ко дню открытия цирка: «На наше антре почему-то вся дирекция высыпала в передний проход и прямо-таки ржала от удовольствия, смотря на наш поистине громадный успех».
Только работая в цирке Никитина, я окончательно убедился, что успех клоунского номера зависит от его злободневности. Недостаточно, если вся работа состоит из одних трюков, злободневность необходима. Залог успеха клоуна — меткое слово. Это — главное. Слово в цирке, как пуля: летит и ранит.
У нас было несколько хорошо построенных и доходящих до публики реприз. Была реприза о том, какая разница, между купцом военного и довоенного времени. Ответ был такой: купец до войны готов был за Русь свой живот положить, а наступила война — и купец готов Русь в свой живот положить.
Реприза «Сестра» вызвала на третьем представлении скандал. Отец говорил, что приехала с фронта его сестра и привезла «Георгия».
Я. И моя сестра приехала и тоже привезла…
Отец. Тоже Георгия?
Я. Нет, маленького Петьку.
Это не понравилось какому-то офицеру, который поднял шум. Дирекция во избежание эксцессов просила нас больше эту репризу не говорить.
В этот сезон пользовались большим успехом монологи Н. Поморского «Солдаты», «Память казенке».
Ряд за рядом прошли сборы то на табак солдатам, то в пользу сирот войны. В цирке во время последнего сбора было продано с аукциона брошенное в рот слону яблоко за семьсот двадцать пять рублей.
Отношение публики к артистам цирка было очень хорошее.
Нас наперерыв приглашали отужинать в рестораны. Лучшим рестораном в то время считался «Ампир». Здесь собирались богатеи Москвы. Войной со всеми ее ужасами и тягостями здесь не пахло. Бриллианты, декольте, цветы, вина, дорогие закуски. Это так не вязалось с тем, как жили обыватели в провинции, так резко и грубо противоречило всему, что шло с войны.
В цирке часто бывали журналисты. Познакомились мы с писателем Пазухиным, родственником клоуна Брагина. Частым гостем цирка был Н. Балиев, режиссер «Летучей мыши», и артист Малого театра В. В. Максимов, А. М. Данкман, юрисконсульт нашего союза, буквально пропадал в цирке. Его можно было встретить и на репетициях, и перед представлением. Это был настоящий друг цирка. Он интересовался артистами, их профессиональной работой, условиями труда, их бытом. Как юрисконсульт союза всегда отстаивал интересы артистов перед дирекцией.
В середине октября 1916 года в цирке начались репетиции пантомим. Одновременно мы были приглашены сниматься в кинокартине из цирковой жизни, в которой главную роль исполнял В. В. Максимов. Надо признать, что ни одна кинокартина до сих пор не осветила правильно жизни цирка. Когда мы, артисты, видим нашу жизнь на экране, мы всегда смеемся. Жизнь в цирке гораздо проще, будничнее, а главное — труднее, чем та жизнь, которую показывают в кино. В каждой профессии есть свои прелести и свои недочеты, свой быт, своя специфика. Ни один врач не сумеет так быстро и хорошо вправить при вывихе ногу или руку, как это сделает старик — артист цирка. Подойдет, возьмется за конечность, подержит — и сустав на месте. Или заставит ногой катать бутылку, смотришь — и все пришло в норму. Бывали случаи, что во время работы у артиста выскочит из сустава кость, он вскрикнет и тут же сам вправит ее и работает дальше. А знаменитая цирковая мазь «флуид эмбрикешен» или, как говорят в цирке, «флоид эмбрикошюм», куда входит скипидар, шесть сортов различных спиртов — муравьиный, горчичный и др.— и сырое яйцо! Из всего этого получается смесь, жидкая, как молоко. Ее втирают при ушибах, и она, как рукой, снимает боль.
В цирке часты падения и ушибы от них. Зашиб себе артист копчик (кончик позвонка), так зашиб, что с трудом работает и едва сидит. Сейчас же набьют мелко кирпич, раскалят его в печке или на примусе, завернут в мокрое хорошо отжатое полотенце, приложат — и больной быстро выздоравливает.
И люди в цирке своеобразные, и психика их особенная. Человек исключительного самообладания, бесстрашный укротитель львов и тигров Гамильтон-Веретин безумно боялся собак. В одном из провинциальных городов, когда он выходил из какой-то квартиры, на него набросилось несколько собак. Он начал кричать. Вышел дворник, отстал собак и сказал Гамильтону назидательно: «Ишь, чорт, собак испугался. Ты бы, посмотрел, как: один дядька в цирке ко львам и тиграм входит и ими командует».
Жонглер Сластушинский, очень ловкий на манеже, был очень неповоротлив в жизни. Товарищи прозвали его «Епиходов». То толкнет и уронит что-нибудь, то за обедом разольет вино или разобьет посуду. Полетчик Каврели делал перелеты под куполом цирка с трапеции на трапецию и не мог смотреть из окна второго этажа на улицу, так как у него от этого кружилась голова.
Дрессировщик Крастон не мог выдрессировать свою комнатную собачку, так как жалел ее, и отдал ее для дрессировки другому дрессировщику.
Боб О'Коннор[50], заставлявший публику покатываться в цирке от смеха, лечился от ипохондрии у специалиета-невропатолога. Тот прописал ему обтирания холодной водой, дал ряд советов и сказал в заключение: «Пойдите вы для развлечения в цирк. Там такой смешной клоун Боб О'Коннор, вам невольно станет весело».
— Это я Боб О'Коннор, — ответил артист уныло.
Таких фактов, свидетельствующих о странностях психики артистов цирка, я мог бы привести очень много. Цирк — особый мир со своими радостями и огорчениями, со своим жизненным и бытовым укладом, и нужно всю жизнь провести в цирковой семье, в стенах цирка и под его шапито, чтобы до конца понять этот сложный и своеобразный организм.
Осенью 1916 года опять начались разговоры о переосвидетельствовании белобилетчиков: Гамсакурдия имели большие связи в военных кругах, и с их помощью мне удалось попасть на работавший на оборону чугунолитейный завод Доброва и Набгольца. Сначала я помогал опытным рабочим, затем очень скоро стал сам работать на станке.
С этого времени началась моя двойная жизнь. Днем с шести часов утра до семи вечера я был рабочим на заводе, вечером артистом. В перерыв я успевал забежать домой и поесть. Наш номер с отцом ставили последним в третьем отделении.
В цирк был ангажирован Вильямс Труцци, сын Жижетто Труцци. Родился он в 1889 году. Он считался в начале XX века одним из лучших дрессировщиков лошадей. У нас в цирке он выступал с двумя дрессированными слонами.
От десятилетнего возраста мы росли вместе и были очень дружны. Родители его были так поглощены работой, что Вилли рос почти безнадзорным. Моя мать постоянно прикармливала и обихаживала его, он и дневал и ночевал у нас. Потом мы расстались, я видел его только раз в одном из цирков, где он был на амплуа жокея.
Вильямс Труцци был одним из лучших представителей циркового искусства, пройдя все этапы обучения, мастерства и творчества циркового артиста. Для того чтобы стать таким всеобъемлющим знатоком-мастером, надо было уметь все, начиная с жонглерской езды, кончая дрессировкой и режиссурой.
Вильямс владел французским, немецким и английским языками в совершенстве. Хорошо говорил по-русски, отличался редкостным трудолюбием, обладал большой фантазией, был очень начитан. В часы отдыха перед представлением, ночью после представления я не раз заставал его за книгой. Круг его интересов был весьма широк. Он был талантлив и как постановщик («Черный пират», «Карнавал в Гренаде», «Ковбой из Техаса», «Махновщина», «Тысяча и одна ночь»). В Вильямсе Труцци счастливо сочетались все лучшие качества остальных членов семьи Труцци.
В 1916 году он выступал со слонами. Слоны его помогали
нам производить в цирке сборы, они ходили по манежу, протягивали публике свои хоботы с такой неуклюжей живостью, так ловко брали мельчайшие монеты, что зрители невольно становились щедрее.
Сборы в тот сезон поистине мучили нас. В пользу чего только мы ни собирали. Помню, например, сбор в пользу общестна покровительства животным.
И это во время свирепейшей из войн, когда кровь на фронте лилась рекой!..
16 ноября со мной произошел несчастный случай. Искры раскаленного чугуна попами мне на не защищенное кожей башмака место и сделали две больших очень болезненных раны. От работы на заводе я был освобожден. В цирке же работать продолжал, выходил, правда, на арену, сильно прихрамывая.
Не могу не отметить моего посещения Малого театра. Шла пьеса «Светлый путь» с М. Н. Ермоловой. Пьеса была неважная, но игра Марии Николаевны меня просто потрясла. Простота, искренность интонаций, особый тембр голоса, обаяние, которое шло от всей ее фигуры, сделали то, что я не воспринимал игры остальвых артистов.
25 декабря в Большом театре была устроена благотворительная елка. Из цирка Саламонского для дивертисмента пригласили Бим-Бома, из цирка Никитиных — отца, меня и наездника-жонглера Н.А. Никитина.
Я, конечно, бывал в Большом театре как зритель, но никогда не был за кулисами театра. Удобство уборных, убранство, величина сцены нас, привыкших ютиться в убогих цирковых артистических, несказанно поразили. В дивертисменте мы дали антре «Шляпы», причем я вынул из кармана до двадцати шляп, а ружье, из которого в меня стрелял отец, выстрелило вместо пули водой.
Отмечу еще одно небывалое явление в цирковой жизни того сезона. Директор, артист Бим-Радунский, заплатил всем артистам цирка Саламонского за три нерабочих дня (23, 24, 25 декабря) полностью. Это доказывает, что артист, попавший по выбору в дирекцию, сумел быть справедливым и стоял на страже интересов своих товарищей. Никитины вычли за эти три дня у нас всех из жалованья, как всегда, несмотря на то, что мы с 26 декабря по 6 января играли по два раза (утром и вечером).
В начале января отец отмечает в записной книжке, что дирекция, видя наш успех, стала писать в афишах и в газетных анонсах перед нашими именами «любимцы публики».
С 1 по 15 января мой завод был закрыт из-за нехватки сырья. На заводах и фабриках Москвы то тут, то там начались волнения. Когда открылся наш завод, то во время перерыва на обед в сушилке, где сушили стержни, кто-то из рабочих прочел воззвание — обращение петроградских рабочих к рабочим Москвы. Я работал в цеху, и мне его услышать не удалось. Сейчас же откуда-то появилась конная и пешая полиция и разогнала рабочих и из сушилки, и из цехов. Несколько человек было арестовано и завод закрыт. По Москве же продолжали ходить слухи о волнениях на ряде фабрик и заводов.
Положение страны в смысле продовольствия становилось все хуже и хуже. 22 января у отца запись: «Приехали наши квартирантки из Екатеринбурга и рассказывают о повальном голоде… Ни за какие деньги ничего не достать».
31 января был арестован председатель РОАВЦ (Российское общество артистов варьетэ и цирка) Бутлер. Бом занял место председателя, отец — непременного члена правления.
Бутлер был режиссером и администратором «Аквариума» и «Максима», принадлежащих негру Томсону. Арест был произведен за незаконную продажу вина.
Мы, работники цирка, из всей этой истории поняли, что нам надо отделиться от артистов варьетэ и устроить свое особое общество цирковых артистов. Эту мысль стал особенно развивать и пропагандировать А. М. Данкман. Так родилось решение организовать Международный союз артистов цирка. Выполнить эту мысль удалось только после Февральской революции.
А политические события шли и развивались своим чередом. Надо правду сказать: мы, цирковые артисты, мало понимали, что происходит. Газеты читали теперь многие. Начиная с войны, интерес к газетам возрос, но разобраться в направлении газет, а главное — понять, что двигает событиями и куда они ведут, никто из нас не умел. Даже самые развитые и умные из циркачей и те терялись.
28 февраля 1917 года отец записывает: «Политические события, начавшись в Петрограде, сегодня начались здесь. Газеты не вышли. Трамваи не ходят и вообще в воздухе весьма повышенное настроение. Всевозможных слухов миллионы. Но чему верить — не знаем, ибо один слух опровергает другой… Уличных беспорядков не было, несмотря на многочисленные толпы манифестантов во всех концах города».
1 марта: «Не играли по случаю народного движения, к которому примкнуло большинство московского гарнизона. На улицах — оживление, какого я в жизни не видел. Всюду войска встречают с необычайным подъемом».
2 марта: «Не поддается никакому перу картина парада всех революционных войск Московского гарнизона перед Городской думой. Миллионная толпа каждую часть встречала с колоссальным энтузиазмом. Порядок образцовый. Полиция вся арестована с градоначальником во главе. Охранку сожгли. Ликование на каждом лице. Восторг неподдельный».
Лично я был свидетелем следующих событий. В один из последних дней февраля я пошел на завод. Подходя к заводу, увидел выходящую из ворот его демонстрацию рабочих с красным знаменем. Мне закричали: «Альлеров, иди с нами!» Я примкнул к демонстрации.
Мы пошли к зданию Городской думы (теперешняя площадь Революции). Там стояли какие-то воинские части с артиллерией, примкнувшие к народному движению. Пожилой полковник произносил речь. Я постоял немного, но так как ничего не было слышно, я решил пройти домой, чтобы успокоить мать, которая, наверное, волновалась, что меня нет. Дома я переоделся. Сидеть дома не мог и вышел на Сретенку. На Сретенке увидел огромную толпу народа, двигавшуюся по направлению к Сухаревке. Я пошел с ними. У Спасских казарм стояло очень много войск. Ворота казарм были закрыты, около них — часовые. Толпа остановилась и стала с волнением следить за происходящим у ворот. Видно было, что между войсками, стоящими у казарм, и той частью, которая находилась в казармах, шли переговоры.
Вдруг от стоявших тесно революционных войск отделилась фигура в серой шинели и раздалась команда: «Ружья на прицел!»
Толпа поняла, что может начаться перестрелка, стала отходить и жаться к домам. Я влез на забор и увидел, как распахнулись ворота Спасских казарм и оттуда нестройными толпами стали выбегать солдаты с красными флагами, с красными ленточками на штыках и на шинелях. Революционное войско и народ встретили их восторженным «ура»! Солдаты обнимались, целовались, публика, бросилась к солдатам и жала им руки. Затем, не сговариваясь, точно по команде, все двинулись к зданию Городской думы. Я пошел за толпой. Когда мы вышли на площадь, я вдруг услыхал, что кто-то громко зовет меня по фамилии. Обернулся, смотрю — грузовик, на грузовике, полном вооруженных солдат, Сергей Сокольский. Откуда-то неожиданно появился Костя. Оба мы прыгнули в машину. Дорогой узнали, что Сокольский с солдатами едут арестовывать пристава Пятницкой части. Распоряжался всем на машине Сокольский.
В части все было разворочено, сломано, валялись горы бумаги, и среди этого хаоса ходил очень старый городовой и шамкал беспомощно: «Господа, уж вы тут не безобразничайте…» На него никто не обращал внимания.
Пристава в части мы не нашли и бросились к нему на квартиру. Нарядная горничная показала нам все комнаты и сказала, что пристав уже арестован, а жена его скрылась. Произвели мы в квартире обыск, забрали несколько браунингов.
Вечером жгли охранку. Кто-то из подошедших стал уговаривать поджигавших бумаги не уничтожать их, говоря, что среди них есть нужные и важные, но его не слушали. Откуда-то подъехали автомобили и увезли часть папок, уцелевших от огня.
После двух дней перерыва, 3 марта, в цирке состоялось представление. При чтении отцом монолога «Первое марта» цирк сотрясался от аплодисментов. Начинался этот монолог:
— Привет, свободные граждане!
Дальше шли следующие стихи:
Уж нету старого режима.
Ликует русская страна.
Вперед, вперед неудержимо
Плывет народная волна.
Народ наш стал не бесприютен.
И канул в вечность грязный вал,
Подумать страшно, что Распутин
У нас Россией управлял.
В один из последующих дней мы дали выезд: в кореннике был запряжен пристав, пристяжными были городовые, я стоял на коляске с огромным красным флагом, а отец погонял тройку кнутом.
Репризы о коронованной немке и об арестованных министрах вызвали бурю восторга. Выступление наше было сплошным триумфом.
Многие из артистов, в том числе и мой отец, думали, что с падением царского режима изменится и положение циркового артиста. Любимой их поговоркой было: «Цирковое дело — орлянка. У дирекции — орел и решка. У нас — ребро. Когда все станет на ребро, то и положение наше изменится». Они думали, что все «стало на ребро» в феврале 1917 года.
На самом же деле вплоть до Октябрьской революции в цирке по существу ничего не изменилось. Провинциальные артисты ехали в Москву с надеждой узнать, что в столицах условия работы и быта артистов стали иными, и уезжали из Москвы и Петрограда разочарованные. В провинции их ждали те же холодные цирки, полуголодное существование, штрафы и вместо заработанных грошей — векселя.
Многие из них с отчаяния бросались открывать собственные маленькие цирки, прогорали, бедствовали, разорялись и опять шли служить к старым директорам, влача жалкое существование и не видя из него никакого выхода.
Коренную ломку всего уклада цирка, сложившегося в течение многих десятилетий, произвела только Октябрьская революция. Я счастлив, что мне выпало на долю быть, председателем первого циркового месткома.
Проблеском нового положения вещей был правительственный декрет, коснуквшийся и цирковых артистов, об отдыхе в понедельник.
Свободный понедельник был первой ласточкой.
О том, как менялась жизнь цирка, я расскажу в книге «На арене советского цирка».
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК ПАНТОМИМ
«Бабушкины именины» — 333.
«Бой быков в Испании» — 117.
«Браконьеры» — 196.
«Веселая вдова» — 295.
«Вокруг света» — 156, 295.
«Волшебная флейта» — 196.
«Дрейфус» — 318.
«Дуэль после бала» — 138, 139, 248.
«Жизнь мексиканских фермеров» — 116, 117, 187.
«Зеленый чорт» — 187.
«Золушка» — 156.
«Иван и директор» — 337.
«Илона» — 211.
«Камо грядеши» — 147.
«Карнавал в Венеции» — 102, 134.
«Карнавал в Гренаде» — 387.
«Карнавал на льду» — 211.
«Китайский праздник» — 156.
«Ковбой из Техаса» — 387.
«Конек-горбунок» — 295.
«Космонолит» — 187, 333.
«Кот в сапогах» — 295.
«Махновщина» — 387.
«Медведь и часовой» — 189.
«На морском берегу» — 196, 197.
«Паи Твардовский» — 249, 353.
«Жизнь и быт пожарных» — 197, 198.
«Пираты» — 251.
«Победа Давида над Голиафом» — 212.
«Подвиг рядового Рябова» — 188.
«Разбойники»— 57-60, 68, 69.
«Рекрутский набор во Франции» — 37.
«Роберт и Бертрам» — 196, 336.
«Рыцарь-пастушок» — 215.
«Свадьба в Малороссии» — 99, 196.
«Смолеиские сапожники» — 24.
«Снежная королева» — 333.
«Собор Парижской богоматери» — 332.
«События на Балканах» — 336.
«Спящая красавица» — 335.
«Стенька Разин» — 22, 156.
«Тарас Бульба» — 91-94, 100, 310, 323.
«Тысяча и одна ночь» — 332, 333,387.
«Фра-Дьяволо» — 187.
«Хаджи Мурат» — 156.
«Черный пират» — 387.
«Шерлок Холмс» — 249, 256.
«Юлий Цезарь» — 156, 183, 184.
СПИСОК БАЛЕТОВ
«Балет с шарфом» — 196.
«Бахчисарайский фонтан» — 196.
«Бахус» — 248.
«Белый балет» — 196.
«Джиоконда» — 196.
«Клоунский балет» — 156.
«Электрический балет» — 156, 157.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Август — 88-91, 107.
Акробаты-прыгуны — 158.
Акробаты силовые — см. крафт-акробаты.
Акробаты-сальтоморталисты — 158.
Антиподист — 108.
Апач — 61.
Батуд — 292.
Большой трамплин — 108.
Бур — 305
Буровик — 305.
Воздушный турник — 162.
Высшая школа верховой езды — 116.
Глухая афиша — 268.
Догкарт — 208.
Живая карусель — 133.
Закликала — 21.
Зубник — 57.
Икарийские игры — 108.
Каскады — 112.
Каучук — 30.
Клишиик — 88.
Клоун белый — 90, 91.
Клоун ковровый — 112.
Кольца — 113.
Комбат — 147.
Кордеволан — 113.
Корпотура — 10.
Крафт-акробаты — 158.
Кульбит — 66.
Курбет — 158, 159.
Ловитор— см. унтерман.
Лонж, или лонжа — 66.
Маневры на лошадях — 80.
Манипулятор-санжировщик — 174, 263.
Мельница на мускулах — 39.
Мительман — 158.
Оберман — 158.
Орей-плац — 231, 237.
Панно — 23.
Парфорс-наездница — 265.
Пассировать — 66.
Паосировщик — 160.
Паяц — 34.
Перш — 37.
Подкидная доска — 212.
Прыжки в темпо — 210.
Раус — 13, 21.
Рундат — 159.
Ручник — см. санжировщик.
Сальтомортале — 104, 159.
Санжировка — 125.
Санжировщик — см. манипулятора
Унтерман — 158.
Фодошпруиг — 25.
Фифляк (Флик-фляк) — 22.
Шамбарьер — 41.
Швунг — 158.
Швунговые кольца — 58.
Шпагат — 112.
Шпрех-шталмейстер — 35.
Штамбер — 177.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аберг — 187, 305.
Аберг Аннета — 358.
Абрамович — 173.
Агубе-Гудцов — 198.
Адольф-Макс — см. С. Альперов.
Азгартс — 274.
Аксенов — 280.
Александров — 161.
Альбано — 144.
Альмазио — 111.
Альперов Д. — 117, 157, 214, 215, 232, 238, 252-256, 266, 271, 293, 297, 315-318, 321, 360, 371, 372.
Альперов К. — 137, 167, 232, 238, 242, 252, 266, 291, 297, 315-318, 321, 360, 372.
Альперов С. С. — 148, 209, 293, 297, 315, 321, 360, 363, 371.
Альперов (дед) — 12-20, 73-76.
Альперова Олимпиада — 215.
Аполлонос — 357.
Аппельт — 266.
Аригони — 131.
Бабушкин — 161, 241.
Базола — 371.
Балакирев — 325.
Балиев Н. — 385.
Бальцерс — 292.
Баренко — 357.
Барьби — 339.
Бедини Танти — 103.
Бекетов — 140, 336.
Беккер — 121, 122.
Беллинг Том — 88.
Беллинг Том (сын) — 161.
Бенедетто — 131, 133.
Беньямино — 315.
Бернардо — 120-128, 131, 143-145, 147, 152, 161, 182, 204, 209. 228, 229, 238, 240, 247, 249, 252, 374.
Бесов — 221, 307.
Бертинацци — 386.
Бим-Бом — 131-134, 137, 138, 144, 358-360.
Бишет — 161.
Блинов — 228.
Боб О'Коннор — 386.
Богуславские — 315, 352.
Бонжорно Луиджи — 201.
Бонжорно Принц — 245.
Борисов — 267.
Борисов Б. С. — 386.
Борисов Жан — 76, 81.
Бранц — 97.
Брасо — 188, 331, 968.,
Брусио — 357.
Буль — 304.
Бутлер Н. — 363, 389.
Буш — 88, 91.
Ван-дер-Вал ьд — 240.
Ван-Риль-Корич — 251, 252.
Варламов К. — 219, 321.
Варский — 377.
Варье-Шуман Элен — 293.
Василевский — 257, 263, 266, 267.
Вахтуров-304, 305, 307.
Ваяни — 271.
Вебб, братья — 214.
Вебб — 331.
Веииканистов — 173.
Вельдеман Дедик — 111.
Вельдеман Пепи — 111.
Веретик — см. Гамильтон.
Верст — 326.
Виктория — 331.
Виланд — 209.
Вильзак — 138.
Винчестер — 248.
Вольбург — 362.
Вольдемар — 293, 374.
Вреде Альберто — 371.
Вуд — 293.
Высокинский Макс — 34-49, 194, 233, 234.
Гавана — 360.
Гагенбек — 151, 208.
Гадбин — 250.
Гайден Билли — 83, 90.
Гамильтон — 373, 375, 386.
Гамсакурдия Валентина — 214, 383.
Гамсакурдая Клара — 160, 214, 383.
Гамсакурдия Р. С. — 151.
Гамсакурдия Тамара — 214, 383.
Гарди — 174.
Гвидо Гозини-144.
Генриксен — 151.
Генриксон Г. — 187.
Геральдос — 212.
Гипсон — 225.
Годфруа Мария — 87.
Готье — 147.
Грок — 36.
Гурские — 266, 274.
Гурская Ляля — 267..
Гурская Маруся — 267.
Давыдов В. Н. — 219.
Даниленко — 266.
Данкман А. М. — 385, 388.
Девинье — 131.
Деметреско — 245, 246.
Де-Фос — 221-223.
Дехардс — 240, 251.
Дехардс Жорж — 316.
Джерети Билли — 161.
Джерри-Кларк — 278.
Джиовани — 373.
Дозмарова — 176, 177.
Донской — 225.
Дора м-ль — 266.
Древницкий — 309.
Дуров Анатолий — 103, 104, 140.
141, 281-289, 291, 312, 313, 360.
Дуров Влад. — 140, 289, 291, 349, 361, 363.
Дюбуа Калина — 147, 331.
Емельянов (дед) — 13, 14.
Емельянов-Константин — 13, 14, 20, 22.
Ермолова М. Н. — 388.
Есаулова Калина — 161.
Жаколино — 220.
Жакомино — 212, 293, 367.
Жан-Жоре — 99.
Заикин Иван — 228, 250, 294.
Зак Гермина — 253.
Затрутин Н. — 315.
Збышко-Цыганевич — 188, 250, 305.
Иванов — 161.
Иванов Гордей — 173, 174.
Иванов Леонид — 174.
Ивако Абрам Як. — 253, 262, 263.
Изако Любовь — 266.
Инас — 245.
Искра — 147.
Каврели — 386.
Калиновский — 216.
Калинины, братья — 226, 227.
Камакич — 69.
Каменский Василий — 340.
Кара-Али — 188.
Кардинали — 208.
Каро — 316.
Каррэ — 116, 119.
Кахута — 305.
Квясковские — 331.
Келлер Людвиг — 319.
Кешмур — 331.
Кисо — 193.
Козлов — 111.
Колибри — 315.
Коломбо — 371.
Корень Терентий — 221, 222, 307.
Кортеэи Феликс — 131, 137, 138, 144.
Костанди, братья — 161, 209, 292, 367.
Котрелли, братья — 153, 154, 158.
Краев — 240.
Крастон — 331, 386.
Кремзер — 147.
Кремзер Александр — 97, 251, 313.
Кремзер Вилли — 147, 245.
Кристов Серж — 131.
Кроче — 217.
Крылов Петр — 94, 251, 252, 289, 305-307, 311, 318-320, 351.
Кук Багри — 245.
Кук Виктория — 339.
Кук Луиза — 339.
Кук Черный — 339.
Курто — 111, 118, 303.
Лавров — 161, 383.
Лалиадо — 216.
Лебедев И. — 304, 305.
Лей Ляля — 147.
Лей Кетти — 147.
Ленц Роберт — 173.
Леонс — 245.
Лепом — 245, 247.
Леший Иван — , 272.
Литль-Джим — 331.
Лонгфильд — 331.
Лупо — 162.
Лурих — 187, 305.
Маджио — 357.
Мази — 94, 100, 101.
Май — 293.
Майер — 305, 306.
Макдональд — 305.
Максимов В. В. — 385.
Максли — 357.
Маньен — 144.
Манц — 60.
Мариани — 267.
Мартини — 156.
Мартынов — 221, 222, 257, 272, 305.
Мартынов Е. А. — 386.
Меркельс — 315.
Месаль Люсина — 377.
Миавские — 161.
Мизгуэт — 357.
Микул Карл — 251, 305, 306, 313, 318.
Миллер Алекс — 310.
Милон — Аренский — 272, 305.
Мисури — 151.
Михнов — 313.
Мишель— 191.
Момино Александр — 248.
Момино Ж. — 371.
Момино П. — 371.
Мориц — 292, 295, 296.
Морозенко — 268-270.
Муханура — 306, 342.
Мухницкий — см. Бернардо.
Мюллер Фриц — 304.
Мюльберг — 341, 342.
Невский Петр — 94, 289.
Нельдхен — 193.
Нельсон — 193.
Нижинский Ф. — 196, 197, 294.
Нижинский (сын) — 196.
Никитин Аким — см. список цирков.
Никитин Дмитрий — 151.
Никитин Николай — 240, 248, 363, 379, 383, 388.
Никитин Петр — 151, 157, 162, 183, 248, 291-293.
Никитина Юлия — 151, 155, 163, 177.
Николь — 94, 107, 109.
Никольский — 12, 379.
Норман Чарли — 162, 180, 198.
Нэн-Саиб — 276, 277.
Ольшанский Вильям — 125, 131, 134.
Опознанский — 156.
Орлов — 214.
Папи-Бруно — 89, 99, 101.
Папи-Бруно Ляля — 157.
Папи-Бруно, семья — 157, 383.
Паркер — 331.
Пац — 266, 353.
Пащенко — 250.
Пермани, братья — 111-113.
Перкинс — 371.
Петерсен — 208.
Пионтковская — 377.
Пик-Блан Томас — 251.
Поддубный — 250, 274, 363.
Польди Ян — 315, 324, 325, 335, 336.
Поморский — 384.
Понс — 101, 102.
Попеско — 245, 246, 331.
Преде — 383.
Прозерпи — 245, 371, 372, 383.
Проверпи, семья — 383.
Проня — 100-102.
Пропащий — 308.
Пуло — 147.
Пятлясинский — 99-102.
Радунский И. С. — 132, 134, 349, 357-360, 386.
Разай — 147.
Райзенгер — 211.
Распини — 338.
Рассо — 215.
Рассохина — 250.
Растелли, семья — 144, 315, 327.
Растелли Энрико — 316, 317, 318.
Резчей Мориско — 211.
Ренров — 214.
Ренц — 88.
Рибопьер — 219.
Рибо Ричард — 107, 112, 128, 131, 303, 311, 349.
Рихтер — 298, 299.
Робинзон — 156, 157.
Розен-Санин — 217.
Розетти — 331, 339, 343.
Руденков — 377.
Румянцева — 196.
Русаков — 319.
Русинский Ахмет — 275.
Саводе — 198.
Савосто — 293.
Саламонская — 113, 114, 117,
Саланди — 331.
Сансенбахер — 151.
Серж — 121, 122.
Серж Варя — 131.
Сластушинский — 381.
Славянский — 359.
Сабинов Лев — 281.
Соболевский-Васильямс — 50-54, 215,216, 339.
Соколова — 161.
Сокольский Сергей — 288, 390.
Солерно — 316.
Сосин Алексей — 99, 108, 134.
Станевский М. А. 12, 358-360, 363, 380, 388.
Старичков — 131, 339, 340,
Старичков Донат — 339.
Старкай — 131.
Степанов — 383.
Сур Марта — 97.
Сур Мерседес — 265, 315, 317.
Сур Ольга — 97, 216.
Суходольский — 310.
Сычев Николай — 131, 200.
Танти — 161.
Танти-Ферони — 103.
Техас-Хети — 358.
Тимонин — 318.
Тимченко — 161, 236.
Том-Жак — 161.
Томсоя — 144, 388.
Травелли Алекс — 245, 266, 315.
Травелли Коко — 245, 266, 315.
Трофимов — 160.
Труцци Вильямс — 387.
Труцци Жижетто — 80, 81, 91, 275, 387.
Труцци Мариета — 93, 247, 312, 313.
Труцци Рудольфо — 78-81, 99, 242, 257.
Труцци Энрико — 80, 81, 91, 93, 147, 219.
Трибели Жам-Амалью — 308.
Турнер — 176.
Убейко Юлий — 334.
Унтен — 216.
Уточкин Сергей — 296.
Фабри Наполеан — 112, 292, 331.
Фаррух Альпер — 234.
Фаррух Пашета — 234.
Федосеевский — 108.
Федосеевский Павел — 214.
Фердинандо — 161, 236.
Фернандо, братья — 293.
Филиппи — 112.
Филис — 248.
Фиоки — 360.
Фирсов — 318.
Фишер — 253.
Фосс Эмиль — 94.
Фриц — 331, 358.
Хаджи Мухан — см. Муханура.
Цхомелидзе Алекс — 383.
Цап, труппа — 357.
Черный — 307.
Честер Дик — 324.
Чинизелли Александр — 267.
Чинизелли Анджело — 254, 267.
Чинизелли Л. — 208.
Чинкевалле — 316.
Чуркин — 350, 351.
Шарль-Маньон — 151.
Шемякин — 304, 363.
Шерай — 357.
Шнайдер Оскар — 351.
Шорштейн — 303, 304.
Шуман — 88, 91.
Щербаков — 221, 225, 226.
Эгус — 173.
Эйжен — 245, 247.
Эйжен, семья — 147, 157.
Элла, мисс — 266.
Элеонора — 292.
Юлиани — 131.
Ямада Сан — 268-270, 292, 293.
Яма-Саки — 371.
СПИСОК ЦИРКОВ
[Для цирков, упоминаемых в книге, указаны страницы. Остальные цирки перечислены по данным артистического двухнедельника «Орган» (Вар. — 1913 год)].
Андржеевский (9 лош.), Коломна.
Андро А. М. (5 лош.), с. Белая Глина (б. Ставр. губ.).
Афанасьев В. Д., спорт-цирк «Модерн» (14 лош.), Полтава.
Афанасьев, стр. 337, 338.
Байдони — 1915 г., стр. 317, 322, 347, 351, 363.
Баранский А., Коканд.
Бескоровайный И. М., Феодосия, стр. 300, 303.
Бедини Нони — 1910/11 гг., стр. 131, 243.
Блинов К. С., Пошехонье (б. Яросл. губ.).
Т-во Великанистова Гр. Г. и Н. П. Зуева, г. Стерлитамак (б. Уфимск. губ.). Винокуров — 1907 г., стр. 234.
Вяльшин — 1910/11 гг., Николаев (б. Херсонск. губ.), стр. 293.
Герцог Мануил, стр. 87, 137, 138.
Гинне, стр. 87.
Горец, Борисоглебск и Покровская Слобода (б. Сарат. губ.).
Горц, — стр. 380.
Девинье А.,— 1913 г. Москва, стр. 183-191, 357.
Дротянина П. Ф. (8 лош.), Могилев (б. Под. губ.), стр, 357, Егоров — 1910/11 гг., стр. 293.
Есиковский Жорж (8 лош.), Тифлис (собств. здание).
Ефимовы братья (11 лош.), Гродно.
Злобин, стр. 152.
Изако Ф. Я. (44 лош.), Барнаул, Томск, стр. 252-274, 275, 282, 357. Каламанди К., «цирк-биограф», Двинск и Кишинев (аттракционные номера). Камухин В. А., Середа (б. Костромск. губ.).
Карякин В. А., Ишим.
Киссо, Люблин.
Копыльцов, стр. 356.
Коромыслов, Семипалатинск.
Костанди И. А. и В. Боковский, г. Нежин (о. Черниг. губ.).
Крутиков П. С, «Гилпо-палас», Киев, стр. 192-202.
Кук Черный, стр. 53-70.
Липиадо А. В. (25 лош.), г. Луганск. (б. Екатерин. губ.), стр. 216.
Лар Н., стр. 192-193.
Лукьянов И. И. (по сцене Адольф) (4 лош.), Кантемировка (б. Воронежской губ.).
Лукшен А. Г. вл. цирка-театра. Ярцево (б. Смол. губ.) — зимнее здание. Мазеин В. У., Екатеринбург.
Малевич С. А., (35 лош.), Одесса, стр. 291, 293-297, 367.
Малец Ф., г. Васильков (б. Киевск. губ.).
Малюгин И. Ф., Пятигорск.
Мартыненко А. Ф. (12 лош.), г. Городок (б. Витебск. губ.).
Мартынов П. П. (цирк-театр), с. Тейково (б. Владим. губ.).
Мисури, стр. 274.
«Модерн», С.-Петербург, стр. 367.
Никитины 6р., стр. 87, 107, 111, 151, 154-184, 238-242, 264, 370; 383-392.
Орлов П. И., Сумы (б. Харьковск. губ.).
Павлов С. Ф. Соломбала.
Панкратов Е. 3. (12 лош.), ст. Знаменка и г. Новая Прага (б. Херсонск. губ.).
Паулиус Р. и К°, Сосновицы.
Пемпковский, «Фантазия» (8 лош.), г. Турек (б. Калишск. губ.).
Первиль — 1910/11 гг., Владикавказ, стр. 304-310.
Поспелов А. И., Прохладная (б. Терск. обл.)
Поторжинский — 1911 г., стр. 310-311.
Рафалович, Одесса, стр. 151, 152.
Рихтер, Генри, г. Ломжа. Здание скетинг-ринга.
Рихтер Ф А.
Роберти П., цирк-варьетэ, Гусь-Хрустальный (б. Влад. губ.).
Саватера Ивагаго, японский цирк (без лош.), Минск.
Сайковский И. П., г. Шацк (Тамб. губ.), стр. 369-371.
Саламонский, Москва, стр. 9, 62, 78, 103. 107-119, 125-137, 145-148, 238, 242, 264.
Серж Н. С. Чита.
Сипио фон И. Э. (зимнее здание), Екатеринослав.
Соболевский-Васильямс, стр. 220-238.
Соббот, стр. 193.
Сороколетов Г. Ф., «Одесский цирк» (5 лош.), Одесса.
Стрепетов (40 лош.), Уфа., стр. 339-343, 374.
Сур Вильгельм, стр. 87, 94-100, 339.
Сур А. В. (26 лош.), Уральск., стр. 265, 267, 313-328, 347-357.
Таурик, стр. 45-54.
Труцци Ж. М., Ростов-на-Дону и Баку, стр. 275-373.
Труцци Максимилиан, стр. 76, 78-104, 115. 145, 146.
Труцци Рудольфо (78 лош.), Рига, стр. 245-252, 306, 311-313, 327, 331-337, 353, 370-380.
Труцци Э. М., Одесса, цирк Малевича, стр. 147. 249.
Тюрин, стр. 34-48,
Фаррух, стр. 234, 235.
Фюрер, стр. 23-34.
Хойцев, Верный (Семиреч. обл.).
Чепурковская Е. Л. (быв. Жеребилова) — Зверинец и шотландский цирк
Константиновка (б. Екатерин. губ.).
Чииизелли А., Варшава.
Чинизелли Сципион, С.-Петербург, стр. 83, 87, 204-220, 248, 250, 367. Щедрин Я. Г., Симбирск.
Юпатов Ф. А. (15 лош.), Катта-Курган (б. Самарск. губ.), стр. 234-235. Яковлев Г. Л. (12 лош.). Кронштадт.
Примечания
1
Раус — помост перед входом в балаган, на котором выступали артисты, заманивавшие публику.
(обратно)2
Рундат — колесо, фифляк (сокр. флик-фляк), — перекат тела через голову.
(обратно)3
Кульбит — см. стр. 66.
(обратно)4
Фодошпрунг делается так: акробат ставит руки на землю, сгибает ноги в коленях и руки в локтях, с силой отталкивается от земли руками и приходит с рук на ноги.
(обратно)5
В народе говорили, что учеников парят в молоке, чтобы кости были мягче.
(обратно)6
Макс Высокинский был одним из первых клоунов. До появления у нас в России амплуа клоунов, в цирках выступали артисты, которых называли «паяцами».
(обратно)7
Шпрех–шталмейстер ведет всю разговорную часть представления.
(обратно)8
Клоун Грок был прекрасный музыкант-виртуоз. Для проведения своего номера он приглашал настоящих профессионалов-музыкантов. Сначала выступали они, затем он делал вид, что первый раз держит инструмент в руках. Рассматривал скрипку, спрашивал, что делать со смычком, скрипку прижимал подбородком, а платок клал с другой стороны. Или садился на стул и заставлял униформу тащить рояль к нему через всю арену. Когда же вдруг начинал играть, то оказывался мастером. Он был прекрасным пианистом и очень хорошим скрипачом. Профессионалы-артисты, выступавшие с ним, обычно бывали слабее его.
(обратно)9
Шамбарьер — хлыст, употребляемый при дрессировке лошадей.
(обратно)10
Окарина — музыкальный духовой инструмент из глины в форме конического сосуда.
(обратно)11
См. примечание на стр. 104.
(обратно)12
Билли Гайден был одним из первых иностранных клоунов, приехавших к нам в Россию. Выступал он в Петербурге в цирке Чинизелли в 1884 году и не в клоунском костюме, а в эксцентрическом. Он первый вывел на арену дрессированную свинью. По субботам во время гала-представлений в цирке Чинизелли он проводил свои антре на французской языке.
(обратно)13
Борьба начинается в цирках с конца девяностых годов.
(обратно)14
Выполняя сальто, акробат отталкивается от земли или от того, на чем стоит, делает в воздухе телом мертвую петлю и опять приходит на землю или на тот предмет, от которого оторвался. Сальто с возвышения делать легче, чем с земли. Техника переднего и заднего сальто дана на стр. 158-159.
(обратно)15
Дедик и Пепи Вельдеман были, два видных клоуна. Они разыгрывали различные сценки. Это были клоуны-пародисты. Знакомство с их работой навело отца на мысль подыскать себе партнера и работать вдвоем.
(обратно)16
Номер описан на стр. 62-63, гл. II (цирк Кука).
(обратно)17
Старинная цирковая семья, находившаяся в каких-то родственных отношениях с Саламонским.
(обратно)18
Папки — так в бывшей Псковской губернии и Крыму называли хлеб и булки.
(обратно)19
Род. в 1864 г., ум. в 1916 г. Издал книгу: «А. Дуров в жизни и на арене».
(обратно)20
Фехтовальный танец с мечами и щитами.
(обратно)21
Медведи Г. Генриксена были из зверинца В. Гагенбека (Гамбург).
(обратно)22
Швунг — пружинистый трлчок и отрыв тела от плеч, от рук, от земли и т.д. и бросок его в воздух.
(обратно)23
Пассировать — помогать при акробатическом упражнении или трюке. Пассировщиком может быть каждый акробат.
(обратно)24
См. гл. XI, стр. 236 — цирк эмира бухарского.
(обратно)25
У Саламонского в Москве в 1893 году были впервые показаны «большие светящиеся картины».
(обратно)26
Роберт Ленц — один из лучших фокусников-иллюзионистов. У него было вагона два всяких аппаратов как крупных, так и мелких. С ним работало до двадцати помощников. Приезжая в город, он снимал театр и давал свои представления.
(обратно)27
Штамбер — железная палка, на которую подвешивается трапеция.
(обратно)28
Первый месяц мусульманского года, начинающийся 24 мая.
(обратно)29
Англичанин Чарли Норман был раньше кучером у Томсона.
(обратно)30
Записи приводятся дословно с исправлением погрешностей в орфографии и синтаксисе.
(обратно)31
Прыжки следующие один за другим.
(обратно)32
Давыдов В. Н., артист (настоящая фамилия Горелов). 1849-1925.
(обратно)33
«Черные вороны» — пьеса В. В. Протопопова. Изъята из библиотек Союза как нехудожественная и порнографическая. Изд. в 1908 г. журн. «Театр и искусство».
(обратно)34
Нароков М. С. — в настоящее время артист Малого театра. Нелидов– Касторский — известный в то время провинциальный, артист.
(обратно)35
Мукденское сражение — одно из важнейших сражений русско-японской войны. Началось 7 февраля 1905 года и продолжалось до 24 февраля. Русскими войсками командовал генерал Куропаткин, японскими — маршал Ойяма. В силу ряда причин сражение это окончилось полной неудачей для России, причем отступление войск носило часто характер панического бегства. Россия понесла в этом сражении огромные потери.
(обратно)36
Настоящая фамилия Эйжена — Пилат Евгений
(обратно)37
«Пан Твардовский» — опера А. Н. Верстовского, напитанная по мысли С. Т. Аксакова, с либретто М. Н. Загоскина. Она была поставлена в 1828 гаду в Москве и пользовалась большим успехом. В цирке на сюжет оперы была создана волшебно-феерическая пантомима.
(обратно)38
Под «аккомпаниатором» отец подразумевает партнера.
(обратно)39
Стессель А. М. — комендант и начальник укрепленного района Порт-Артура во время осады его японцами 10/XII 1904 г. подписал капитуляцию-Порт-Артура. Во время военного суда над ним обнаружилась бездарность его командования, сознательная подготовка сдачи крепости и ряд злоупотреблений. Стессель больше заботился о собственном продовольствии, чем об укреплении крепости.
(обратно)40
Драгоман — переводчик при посольстве.
(обратно)41
Надо отметить, что основная труппа цирка не любила чемпионатов французской борьбы, больших аттракционов или таких выступлений, занимавших целое отделение, какие давали братья Дуровы, так как тогда работа труппы отходила на задний план.
(обратно)42
Он был жандармский подполковник в отставке, и у него были большие связи.
(обратно)43
Р. Рибо стал в те годы подражать Дурюву и, выводить животных. В таких выступлениях он много потерял как клоун.
(обратно)44
Борьба в настоящую.
(обратно)45
Борцы получали, как они говорили, от четырех до двадцати пяти палок, то есть рублей, за выход.
(обратно)46
Никитин И. С. (1824-1861). Памятник поставлен был в связи с пятидесятилетием со дня смерти поэта.
(обратно)47
Балакирев И. А. — придворный Петра I, при Анне Иоанновне стал придворным шутом.
(обратно)48
Старичков В. С. был клоун, турнист и прыгун с трамплина.
(обратно)49
Министр народного просвещения.
(обратно)50
Боб О'Коннор — один из лучших западных клоунов-мимистов. Любопытно отметить, что приводимый эпизод связывается с именем парижского арлекина Бертинацци. Б. С. Борисов в «Истории моего смеха» рассказывает нечто подобное о русском артисте Е. А. Мартынове.
(обратно)





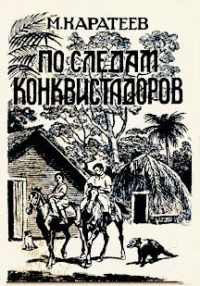
Комментарии к книге «На арене старого цирка», Дмитрий Сергеевич Альперов
Всего 0 комментариев