Борис Мезенцев Опознать отказались
ОБЩИЙ СБОР
Уже два месяца в Константиновке хозяйничали оккупанты. Фашистская армия на своих штыках принесла «новый порядок»: террор, жестокость, произвол…
Мела поземка. Ветер пронизывал насквозь. Николай, поддерживая рукой воротник черной шинели, полученной перед войной в ремесленном училище, быстро шагал.
Я понимал его торопливость: мы шли на собрание подпольщиков, где Николая Абрамова должны принимать в комсомол. Спеша за другом, я вдруг увидел двух немецких солдат, палками подгонявших корову. Они были пьяны. За, ними брела женщина в фуфайке с выбившимися из-под платка волосами и умоляла:
— Паны, верните корову… Верните кормилицу… Трое детей малых… Невестка хворая. Помрем ведь…
Николай взглянул на женщину, потом на немцев. Он весь напрягся, как перед броском. Я резко дернул его за рукав:
— С ума сошел? Вон еще трое солдат.
— Сволочи, — прошептал Николай, сжимая кулаки. Мы прошли мимо стадиона и свернули в переулок.
Павел Максимов увидел нас и подал условный знак. Калитка была открыта, и мы шмыгнули во двор. В коридоре Николай тщательно обмел щербатым веником ботинки, усердно отер о тряпку подошвы. Дверь в комнату приоткрылась — и показалась Женя Бурлай.
— Что вы возитесь! — поторопила она.
Мы вошли. В комнатах — добротная мебель, покрытая черным лаком, в гостиной два шкафа с книгами, на раздвижном столе подшивка еще дореволюционного журнала «Нива». На подоконниках цветы в глиняных горшках, окна завешены гардинами. Кругом был тот идеальный порядок, при котором гость чувствует себя стесненно.
Для маскировки Валя Соловьева принесла патефон и пластинки: собрались, мол, потанцевать.
Почти все были в сборе. Ребята вполголоса, оживленно разговаривали. Когда пришли командир группы Анатолий Стемплевский и политрук Владимир Дымарь, поднялась хозяйка дома Вера Ильинична Яковлева, секретарь подпольного комитета комсомола. Всегда серьезная и собранная, сейчас она выглядела особенно строгой: губы плотно сжаты, брови сведены к переносице.
— Товарищи, комсомольское собрание объявляю открытым. Присутствуют все, за исключением Павлика — он дежурит на улице. У нас сегодня два вопроса: прием Абрамова в комсомол и подготовка к встрече Нового года. — Обернулась к Николаю: — Расскажи товарищам о себе все.
Николай поднялся. Побледнев, стал за спинкой стула.
— Коля, биографию расскажи, — подбодрили его.
— Родился в 1925 году… Здесь… в Константиновке. Отец работал на бутылочном заводе. Мы — бутыляне. В школе учился вместе с Борисом… за одной партой с ним сидели… Потом пошел в ремесло… в ремесленное училище… — голос Николая окреп, он заговорил увереннее: — Токарем захотелось стать, люблю с железом возиться. Учился неплохо, токарное дело нравилось. Закончить училище не пришлось: война началась. Пытался эвакуироваться с ремесленным, но наш эшелон разбомбили, мы разбрелись кто куда, — Николай смущенно потупился.
— Дальше, — попросила Вера Ильинична.
— А насчет комсомола, так я признаюсь… Агитировали, конечно, но не поступал, считал себя недостойным. Я так рассуждаю: быть комсомольцем — дело ответственное. Надо раньше что-то сделать, проявить себя, а потом уже поступать. — Он оглядел всех и взволнованно заверил: — Товарищи, в отношении меня не сомневайтесь! Буду выполнять все поручения, на любое задание пойду! Не подведу… Поверьте!
— Он не подведет, — подтвердил Владимир Дымарь. — Предлагаю принять Николая Абрамова в комсомол.
Владимира поддержала Женя Бурлай. Послышались и другие голоса. Вера Ильинична поднялась:
— Кто за то, чтобы Николая Абрамова принять в ряды Ленинского комсомола, — прошу поднять руку… Единогласно. Поздравляю тебя, Коля, билет комсомольца получишь, когда в город возвратится Советская власть.
— Или будет создан подпольный горком комсомола, — добавил политрук Дымарь.
Радостный, сел Николай, энергично потер ладонь левой руки.
У моего друга была приятная внешность: мягкие темные волосы, карие, немного грустные глаза, лицо смуглое, матовое. Он был, что называется, ладно скроен и крепко сбит.
Тогда же, на сборе, воодушевленный доверием друзей, Николай показался мне очень красивым.
— Теперь о подготовке к Новому году, — продолжал Владимир. Вот сводка Совинформбюро, — он достал из кармана пиджака листок. — Красная Армия в Подмосковье продолжает наступление, освобождает города и села. Фашисты несут большие потери, но в своих сводках все еще брешут о скором падении Москвы! И тут же сообщают, что отходят, выравнивают, мол, фронт для решительного броска на Москву. Ясно ведь, драпают фашисты без оглядки, и расчет их на молниеносную войну лопнул как мыльный пузырь.
Он положил бумажку на стол.
— Всех нас, подпольщиков, — одиннадцать. Мы с Анатолием успели написать пять сводок Совинформбюро. Значит, на двоих одна, а Ване, Борису и Алеше одна на троих. Живут они близко друг от друга, поделятся, — и, уже приказывая, продолжал: — Каждый должен написать по десять листовок. Перед Новым годом расклеить их в городе. Все в одну ночь. Распределимся так: Вера Ильинична и Тамара Ишутина — около вокзала. Анатолий Стемплевский и Коля Абрамов — в центре города, Ваня Иванченко и Алеша Онипченко — в районе базара. Женя Бурлай и Валя Соловьева — от почты до завода Фрунзе. Боре Мезенцеву и мне — Николаевский поселок и Красный городок. А Павлику…
— Я с Женей и Валей, — краснея, поспешно сказал Максимов.
— Добро, — Владимир чуть заметно улыбнулся.
Не только политрук все мы знали, что Павлик неравнодушен к Жене и всегда старается быть рядом с нею.
— Писать на школьных тетрадях, печатными буквами. И не оставлять отпечатков пальцев, — Дымарь вновь напомнил: — Никогда не забывайте главного: кон-спи-ра-ция.
Мы, конечно, понимали, что нужна осторожность. Одной необдуманной фразой, опрометчивым поступком можно выдать себя, погубить товарищей, провалить организацию. Молодости присущи беспечность и непосредственность, однако мы научились хранить в тайне свою нелегальную деятельность. В этом была немалая заслуга политрука.
Владимиру Дымарю не было еще и семнадцати лет. Не по годам серьезный, он удивлял своей рассудительностью и твердостью характера.
Поднялся Анатолий Стемплевский:
— Сводки Совинформбюро я слушаю каждый день. Радиоприемник работает исправно, слышимость хорошая. Все подробности записывать не успеваю, но самое важное фиксирую… Кому понадоблюсь — между часом и двумя, может увидеть меня у входа в парк имени Якусевича. При крайней необходимости заходите домой. Часто всем вместе собираться не следует. Володя прав: осторожность и конспирация прежде всего. У меня все. Если нет вопросов, давайте расходиться.
По дороге домой я думал о Николае. Припомнился случай, который произошел года за два-три перед войной. Играли мы однажды в футбол с ребятами соседней школы. Я был капитаном команды, нападающим, а Николай — защитником. При ничейном счете кто-то из ребят нашей команды ударил по воротам, мяч пролетел над кучкой портфелей, обозначавших боковую стойку. Вот тут-то и началось. Мы кричали, что гол есть, и требовали начинать игру с центра поля, а соперники отказывались. Разгорелись страсти, никто не хотел уступать. В разгар спора с капитаном соперников я, исчерпав все доводы, спросил Николая:
— Коля, скажи по справедливости, был гол или нет?
— Нет. Гола не было, — спокойно сказал он.
А ведь я, конечно, был уверен, что Николай поддержит меня — все-таки играем в одной команде. После этого мы злились на него, долго не брали в свою команду, считая, что он поступил не по-товарищески. Но потом, повзрослев, я оценил поступок друга совсем по-иному.
Николай любил старшего по возрасту Стемплевского за смелость и собранность, восхищался его физической силой. До войны Анатолий на городских школьных соревнованиях дальше всех метал гранаты, был хорошим боксером. Николай и Анатолий жили рядом, и когда случалось, что Николай не являлся домой к обеду, его мать знала: он у Стемплевских.
Когда Анатолия избрали командиром, Николай воспринял это как само собой разумеющееся. Стемплевскому он верил. Анатолий выглядел старше своих восемнадцати лет. Лицо строгое, взгляд темно-карих глаз пронизывающий.
Наш командир не отличался общительностью, но и не замыкался в себе. Любил математику и физику, в суждениях был конкретен, в поступках решителен. Пунктуальный и дисциплинированный, Анатолий еще в школе каждое комсомольское поручение выполнял старательно, его всегда ставили в пример.
Николай Абрамов гордился принадлежностью к комсомолу. На собраниях вел себя с достоинством, часто выступал, всегда отстаивал свою точку зрения, но не упорствовал, если понимал, что не прав. Его возмущало, когда говорили «ты мне не доказывай, потому что не докажешь». Считал это признаком тупого упрямства, ограниченности. Когда чего-нибудь не знал или не понимал — не стеснялся спросить, не строил из себя всезнайку, а прямо, без всяких уловок задавал вопросы глядя собеседнику в глаза.
Над своими сомнениями много размышлял, старался их разрешить сам, а если не получалось, спрашивал товарищей. Однажды он уточнил:
— Когда прогонят фашистов или организуется горком комсомола, буду я считаться комсомольцем с момента вручения билета или же… когда меня приняли на собрании?
— Когда приняли на собрании.
— Значит, я уже являюсь комсомольцем?
— Да, ты уже комсомолец.
Ночью в городе раздавалась стрельба — залпы и одиночные выстрелы. Утром мы встретились с Николаем.
— Ты не знаешь, где это палили? — спросил он.
— Похоже, в центре города.
— Пойдем посмотрим.
На центральной улице, около бывшего рыбного магазина, нам встретился бледный, небритый, бородатый мужчина. Трясущаяся голова, безумные, расширенные глаза, беспомощно опущенные руки. Вдруг он остановился, потом сделал еще несколько нетвердых шагов, и плечом оперся о дерево. Николай поспешно подошел и поддержал его:
— Вам плохо?
— Нет, нет… не беспокойтесь.
— Может, дать вам снега?
— Пожалуйста.
Николай кивнул мне головой. Я подал пригоршню сыпучего снега. Мужчина взял щепотку и положил в рот. Постояв неподвижно несколько минут, незнакомец наконец глубоко и ровно вздохнул.
— Что с вами? — спросил Николай.
— Со мной, собственно, ничего не произошло. Но я только что видел такое… В сквере ночью расстреляли людей, а сейчас их… сбрасывают в ямы… Какой-то кошмар!.. — Он махнул рукой и медленно побрел по улице.
У входа в сквер стояли небольшими группками люди. Мы подошли.
— Глянь, — дернув меня за рукав, сказал Николай.
Человек пятнадцать мужчин с желтыми шестиконечными звездами на белых нарукавных повязках волокли расстрелянных к длинной зигзагообразной щели — укрытию от бомбежек. Восемь полицаев с винтовками стояли в оцеплении. Около щели, спокойно разговаривая, курили эсэсовцы.
Я взглянул на Николая и по его лицу и глазам увидел: будь у него сейчас автомат, он бросился бы на фашистов и полицаев и стрелял бы, стрелял, не думая о последствиях…
— Коля, давай уходить. Смотри, сюда бегут два полицая.
— Запомню это… на всю жизнь запомню! Мы им, сволочам, этого никогда не простим.
Полицаи подбежали к выходу из сквера и, угрожая оружием, потребовали немедленно разойтись. Все подчинились. Мимо нас прошли трое мужчин, обсуждавших только что увиденное. Мы последовали за ними, надеясь узнать, что же произошло.
— Мабуть, явреев повбывалы? — проговорил пожилой.
— Ерунда. Хиба ты нэ бачив? Еврэи вбытых в ямы таскалы, — сказал низкорослый.
— Это расстреляли коммунистов и комиссаров, — заговорил третий. — Вот около нас соседа взяли. Его летом паралич разбил. Сын в армии, дочь эвакуировалась, при нем одна бабка осталась. Квартальная говорила, немцы, мол, считают, что старик не больной, что он член партии и сейчас симулирует. Видать, этой ночью пришлепнули его, бедолагу.
Мы шли позади, прислушивались, но делали вид, что разговор впереди идущих нас ничуть не интересует. Они долго молчали, потом низкорослый сказал со вздохом:
— Кого б нэ розстрилювалы, — цэ нэзаконно. И хоронять людэй, як собак. Розумию, що вийна, алэ и на вийни е якись законы.
— Мэни байдуже, кого вбылы, — махнул рукой пожилой. — Абы мэнэ нэ чипалы. Хай нимци з комунистамы та москалямы деруться, а мэнэ залышать в покои. Моя хата скраю. Я б оце такий, щоб в село поихаты, земельку свою одибрать, та й зажить, як колись було. А кругом хай хоч свит пэрэвэрнэться. Мэни всэ ривно.
— Ни, кумэ! — горячо возразил низкорослый. — Ты вэрзэш чортзнащо. Нахаба зайшов у хату до чужих людэй, и тому що вин сыльный, починае бэшкетуваты: батька в потылыцю, матир в груды, брата по морди, сестру в живит, а ты кажеш — робить, як хочетэ, а мэнэ цэ нэ касаеться. Так?
— Мэни билыповыкы залылы пид шкиру сала, — рассердился пожилой. — Я им того николы не прощу. Хай будэ люба влада, хоть гирша, абы инша, — он со злостью плюнул, оглянулся на нас.
Николай решительно догнал его и, глядя в упор, сказал с презрением:
— Шкура ты! Убивать таких надо гадов!
Я подбежал к Николаю и оттянул его в сторону:
— На черта он тебе сдался, нашел место с таким связываться.
— А-а, комсомольцы, — злобно прошипел пожилой. — А ну постой-ка! — крикнул он, шагнув к нам. — Вот я тебя зараз к полицаю отведу. Хай вин разбэрэться, кто ты такый!
Мы быстро свернули в переулок и прибавили шагу.
— Вот такие подлецы страшнее и опаснее фашистов. Немец — враг открытый, — сказал Николай. — А этот свой… такого сразу и не разглядишь. Может и в доверие влезть, а потом всадит нож в спину.
…Позже мы выяснили, что в сквере были расстреляны не успевшие эвакуироваться коммунисты, ответственные работники, активисты и просто горожане, подозреваемые во враждебном отношении к фашистам.
ГРАНАТЫ
Первым приказом немецкий комендант города обязал население сдать оружие, боеприпасы и военное имущество. Боясь допросов, а возможно и более серьезных последствий, многие тщательнее прятали или выбрасывали ружья, винтовки, кинжалы, лишь некоторые относили их в полицию. Как правило, это было заржавленное старье, не представлявшее ценности и уже едва отвечавшее своему назначению.
Специальные воинские команды на полях недавних боев подбирали пулеметы, винтовки, гранаты и прочее вооружение и свозили к сгоревшему пакгаузу недалеко от вокзала.
Николай отправился туда и пробыл там целый день. В полдень двое полицейских привезли на бричке ручные пулеметы, винтовки и кавалерийские шашки.
К исходу дня с автомашины сгрузили много оружия и несколько небольших ящиков, с которыми солдаты обращались очень осторожно.
«Патроны или гранаты», — подумал Николай.
Вечером он доложил командиру о свалке оружия. Получив приказ тщательно разведать пути подхода к пакгаузу и о его охране, Николай на следующее утро отправился выполнять задание.
Человек сорок местных рабочих ремонтировали железнодорожное полотно. Разбившись на небольшие группы, они заменяли шпалы, подгребали гравий. Руководил работами высокий широкоплечий фельдфебель в фуражке с черными плюшевыми наушниками, защищавшими уши от холода. Около рабочих он оставался недолго: дав указание, куда-то уходил на два-три часа.
В середине дня в крытой подводе привезли хлеб и воду в оцинкованной бочке. Рабочие вереницей потянулись к подводе. Фельдфебель, разрезая на две части небольшие буханки хлеба, с брезгливым видом совал «пайки» в замерзшие руки подходившим. Люди бережно отламывали или отрезали перочинными ножами кусочки хлеба, торопливо и жадно жевали их. Остатки прятали в карман. Напившись воды, выжидающе посматривали на фельдфебеля. Когда хлеб был роздан, фельдфебель приносил сигареты: каждый получал по пять штук. Одни тут же закуривали, другие прятали сигареты: то ли не курили, надеясь что-нибудь выменять на них, то ли откладывали удовольствие на время, когда окажутся дома, в тепле.
Внимание Николая привлек прихрамывающий рабочий. Присмотревшись, он узнал в нем бывшего бутылянина, который незадолго до войны женился и переехал жить в другую часть города. За подпрыгивающую походку его дразнили «Рупь-пять». Недалекий и наивный, хромой был отзывчивым, добрым малым и отличался большой физической силой.
Дождавшись конца работы, замерзший и голодный Николай встретил бутылянина и окликнул его.
— А-а, здоров, земляк, — сипло отозвался тот и, улыбаясь, спросил: — Тебе чего?
— Да вот хочу на работу пристроиться. Видел, что жратву дают. Ты не поможешь?
— Не только жратву, но и сигареты.
— Это совсем хорошо. Так как же насчет работенки? — Николай напрягал память, пытаясь вспомнить имя собеседника. Наконец-то его осенило: «Сергей!»
— Очень просто, через биржу труда. Но тебя не примут — малолеток.
— А я себе годов прибавлю.
— Ну если только так. Знаешь, приходи-ка ты завтра. У нас заболел Иван Литвин. Он ростом, как ты. Немцу все равно, документ ему не нужен, лишь бы работал. В обед получишь хлеб и сигареты.
— Я не курю, сигареты тебе отдам, — расщедрился Николай, глядя на повеселевшее лицо Сергея.
— Завтра жди меня около вокзала. Приходи с лопатой.
Сергей на прощанье ласково хлопнул Николая по плечу и свернул в переулок.
…В отцовской фуфайке, ежась от холода, Николай поджидал Сергея. Когда большинство рабочих уже собралось, показалась наконец припадающая на ногу фигура Рупь-пять. Фельдфебель приехал на мотоцикле, с безразличным видом пересчитал людей и хрипло скомандовал:
— Все работаль. Шнель, бистро!
Разбившись на бригады по семь-восемь человек, рабочие двинулись через путь к семафору за инструментом. Некоторые пришли со своими лопатами. Николай держался поближе к Сергею, а когда подошли к месту работы, обросший рыжей щетиной бригадир сказал:
— Хельхебель приказал сносить старые шпалы вон к тому месту, — и пальцем указал на тупик возле пакгауза.
Николай посмотрел туда. Между тупиком и сваленным в кучу оружием была уборная, за нею в нескольких десятках метров стояло сгоревшее здание из красного кирпича. «Там можно спрятать ящик», — подумал Николай и глянул на часового: тот расхаживал между вокзалом и пакгаузом.
Работа была тяжелой и грязной. Примерзшие к земле шпалы поддевали ломами и кирками, потом на палках или на плечах несли их к тупику, где складывали в штабель. Ослабевшие, полуголодные люди быстро уставали. Пришедший фельдфебель злобно кричал, требовал работать быстрее и угрожал, что не даст хлеба.
Николай превозмогая усталость, работал наряду со взрослыми. Мысли его были заняты одним: как осуществить замысел? Найдя кусок проволоки, он свернул ее и спрятал в карман — авось пригодится.
Когда пришло время обеда и люди группами и в одиночку двинулись к вокзалу, Николай крикнул им вслед:
— Шпалу криво положили, фельдфебель ругаться будет!
— Выслуживаешься, щенок. Сам поправляй, — сердито процедил сквозь зубы сутулый мужчина с колючими глазами и поплелся, отряхивая на ходу фуфайку.
— Давай вместе, — вызвался Сергей.
Положив ровно шпалу, они направились к вокзалу, где собрались уже все рабочие. Проходя мимо уборной, Николай подтолкнул в плечо попутчика:
— Ты иди, а я заскочу сюда.
Сергей поковылял. Николай, осмотревшись, решительно подошел к пакгаузу. Взял ящик. Прячась за стеной, пригнувшись, потащил его. Спустившийся с насыпи, Николай уже не был виден часовому, который расхаживал теперь по перрону. Перекинув через подоконник ящик, присыпал его снегом и направился к уборной. Вынырнув из-за стены, спокойно пошел к вокзалу. Часовой равнодушно смотрел на рабочих, выстроившихся в очередь за хлебом.
Получив свою долю, Николай попросил у Сергея нож, отрезал ломоть хлеба и начал есть. Оставшийся кусок спрятал в карман. Вместе с ножом протянул Сергею сигареты.
— Возьми.
— Не надо. На них можно что-нибудь выменять. Николай сунул в крупную ладонь Сергея сигареты.
— Спасибо, — смущенно улыбаясь, сказал тот и сразу же закурил. — Мне дед говорил, что если смолоду не куришь, то в старости табак с хлебом будешь есть.
— Может быть, — рассеянно ответил Николай, думая о загадочном ящике. Радовал первый успех, но многое тревожило: не заметят ли немцы следа? Как заорать ящик? Что в нем?
Вскоре бригады побрели к своим местам. Работали медленно, нехотя. К концу дня Николая начали покидать силы. Перед глазами то и дело плыли цветные круги, он начал спотыкаться.
— Присядь, отдохни, — грубо посоветовал бригадир. — А завтра чтоб духу твоего здесь не было. Понял?
— Это с непривычки, — заступился Сергей.
Домой Николай плелся разбитым. Лопата давила плечо, ноги подкашивались, во рту пересохло. Зайдя к Анатолию, рухнул на стул, задыхаясь от волнения, рассказал историю с ящиком. С усилием поднялся и, шатаясь, побрел домой. Положив на стол хлеб и наспех умывшись, упал на кровать.
Проснулся поздним утром. Превозмогая сильную боль во всем теле, начал делать зарядку. Кружилась голова, выступали слезы, но он приседал, подпрыгивал, снова приседал.
— Коль, два раза приходил Анатолий. Сказал чтобы ты зашел к нему, — рассказывал ему средний брат. — Мама ругалась, фуфайку ты вымазал. Папка тоже сердится.
— Это я нечаянно, простят.
На улице мело. Ветер то и дело менял направление, крутился волчком, спиралью взбивал снег. Николай застал командира за рубкой дров.
— Что будем делать? — взволнованно спросил Николай.
Анатолий вогнал в суковатое бревно топор, ответил быстро и четко.
— Возьмем санки, мешок и пойдем. Заберем в мешок ящик и — к Вере Ильиничне, до нее от вокзала рукой подать. У нее в мешок насыпем угля и — ко мне.
Ребята долго шли молча. Вдруг Анатолий остановился, разостлал на санках мешок и строго сказал:
— Ты, видать, вчера так намаялся, что и сегодня ходишь, как парализованный. Садись, подвезу немного, да и прочность веревки проверим.
Когда показался вокзал, Анатолий остановился, глубоко, но ровно дыша, приказал:
— Спрячь мешок!.. Сейчас пойдем мимо вокзала, осмотримся.
Рабочие на дальних путях катили обгоревший вагон. Часовой в очках, стуча сапогом о сапог, ходил по перрону Привокзальная площадь была безлюдной. Возвращаясь, ребята остановились у толстого дерева напротив сгоревшего кирпичного здания.
— Я пошел, — тихо сказал Николай.
Ноги по колени вязли в снегу, но он быстро добрался до полуразрушенного дома, легко вскочил на подоконник и скрылся. Анатолий не сводил глаз с часового. Вскоре Николай волоком притащил мешок.
…Вера Ильинична была дома и пригласила друзей войти погреться, попить чаю.
— Нет-нет, — дружно отказались ребята и объяснили причину своей спешки.
— Молодцы, — радостно похвалила она.
Насыпав в мешок угля, Анатолий и Николай глухими улицами без всяких приключений добрались домой..
В сарае торопливо высыпали уголь, достали ящик. С надеждой и тревогой оторвали доску. Изумленно вскрикнули: в ящике были ребристые гранаты — «лимонки».
— Это же здорово! — командир хлопнул Николая по плечу.
— Хлопцы обрадуются, — улыбаясь, сказал Николай, беря в руки гранату. — А где взрыватели?
— Должны быть здесь, — уверенно ответил Анатолий, отрывая еще одну доску. — Вот и они!
— Завтра же взорвем одну.
— Да, да, — согласился командир, — завтра же. Но надо быть осторожными — Ф-1 штука опасная.
На следующий день командир, политрук и Николай в нескольких километрах от города в глубокой балке взорвали гранату. Потом Дымарь красочно рассказывал об этом взрыве. Николай же ограничился двумя словами:
— Рвануло здорово.
Командир роздал гранаты всем нашим ребятам. Через несколько дней мы с Николаем пошли на вокзал попытать счастья: раздобыть гранат или винтовок для обрезов.
Но ни оружия, ни ящиков, возле пакгауза уже не было.
НОЧЬЮ В МАГАЗИНЕ
В конце прошлого века бельгийское акционерное общество построило в Константиновке бутылочный, металлургический, стекольный и химический заводы. В непосредственной близости от них возвели барачного типа кирпичные и каменные строения — жилье для рабочих. Эти заводские поселения назывались колониями: Бутылочная, Стекольная, Химическая. Другие районы города именовались поселками: Дмитриевский, Николаевский и т. п. В Бутылочной колонии жили Анатолий Стемплевский и Николай Абрамов. До войны в центре колонии, недалеко от завода, в здании, стоявшем особняком, размещался большой магазин. Немцы превратили его сперва в конюшню, а затем в склад для хранения фуража, сбруи и строительного инвентаря. Окна его наглухо заколотили досками. Охраны не было.
Наблюдательный и вездесущий Николай как-то сообщил Анатолию, что со склада вывезли «всякую чепуху», помещение привели в порядок и даже офицер приезжал его осматривать. Командир приказал вести дальнейшее наблюдение.
Вскоре Николай вновь докладывал командиру:
— В склад завезли большие тюки и ящики, закатили несколько новых мотоциклов. Охраны днем нет, а на ночь выставляются часовые.
Стемплевский проинформировал группу о наблюдениях Николая, посоветовал провести «ревизию» в складе. Мы стали мечтать о пистолетах, о предстоящих боевых операциях. Но шли дни, а командир и Николай молчали.
Наконец поступила команда собраться. Квартира Анатолия постоянно содержалась в чистоте, но на этот раз в ней был наведен образцовый порядок: ведь должны прийти девушки.
Раздался условный стук. Разрумяненные морозом Женя Бурлай и Валя Соловьева внесли оживление и суету. Мы повскакивали с мест, зашумели. Сняв пальто, девушки погрели над плитой руки и сели за стол. Анатолий, повернувшись к Николаю, потребовал:
— Докладывай обстановку.
— Выяснить точно, что находится в складе, не удалось Во всяком случае, не продукты и не фураж, а вот оружие — возможно. В складе две двери и семь незастекленных окон: два по бокам, одно с тыльной стороны и четыре с фасада. Все они забиты досками. Охрана появляется как только стемнеет, сменяется каждые два часа Удобнее всего в склад попасть через боковое окно со стороны парка.
— Предлагаем такой план, — сказал командир. — Завтра вечером собираемся около бывшей оранжереи. Женя и Валя подойдут к магазину, заговорят с солдатами постараются отвести их как можно дальше в сторону клуба и задержать там минут на пятнадцать-двадцать. За девушками и немцами наблюдать Павлику. Я и Коля заберемся в склад, а политрук останется у окна. В случае опасности Павлик и Борис дают сигнал политруку, а он — нам.
Было понятно, что Анатолий и Николай продумали операцию до мельчайших деталей. После небольшой паузы Анатолий продолжил:
— Все надо проделать тихо, не оставив следов. Если же повезет и мы кое-что добудем, то, конечно, начнутся облавы, аресты. И в первую очередь в нашей колонии. Коле и мне придется на время уйти из дому. У кого мы сможем перебыть?
Все члены организации готовы были в любое время приютить товарищей. На всякий случай к этому мы заблаговременно подготовили и своих домашних — ведь придумать повод, чтобы кто-то перебыл несколько дней, не составляло труда: облавы, мобилизация на работу, угон в Германию. И нам неоднократно в силу тех или иных обстоятельств приходилось ночевать друг у друга.
— Ну хорошо, — Анатолий окинул нас повеселевшим взглядом. — Сейчас Коля покажет девушкам магазин и места встречи до операции и после. В случае изменения планов Павлик сообщит об этом девушкам, а Коля — политруку и Борису.
В полдень следующего дня я пришел к Николаю и застал его точившим что-то на каменном бруске в небольшом сарайчике. Улыбнувшись, он пригласил меня войти. Николай точил большой с заостренным концом нож, а рядом лежал топор «для отвода глаз». Потрогав пальцем лезвие, он сказал:
— Бриться можно.
— А ты уже бреешься? — И я глянул на едва пробивавшийся пушок на его верхней губе.
— Нет, но скоро придется, — засмеялся друг. Он спрятал нож и принесенные мною гранаты, закрыл на замок сарай. Анатолия и Павла мы встретили неподалеку от парка имени Якусевича, который тянулся вдоль Бутылочной колонии.
— Пошли побродим? — неожиданно предложил командир. Чуть опередив ребят, мы с Анатолием вскоре вышли на аллею. Он сообщил о последних радиопередачах из Москвы.
Вдруг что-то хлопнуло командира по спине, а меня обдало снегом. Мы быстро обернулись: Николай и Павел обстреливали нас снежками. Анатолий немедленно отреагировал и, прыгая из стороны в сторону, на ходу слепил снежок. Первым броском сбил с Павла шапку. Я тоже включился в эту баталию. Откуда-то появился политрук.
Раскрасневшиеся и оживленные, мы стряхивали друг с друга снег и вели себя по-детски беззаботно, как будто не предстояло нам вечером рискованное дело.
Анатолий и Владимир отошли в сторону, о чем-то посовещались и, подозвав нас, предупредили, что операция не отменяется.
Вечером, уходя из дому, я сказал, что, возможно, ночевать буду у товарища, родители которого ушли в село.
— Не болтайся ночью по улицам. А то вон вчера патруль пристрелил парня. Просто так. Шел после восьми часов вечера, а в него немец и пальнул.
— А зачем нам болтаться? Будем играть в карты.
Николай встретил меня во дворе, отдал гранаты, закрыл сарай, и через несколько минут мы все были в сборе около оранжереи.
— В случае шумихи-пробираемся к новоселковскому мосту. Если операция пройдет тихо — встречаемся здесь же. Ясно? — командир говорил шепотом, но строго и властно. Потом он мягко тронул Женю и Валю за плечи, полуобнял и сказал неожиданно дрогнувшим голосом:
— Ну, девчата, в добрый путь…
Вслед за Валей и Женей отправились Анатолий, Владимир и Николай, а еще чуть позже — и мы с Павлом. Старались идти как можно тише, напряженно прислушиваясь и всматриваясь. Вечер был тихий, морозный.
Не доходя до склада, Женя и Валя стали смеяться. Нам показалось, что делают они это громче, чем следовало бы, и к тому же ненатурально. Солдаты вышли к ним навстречу и окликнули их. Девушки мало-мальски «шпрехали» по-немецки, и разговор завязался сразу. Мешая немецкие и польские слова, солдаты, осветив девушек фонариками, откровенно начали восхищаться ими и, как предполагалось, вызвались их немного проводить. Отойдя от склада метров на сто, остановились. Один из них достал губную гармошку и начал играть, а второй, повесив ему на плечо свою винтовку, закружился с Валей в вальсе. Девушки смеялись, подпевали и танцевали. Глядя со стороны, можно было подумать, что они ведут себя слишком свободно и легкомысленно. Даже нам показалось, что они переигрывают.
Не теряя времени, Анатолий и Николай подошли к намеченному окну. Командир немецким штыком поддел нижнюю доску — раздался пронзительный скрип. Но страшно громким этот звук показался нам — напряженным до предела. Немцы же его не услышали, а возможно, не придали ему значения. Со второй и третьей доской ребята справились быстрее и тише. Первым полез Николай, а за ним — Анатолий. Политрук приблизился почти вплотную к окну, чтобы слышать голоса забравшихся в склад товарищей. Мы с Павлом хорошо видели Владимира и в случае опасности могли тотчас передать сигналы, как условились.
Все было спокойно. По-прежнему доносились звуки гармошки и почти беспрерывный смех Жени. Валя смеялась реже.
Вдруг музыка оборвалась. Тут же, словно поперхвшись смехом, умолкла Женя. Вроде бы послышались торопливо приближающиеся шаги. Мы насторожились еще больше.
Но новый взрыв смеха и мягкий баритон, запевший в аккомпанемент гармошки, немного успокоили нас.
Наконец Анатолий и Николай выбрались наружу. Прибили доски на место и направились в мою сторону. Подойдя, командир устало сказал:
— Зря рисковали!
Постигшая неудача обескуражила нас. Но больше всех переживал Николай: ведь он первый высказал мысль о пистолетах в складе. Политрук же до обидного был спокоен и даже насвистывал какой-то мотивчик.
Павел, оставшись на прежнем месте, дважды громко кашлянул, давая понять девушкам, что операция окончена.
У оранжереи мы подождали Валю и Женю.
— Не повезло нам, — сказал им Анатолий. — Оружия нет. Стоят мотоциклы, в тюках обмундирование, а в ящиках какие-то детали к машинам. У мотоциклов мы пробили покрышки, покололи ножами почти все тюки с обмундированием. Вот и всего-то…
— Досадно, черт побери! — вырвалось у Николая.
— Пустой номер, — со вздохом протянул Павел.
— Нет, мы отлично провели операцию, — спокойно сказал Владимир. — Конечно, было бы здорово достать пистолеты. Но ведь все прошло, как и планировалось. Как по нотам, а это уже успех! А если учесть испорченные мотоциклы и обмундирование — это уже кое-что.
Настроение у нас немного поднялось, но Николай оставался удрученным. Позже мы осознали значение этой вылазки. Продуманная до деталей и четко выполненная, она хотя и не принесла желаемых результатов, но заставила нас поверить в возможность осуществления рискованных операций.
…Перед вечером я зашел к Анатолию и застал у него Николая, гревшегося у печки. Прямо с порога спросил:
— Ну, как там?
— Пока тихо, — ответил Николай. — Охрана, видимо, не заметила, что в складе кто-то был, а ответственный за него фельдфебель обнаружил, что ночью были «гости». В середине дня он несколько раз обошел вокруг здания, потом сам прибивал доски «нашего» окна. Гвозди заколачивал величиной с карандаш. Но в комендатуру не ходил. Я весь день следил за фельдфебелем, живет он недалеко от нас.
Он весело потер руки и улыбнулся. Анатолий о чем-то сосредоточенно думал, хмурился и был чрезвычайно серьезным. Вдруг он оживленно заговорил:
— Понимаете, фельдфебель, наверное, увидел все, что мы наделали. Но он не хочет об этом заявлять ни своему начальству, ни в гестапо. Хочет спрятать концы в воду, а то за ротозейство могут отправить на фронт.
Анатолий встал, прошелся по комнате.
Предположение командира оказалось правильным. Фельдфебель не заявил о диверсии, и это избавило город от дополнительных облав и расстрела заложников.
Через полмесяца имущество куда-то вывезли, и склад опустел. Николай еще долго с горечью вспоминал эту операцию, упрекая себя за легкомыслие и безответственность, хотя все мы иначе смотрели на это. Как-то политрук вспомнил пословицу: первый блин — комом. Николай грустно улыбнулся и сказал:
— До второго блина можно не дожить, первым подавишься. Сейчас война.
КЛИНЬЯ НА ДОРОГАХ
Зима сорок второго выдалась лютой. Мороз и ветер свирепствовали немилосердно. Фашисты явно не были готовы к войне в зимних условиях. Солдаты мерзли, техника выходила из строя, нарушалось снабжение войск. На комсомольском собрании мы решили изготовить металлические клинья и вбивать их в асфальт или между камнями шоссейных дорог. Главное было даже не в проколотых покрышках. Солдаты-шоферы вечером, а тем более ночью, не останавливали машины в степи для смены или ремонта колес, а со спущенными шинами старались дотянуть до города. Это приводило к большим поломкам, автомашины надолго выходили из строя, простаивали в ремонтных мастерских.
Ни дома, ни в школе меня особо не приучали к физическому труду. Если, к примеру, Николай Абрамов, Павел Максимов или Анатолий Стемплевский были мастеровыми ребятами, то Владимир Дымарь и я вряд ли за свою жизнь умело забили хоть один гвоздь. А тут надо было делать металлические клинья, смахивающие на цифру «4» без правой верхней половины. Мудрено. Признаться в своей беспомощности было стыдно, вот я и вызвался в подручные к Николаю.
Друг пришел озябший, но веселый. Я надел фуфайку, взял в коридоре топор, молоток, и мы пошли в сарай. Закрыв дверь, принялись за работу. Держа на полу топор острием вверх, я любовался, как Николай уверенными ударами молотка отрубал ровные куски толстой проволоки. Когда образовалась куча стержней, он похлопал себя по бокам, подышал в ладони.
— Бр-р-р… Собачий холод, — и, переступив с ноги на ногу, добавил: — Хватит.
Я посмотрел на пощербленное лезвие топора.
— Ничего, напильником подточишь, вот так, — успокоил Николай и, смеясь, показал, как надо орудовать напильником. Вообще, он смеялся, как обычно смеются добрые и искренние люди.
Выйдя из полумрачного сарая и щурясь от света, пошли в дом. Обметая ноги в коридоре, я шепнул:
— Если начнут о чем-либо спрашивать — помалкивай. Сам буду выкручиваться, у меня это лучше получится.
Мы разделись и, потирая закоченевшие руки, зашли на кухню погреться около печки. Мачеха, сидя у окна, пришивала пуговицу к моему пальто:
— Что можно делать в такую погоду, не понимаю. Хороший хозяин собаки не выгонит, а вы себе работу нашли. Дурной труд — хуже лени.
Она сказала вроде бы между прочим, даже не подняв головы, но я почувствовал, что ей хотелось сказать что-то другое, и это меня насторожило. Отогревшись, мы прошли в горницу, где на полу сидел мой десятилетний брат Юра и из доски мастерил кинжал. Он был настолько увлечен своим занятием, что не заметил нас. Мы расставили шахматы, но донесся голос мачехи:
— Боря, иди сюда на минутку. — Пристально посмотрев на меня, она спросила: — Где ты пальто в клей выделал?
— В какой клей?
— Не знаю в какой, вот посмотри.
Я увидел на полах капли застывшего гуммиарабика. Пожав плечами и сделав удивленное лицо, я сказал неуверенно и смущенно:
— А-а-а! Вспомнил. У одного товарища кто-то разбил стекло в окне, а я помогал заклеивать, вот и запачкал. — Выдумка прозвучала не очень убедительно. Осмелев, я добавил: — Ничего страшного, вычищу, — и вернулся к Николаю, сосредоточенно смотревшему на шахматную доску.
— Что случилось? — спросил он.
— Когда расклеивали листовки, я выпачкал пальто в гуммиарабик. Он, проклятый, от холода стал густым, и, чтобы скорее выливался, я размахивал бутылкой.
Настроение испортилось. Сделав несколько ходов, я отошел к окну. Николай стал рядом, обняв меня за плечи.
На улице неистовствовал ветер, наметал сугробы, злобно завывал. Я съежился, а Николай тихо промолвил:
— Представляешь, каково теперь красноармейцам, в окопах, где-нибудь в степи. Страшно подумать, — и, немного помолчав, добавил: — Из Москвы передают, что люди из тыла шлют на фронт теплые вещи. Бойцы пишут им, что становится теплее не только от этих вещей, но и от их любви и заботы. Немцы еще почувствуют силу нашего народа.
Он умолк. Мы долго смотрели в окно, думая о трудностях и лишениях, принесенных войной, о резкой перемене в нашей жизни. Вдруг Николай сказал решительно и строго:
— Завтра приходи ко мне с проволокой. Вместе пойдем к Анатолию, у него хорошие тиски, на них будем гнуть и острить клинья.
…Высокими столбами стоял над крышами дым, хлестки скрипучего снега до слез резали глаза. Воздух был густым, ощутимо весомым, но дышалось легко.
Николай поджидал меня около своего дома, и мы сразу же направились к Анатолию.
Командир деревянной лопатой разгребал сугроб входа во двор. Румянец играл на его лице. Закончив расчищать дорожку, Анатолий кивком пригласил нас в дом. Мы отказались, сообщив о цели прихода.
— Тогда не будем терять времени. Сейчас открою сарай и занимайтесь, но сильно не гремите.
Николай с присущей ему деловитостью сразу же взялся за работу. Я должен был выравнивать нарубленные куски проволоки. Держа левой рукой один конец, я правой сильно ударил молотком по другому. Стержень выскочил из рук и описал замысловатую дугу, едва не угодив мне в лицо. Николай косо глянул на меня. Я, не умеряя пыла, продолжал ровнять стержни. Промахнувшись, попал молотком по руке. Вскрикнул и, обсасывая ушибленный палец, запрыгал от боли.
— По-моему, у тебя руки не оттуда выросли, — полушутя-полусерьезно заметил Николай. — Ты себя и меня покалечишь. Зажми-ка в тиски кусок проволоки, бери напильник и заостряй.
Куча блестевших отточенными концами клиньев росла. Анатолий, обычно скуповатый на похвалу, лестно отозвался о результатах нашего труда. Но, увидев ссадины и раны на моих руках, залился таким смехом, что слезы покатились по его щекам. Сквозь раскаты хохота он повторял:
— Работничек… Ну и работничек!.. Неловок ты, Борис. До смешного неловок, но это дело поправимое. Молод, учись, и из тебя еще может получиться толковый слесарь. А сейчас иди-ка домой. Помой руки теплой водой. Если есть вазелин — смажь их — и все как рукой снимет.
Около своего дома я встретил Ивана Иванченко и Алексея Онипченко.
— Второй раз приходим, а тебя все нет, — упрекнул Алексей и спросил: — Что решили?
— Завтра вечером идем. У вас все готово?
— Задание перевыполнено, — не без гордости заявил Иван. — Клиньев сделано вдвое больше.
Я сказал, что встреча назначена у входа в парк, и ребята ушли.
От боли накатывались слезы, когда отмывал теплой водой пострадавшие руки.
— Не нанялся ли ты на работу? — поинтересовалась мачеха, сочувственно глядя на мои израненные руки.
— Нет. Помогал Коле делать ручную мельницу.
В те тяжкие времена почти в каждом доме имелась примитивная мельница для грубого помола зерна. Применялись также и ступы, но ручная мельница, бог весть кем и когда изобретенная, была, конечно, более совершенным орудием.
Я видел отличные мельницы, изготовленные способными мастерами. У нас мельницы не было, и мы, обычно, одалживали ее у соседей.
— Если вы такие талантливые, сделайте и нам, — не унималась мачеха.
— У нас пока ничего не получилось, — грустно сказал я, размахивая ноющими от боли руками.
…Собравшись в парке, мы обсудили план вечерней операции. Алексею и Ивану предстояло забивать «колючки» по дороге на Краматорск, Анатолию и Павлу — на Красноармейск, а Николаю и мне — на Артемовск. Владимир выглядел плохо, у него начался грипп, и командир предложил ему остаться дома. Политрук попытался возражать, но мы дружно поддержали Анатолия, и Владимир сдался.
С наступлением сумерек мы с Николаем, спрятав под пальто молотки и клинья, двинулись к своей дороге.
Вдоль шоссе тянулась чахлая лесозащитная полоса. Оставаться в ней незамеченными было невозможно, но в нескольких километрах от города у самой дороги стоял сгоревший дом, где до войны размещался дорожно-ремонтный пункт. Там же валялась в беспорядке нехитрая по тем временам дорожная техника. Это место и стало для нас надежным укрытием. Едва собрались выйти на дорогу, как послышался шум, и тут же мимо промчались четыре больших грузовика. Когда они скрылись из виду, мы выбежали на шоссе и принялись забивать клинья. В мерзлый асфальт даже хорошо отточенные «колючки» не все лезли. Мы колотили молотками с такой силой, что искры сыпались. Некоторые клинья гнулись, и мы их отбрасывали подальше от дороги. Порой казалось, что стук разносится по всей округе, на несколько километров, и мы припадали к асфальту: прислушивались, не идут ли машины. Успокоившись, снова принимались за свое дело. «Колючки» старались забивать в «шахматном» порядке, на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Ночевали у меня, но чуть свет Николай ушел. Встретились в середине дня. Долго бродили по городу, поглядывая издали на стоявшие у обочин автомашины со спущенными шинами и погнутыми дисками, возле которых, чертыхаясь, возились шоферы.
— Хорошо, но мало, — хмурясь, проговорил Николай. — Надо, чтобы они колесами вверх взлетали. Вот тогда был бы порядок. — Помолчав, добавил: — Мама сварила гарбузовую кашу. Объедение! Пойдем к нам.
Семья была в сборе. Дядя Егор на сапожной лапке ладил набойки к ребячьим ботинкам.
Отец Николая был кадровым рабочим бутылочного завода. Еще подростком он начал выдувать бутылки, заболел астмой, постоянно кашлял. Перед войной дядя Егор работал в транспортном цехе по перевозке готовой продукции. По состоянию здоровья его сняли с воинского учета. Он был добрым, отзывчивым человеком и хорошим семьянином. Николай всегда говорил об отце с уважением, относился к нему с трогательной заботой, и родительская золя была для него законом.
В тот день дядя Егор был небрит и хмур. Тетя Валя, сидя у окна, пришивала большие заплаты-очки на брюках младшего сына. Ребята в спальне играли в «чет-нечет», отвешивая друг другу щелчки.
— Что нового, орлы? — не поднимая головы, спросил дядя Егор и зажал губами несколько гвоздиков.
— Новостей приятных нет, — со вздохом сказал Николай, усаживаясь около стола и пододвигая мне скамейку. — Говорят, что позавчера ночью в бывших овощехранилищах расстреляли несколько человек. Как будто заложников.
— Массовые расстрелы — это жуткое зрелище, — глухо сказал дядя Егор, снимая с лапки ботинок. — Я пацаном видел, как рабочих бутылочного завода расстреливали. До сих пор снится…
Он тяжело замолчал, положил на пол молоток и начал осматривать второй ботинок.
— Дядя Егор, расскажите, как это было.
Он уселся поудобнее и, держа в руках ботинок, задумался. Шумевшие до этого ребята умолкли, прислушались.
— Бутылочный завод был построен бельгийцами-акционерами в конце прошлого века. Условия труда были нечеловеческие, техника производства отсталая, работали возле горячих ванн без вентиляции. Рабочие бунтовали устраивали стачки. Бутыляне — народ дружный, отчаянный. До революции первый профсоюз в городе организован на нашем заводе, и большевиков у нас было больше, чем на других. Революционер Якусевич, именем которого назван парк, тоже наш рабочий. Во время революции на заводе были созданы вооруженные боевые дружины, объединившиеся потом в партизанский отряд. Отец Анатолия Стемплевского был красным партизаном. Я тоже хотел записаться, но по малолетству не приняли, — дядя Егор вздохнул, посмотрел на жену, которая ловко орудовала иглой.
— За время гражданской войны наш город раз десять переходил из рук в руки, но завод работал. В середине января 1919 года, а по старому стилю — перед самым Новым годом, днем против бутылочного завода на железнодорожной магистрали остановился белогвардейский бронепоезд, прискакали казаки и окружили завод. У проходной поставили пулемет. Время приближалось к дневной смене. Тревожно ревел гудок. В завод пропускали, но обратно не выпускали. На внутризаводской площади рабочих выстроили в два ряда. Белогвардейский капитан потребовал выдачи большевиков и активистов. Но не такие бутыляне, чтобы выдавать товарищей. Упорное молчание взбесило капитана, и он для устрашения застрелил одного рабочего. Но люди не дрогнули. Каратели начали отсчитывать каждого десятого. Обреченных вывели с территории завода, поставили под стеной конюшни и на глазах сбежавшихся жителей колонии расстреляли. Погибло тринадцать человек. Расстрелянных похоронили недалеко от места казни. Потом завод был назван именем 13 расстрелянных рабочих. Вот и вся история, — закончил дядя Егор.
— Па, а что потом с беляками было?
— Их красные наголову разбили и капитана ухлопали.
— Так им и надо!
— Мы, бутыляне, и перед войной были не последними, — снова заговорил дядя Егор, — по многим линиям тон задавали. К нам даже сам Всеукраинский староста Григорий Иванович Петровский приезжал награды вручать. Вот как! А теперь что?
Наступила тишина. Мальчишки уловили раздражение в голосе отца и присмирели. Николай тяготился молчанием и робко спросил:
— Пап, а сколько населения было в городе до войны?
— Более ста тысяч. Все-таки около десятка заводов насчитывалось. А тебе зачем?
— Просто так.
— Отец, кончай ремонт, пора обедать, — отозвалась тетя Валя.
— Хлопцы, мойте руки, — строго приказал дядя Егор.
Ели молча, Каша из тыквы действительно была очень вкусной. Провожая меня, Николай напомнил:
— Завтра снова будем делать клинья.
ЛИСТОВКИ
Высоко в небе парил самолет. Опознавательные знаки различить было невозможно, но по гулу мотора мы уже научились распознавать самолеты — это был наш. Немецкие часто пролетали над городом, а наши появлялись до обидного редко. Мы вчетвером стояли около парка и, ежась от холода, не отрывали глаз от самолета-разведчика.
— Я, кажется, даже звездочки вижу, — обронил Николай.
— Это потому, что тебе их очень хочется увидеть, — как бы невзначай заметил Алексей Онипченко.
Неожиданно звук мотора пропал, самолет резко начал снижаться, и мы отчетливо увидели на крыльях звезды. Красные звезды! Но почему он так резко опускается, почти падает, не случилось ли чего?.. Вдруг самолет выравнялся и, ревя мотором, понесся над городом. И тотчас мы увидели, что позади него осталось небольшое густое облако, которое, рассеиваясь, медленно опускалось к земле. Самолет скрылся за горизонтом, а мы, как завороженные, смотрели на оставленный им непонятный след.
— Листовки, листовки! — вдруг закричал Николай. Кружащиеся листовки, сброшенные над центром города, ветер относил к северной окраине.
— Айда, ребята! — скомандовал Анатолий.
Чтобы не бежать всей группой, мы с Алексеем немного отстали. Когда приблизились к Червонному хутору, мимо нас по шоссейной дороге промчалось несколько мотоциклов с колясками, потом проскакала группа всадников, а вслед за ними по заснеженной обочине дороги пролетели сани с полицейскими.
— Облава на листовки, — сердито сказал Анатолий. — Боятся, сволочи, чтобы народ правду не узнал. Пошли, ребята, назад, а то и нас загребут.
Возвращались молча. Было так досадно, что говорить не хотелось.
На следующий день мы с Владимиром пришли к Анатолию. В доме командира пахло жженой канифолью и еще чем-то непонятным.
— Паял, — сказал Анатолий и открыл форточку, — Николая у вас не было?
— Нет.
— Ушел из дому ни свет ни заря и до сих пор нет.
Я дважды ходил к нему. Как в воду канул.
Да, было от чего тревожиться. Николай мог решать такие житейские задачи, которые мы, ребята его возраста, предпочитали разрешать вдвоем или группой. Когда ты с товарищами, то становишься смелее. Он же без колебаний один шел в разведку, в засаду, на любое трудное и рискованное дело. Мы поняли состояние командира, и нам передалось его беспокойство.
Анатолий свернул в рулон матерчатую тканую дорожку, поддел немецким штыком доску пола, приподнял ее, потом еще одну и вытащил из подполья радиоприемник. Включил его. Послышался легкий треск, свист, потом тихо, но отчетливо поплыли звуки марша. Мы не первый раз слушали передачи из Москвы, но всегда нами овладевало какое-то особое чувство волнения, торжественности и гордости. Владимир, как всегда в подобных случаях, порозовел, глаза засветились радостью.
— Вы слушали марши русских композиторов, — сказал диктор, а после небольшой паузы так же спокойно и уверенно, но с особой значимостью объявил: — От Советского Информбюро. В последний час.
Слышимость была хорошая, но мы все же невольно тянулись к приемнику, хотелось быть ближе к Москве, к человеку, который передавал радостные вести. А он называл и называл освобожденные от фашистов населенные пункты, перечислял количество сбитых самолетов, уничтоженных танков и потери противника в живой силе.
Хотелось выскочить на улицу и во весь голос закричать: «Люди, не падайте духом, скоро конец фашистам! Красная Армия их бьет! Давайте ей помогать!».
Диктор умолк, снова зазвучал марш. Анатолий выключил приемник, быстро спрятал его:
— Сегодня больше нельзя. Скоро придет мать.
Мы все любили тетю Катю. Немного сварливая и суетливая, она была человеком добрым, отзывчивым и смелым. Ее хлебосольство и внимательность поражали. Если, бывало, мы собирались у Анатолия и закрывались в его комнате, то она всегда осмотрит наши фуфайки, пришьет недостающую пуговицу, укрепит петельку для вешалки. Обязательно угостит жареными семечками или кукурузой, а случался хлеб — непременно попотчует. Берегли мы ее и поначалу старались держать подальше от наших дел.
Кто-то постучал в окно условленным сигналом. Анатолий приоткрыл занавеску и засиял. Мы поняли: пришел Николай.
— Где тебя нелегкая носила? — стараясь казаться сердитым, спросил его Анатолий.
— Где был — там уже нет, — весело, но устало отозвался Николай и, лукаво подмигнув, достал пачку бумаг из бокового кармана пиджака.
Мы замерли. Это были листовки!
Политрук взял одну и начал читать вслух. «К советским юношам и девушкам занятых немцами областей Украины…»
В листовке говорилось о победах Красной Армии, о зверствах фашистов на оккупированной территории, о деятельности партизан в тылу немецких войск. Заканчивалась она словами: «Делайте все возможное, чтобы ускорить свое освобождение! Смело и мужественно боритесь против проклятого врага! Смерть немецким оккупантам!»
Голос его дрожал и звучал непривычно. Слова «Прочитав, передай товарищу!» он произнес, как призыв — громко, с подъемом.
— Есть прочитать и передать товарищам! Прочитаем на общем сборе. Несколько штук расклеим в городе. Остальные раздадим надежным людям, пусть читают и передают другим.
— А теперь рассказывай, где достал? — сказал политрук.
— Едва развиднелось, я сразу подался на Червонный хутор. Обошел улицы. Прошел по садам и огородам. Нигде ни шиша. Пошел в сторону Веролюбовки. И вдруг… вижу — под кустом бумажка белеет. У меня даже руки задрожали. Поднял — точно, она, листовка! Ну и пошел я колесить по всей округе. Снег блестит — аж глазам больно, а я мотаюсь как угорелый по полю, но все напрасно. Кругом снег истоптан коваными сапогами и конскими копытами, вдоль и поперек санные следы. Увидел большое черное пятно, подошел — следы костра. Думаю, здесь листовки жгли. Иду дальше. Каждый кустик, каждую впадину осматриваю — и все безрезультатно. Потом под скирдой соломы увидел две листовки. Немного повеселело на душе — все же не с пустыми руками возвращаться придется. Умаялся добре, решил возвращаться. Иду, еле плетусь и уже никуда не гляжу. Почти у самого города остановился отдышаться. Огляделся и неожиданно увидел на обочине что-то присыпанное снегом. Ковырнул носком сапога и ахнул: листовки! А рядом след санок. Видно, насобирал какой-то меняльщик (* — Меняльщиками называли тех, кто возил в села домашние вещи для обмена на продукты. (Здесь и далее примечания автора), а когда увидел немцев и полицейских, спрятал около дороги. — Николай помолчал. — Вот понаблюдать бы, кто вернется за ними. Может быть, нужный человек? — он глубоко вздохнул и добавил: — Очень захотелось вам поскорее листовки доставить, обрадовать. Летел, как на крыльях. Жаль, мало — двадцать шесть штук.
Мы разошлись счастливые и гордые.
Вообще-то Николай в то время не придавал большого значения распространению листовок. То, что он с таким упорством искал их, объясняется интересом к тексту и азартностью его натуры. Он всегда добросовестно писал листовки, расклеивал их иногда в самых опасных местах, но относился к этому без огонька, почти по принуждению. Поначалу и я в какой-то мере разделял его взгляд. Удовлетворения «бумажная война» мне тоже не приносила.
Политрук неустанно повторял, что листовки нужны, они помогают людям преодолеть растерянность, пробуждают стремление к борьбе. Немцы оболванивают население лживой пропагандой, а мы разоблачаем их брехню.
Возвращаясь как-то с собрания, Николай сказал:
— Политрук о листовках говорит красиво. Возможно, он прав, но хочется больших и настоящих дел. Таких, чтобы у фашистов волосы дыбом встали! А мы размахиваем бумажками. На них немцы, наверное, даже не обращают внимания.
В течение первого года оккупации Константиновки мы не один раз расклеивали листовки, написанные от руки или сброшенные нашей авиацией. Также распространяли и сводки Совинформбюро, которые писали на засвеченной фотобумаге, где-то раздобытой нашим командиром. Однажды Николай приклеил листовку даже у самого входа в полицию. Но мы недоумевали: почему оккупанты никак не реагируют на появление враждебных «новому порядку» листовок?.. Высказывались различные догадки. На одном из общих сборов кто-то предположил, что о них полиция просто не докладывает коменданту и шефу жандармерии.
Потом эта мысль подтвердилась. Работавший в полиции знакомый Николаю парень как-то рассказал, что руководство полиции, боясь гнева коменданта и шефа жандармерии, скрывало случаи появления листовок, хотя само принимало интенсивные меры к розыску подпольщиков. Сообщить немцам о листовках и сводках Совинформбюро оно собиралось после того, как поймают кого-нибудь «из большевистских наемников», так называли патриотов. Помышляли даже получить награду… Но до конца 1942 года об этом мы ничего не знали.
И все же под влиянием политрука у меня изменилось отношение к листовкам. Правда, тому способствовали и другие обстоятельства. По этому поводу мне хотелось поговорить с Николаем, да все не было подходящего случая. Но однажды сидели мы у нас во дворе и разговаривали. Вдруг женский голос спрашивает:
— Боря, а дэ маты?
— Пошла на огород, — ответил я и подтолкнул Николая: посмотри, мол, на эту женщину.
— Хай завтра прийдэ до мэнэ.
Она скрылась за калиткой, а я взглянул на друга и тихо предложил:
— Хочешь, расскажу тебе одну историю? Раньще эта старуха жила рядом с нами. Перед войной переехала на Червонный хутор, в двух километрах отсюда. Зовут ее все, от мала до велика, Романовной. Она неграмотная, но толковая и очень бедовая. Пришла однажды к нам и о чем-то долго шепталась с мачехой на кухне. Потом позвала меня, спрашивает: «Ты буквы щэ нэ забув?» — «Нет, не забыл», — «Тогда почитай нам». Романовна достала из-за пазухи потертый листок бумаги и подает мне. Развернул — наша листовка. Виду не подал, что бумажка знакомая, начал читать. В одном месте нарочно сбился и слова попутал. «Нэ брэши! — прикрикнула бабка. — Там нэ так напысано». А я и говорю: «Откуда вы знаете, вы же неграмотная?» — «Нэграмотна, та нэ дурна! — огрызнулась Романовна и, ткнув пальцем в листовку, приказала:-Читай!» Дочитав до конца, я аккуратно свернул листовку и предостерегающе сказал: «Ходить с такой бумажкой опасно. Немцы найдут — по головке не погладят». — «Ты мэнэ нэ лякай! — гневно оборвала старуха, а затем осеклась и, немного помолчав, таинственно добавила: — Якось найшла на вулыци цэй лысток, а прочитаты нэ можу, бо тэмна, нэграмотна. От и зайшла до вас, щоб прочиталы, про що воно там напысано». — «Вам ведь уже читали?» — попытался я уличить ее. «Нихто, нихто нэ читав», — отказалась Романовна и, покачав головой, что-то пробормотала себе под нос. А потом заявила, что дома сожжет листовку в печке, но пошла не домой, а к соседям. И мачеха потом говорила, что Романовна уже две недели носится по знакомым и всем предлагает прочитать бумажку «только что найденную на дороге», а текст листовки давно знает наизусть… Примечательный случай, правда? — спросил я.
— Да, да, — рассеянно ответил мой друг и заторопился домой.
Спустя некоторое время я встретился с Николаем у политрука. Владимир куда-то спешил и, немного проводив его, мы решили пойти к одному из щитов, где вывешивался листок украинских националистов под названием «Ввдбудова». Рядом всегда приклеивались информационные сообщения главной штаб-квартиры фюрера о действиях германской армии на всех фронтах. В них приводились фантастические цифры потерь Красной Армии и всячески раздувались успехи гитлеровских войск.
— Около этих бумажек недостает одного небольшого листочка, — как бы невзначай заметил я.
— Пожалуй, — быстро уточнил Николай, — нашей листовки.
Тут же я рассказал, как недавно встретил парня, с которым до войны занимался в секции бокса. Он под большим секретом поведал, что в городе какие-то смельчаки распространяют листовки и он хочет установить с ними связь. Я ответил, что это, наверное, дети «играют в войну», а настоящие партизаны такими пустяками заниматься не станут. Парень соболезнующе посмотрел на меня, повертел пальцем у виска и ушел.
— Значит, тебя за порядочного человека не принял? — улыбнулся Николай. Потом подозрительно глянул на меня: — Да, ты интересные истории рассказываешь. Не политрук ли поручил? А? — И неожиданно рассмеялся.
В конце 1942 года Николай принес мне новый текст листовки. Надо было написать десять штук. Закрывшись в комнате, мы начали выводить ровные печатные буквы. Вдруг Николай оторвался от работы и заговорил:
— Вот пишу — и думаю: какой умный учитель — жизнь. К листовкам я относился плево, и никому не удавалось меня переубедить, в том числе и тебе. А вот жизнь заставила изменить свои взгляды.
Друг был в хорошем настроении, чувствовалось, что ему хочется поговорить. Вообще, он не был словоохотливым, но иногда его «прорывало». Усевшись поудобнее и посмотрев на дверь, он продолжал тихо, почти шепотом:
— У нас есть сосед дядя Вася. Человек уже пожилой, работал бригадиром автослесарей. Он частенько приходил к нам поговорить с отцом. Они очень уважали друг друга, но почему-то всегда спорили по всякому пустячному поводу. Он говорил, что раньше, в дни его молодости, было лучше, народ жил веселей и легче, а отец доказывал, что Советская власть сделала людей счастливее. В споре они иногда доходили до личных оскорблений, стучали кулаками по столу, но никогда не обижались и если не виделись более трех дней, оба томились. Повстречавшись, они снова спорили и ссорились. Сразу после начала войны дядя Вася говорил, что немцы победить нас не смогут. Но когда оккупанты зашли в город, он осунулся, заметно постарел и перестал ходить к нам. Как-то увидев меня, спросил об отце. Я сказал, что отец болен. Дядя Вася пришел к нам. В беседе с отцом он прослезился и утверждал, что немцы окончательно разбили Красную Армию и победа Германии приведет к уничтожению России. Признался, что стал верить в бога и ходить в церковь, где священник называет большевиков иродами, антихристами и проповедует смирение и рабское повиновение защитникам христианской веры, избавителям от власти лукавых. На возражения отца только качал головой и разводил руками, но в спор не вступал.
Однажды дядя Вася прибежал к нам запыхавшийся, возбужденный и рассказал о листовке, которую прочитал в городе. Он с жаром говорил о разгроме немцев под Москвой, о наступлении Красной Армии. Его удивляло и радовало, что есть люди, которые не боятся немцев, заботятся о народе, призывают к борьбе. Ушел он веселым. Недели через три дядя Вася пришел к нам встревоженный и сказал, что его вызывают на биржу труда. Потом, спустя несколько дней, он вновь появился у нас, но с перевязанными кистями рук. Не скрывая радости, рассказал, что немецкий офицер — шеф биржи труда — предложил ему разыскать человек десять слесарей и организовать ремонтную бригаду. Как бригадир он будет получать хороший паек и зарплату немецкими марками. Надо было пройти медицинскую комиссию и через несколько дней явиться снова к шефу. В тот же вечер дядя Вася кислотой обжег себе руки и, промучившись всю ночь, пошел на медосмотр, где ему дали справку: к работе не пригоден. Прочитав бумагу, шеф рассвирепел, угрожал расстрелом за саботаж, но потом смягчился и заявил, что выдаст хорошие перчатки и бинт, пусть только дядя Вася организует бригаду и руководит ею, а работать будут другие. Дядя Вася сказал, что не хочет даром есть немецкий хлеб, у него еще больные глаза, и он не сможет следить за качеством ремонта, а власти подумают, что он вредитель. Шеф озверел, дважды ударил линейкой по больным рукам, обещал отправить в гестапо. Но старик стоял на своем: не могу, и крышка. К великому удивлению жены он вернулся домой без должности, а в воскресенье не пошел в церковь. С тех пор он каждое утро ходил по городу в поисках листовок, которые стали теперь для него необходимы как воздух. Вообще, за последнее время он приободрился, повеселел. Я ему иногда по секрету говорю, что, мол, слыхал от сведущих людей те или другие новости. Ты бы видел, как он преображается!
Закончив работу, мы внимательно осмотрели листовки, пятна от рук тщательно вытерли полуистертой ученической резинкой. Это условие было обязательным, наш командир неустанно твердил: «Отпечатки пальцев могут погубить все». Николай, ловко орудуя резинкой, с грустью вспомнил:
— Из-за хорошего почерка меня всегда выбирали в редколлегию стенгазеты. Такие, как на листовках, помарки я тогда подчищал мякишем белого хлеба. Нынешним хлебом не то что бумагу, но и стекло можно поцарапать.
Сняв сапог, он под штанину спрятал листовки, обулся и ушел.
ШКОЛА МЕДСЕСТЕР
До войны каждую осень Николай ловил птиц. Он знал их повадки, любимый ими корм; свистом искусно подражал щеглам, синицам, реплам и мог целый день просидеть в укрытии, ожидая удачи. В квартире среди разноголосого гомона он безошибочно распознавал голос каждой пичуги. Николай мастерил красивые клетки и охотно дарил их с пернатыми жильцами, но всегда ставил условие: весной птиц выпускать на волю. И сам строго придерживался этого правила.
Когда в город вошли оккупанты, у Николая в квартире висело три клетки с птицами. Кормить их было нечем, и он без сожаления выпустил голосистых невольников.
Но больше, чем птиц, Николай любил собак. Он редко докосил до школы бутерброды, которые брал с собой. Бездомные Шарики и Жучки, виляя хвостами, сопровождали его в пути, им-то и доставались обеды.
Года за два до войны Николай у кого-то раздобыл щенка. Ему сказали, что родители щенка хорошей породы, очень красивы, легко поддаются дрессировке и, мол, отпрыск вырастет под стать предкам. Николай назвал его звучным и грозным именем — Барс. Песик плохо ел, часто болел, его одолевали блохи, но заботливый хозяин мыл, чесал его, ухаживал за ним с трогательной нежностью.
Щенок подрастал, и Николай все больше и больше обнаруживал в Барсе признаки обыкновенной дворняжки. То ли, даря щенка, Николая разыграли, то ли тот, кто дал щенка, сам был введен в заблуждение, но, как бы там ни было, Барс вырастал обыкновенным, совсем непородистым и далеко не красивым псом.
Николай к надоедливым и подчас грубым подковыркам относился терпимо, даже философски. Когда я однажды сказал, что Барс похож на чеховскую Каштанку, намекая на дворняжье происхождение, он не обиделся:
— Ну и что? Разве Каштанка становится хуже оттого, что она не благородных кровей? Преданность хозяину — вот что ценно в собаке. Ты посмотри ему в глаза, какие они умные и доверчивые.
Барс был рыжеватой масти, концы свисавших ушей и середина лба были у него белыми, хвост бубликом. Николай утверждал, что по хвосту точно узнает настроение Барса: если машет им широко, то сыт и весел, а когда лихорадочно помахивает кончиком —..стало быть, нашкодил и подлизывается; опущенный и неподвижный — значит, обижен или голодный. Не знаю, насколько наблюдения были верны, но я верил другу.
Николай ходил с Барсом на рыбалку, ловлю птиц, Учил его «служить», приносить различные предметы, брать след. Нельзя сказать, что псу легко давалась «грамота», но Барс усердно выполнял команды. Бывало, Николай не упускал случая, чтобы показать товарищам пса и очень огорчался, если тот не исполнял его приказов или же делал что-то неправильно.
— Молод еще, но задатки в нем большие, — оправдываясь, говорил Николай, нежно поглаживая рыжеватую спину четвероногого питомца, повизгивающего от удовольствия.
Захватчики принесли в город бесправие, террор, голод. Многие горожане, в том числе и семья Николая, питались плохо, иногда по нескольку дней не видели, хлеба, запасы картошки и свеклы были мизерными, кукурузу берегли про черный день. Николай сам безропотно переносил голод, но с болью смотрел на истощенного Барса. Тайком от родителей подкармливал его тем, что доставалось самому.
Возвращаясь от Павла Максимова с Барсом, Николай проходил мимо бывшей школы медсестер, которую немцы превратили в казарму: в учебных классах разместились солдаты, в спортивном зале — конюшня. Во дворе стояла походная кухня, а около нее рубил дрова бородатый мужчина в фуфайке. Небольшая котельная парового отопления, находившаяся в подвале, подогревалась дровами и книгами из библиотеки. Хромоногий кочегар, грязный и всегда сонный, жил там же, в котельной, питался солдатскими объедками и безжалостно ломал заборы во всей округе для котельной и солдатской кухни.
Барс, визжа и заискивающе помахивая хвостом, норовил приблизиться к кухне, куда его манили соблазнителньые запахи. Николай уступил домогательствам четвероногого друга и по недавно протоптанной дорожке пошел через двор школы. Барс бежал впереди и вдруг недалеко от кухни остановился, робко гавкнул и у самой дорожки начал разгребать снег. Схватив что-то зубами, он хотел извлечь находку из-под снега. Николай сошел с дорожки и увидел торчащую кость. Пытался поднять, но не тут-то было: кость крепко примерзла к земле. Он резко дернул ее, и в руках оказалась задняя нога крупного животного.
Немцы, отбирая у населения коров, свиней и прочую живность, забивали их около своих походных кухонь, а кости тут же недалеко выбрасывали.
Мякоть с найденной ноги срезана небрежно, и Барсу было чем поживиться.
Дома Николай порубил кости, сложил в старую кастрюлю и сварил — Барс неделю был сыт до отвала.
С тех пор они не раз проходили через двор школы, и Барсу иногда удавалось отыскать какую-нибудь снедь.
Как-то Николай сказал мне, что задумал поджечь школу медсестер и, мол, сделать это можно без риска: ночью охраны нет, подойти незаметно легко.
Одноэтажное длинное здание из серого камня, с большими венецианскими окнами, построенное еще бельгийскими акционерами, стояло особняком. Левее, с тыльной стороны, начиналось старое кладбище. Во дворе недалеко от входа дымилась кухня. Справа, ближе к пристроенному спортзалу, возвышалась копна сена и рядом стояло около десяти крытых брезентом повозок.
— Чтобы в метель не выходить во двор за сеном, немцы вот такую же копну занесли в раздевалку спортзала. Там же рядом библиотека, где еще осталось немного книг. Если поджечь сено в раздевалке, огонь быстро перекинется в библиотеку и конюшню, загорятся брички, сено во дворе.
Его тон мне показался слишком самоуверенным. По плану Николая получалось, что всякая случайность исключалась и события непременно будут развиваться только так, как он наметил. Это мне не понравилось.
— Чтобы незаметнее подобраться, надену белую накидку или халат..
— Да, да, — рассеянно проговорил я и еще раз посмотрел на солдатское общежитие. — Мне не нравится, что ты очень самоуверен. Так ли все будет, как ты предполагаешь? Наверное, надо продумать и другие варианты.
Николай неожиданно рассмеялся, хлопнул в ладоши и остановился. Я, недоумевая, пожал плечами.
— Так и знал, — говорил он, не переставая хохотать. — Думаю, обязательно скажешь, что, мол, самонадеян, легкомыслен и все такое. Ведь я нарочно говорил так, а ты клюнул… Ха-ха-ха…
Я смутился. Унявшись, Николай сказал:
— Поджигать думаю так: сперва оболью сено бензином, потом брошу банку с зажженным мазутом и — хода!
— Но ведь окна застеклены?
— Это ерунда. Густо намажу солидолом тряпку, приложу к стеклу, стукну кулаком — и стекло беззвучно разобьется.
Оказалось, Николай все предусмотрел.
Он проводил меня до самого дома:
— После операции буду ночевать у тебя. У нас в колонии немцев много, а у вас тут благодать.
Во второй половине следующего дня Николай пришел ко мне бледный.
— Что случилось? — испугался я.
— Немец застрелил Барса. У самых моих ног… Голос Николая срывался, и только большим усилием воли он удерживал себя, чтобы не заплакать.
Откровенно говоря, по виду друга я ждал более страшного известия. Я не стал докучать расспросами, и мы долго бродили молча, хотя меня подмывало узнать, как же это случилось? Николай постепенно успокоился, тихо заговорил:
— В городе много пьяных немцев, рождественские праздники отмечают. Шел я мимо хлебозавода, Барс все время бежал рядом, а потом отстал. Вдруг залаял, я обернулся: недалеко здоровенный ефрейтор стоял около дерева и на виду у людей бесстыдничал. Барс лаял на него. Немец вытащил пистолет… — Николай осекся, тяжело вздохнул, зло бросил: — Сегодня же подожгу казарму!
Я возразил: запальчивость, мол, плохой союзник в рискованном деле.
— Если хочешь сегодня, то давай вдвоем. Пойдем к Стебелю и потолкуем. Хорошо? — закончил я.
— Вдвоем там нечего делать. Одному и удирать легче.
Через два дня Николай пришел ко мне под вечер. Ветер, бросаясь колючим снегом и угрожающе завывая, носился по городу.
— Ну и погодка, — проворчал я, сметая веником снег с фуфайки друга. — Говорят, что в такую погоду черти женятся.
— Я у людей на свадьбах не бывал, а у чертей и подавно, — улыбаясь проговорил Николай и уже серьезно спросил: — Это куда спрятать?
Он протянул что-то завернутое в серую тряпку. Я вопросительно посмотрел на сверток.
— Белая накидка. Бутылка с бензином. Банка с солидолом.
Спрятав в кладовке сверток, мы вошли в комнату. В кухне брат водил пальцем по книге и вслух читал стихи Некрасова. Мачеха напряженно слушала, стараясь постичь содержание стиха, так безжалостно искажаемого горе-чтецом.
— Сегодня? — нетерпеливо спросил я, усаживая друга в спальне около открытой духовки.
— Да, — твердо сказал Николай.
Когда стемнело, я закрыл наружные ставни, зажег керосиновую лампу и сел рядом с другом.
— Берите лампу и идите ужинать, — донесся голос мачехи.
Ели пареную макуху со свеклой, запивая юшкой, в которой варилась свекла.
Мачеха зажгла светильник (фитиль в блюдце с подсолнечным маслом), а мы с лампой пошли в спальню играть в шахматы. Брат, зевая, смотрел, как мы переставляли фигуры, клевал носом, а потом ушел на кухню. Николай выиграл партию, от удовольствия потер ладони и, взглянув на часы, сказал:
— Пора. Пока доберусь, часок посижу в сгоревшем доме. Там облачусь в маскхалат и начну двигаться к цели. Пожар ты, наверное, увидишь раньше, чем я возвращусь.
Мы вышли. Николай, надевая мои рукавицы, похлопал ими, крякнул от удовольствия и, взяв сверток, сказал:
— Мне теперь и Северный полюс не страшен.
— Ты не заносись особенно, будь осторожен, а то…
— Не учи ученого кушать хлеба печеного, — весело прервал он меня и вышел за калитку.
Ветер свирепствовал вовсю. Я немного походил по двору, озяб и зашел в дом. Поставив на скамейку лампу, лег на диван и начал читать стихи Некрасова. Даже любимый поэт не увлекал: я то и дело поглядывал на часы, прислушивался к завыванию ветра и снова брался за книгу, но стрелки часов, как магнит, притягивали взор, и я, наблюдая за ними, старался предугадать: что же делает друг в этот момент?
Прошло два мучительных часа. Одевшись потеплее, я вышел во двор и, найдя затишье, стал смотреть в сторону школы медсестер. Вдруг по небу вроде бы промелькнул розовый отсвет и сразу же исчез. «Наверное, мне показалось», — подумал я, но сердце учащенно забилось. Через минуту небо окрасилось в красный мерцающий цвет.
— Молодец Колька, — вырвалось у меня, но тут же к чувству радости Примешалось беспокойство: что с другом?
Я выглянул из калитки. На посветлевшей от пожара улице было пустынно. Но вот показался неясный силуэт, и по мере его приближения я понял — это Николай. Забежав во двор, он в изнеможении упал на сугроб. Отдышавшись, весело сказал:
— Докладываю: задание выполнено. Имеются потери — потерял твою рукавицу.
— Идем в дом, ты потный, можешь простудиться. В коридоре Николай снял маскхалат, я спрятал его.
Мои домашние спали. Друг выпил две кружки воды и, улегшись на кровать брата, спавшего на кухне с мачехой, тихо сказал:
— Анатолий и Владимир наверняка сейчас не спят и думают, а что же со мной?
— Точно, — подтвердил я.
— Завтра же раненько пойдем к Анатолию.
— Это будет уже сегодня. Расскажи мне, как все было?
— Утром. Я очень хочу спать. Друг уснул сразу же. Вскоре задремал и я. Меня разбудила мачеха.
— Вставай, вставай, — шептала она, теребя меня за руку.
— Что случилось? — испуганно спросил я, вскакивая с кровати.
— Ребята пришли.
Николай лежал на боку, свернувшись калачиком, рот полуоткрыт, дыхания не слышно. Надев сапоги на босу ногу, я выскочил во двор. Командир и политрук почти в один голос выпалили:
— Коля у тебя?
— У меня. Спит.
Ребята заулыбались. Владимир тихо спросил:
— Разбудим или пусть спит?
— Смотрите, — весело сказал Анатолий и указал пальцем на окно, где сквозь морозные узоры виднелось лицо Николая.
Мы зашли в дом. Попросили Николая рассказать, как все было.
— Все просто. Подошел к сгоревшему дому недалеко от школы, спрятался там. Из-за пурги ничего не видно, все вокруг как пеленой закрыто. Напялил на себя маскировку и пополз. Добрался благополучно, лег с затишной стороны возле стога сена и замер. Намазал на тряпку солидол, подошел к окну и начал прилеплять. Почему-то не приклеивается. Придавил сильнее, слышу: стекло-«хрусь!» — и рука провалилась внутрь. Достал из кармана бутылку, засунул руку по локоть в окно, расплескал бензин. Тряпку поджег и швырнул в окно, а сам пулей кинулся прочь. В пути два раза падал и потерял рукавицу Бориса. Вот и все.
Николай рассказывал просто, без тени бахвальства или рисовки. На первый взгляд могло показаться, что операция была легкой, не рискованной.
— Из чего ты маскхалат сделал? — полюбопытствовал политрук.
— Из простыни, а на голову наволочку надевал. Простынь с одной стороны разрезал, чтобы вокруг ног обмотать, а теперь придется выбросить. Наволочку выстираю и положу на место.
— А если спросят о простыне?
— Скажу, не брал.
Николай смущенно улыбнулся и опустил голову. Мы переглянулись. Анатолий встал, прошелся по комнате, остановился около Николая, спросил:
— Одежду не прожег? В солидол не выпачкал?
Николай посмотрел на меня и, вставая, неуверенно ответил:
— Кажется, нет. Не должно быть.
Мы осмотрели его с ног до головы. Я принес фуфайку и шапку. Нигде ничего подозрительного мы не обнаружили.
— Мы с Володей пройдемся мимо пожарища, — уходя, сказал Анатолий. — Вы через час приходите ко мне.
Позавтракав, мы с Николаем направились на Бутылочную колонию. Настроение у него хорошее, бодрое. Он улыбался, поглядывал на меня, явно сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Я делал вид, что не замечаю этого.
— Помнишь, ты в шестом классе у Степы Сечкина взял рукавицы для игры в снежки и потерял их? — напомнил мне Николай. — Степу дома наказали, а ты ему потом альбом с открытками отдал вместо рукавиц.
— Ну и что здесь смешного? — удивился я.
— Сколько в альбоме открыток?
— Штук сорок.
— Значит, за одну рукавицу я тебе должен двадцать открыток. После войны отдам.
— А альбом?
— И альбом получишь. Сполна рассчитаюсь.
Анатолий был дома один. Он встретил нас сдержанно, но глаза были радостными.
— Как там?
— Пор-рядок! — командир улыбнулся. — Пепелище до сих пор дымится. Рассказывают, что немцы из окон в белье выскакивали и босиком в соседние дома убегали. Утром несколько человек в госпиталь отправили. Погорело оружие, обмундирование, три повозки, две обгорелые лошади лежат.
Провожая меня домой, Николай грустно сказал:
— Барса жаль… Очень хотелось, чтобы застреливший его ефрейтор жил в школе и после пожара босой по снегу бегал, а потом в госпитале сдох. Я его пьяную рожу долго помнить буду. Может, еще доведется встретиться с этим фашистом в темном месте.
НА МЕЛЬНИЦЕ
На Дмитриевском поселке три предприимчивых константиновца, раздобыв где-то каменные жернова и старый, американского производства двигатель, открыли мельницу в здании бывшего магазина. Оккупационные власти всячески поощряли частно-предпринимательскую деятельность, она даже возводилась в ранг политического акта: вот, мол, Советская власть такую инициативу преследовала, а при «новом порядке», пожалуйста, — дерзайте и богатейте.
На мельнице всегда толпился народ, и Николай часто наведывался туда, прислушивался к разговорам, отыскивал малейшую возможность хоть чем-нибудь насолить врагам.
Однажды, обнаружив у входа в мельницу два объявления, написанных со множеством ошибок неуверенной рукой, он схожим почерком написал листовку и рано утром прикрепил ее рядом. Хозяева не обратили на нее внимания, но когда мы с Николаем в середине дня пришли туда, около объявлений стояло несколько человек. Пожилой длинноусый мужчина водил толстым и коротким пальцем по листовке и по слогам приглушенно читал:
— Красная Армия не разгромлена. Временные неудачи не подорвали ее боевого духа… фашисты это скоро… скоро ощутят на своей шкуре.
Он умолк, посмотрел по сторонам. Остановил взгляд на Николае, почему-то погрозил ему пальцем и вновь продолжал чтение, но чуть глуше. Вдруг кто-то из рядом стоящих хрипло сказал:
— Полицай на санях едет. Сорви листовку, а то нам всем влетит.
— Черт его несет, — сказал читавший, сорвал листовку, бережно сложил ее, спрятав в шапку, прибавил строго:
— Если кто скажет про листовку — головы не сносить, — и потряс кулаком, величиною с пудовую гирю.
Около мельницы остановились розвальни. Сидевший на мешках с зерном полицейский соскочил с саней. В ухарски заломленной барашковой шапке, в отороченной мехом бекеше, в обшитых кожей фетровых сапогах он выглядел вызывающе праздничным. Оглядел всех, заговорил свысока, улыбаясь:
— А ну-ка, мужички, снесите мешки, а я за это сигаретками попотчую.
Никто не шевельнулся. Длинноусый мужчина толкнул в плечо рябого соседа, сутулого, с перевязанной платком щекой. Тот приложил ладонь к опухшей щеке и отвернулся. Николай, ковыряя носком сапога снег, исподлобья посмотрел на меня.
— Чего же вы? — поторопил полицейский.
Стоявший позади всех мужик в старом дубленом полушубке вдруг рванулся к саням. Проворно схватил мешок, крикнул:
— Не смей больше никто, я сам… один! Переносив мешки, он выжидательно застыл перед полицейским. Тот достал из кармана галифе пачку сигарет. Посчитал их, одну заложил себе за ухо, вторую закурил, остальные протянул мужику.
— Благодарствую!
Полицейский всмотрелся в него.
— Тебя Сашком зовут? Ты при Советах грабарем работал?
— Точно так, — пряча в полушубок сигареты, ответил тот. — На собственной лошадке извозничал. Теперь тоже можно было бы на ней подзаработать, да красные лошадку захватили. Обезлошадел я.
— Чего врать-то, что красные взяли. Сам же сказывал, что немец отобрал, — вмешался длинноусый мужчина.
— Сашко, иди к нам, в полицию. И лошадь будет, и кое-что еще, — посулил полицейский и, куражась, продолжал. — Встал бы из могилы мой батька да поглядел на меня…. Кем я был? А кем стал! Возрадовался бы старик.
— А разве он умер? — спросил мужчина с перевязанной щекой.
Полицейский со злобой посмотрел на него:
— Его большевики сгноили на Соловках. Поди слышал, что он в председателя сельсовета стрелял?
— Слышал я такое, — вздохнул мужик.
— Жаль, не попал… Но ничего, я за него посчитаюсь. Весной в село съезжу и всех его врагов до третьего колена порешу!.. А ты что, из нашего села?
— Нет, я из Куцой Долины. Жена из вашего. Хромченко знали?
— Голодранцев Хромченковых? Батрачили у отца. Ленивые были, работали из-под палки.
Мужик потер ладонью повязку, страдальчески поморщился.
Полицейский повернулся к Сашке, сказал:
— Ты поступай в полицию, а то опоздаешь. Немцы-то скоро разобьют красных и айда к себе в Германию. Украина самостийной станет, свободной. Вот тогда править ею будем мы, ее настоящие хозяева. Евреев, поляков и русских изгоним к чертовой бабушке. Эх, времечко-то настанет, не жизнь, а малина! Торопись, Сашко, пока место есть. Я похлопотать могу за тебя. Потом спасибо скажешь. Полицейский покровительственно хлопнул его по плечу, выплюнул сигарету:
— Жить будешь на широкую ногу, приоденешься, хороший паек получишь. Я за первый месяц работы в полиции на десять кил поправился.
— Вот это да!.. — восторженно воскликнул Сашка, и его глаза загорелись от зависти.
— Я до войны свинью выкармливал, так она, проклятая, больше пяти кил за месяц не набирала, — с серьезным видом отозвался длинноусый.
— На советских харчах много не наберешь, — не уловив насмешки, сказал полицейский и пошел в помещение мельницы.
— Ну и дубина! А морда-то вон какая, не от эрзацев, понимаешь, — отечественный продукт эта безрогая скотина потребляла…
Мужчина с перевязанной щекой говорил тихо, посматривал на мельницу:
— Помню его отца. Мироед из мироедов. Жадюга, тупой был, с батраков три шкуры драл, но ни одной службы в церкви не пропускал, выказывал себя набожным. Распутничал… страх божий. Жену в гроб загнал побоями… Двое сынов у него было, этот — старший. В полиции на хорошем счету. Говорят, начальство им не нахвалится, ну а он и выслуживается, из кожи лезет.
Говоривший сочно сплюнул и растер плевок сапогом.
— Ты бы поосторожнее, донесут ему, горя не оберешься, — тихо предостерег длинноусый и кивнул на Сашку.
Тот услышал, злорадно улыбнулся:
— Брешете вы все на хорошего человека, большевистскую пропаганду разводите.
Обвел всех взглядом и пригрозил:
— Выйдет — все ему скажу…
Николай вдруг резко шагнул к нему, громко, чтобы все слышали, заверил:
— Если выдашь — утром не проснешься.
— Как это «не проснусь»? Чего мелешь-то?
— Дымоход завалится, угоришь от дыма. Ясно?
Взгляд у Николая был решительным, голос звучал грозно, и Сашка испуганно попятился.
— Такие случаи бывают, — громко проговорил длинноусый мужчина, поправляя шапку, словно проверил: на месте ли спрятанная листовка.
— Да, бывают, — подхватили остальные, одобрительно подмигивая Николаю.
— Я… я пошутил, — замахал руками Сашка и, увидев выходившего полицая, скрылся за спинами мужиков. Полицай уехал, я увлек Николая за собой. Друг все еще был вне себя от гнева: глаза сощурены, губы плотно сжаты, на щеках играли желваки.
— Так нельзя, Коля, — осуждающе сказал я, — это…
— Хватит! Сам знаю, что можно, а чего нельзя… Только и слышишь: этого не делай, того не смей… Когда это кончится?
Николай говорил раздраженно и зло. Ничего подобного по отношению ко мне он раньше не позволял. Я обиделся. Долго шли молча. Николай заговорил первым.
— Прости, Борь, погорячился… Взрослые говорят, что это от нервов.
— А мы не взрослые? — еще сердясь, спросил я.
— Конечно, взрослые, — Николай смущенно улыбнулся. — Знаешь, Борь, а мне иногда еще хочется в палочки-стукалочки поиграть. Подурить хочется, озорство из меня так и прет…
Я смотрел на друга и думал: прав он, обокрала нас война, лишила привычного уклада жизни, поставила перед нами, молодыми и неопытными, такие задачи, которые многие, даже умудренные большим жизненным опытом, не могли решить.
— Не обижайся, Борь, а? — попросил Николай, глядя мне в глаза. Такое никогда не повторится. Честное слово, ни-ког-да! — Как-то я вычитал, — продолжал он, — любить — значит, делать добро. Это, наверное, правильно. Если человек по-настоящему любит свою Родину, то он стремится делать ей добро. Так, видимо, бывает и в отношениях между людьми. Любовь должна быть… ну как тебе сказать? Активная… что-ли…
Я не видел повода к такой резкой перемене темы разговора, и Николай заметил мое удивление.
— Чего глаза таращишь? — спросил он и, не ожидая ответа, продолжал рассуждать: — Если кто-то говорит, что любит Родину-мать, то он должен доказывать эту любовь делом. А разве полицай любит Украину, желает ей добра? Он хочет от нее заполучить кусок послаще, а судьба Родины его не волнует. Шкура он последняя, если к врагам в услужение пошел. Любовь — чувство чистое, бескорыстное… Правильно я говорю?
— Согласен, — живо отозвался я.
Николай хлопнул меня по плечу и, распрощавшись, мы разошлись по домам, но я еще долго был под впечатлением разговора с другом.
Вообще Николай не любил высокопарных фраз, патетики. Характер у него был более ровный, чем, скажем, у большинства наших ребят. Помимо других причин меня с ним сближало и то, что мы писали стихи. Иногда читали друг другу свои наивные сочинения, и я еще тогда заметил, что стихи его носили характер, так сказать, философско-созерцательный, с нотками грусти, без восклицательных знаков. Хотя, конечно, иногда он увлеченно и страстно рассказывал о чем-либо, мог горячо спорить. Николай был любознательным парнем. Задавать вопросы он не стеснялся. Однажды я неосмотрительно брякнул где-то схваченную фразу, что дурак спрашивает чаще любопытного: любопытный чего-то не знает, а дурак ничего не знает. Я хотел показаться остроумным, но получилось зло и глупо. Николай обиделся, ушел, не подав руки. Меня мучила совесть. Почему-то припомнился случай, происшедший с ним в ту пору, когда мы еще учились в пятом, может, в шестом классе. Друг тогда увлекался коллекционированием почтовых открыток. Он ездил трамваем на железнодорожный вокзал и там в киоске «Союзпечать» частенько покупал открытки. Однажды в трамвае Николай нашел три рубля. Подняв с пола деньги, он громко объявил о своей находке. Никто из ехавших тогда в вагоне этих денег не терял. Какой-то высокий мужчина похвалил Николая за честность и спросил у пассажиров, не возражают ли они, чтобы деньги остались у Николая. Все согласились.
В тот день я был дежурным по классу и в школу пришел пораньше. Со мной дежурила Чижевская — симпатичная девчонка, добродушная и удивительно говорливая. Если она была о чем-либо осведомлена, то об этом непременно узнавал весь класс — «Чижик» расщебечет.
Николай пришел в школу задолго до начала занятий, рассказал мне о найденных деньгах. Наш разговор слыхала Чижевская. Ученики сели за парты, вошла учительница, началась перекличка. Вдруг Чижик подняла руку, заявила:
— Галина Демьяновна, сегодня Коля Абрамов в трамвае нашел три рубля. Его хвалили за честность, а какой-то дяденька велел оставить деньги у себя.
Галина Демьяновна, наша классная руководительница, была строгой, требовательной, но справедливой учительницей. Даже самые отчаянные ребята побаивались нашей наставницы, она пользовалась у всех непререкаемым авторитетом.
— Абрамов, встань. Это правда?
Николай вскинул на Чижевскую уничтожающий взгляд, краснея, сказал:
— Я нашел в трамвае деньги, они были кем-то потеряны. Мне сказали, чтобы я их оставил себе. Вот они.
— Ты молодец. Запомните, дети: кто жадничает к чужому, тот не будет иметь своего. Ясно? Садись, Коля. Найденными деньгами ты должен распорядиться разумно.
Во время перемены Николай подошел к Чижевской, слегка дернул за косичку, сердито сказал:
— Моли бога, что ты не парень. Отдубасил бы я тебя за болтовню. Ты не Чижик, ты — сорока.
— Подумаешь… Герой нашелся. Скажи спасибо, что правду сказала, а то могла бы и прибавить, — огрызнулась она.
— Сорока, — твердо, но уже не так сердито повторил Николай и вышел из класса.
На Чижевскую он обижался недолго, но стремился держаться подальше от нее, избегал разговора с ней. Полное примирение наступило неожиданно. Как-то парень из старшего класса с близкого расстояния ударил Чижевскую по голове мокрым увесистым снежком, она упала. Хотя обидчик был значительно старше и сильнее Николая, но тот как коршун налетел на парня, сбил с ног, забросал снегом. Чижик потом всему классу рассказала о поступке Николая, а на следующий день принесла ему две открытки. Он отказался их взять, но с тех пор между ними установились хорошие отношения. Однажды Николай сказал:
— Что ни говори, но девчонки слабее нас. Слабых можно уважать или не уважать, но обижать их нельзя. Это факт.
ПОИСКИ
Николай был неугомонным, беспокойным человеком. С утра и до вечера он бродил по городу, присматривался и изучал все вокруг, следил за передвижением войск и железнодорожных составов. Он часто ходил на базар, где доведенные до отчаяния, изголодавшиеся люди продавали за бесценок последние вещи или меняли их на продукты. Там же сновали перекупщики, спекулянты и просто жулики. Базар был полон разнообразных, порой самых фантастических слухов, но многие передаваемые из уст в уста сведения соответствовали действительности и представляли определенный интерес для подпольщиков. Порой трудно было разобраться, где кончался досужий вымысел или провокационный слух, распускаемый немецкой пропагандой, а где начиналась правдивая информация о положении дел на фронте и о карательных акциях оккупантов. Базар являлся средоточием мнений, догадок, всякого рода суждений по самым разнообразным вопросам политики, военной стратегии и международного положения. Никто и никогда не знал действительных источников возникновения всяких, иногда совершенно противоречивых, сведений, но они неизменно, изо дня в день появлялись, волновали людей и вскоре вытеснялись новыми. Многие приходили на базар только за новостями.
Из всего этого хаоса информации Николай умел отбирать самое важное и при встречах сообщал нам услышанное, сопровождая свой рассказ лаконичными комментариями.
Он знал почти всех переодетых полицейских, ежедневно шныряющих по базару, присматривающихся к подозрительным или не в меру болтливым.
На базарах в те времена появлялось много всякого неприкаянного люду. Здесь встречались дезертиры, которые, нарушив присягу, все же не стали сотрудничать с врагом, но, не найдя себе места в этом круговороте, слонялись без дела, прислушиваясь к разговорам и прикидывая что к чему. Появлялись одинокие окруженцы, переодетые в гражданское и уже несколько месяцев пробирающиеся по занятой врагом земле ближе к фронту, к своим. Были военнопленные, бежавшие из лагерей, искавшие подходящую одежду, товарищей по судьбе или какого-нибудь временного пристанища. Как те, так и другие нередко были снабжены липовыми документами, в достоверность которых нельзя было поверить даже с первого взгляда.
Как-то Николай принес такой документ, и мы буквально покатились со смеху. Из справки, написанной карандашом неуверенным почерком, явствовало, что гражданин Усов, житель села Хрусты, отправляется на поиски своей пропавшей семьи. Далее следовала подпись старосты, которая была скреплена печатью размером с дореволюционный пятак. На печати изображен двуглавый царский орел, восседавший на фашистской свастике, но концы свастики загнуты не в ту сторону.
Мы предполагали, что на базаре периодически появляются и товарищи из партийного подполья, и разведчики Красной Армии. Как с теми, так и с другими мы стремились установить связь.
В марте 1942 года, толкаясь среди постоянных посетителей базара, торгующих махоркой и немецкими сигаретами, бензином, зажигалками и другим ходовым товаром, Николай увидел обросшего бородой, но еще молодого человека, которого явно все интересовало. Быстрый взгляд его ни на чем подолгу не останавливался, а как бы охватывал окружающее, изучал и оценивал. Внешне он не отличался от других, но вот глаза выражали силу воли, решительность. Николай начал наблюдать за этим человеком и вдруг заметил, что долговязый переодетый полицейский, которого он уже много раз видел на базаре, не отрывает глаз от бородача, не подозревающего, что за ним следят. Продолжая медленно двигаться, бородач подошел к безрукому старику, торгующему махоркой. Николай очутился тут же и, незаметно толкнув его, прошептал:
— Удирайте, за вами следят.
Незнакомец осмотрелся и, ускоряя шаг, скользнул в гущу толкучки. Полицай, стараясь не потерять бородача из виду, расталкивал людей локтями, торопился за ним. Николай двинулся навстречу полицаю и, поравнявшись, неожиданно раскинув руки и как бы поскользнувшись, упал ему под ноги. Сбитый расчетливым ударом, тот рухнул на землю. Толпа обступила упавших, образовался плотный круг. Долговязый пытался вскочить, но сделал это настолько быстро и резко, что снова потерял равновесие и очутился на четвереньках. Он выпрямился, дважды ногой сильно ударил лежащего Николая.
— Дяденька, простите, я нечаянно, — жалобно заскулил тот, ища сочувствия и заступничества у окружающих.
— Лежачего не бьют…
— Не тронь пацана, он же не хотел!
— Рад, что здоровый, и богуешь.
Реплики сыпались со всех сторон, и они усмирили взбесившегося верзилу. Николай притворно вытирал совершенно сухие глаза, и, невзирая на сильную боль в ноге, ликовал — бородач бесследно исчез.
Рассказывая об этом случае, он делал совершенно определенный вывод: в городе есть и другие подпольщики и с ними надо искать связи.
Целую неделю Николай ходил, прихрамывая: голень левой ноги опухла от стопы до колена. Но, превозмогая боль, он без устали бродил по городу в поисках бородатого незнакомца. Даже если бы тот и сбрил бороду, Николай все равно опознал бы его по запомнившимся глазам. Во всяком случае мой друг был в этом совершенно уверен.
Как-то случайно мы встретились около биржи труда, и Николай сказал мне с ноткой таинственности:
— Я видел мастера из нашего ремесленного училища. Мне кажется, что он оставлен для подпольной работы. Этот мастер инвалид с детства, невоеннообязанный и подозрений у немцев не вызывает. Мы договорились встретиться завтра.
— Ты командиру или политруку говорил об этом?
— Еще не успел. Сегодня увижу Анатолия и все расскажу.
Через день Николай на вопрос о мастере ответил неопределенно и растерянно:
— Не могу понять человека: вроде бы наш, осведомлен о положении на фронте, иногда рассуждает, как патриот. Но порой у него проскальзывают мыслишки о приспособлении к новым условиям и терпеливом выжидании. Сегодня утром он вообще заявил: немцы культурная и цивилизованная нация, фашистская армия непобедима и, пока не поздно, надо идти в услужение к оккупантам.
— Он, наверное, гад, — вырвалось у меня.
— Возможно, он меня проверяет, прощупывает. Я перед ним притворился этаким растерявшимся простачком. Помнишь, как любил говорить наш школьный завхоз: прикинулся большим дуриком, чем был на самом деле. Во всяком случае, он предложил мне заняться ремеслом: подобрать еще двух-трех парней и делать зажигалки. Ты не хочешь? — лукаво спросил Николай и улыбнулся.
— Бригадиром пойду, — серьезно ответил я.
— А может быть, директором согласишься?
— Нет, кроме смеха, брось ты этого мастера. Проходимец он какой-то.
Николай нахмурился.
— А вдруг это не так, тогда что? Я до конца узнаю этого человека. Слежку устрою, но раскушу его.
Прошло недели две. Николай пришел ко мне, долго угрюмо молчал, потом заговорил с раздражением:
— А мастер-то человек подлый и мелкий. Из тех, кто готов служить и нашим и вашим, но только ради себя. Сам лезет в умники, а других норовит одурачить.
Сердито глядя перед собой, он нервно потер ладони.
— Скажи, изменник и предатель — это одно и то же? — неожиданно спросил он, в упор глядя на меня. — Не спеши. Подумай, а потом скажи… завтра, послезавтра. Мы с политруком на эту тему здорово поспорили.
Я пошел его проводить. Прощаясь, он сказал:
— Вот мы ищем связь с другими подпольщиками, но ведь наверняка кто-то ищет связь с нами и тоже не может найти. Не простое это дело. В наших условиях легко напороться на провокатора, ведь гестапо и полиция тоже не спят.
Николай не терял надежды на то, что рано или поздно удастся связаться со старшими товарищами, ведущими подпольную борьбу с оккупантами. Мечтал он и об оружии, взрывчатке, радиосвязи с командованием Красной Армии, но наши поиски пока оставались безрезультатными.
На общем сборе у Вали Соловьевой Николай рассказал о бородаче, которому он помог скрыться от полицейского. Завязался оживленный разговор.
— Конечно, надо искать связь с партийным подпольем, но это не значит, что мы должны заниматься только этим, — горячился Алексей Онипченко. — Мы нуждаемся в конкретном руководстве опытных людей, нуждаемся в оружии. Нас мало, а трудностей и опасностей много. Но мы от своего решения не отступим, будем вредить немцам как только сможем.
— Нас воспитала партия большевиков, ленинский комсомол, мы верим в победу советского народа, — продолжила мысль Алексея Вера Ильинична. — Хотя у нас почти нет опыта борьбы, мы все же не слепые котята, мы знаем, в чем состоит наша задача. Чем активнее мы будем действовать, тем больше шансов установить связи с другими подпольщиками.
— Правильно, — одобрительно подхватил политрук. — Ведь нельзя сказать, что мы изолированы и никак не связаны с нашими. Самолеты сбрасывают листовки, а в них прямо сказано, что нам делать. Мы постоянно слушаем радио, а разве передачи из Москвы ничему не учат нас?
Я посмотрел на Николая: он ловил каждое слово.
Видимо, речи товарищей глубоко западали в душу, помогали многое осмыслить. Такие собрания были для нас школой политического воспитания.
Домой с ним мы шли вместе. Николай долго молчал, сосредоточенно думал. Вдруг остановился и гордо сказал:
— Хорошие у нас ребята, умные и смелые.
Шел апрель 1942 года. Как-то ко мне рано утром прибежал Николай — бледный, взволнованный: Убедившись, что мы одни, сказал:
— Толик и Вова дома не ночевали. Сегодня я их видел во дворе полицейского участка напротив химического завода. Надо что-то делать.
— Где их взяли? За что?
Если ребят задержали за нарушение комендантского часа, то это полбеды. День-два продержат на одной воде, поводят на грязные работы, а потом надают подзатыльников и отпустят.
— Схвачены — и все. Срочно надо что-то делать, — торопил Николай.
Я беспомощно развел руками.
— Какое у тебя оружие? — спросил он.
— Все то же: две гранаты и нож. А ты не стал богаче?
— Что было, то и есть: граната и пистолет, — ответил Николай.
Стоит сказать несколько слов о его «пистолете». Это был крохотный двуствольный французского производства пистолетик без запасных патронов к нему. При каких обстоятельствах Николай достал его, мы не знали, а на наши расспросы он отвечал уклончиво. Мы подтрунивали над ним, говорили, что таким надо стрелять только в упор и обязательно в глаз. Николай не сердился и в тон нам заявлял, что, возможно, пистолет вообще не стреляет, а если так и случится, то стукнет им немца, как камнем. Тем не менее он каждый день чистил свое оружие и относился к нему очень бережно. Позже, когда у него был уже настоящий боевой парабеллум, мы уговорили Колю выстрелить из «дамской мортиры», и оказалось, что он действительно не стреляет — получилась осечка. Но Николай не выбросил его, а густо смазал солидолом, завернул в тряпку и спрятал.
— После войны сдам в музей, — пообещал он.
Вот с этим-то «пистолетом» мы и решили выручать командира и политрука. В пути Николай предложил план действий. Мы должны улучить момент, когда их будут вести в уборную полицейского участка. Двор был обнесен сравнительно невысоким кирпичным забором. Николай даст сигнал к бегству, я брошу гранату в полицейских, а дальше все будет зависеть от обстановки. План показался простым и вполне выполнимым. Насколько это рискованно, мы не подумали. Между тем городе было полно немцев, на улицах стояли танки, автомашины, и убежать после взрыва гранаты было не простым делом, но мы надеялись на лучшее.
Проходя мимо полицейского участка, мы увидели, что Анатолий и Владимир складывали в штабель длинные свежего распила доски. Еще человек пять-шесть делали то же самое. На подножке большой тупоносой автомашины сидел пожилой полицейский, курил сигарету и безразлично смотрел на работающих. Винтовку он держал между колен, и было видно, что она ему мешает.
Первым нас заметил Владимир и, взглянув на скучающего полицейского, весьма выразительным жестом показал, что, мол, все в порядке, уходите. Мы облегченно вздохнули и медленно пошли вверх по переулку. Я как-то сразу размяк, скис. Гранаты вдруг стали тяжелыми, мешали идти. Голова раскалывалась.
— Ты, видно, нездоров-? — неожиданно спросил Николай. — Все лицо в пятнах. Иди-ка домой, а я подожду ребят.
Я молча кивнул головой, и едва мы разошлись, как тут же раздался окрик. Сухопарый высокий унтер-офицер в длинном клеенчатом плаще, в каске и с пистолетом, возился около мотоцикла с коляской и никак не мог его завести. Энергичным жестом он позвал нас к себе. Мы подошли не спеша, оглядываясь по сторонам и оценивая ситуацию. На груди немца висела огромная металлическая бляха жандарма. Он стал показывать, что надо делать, хотя мы и так понимали, что от нас требуется. Унтер сел за руль, и мы начали раскачивать мотоцикл вперед и назад. Мотоцикл медленно покатился. У меня кружилась голова и назойливо вертелась мысль: вот сейчас упаду, гранаты вывалятся, — и тогда… Мотоцикл катился все быстрее и быстрее, потом вдруг вздрогнул и, обдав нас дымом, завелся. Жандарм достал из кармана две сигареты и, не поворачивая головы, швырнул их через плечо нам. Бросил, как собакам кость. Мотор резво застрекотал, выбрасывая клубы синего дыма, и унтер, свернув в переулок, скрылся.
— Сволочь, фашистская морда, — сердито сказал Николай, со злобой и презрением давя сигареты.
На следующий день ко мне пришел Владимир, почти следом за ним — Анатолий и Николай. Настроение у командира и политрука было хорошее, но Николай был явно чем-то расстроен. Я насторожился.
— Тоже мне герои, — улыбаясь, проговорил Анатолий, многозначительно поглядывая на Николая. — Прежде чем что-то делать, надо все взвесить, обмозговать, а потом уже действовать. Если бы мы попались на чем-нибудь серьезном, то нас не держали в полицейском участке, а сразу же отправили бы в городскую полицию или, скорее всего, в жандармерию. Кроме того, если бы вы бросили «лимонку», то нас вы наверняка уложили бы. Ф-1 штука мощная, и обидно, конечно, погибнуть от гранаты, брошенной рукой друга. Могло случиться и так, что вы, пытаясь спасти, выдали бы нас..
В голосе командира звучала добродушная ирония. Николая же обижал насмешливый тон командира, ему все еще казалось, что его план — такой продуманный и смелый — по заслугам не оценен.
— Не перегибай, Толя, — вмешался политрук. — Решение ребят в общем-то было правильным, они шли на большой риск и не стихийно, а по плану. Мне вот только не понятно, как Борис думал убегать вместе с нами, когда сам едва стоял на ногах.
Владимир говорил с укоризной. Николай посмотрел на меня, и в его глазах я прочел: «Видишь, и до тебя добрались. Держись».
— А вы тоже хороши, — отпарировал я. — Только твердите: осторожность, конспирация, а самих, как пацанов, сцапали.
— Около биржи труда задержались, смотрели, как она охраняется. Женя Бурлай говорит, что готовят документы для отправки людей в Германию. Эти бумаги надо выкрасть или поджечь биржу. Уже домой шли, но напоролись на полицейских, прямо лоб в лоб. Объяснили, что, мол, у девчонок загулялись. Один хотел отпустить, но другой, с рябой рожей, настоял отправить в участок. С собой у нас ничего подозрительного не было. Таких, как мы, набралось восемь человек. Ночь прокоротали в холодной комнате, а утром заставили нас работать. Вызывали по одному на допрос к следователю: орал, угрожал и сквернословил, а самогоном от него, как из бочки, несло. Вечером отпустили, но двоих оставили для проверки.
Командир говорил ровно и спокойно. Политрук вдруг сочувственно спросил меня:
— Как ты себя чувствуешь? Вид у тебя, прямо скажем, неважнецкий.
— Сегодня лучше, но слабость, и голова еще кружится. Через два дня буду, как штык.
— Казав слипый — побачым, — вставил Николай, довольный тем, что разговор перешел на другую, не обидную тему. Он улыбнулся и, помолчав, тихо сказал:
— Мой брат Толька целыми днями вертится около солдатской кухни. То воды принесет, то дров нарубит, а его за это кормят. Ведь голодуха. Вчера вечером принес плитку шоколада — украл, наверное. Матери не показал, побоялся, а между братьями разделил поровну. По-братски. Принес еще два патрона от автомата — нашел, говорит. Патроны я спрятал, а его выругал. Мал еще, — Николай умолк, поправил на моей кровати одеяло и отошел к окну.
— Ну, хорошо, — сказал, вставая, командир, — давай-ка, выздоравливай и закаляй организм. Ты же крепкий парень и вдруг… ангина. Буза какая-то.
Ребята ушли. На душе у меня было радостно. Хорошо, что с Анатолием и Владимиром все окончилось благополучно. Я решил встать, чтобы пополоскать горло раствором соды. Откинув одеяло, услышал мягкий стук об пол. Возле кровати лежал квадрат вощеной немецкой бумаги. Я сразу же догадался, что это шоколад, незаметно подсунутый Николаем мне под одеяло, именно тот, что достался ему при дележке между братьями.
Доброта была неотъемлемой чертой его натуры. Он не сразу сходился с людьми, но человеку, который пришелся ему по душе, старался служить в лучшем смысле этого слова и делал это незаметно.
Через день Николай снова пришел меня проведать. Был он прекрасно настроен, дурачился, фантазировал. Я пытался сдержать его пыл, но друг не унимался.
— Ты умеешь петь? — ни с того ни с сего спросил он.
— Умею.
— Тогда спой что-нибудь. Вполголоса. Ну, пожалуйста, спой.
Николай притворно изобразил на лице такую умиляющую мину, что удержаться от смеха было невозможно.
— Да отвяжись ты, смола. У меня горло болит, а тебе песни подавай.
Он притих, задумался, но ненадолго. Беззвучно засмеялся, по привычке потер ладони.
— Очень люблю песни, знаю их тьму-тьмущую. У наших соседей был патефон и много пластинок. Слушая музыку, вечера у них под окном простаивал. Сам при людях петь стеснялся, а уединившись, пел, и, как мне казалось, неплохо. Оценить мой талант, конечно, никто не мог. Талант до времени был старательно скрыт. И вот в ремесленном училище начали организовывать художественную самодеятельность. Одна симпатичная девчонка в разные кружки записывала. Из-за нее и я подался в хоровой. Начались репетиции, спевки. Ходил исправно, пел изо всех сил. Хотелось перед девушкой блеснуть. Руководитель хора мое усердие заметил, но дважды указывал, что фальшивлю. Как-то перед спевкой устроили конкурс — кто лучше исказит мотив какой-либо известной песни. Как ни старались наши кружковцы фальшивить, уродовать мелодию, но так или иначе возвращались на правильный лад. А вот я отличился и так спел «Катюшу», что все пришли в восторг. Попросили повторить. Я спел «Катюшу» в еще более непохожем варианте. Меня признали победителем конкурса. Когда ребята спросили, как мне удается так обезображивать песни, я ответил, что старался петь правильно, а искажения получаются сами собой. Об этом узнал руководитель хора и при индивидуальной проверке установил у меня полное отсутствие музыкального слуха. Из кружка меня вытурили.
Он засмеялся, но уже не так весело, а потом вздохнул и грустно добавил:
— А песни люблю. Ведь знаю, что петь не умею, но когда бываю один, то все равно пою. У меня есть песни для всякого настроения, а звучат они, наверное, на один лад.
— А как девушка? — робко спросил я.
Николай смущенно посмотрел на меня, потом опустил глаза и задумался:
— Когда-нибудь расскажу. Он резко встал и, наспех простившись, ушел.
РАСЧЕТЫ И ПРОСЧЕТЫ
Немцы готовились к наступлению. Днем и ночью грохотали танки, нескончаемым потоком тянулись обозы. На аэродроме появились «юнкерсы» и «мессеры». Школы переоборудовались под госпитали; многие уцелевшие кирпичные здания усиленно охранялись — там размещались склады боеприпасов. Город был наводнен танками, пушками, автомашинами, старательно замаскированными в садах и парках. Был установлен строжайший контроль за светомаскировкой. Если ночью в каком-либо окне появлялся хотя бы слабый свет, солдаты прикладами выбивали рамы или стреляли по стеклам. Легковые автомашины бесконечно сновали по улицам, и вышколенные солдаты, вздрагивая, приветствовали высоких начальников.
В городе, превращенном в большой военный лагерь, в скопище солдат и техники население казалось лишним, с ним не считались, его не замечали.
Мы нервничали. Эфир приносил одну и ту же сводку. «На фронте без перемен, идут бои местного значения».
— Неужели наши там не знают, что немцы готовятся к наступлению? — горячился Николай. — Я готов хоть сейчас перебраться через линию фронта и рассказать нашему командованию о подготовке фашистов. Как вы на это смотрите?
— Перейти линию фронта не так просто, а если и перейдешь, что ты скажешь? Мы не знаем, сколько у немцев пушек, танков, самолетов, сколько пехоты даже на малом участке фронта. Мы можем узнать, сколько техники и солдат в нашем городе, но это ведь частица. Да и рисковать надо с толком.
Речь политрука была убедительной, но Николай не сдавался:
— Рассуждать мы все мастера, а вот сделать что-нибудь такое… — он не нашел нужного слова, махнул рукой и умолк.
— Нечего горячиться, — спокойно сказал командир. — Наши, будь уверен, тоже не сидят сложа руки.
Слова Анатолия не принесли успокоения, и мы разошлись, по-прежнему встревоженные и угнетенные собственным бессилием.
…Стоял погожий день. Земля пахла молодой травой. Торец медленно нес свои грязно-зеленые воды. Мы с Николаем молча сидели на берегу.
Пришел политрук, сел рядом. Откуда-то сверху донесся еле слышный гул мотора. Владимир встрепенулся и посмотрел в небо.
— Наш, — радостно сказал он. — Ты думаешь, он ничего не видит? Все видит. Солдат, технику и нас, наверное, видит.
— Возможно, — обронил Николай и, осмотревшись, добавил: — А вот и хлопцы.
— Что нового? — политрук внимательно посмотрел на Павла Максимова, обычно спокойного и уравновешенного, а сейчас выглядевшего возбужденным.
— Я, кажется, достал взрывчатку, — выпалил Павел.
Все повернулись к нему и застыли в ожидании.
— Кажется, достал или, кажется, взрывчатку? — уточнил Владимир. — Расскажи толком.
— Утром возле дома я обкапывал деревья. Слышу, кричит немец. Поднял голову — меня кличет. Подошел к переулку и тут все понял. Ночью груженая машина ввалилась в промоину и застряла. К ней немцы почти впритык подогнали другую машину, и тут им потребовался грузчик. Залез я в груженую, вижу ящики, каждый по пуду примерно весом. Какие-то надписи на них, но ни слова не, понял. Начал переносить и чувствую что-то сыпучее в середине. Шоферы стояли около машин и курили. Один ящик, по правде сказать, уронил нечаянно. Немец на меня как заорет: бух, бух, мол, и показывает, что может взорваться. Тут я и подумал — как же стащить? Смотрю, немцы пошли по переулку вниз, к колодцу, где женщины брали воду. Хватаю ящик — и в канаву. Засыпал чем попало, а тут племянник ведро жужелицы со двора вынес. Давай, кричу, сюда. Высыпал на ящик и дальше гружу, но уже быстрее. Умаялся здорово, мокрый весь был. Немцы похвалили и даже сигарет дали.
Павел достал сигареты и протянул их Алексею — курил только он.
— Дальше, дальше, — наперебой заторопили Павла.
— Когда машины уехали, я выбрал удобный момент и перенес добычу в сарай. В ящике оказались пачки в лощеной бумаге килограмма по два, а в них что-то белое, сыпучее. Ну, как крупная соль. Запаха нет, на вкус горькое и не горит.
— А может, и не взрывчатка? — усомнился Иван.
— Молодец, Павлик, — загорелся Николай. — Завтра же испытаем на деле.
— Чего тянуть, можно прямо сейчас, — съязвил Владимир и, немного погодя, добавил: — Надо посоветоваться с Анатолием, попытаться разобраться в надписи на ящике.
Два «мессершмитта» низко промчались над городом и начали быстро набирать высоту.
— За нашим, наверное, погнались, гады, — Алексей тяжело вздохнул.
Политрук встал, заговорил решительно и строго:
— Алеша и Ваня, вы сходите на биржу труда и посмотрите, что там делается. Постарайтесь увидеть Женю Бурлай. Может быть, она что-либо сообщит об отправке наших людей в Германию. Коля и Павлик, разыщите Анатолия и расскажите о взрывчатке. А мы с Борисом пойдем в поликлинику к Вере Ильиничне. Встретимся завтра у Павлика в это же время.
Разошлись парами. Теперь нас занимал ящик с таинственным содержимым. На другой день к Павлу ребята пришли почти одновременно. Попытались прочитать надпись на ящике, но не смогли. Не немецкая, но чья же? Почти вся Европа находилась под пятой фашистской Германии, и написано могло быть на любом языке. Для нас так и осталось загадкой: что же собой представляла раздобытая «крупа». Но Павел многократно повторял, что, увидев уроненный ящик, немец побледнел, закричал «бух-бух» и руками изобразил взрыв.
После жарких споров решили без предварительной проверки сразу на деле испытать взрывчатку.
Мину поручили мастерить Николаю и Павлу. В старую кастрюлю они высыпали содержимое из двух пачек и вложили туда гранату — «лимонку». В крышке кастрюли пробили дыру, через нее пропустили взрыватель с кольцом гранаты. Достали метров сто пятьдесят тонкой проволоки.
Двое суток ребята возились со своим детищем с такой надеждой, будто от того, произойдет или не произойдет взрыв, зависел исход войны.
На дне кастрюли Николай гвоздем нацарапал: «Смерть немецким оккупантам!»
Несколько флегматичный, Павел вдруг стал проявлять горячность, нетерпение, а Николай едва сдерживал себя, готовый сейчас же, немедленно идти на операцию. Холодная рассудительность Анатолия раздражала их, а разговоры об осторожности расценивались даже как проявление трусости. Но командир не терпел поспешности. По его указанию Николай пошел в разведку на железную дорогу. Ночь он провел в посадке неподалеку от предполагаемого места диверсии. За это время прошло четыре состава и дважды — патрульная дрезина. Дорога на этом участке охранялась без особой строгости — немцы не допускали мысли, что на десятикилометровом перегоне между станциями кто-либо рискнет на диверсию.
Словом, место было выбрано удачно — высокая насыпь дороги проходила через большую и глубокую балку: в случае взрыва составу было куда лететь.
День клонился к концу. Анатолий еще раз проверил готовность ребят, и когда, по его мнению, «был полный порядок», Николай и Павел двинулись в путь. Павел в хозяйственной сумке нес мину, а Николай шел несколько позади. За городом в глиняном карьере они дождались темноты и не спеша двинулись дальше.
Ночь выдалась тихая и теплая. Лишь изредка раздавались одинокие голоса потревоженных птиц. Ребята шли согнувшись, прислушиваясь к каждому шороху, припадали к земле и застывали, ловя малейший звук. Они испытывали то особое нервное напряжение, когда человек не думает о себе, об угрожающей ему опасности, а все его помыслы, чувства и поступки подчинены одному — достижению поставленной цели. Если и было что-то похожее на боязнь, то это, скорее всего, чувство опасения: вдруг мина не взорвется.
Около балки, метрах в двадцати от дороги, ребята забрались в гущу посадки и залегли. Ничто не нарушало тишины и не вызывало подозрений. Повел посмотрел на часы — половина двенадцатого.
— Скоро появится поезд, — прошептал Николай. — А следующий через полчаса. Если будет так, как вчера.
И действительно, послышался вначале еле слышный, а потом все нарастающий гул. Показались слабые желтые огоньки. Земля подрагивала. Поезд промчался, стуча и громыхая.
— Семнадцать вагонов.
— Шестнадцать, — уточнил Павел. — Что они могут везти в товарных вагонах?
— Меня больше интересует следующий состав, — сказал Николай.
Друзья долго лежали молча. Время тянулось томительно медленно.
— Павлик! — заговорил Николай. — Бежать будем к Новоселовке. Сначала по дороге, а потом повернем к огородам и через сад выскочим к балке. У тебя табаку много?
— Ну его к черту, — громче, чем следовало, сказал Павел. — Анатолий, несмотря на свою брезгливость, насобирал и принес из госпиталя кучу «бычков». Противные, вонючие. Я два часа возился с ними, пропитался этим запахом насквозь. Потом высушил табак, растер в порошок и вот, пожалуйста, «противособачье» средство готово. — Павел помолчал немного и, улыбаясь, добавил: — Я за свою жизнь, наверное, меньше чихал, чем за те два часа, что с табаком возился.
— Говорят, чихать полезно, легкие развиваются, — серьезно заметил Николай и вдруг замер. Николай крепко сжал руку друга и достал свой «дамский» пистолет. Патрули скрылись во тьме, ребята облегченно вздохнули.
— Пора, — прошептал Павел.
Они осторожно поползли к полотну. У самой дороги привстали и осмотрелись. Все спокойно. Павел оставил возле Николая сумку, взобрался на полотно и между шпалами под рельсом начал рыть углубление. Гравий шуршал, с шумом скатывался с насыпи, но Павел, ибдирая пальцы, рыл и рыл. Когда ямка была готова, Николай подал сумку. Павка осторожно уложил мину под рельс. Николай размотал проволоку, один конец отдал Павлу, а сам взял другой и, согнувшись, скрылся в посадке. По его сигналу Павел закрепил проволоку за кольцо гранаты и побежал к другу.
— Хорошо? — глухо спросил Николай.
— Пор-рядок. Потянулись тяжелые, томительные минуты ожидания. Время словно остановилось. Нетерпение нарастало, Николай едва-едва справлялся с ним.
— Ты надежно закрутил проволоку, — то и дело спрашивал он, — обрыва не будет?
Наконец послышался небольшой шум, легкий стук колес и показался медленно приближающийся огонек.
— Дрезина, — разочарованно прошептал Коля. Дрезина прошла, и тут же донесся отдаленный грохот: поезд!
Нервное напряжение достигло предела, ребят трясло, как в лихорадке. Паровоз был недалеко от мины, когда Николай резко потянул за проволоку. Раздался взрыв.
Убегая, юные диверсанты слышали позади лязг и скрежет металла, автоматные очереди. Пробежав метров пятьсот, они залегли и прислушались. Николай начал скручивать проволоку, которую почему-то не бросил. Слышно было пыхтенье паровоза. Упавшим голосом Николай сказал:
— Взорвалась только граната.
Донеслось несколько винтовочных выстрелов, и ребята снова побежали.
Я почти не спал всю ночь, ожидая сильного взрыва, несколько раз выходил во двор и смотрел в сторону железной дороги, где должна совершиться диверсия. Ждал пожара и еще чего-то такого, что должно бы подтвердить удачный исход операции. Взрыва и пожара не было. Меня начала беспокоить судьба ребят. «Вдруг напоролись на засаду? Вдруг их схватили на насыпи? Вдруг…» Десятки самых невероятных предположений роились в голове.
Едва рассвело, я уже мчался к Анатолию. Он, видно, тоже ночь провел без сна, был бледен, но спокоен. У меня несколько отлегло от сердца.
— Ну, как? — спросил я.
Быстро вошел политрук. Вслед за ним ворвались Иван и Алексей.
— Спят у Коли, — успокоил всех командир. — Через час разбудим.
Потом, как всегда в таких случаях, он проверил: заперты ли двери, посмотрел в каждое окно и уже после этого достал из подполья приемник.
Мы приготовились записывать сводку Совинформбюро. Ничего ободряющего радио не принесло, фронт застыл на месте, происходили бои местного значения. Анатолий спрятал приемник, сказал:
— Пойду будить.
Едва он шагнул к двери, как постучали. Выглянув в окно, командир просиял:
— Сами пришли.
По выражению лиц ребят нетрудно было догадаться, что операция закончилась безуспешно, но это ни в коей мере не снижало нашего интереса к тому, что же произошло ночью. Со всеми подробностями, дополняя друг друга, они рассказали о своей неудаче. Если Николай говорил лаконично, словно рапортуя, то Павел повествование сопровождал язвительными насмешками в свой адрес, считая себя виновным в изготовлении неудачной «адской машины».
— Единственная польза от этой затеи заключается в том, что мы запорошили фонари паровозу и разбудили кондукторов, — иронизировал, не щадя себя, Павел.
— Не надо так, Павлуша, — сказал Владимир, положив руку на плечо другу. — Польза есть и от неудач. Поезд наверняка простоял несколько часов, а значит, было нарушено движение составов. Немцы народ пунктуальный, и если что-то непредвиденно изменяет их привычный распорядок, то они теряются, принимают поспешные решения и часто неправильные. Даже незначительные диверсии выбивают их из колеи, деморализуют. Конечно, теперь начнутся облавы, обыски, и надо быть предельно осторожными, но терзаться не следует. Научимся и мы эшелоны пускать под откос. Не получилось сегодня, получится завтра, через месяц, но все равно получится. Будем прилежными учениками, и тогда всему научимся.
Политрук любил говорить «по-взрослому», и надо сказать, что это у него получалось.
Вале Соловьевой и мне поручили установить связь с молодежью села Николаевки и города Часов-Яр. На протяжении недели мы несколько раз ходили в Николаевку, где жили Валины знакомые девушки, встречались с ребятами из Часов-Яра, присматривались, прощупывали друг друга. Наконец нам удалось создать небольшую подпольную группу, во главе которой стал Леонид Иржембицкий.
Я шел доложить командиру о выполнении задания и возле бывшей нашей школы встретил Николая. Он был сердит, казался каким-то отрешенным, чужим. Я пытался завести разговор, но друг упрямо молчал.
Школа № 11, где большинство членов нашей группы училось до войны, расположена в центре города. Теперь там был госпиталь. Тронув меня за плечо и пальцем показав на раскрытое окно второго этажа, Николай вдруг сказал:
— Наш класс.
— Да, да, — подхватил я. — Мы сидели с тобой за первой партой справа, у самого окна. Помнишь?
— А как же! — его глаза немного оживились, лицо повеселело. — Я не забыл, как ты пульнул из резинки и Валентину Мурашко в ухо попал. Сам выкрутился, а меня из класса выставили. Ты шкодил, а мне попадало.
— Кто старое помянет… — Николай не принял шутку.
— Там, где нас учили уму-разуму, теперь недобитых фрицев выхаживают.
Я пытался как-то рассеять плохое настроение друга, но безуспешно.
Анатолия дома не оказалось, и мы разошлись.
Через два дня собрались у командира, и Николай ни с того ни с сего начал проверять наши знания по физике.
— Если очень высокий столб или заводская труба имеет громоотвод, но он поврежден, — может молния их разрушить?
— Конечно, — в один голос ответили Анатолий и Павел, — если только попадет.
— А какая вероятность попадания? — продолжал допытываться Николай.
— Ничтожно малая, — сухо ответил Анатолий, и командира поддержали остальные ребята.
— А если к громоотводу пристроить магнит, чтобы он притягивал молнию? — не унимался дотошный экзаменатор.
Мнения разошлись, и мы, с присущим молодости азартом, спорили, как говорится, до кулаков. Горячность — плохой помощник в споре, когда нужны конкретные знания, но юный задор не считается с этим. В ход пошли предположения, догадки и даже подначки. Николай, затеяв диспут, участия в нем не принимал, но слушал с таким вниманием, словно истину в этом споре дано было постичь только ему одному.
Вдруг Анатолий пристально посмотрел на него и спросил, сердясь:
— А на что тебе сдался этот громоотвод?
Мы прекратили спор, с нетерпением ожидая ответа. Николай хитровато улыбнулся и, словно по секрету, сказал:
— Уже целую неделю немцы что-то возят в крытых машинах на бутылочный завод. Чем они нагружены — не знаю, но завод начали усиленно охранять, установлено несколько сторожевых вышек с пулеметами. Проникнуть сейчас на территорию трудно, но я знаю одно подходящее место.
Николай неожиданно умолк, остановив на мне взгляд, и тихо засмеялся. Мы, недоумевая, смотрели на него: к чему все это? Чудной какой-то он сегодня.
— Года за два-три до войны я легко пробирался на завод за трубками для самопалов. Хотя и дурное дело, но что было, то было… Борис может подтвердить.
Когда-то Николай действительно принес мне трубку, а из нее сосед сделал для меня самопал. При первом же выстреле трубку разорвало, и я чудом остался невредимым. Этот случай отбил у меня охоту к самопалам. Николай еще тогда смеялся надо мной и, вспомнив об этом, не удержался и сейчас.
— При чем здесь громоотвод? — спросил политрук.
— А при том, — продолжал Николай, — что склад немцы устроили в центре завода, там, где стоит самая высокая труба. Взорвать склад у нас нечем. А вот если молнию направить на трубу, чтобы она рухнула всей своей стометровой махиной на склад… Только клочья полетят от всего имущества фашистского!
Глаза его вспыхнули, и, потирая от удовольствия Руки, он встал со стула, сделал несколько шагов и возбужденно сказал: — Если разрешите, я завтра же начну перепиливать громоотвод. Соображаете — вред большой, а виноватых нету. Все обойдется без заложников и расстрелов. Так сказать, сила природы. Авось да получится, трубе труба и складу труба.
Замысел мне показался мудрым и реальным, но у других ребят он не вызвал особого энтузиазма. Подойдя к Николаю и похлопав его по плечу, Анатолий покачал головой:
— Надежд на успех мало. Но если ты все продумал и твердо решил, то возражений не будет. Действуй.
— Может быть, и я с тобой? — вызвался Павел.
— Нет, одному лучше, — отказал Николай.
Он уселся на прежнее место присмиревший, удовлетворенный. Карие глаза его светились радостью. В дальнейших разговорах Николай участия не принимал, напряженно думая о чем-то своем. В тот день мы с ним должны были сходить в городскую больницу к нашим врачам В. И. Яковлевой и В. С. Залогиной за медикаментами для одного больного военнопленного, бежавшего из концлагеря под Киевом.
— Может быть, ты один пойдешь? — попросил Николай. — Я должен еще кое-что разведать и подготовиться. Хорошо?
Отказать ему было трудно. В пути я думал, что, если Николай решился, то непременно добьется — упорства у него хоть отбавляй.
Не виделись мы с ним несколько дней, но со слов командира я знал, что все идет благополучно. Много раз смотрел я на самую высокую трубу бутылочного завода и думал о друге, по ночам трудившемся у ее подножия. Порой представлял падение этой громадины на немецкий склад.
Я было уже собрался идти на биржу труда к Жене Бурлай за документами для военнопленного, как в комнату, словно ветер, влетел брат и с порога крикнул:
— Твой Николай пришел, а в дом заходить не хочет.
Я выскочил во двор, обхватил друга и начал кружить, а он, смеясь, просил:
— Да оставь же ты меня.
И только я это сделал, как почувствовал себя оторванным от земли: Николай тряхнул меня и с силой поставил на ноги.
— Тише, слон, — взмолился я. Мы рассмеялись.
Вообще-то после командира он был самым сильным среди нас. Поглядев внимательно на друга, я заметил, как он осунулся, похудел. Поторопил его:
— Рассказывай.
— Говорить почти нечего. Около механического цеха стоит несколько автомашин с грузом, а дальше два трактора с прицепами. В самом цехе много ящиков, тюки, бочки непонятно с чем и всякая всячина, но орудия нет. Подошел к трубе, отыскал громоотвод. Провод толщиной в палец и… начал напильником орудовать. Медленно пилю, а все равно: р-р-р… аж эхо откликается. Попилю немного, притихну, прислушаюсь и опять продолжаю. Не успел, как следует, поработать, а уже светать начинает. Засыпал землей подпил — и ходу. На вторую ночь так же. На третью то же. Вчера закончил. Теперь бы хорошую грозу — и капут складу!
Его голос звучал убежденно и твердо.
— Страшно одному?
— Первый раз страшновато, а потом нет. Даже интересно.
Он сказал это так просто, словно речь шла о прогулке.
— Ну, я пойду. Мать ругает, что дома почти не бываю, даже ночевать не являюсь. Помогу ей по хозяйству, успокою малость.
Все мы с нетерпением начали ждать грозы. Наконец-то небо заволокло черными тучами. Они теснили друг друга, сталкивались и полыхали молниями. Со смешанным чувством тревоги и надежды поглядывал я теперь на заводскую трубу. Молнии, как ножом, резали на части взбудораженное небо, извивались над городом, иногда одновременно сверкали в двух-трех местах. Дождь лил как из ведра. Я же, стоял у окна, не сводил глаз со злополучной трубы. Порой казалось, что она вздрогнула, закачалась и вот-вот рухнет. Но молнии потухали, а труба оставалась невредимой.
Едва кончился дождь, я помчался к Николаю.
Он стоял у калитки. По его лицу скользила кривая ироническая улыбка.
— Здорово громыхало, но… попусту. Нет, надо надеяться на себя, а не на бога, — и, помолчав, добавил: — А ведь мы неправильно говорим-«громоотвод». Не гром может поразить, а молния, а для ее заряда делается отвод. Значит, правильнее будет «молниеотвод». Так-то…
Никогда и никто из нас не заводил потом разговора об этой злосчастной заводской трубе, но каждый раз, когда над городом сверкали молнии, мы тайно надеялись, что одна из них угодит в трубу, а так, упав, раз рушит немецкий склад.
При отступлении фашисты взорвали большинство заводских труб. Не уцелела и Колина.
ЛЕТОМ СОРОК ВТОРОГО
С северной окраины города доносился непонятный но тревожный шум, который медленно нарастал. Мы с Николаем остановились возле небольшого кирпичного дома с палисадником и в беспокойном ожидании глядели на шоссе, по которому сплошным потоком двигалась колонна. С приближением потока мы начали различать охраняемых конвоем людей. По обочинам туда и сюда сновали мотоциклисты, солдаты в касках ощетинились автоматами, овчарки на длинных поводках высунув языки, тянули вперед своих хозяев — эсэсовцев. Выстрелы, злобные крики конвоиров, безмолвие движущейся человеческой массы нас волновало и угнетало.
Медленно и угрюмо тянулась колонна военнопленных. В форме, в нательном белье, голые до пояса, а порой и в гражданской одежде шли, понурив головы, изможденные люди. Многие двигались с трудом, опираясь на плечи более крепких товарищей, а обессиленных несли на руках и на связанных, как носилки, палках. Но таких было немного. Если кто падал и не поднимался, того пристреливали конвоиры.
Они шли молча, придавленные страхом перед неизвестностью, униженные позорным положением, томимые голодом и жаждой. Их бессилие и покорность для нас были непостижимы и горькой обидой отзывались в сердце. Но встречались лица решительные, непреклонные и гордые.
Солнце палило нещадно. Облизывая пересохшие губы и жадно глядя на срубы колодцев, некоторые пленные чуть слышно повторяли: «пить, пить» и шли дальше в полусознании, механически переставляя отяжелевшие ноги.
К дороге со страхом и недоумением стекались горожане. Кое-кто потом приносил ведра с водой, но конвоиры не подпускали людей близко к пленным, выливали воду и, ругаясь, стреляли вверх. Иногда солдаты подзывали женщин с ведрами и, напившись, разбивали о землю кружку или стакан, простреливали ведра и, погрозив оружием, шагали дальше.
Плотно сжав губы, бледный, Николай растерянно смотрел на жуткое шествие и молчал. А пленные все шли и шли, и, казалось, не будет конца и края этому потоку горя, страданий.
Мы тогда еще не знали о жестоких боях под Харьковом, хотя немецкая пропаганда уже кричала о крупном наступлении на юге восточного фронта и об уничтожении большой группировки советских войск на Изюмо-Барвенковском направлении.
И вот у нас в, городе появилось страшное место — лагерь для военнопленных.
Сотни жителей, в основном женщины, приходили к нему, приносили продукты, толпами и в одиночку бродили на почтительном расстоянии от колючей проволоки, стараясь увидеть знакомое лицо или услышать желанный голос.
Охранники с овчарками дежурили около заграждений, выкрикивали ругательства в адрес близко подходивших к проволоке, а иногда спускали собак, которые с невероятной лютостью набрасывались на перепуганных людей.
Нередко солдаты стреляли над головами женщин, но все это не умеряло стремления отыскать мужа, брата, сына. Через проволоку пленные бросали камни, завернутые в тряпку или бумагу, где указывался адрес и фамилия того или иного из них. Как правило, эти «послания» исправно доставлялись по назначению не только жителям города, но и в отдаленные села и соседние города. Их доставляли меняльщики и те, гонимые голодом, кто переселялся в села или разыскивал родственников.
Были случаи, когда за вознаграждение коменданты лагерей и охрана отпускали пленных, но взятки они требовали довольно крупные и торговались с упрямством заправских дельцов. Человека можно было спасти только за золото. Обручальные кольца, крестики, серьги, золотые зубы и коронки — все шло для выкупа. Обычно посредниками в этих случаях были переводчики. Торг велся солидно, с чисто немецкой деловитостью.
Мы с Николаем много раз ходили вокруг лагерных ограждений, изучали, когда и с какой охраной пленных водили на работу, как сменялись караулы. Хотели организовать побег военнопленных, но чем больше мы наблюдали за охраной и режимом в лагере, тем яснее становилось, что наша затея неосуществима, хотя кое-что из этих наблюдений нам впоследствии пригодилось.
Оккупанты были большие мастера по организации всякого рода лагерей: места выбирались продуманно, система ограждений строилась добротно, наружная охрана была в сравнительно небольшом количестве, но зато из солдат особых — эсэсовских частей.
Режим в лагерях был тщательно разработан и выполнялся неукоснительно. С иезуитской бесчеловечностью лагерное начальство расправлялось с очутившимися за колючей проволокой несчастными людьми.
Лагерная жизнь протекала вне всяких законов. Военнопленный должен был забыть о прошлом и нет строить планов на будущее. Человек низводился до уровня животного, а сама его жизнь была совершенно обесценена. Пусть в день умирают сотни людей, можно, расстрелять десяток непокорных, но боже упаси, чтобы из лагеря кто-либо совершил побег. Это неизбежно вело ко всякого рода экзекуциям в самом лагере, а также к репрессиям в городе. Когда сбежавшему удавалось скрыться, в лагере сообщалось, что беглец был обнаружен и на месте расстрелян, но если беднягу ловили, то после издевательств и пыток его публично казнили — чаще всего вешали и не снимали несколько дней.
В фашистской Германии были целые группы «социологов», «психологов», «медиков» и других «ученых специалистов», которые «изучали» в лагерях жизнь людей и проводили чудовищные опыты по обесчеловечиванию пленных. Но об этом мы узнали позже.
За время нахождения на оккупированной территории приходилось беседовать с сотнями лиц, которые побывали в лагерях. Двух мнений об условиях лагерной жизни не было — это земной ад. Как правило, люди предпочитали погибнуть, чем снова попасть за колючую проволоку.
Вместе с тем лагеря военнопленных с их бесчеловечным режимом, массовое уничтожение людей и карательные операции оккупантов усиливали ненависть, пробуждали ярость. Обыватели и даже те, кто недоброжелательно относился к Советской власти, убедились, что фашизм — это насилие, несущее рабство и уничтожение.
Быстрое продвижение гитлеровских полчищ в сторону Кавказа и Волги потрясло нас. При встречах мы нетерпеливо спрашивали друг друга о новостях, надеясь услышать что-нибудь отрадное. Но радио приносило вести из Москвы день ото дня все более тревожные. Николай выполнял поручения организации, был дисциплинированным, родителям помогал обрабатывать огород, хлопотал по дому, исполнял просьбы матери… Но тем не менее в нем словно что-то надломилось. Он разучился шутить и смеяться, начал искать уединения. В нем оставалось прежним лишь стремление к борьбе.
Пришел он как-то ко мне, спросил:
— Ты знаешь, что я вчера раздобыл?
— Откуда же мне знать?
— Вооружен я теперь до зубов. Брат мой Толька с дружками купался в Торце недалеко от плотины, и ему показали место, где якобы спрятано оружие. Пошел я посмотреть и — что ты думаешь? На заводской свалке нашел винтовку и кавалерийскую саблю в ножнах. Оружие наше, смазано маслом, замотано в плащ-палатку. Перепрятал. Может, пригодится?
* * *
Вскоре и от меняльщиков мы прослышали, что в местах недавних боев под Харьковом осталось много военной техники и оружия.
В Харьковской области жили мои родственники, и я сказал об этом командиру и политруку.
— Может быть, ты родственников навестишь, — как-то напомнил политрук.
Я согласился стать меняльщиком. Начались сборы: Николай вызвался отремонтировать старенький велосипед Вали Соловьевой. Хлопоты о пропуске, дающем право на переезд из одного района в другой, взяли на себя Женя Бурлай и Надя Арепьева. Остальные ребята добывали товар для обмена на продукты: сахарин, хлебную соду, зажигалки и камешки к ним, мыло, сигареты и всякую всячину.
Ко мне на велосипеде приехал Николай и деловито сказал:
— Все в порядке. Раму выровнял, спицы натянул, камеры заклеил, втулку смазал. Есть запасные ниппеля, клей, инструменты. Хотел подкрасить, но решил, что не надо: чем хуже вид, тем меньше будут обращать внимание. Так?
— Ты — гений, — весело сказал я.
Подошли к перекладине, Николай несколько раз подтянулся на руках, сел на лежащие рядом бревна, тихо заговорил:
— Если улыбнется счастье и раздобудешь какое-либо оружие, то не вези его, а спрячь в надежном месте, потом вдвоем поедем и заберем. Уговор?
— Уговор.
Наконец все заботы были позади: документы в порядке, к багажнику велосипеда приторочена сумка с товаром и продуктами на несколько дней, друзья собрали небольшую сумму советских и немецких денег. Последнее напутствие командира и политрука, и я отправился в путь.
При выполнении задания с кем только не пришлось встречаться: с добрыми и злыми людьми, отчаянно храбрыми и до отвращения трусливыми, ярыми врагами Советской власти и патриотами Родины. Все они оставили больший или меньший след в памяти. Одна же встреча глубоко запала в душу.
В Барвенковском районе, к селу — название запамятовал — подошел я близко к вечеру. Вел велосипед со спущенной камерой.
Тогда много всякого люда бродило по дорогам, редко находилась сельская хата, где бы на ночь не останавливалось по нескольку человек ночлежников. Общее горе сближало людей, большинство из них делало добрее и отзывчивее.
Войдя в село, начал и я проситься на ночлег. Мне отвечали, что в хате уже полно. Потом перестал спрашивать, видя в каждом дворе по нескольку ручных тележек и тачек людей, идущих на менку. Наконец, сердобольная крестьянка посоветовала мне пойти на окраину села, там, в бывшей колхозной конюшне, мол, ночуют все, кому не посчастливилось попасть в хаты.
От усталости я едва волочил ноги, велосипед казался мне многопудовым. Совсем стемнело, когда подошел к длинному сараю без дверей. Тишина, никаких признаков людей. Монотонно и нудно стрекотали сверчки. Где-то далеко за горизонтом вспыхивало и сразу же угасало небо. Так бывает при бомбежке без пожаров.
— Есть кто живой? — заглядывая в сарай, спросил я почти басом, стараясь придать своему голосу этакую солидность.
— Есть, — донесся из дальнего угла сарая настоящий, а не поддельный, как у меня, бас: глухой, рокочущий.
Поставив велосипед у стены, посветил фонариком в тот угол, откуда раздался голос. На соломе лежал большеголовый, обросший густой щетиной человек в фуфайке. Жмурясь от яркого света, он смотрел на меня сурово. «Страшный какой-то, еще придушит», — почему-то промелькнула шальная мысль.
— Давай, устраивайся, братишка, — ласково сказал он. — Вдвоем веселей будет, хоть покалякаем перед сном.
Я немного потоптался в нерешительности, спросил:
— Вода здесь есть?
— Во дворе колодец. Там и ведро на цепи.
Достав воды, я умылся, потом уже с велосипедом зашел в сарай. Отвязал сумку, сел на пол, устланный соломой. Посвечивая себе фонариком, отрезал хлеба, кусок сала и начал есть. Мой сосед тяжело вздохнул, грузно отвернулся от меня и затих. «Наверное, голодный», — подумалось мне. Спросил его:
— Вы, случайно, есть не хотите?
— Почему же случайно, — засмеялся сосед. — Хочу: совершенно закономерно.
Я отрезал ему хлеба и сала.
— Это же королевский ужин! В наши дни — пища богов, — похвалил он. — Если бы я был богат, то дорогих гостей кормил бы только такими деликатесами.
Справившись с едой, он поблагодарил, помолчал не много, с усмешкой в голосе сказал:
— Вообще это мечта забитой нуждой прачки. Она утверждает, что была бы она царицей — стирала бы только самой себе… Скудость фантазии, убогость мысли…
Не знаю почему, но у меня начало зарождаться к нему доверие. Встречаются такие люди, которые наделены удивительной притягательной силой, вызывающие расположение к ним. В темноте я не мог видеть глаз и выражения лица моего соседа, мне не был известен его духовный мир, я только слышал его голос, интонации этого голоса — и они одни все же располагали к говорившему.
— Ну что ж, как говорят, бог напитал — никто не; видал. Теперь можно и с сытыми равняться, а они-то уже поди спят… Если ты, мой юный друг, не завшивел — ложись подальше от меня, если и ты, как я, богат этой живностью — располагайся рядом, — и он замолчал.
Сняв пиджак, я лег чуть в сторонке. «Интересно, кто он? О чем сейчас думает?» Но спросить его постеснялся. Молчание, наверное, его угнетало, он негромко спросил:
— Как тебя зовут?
— Борис.
— Хорошее имя. Меня Дмитрием. Послушай, Борис, будь добр — расскажи о себе.
Я вкратце рассказал, умолчав, конечно, о цели своей поездки.
— Ты комсомолец? — после небольшой паузы спросил он.
Вопрос меня насторожил.
— Состоял, — ответил я как можно безразличнее. — Теперь, понятно, механически выбыл за неуплату членских взносов. Да и денег нет платить.
— В наше с тобой время взносы платят не деньгами… И в комсомоле не состоят, комсомольцем надо быть душой. Всегда, везде, при любой обстановке. И больше всего, когда наедине с собой.
Он говорил убежденно. Я приподнялся на локти, стал смотреть в сторону Дмитрия. Мне показалось, что его глаза светились в темноте. И еще раз вдруг подумал, что слова его находили отзвук в моем сердце, и мне еще больше захотелось узнать: кто он и что его привело в этот заброшенный сарай на краю села? Понимал, что после моего ответа о комсомоле он может не доверять мне. Я все же спросил:
— Скажите, пожалуйста, кто вы?
— Вообще или… сейчас?
— Вообще и сейчас.
Дмитрий надолго умолк. Я мысленно выругал себя за излишнее любопытство, показалось, что мой сосед замкнулся. И вдруг его словно прорвало. Он поднялся, сел, привалившись к стенке. Приглушая бас, заговорил.
— Мой отец был профессиональным революционером, большевиком. Бежал с каторги. Жил нелегально на Алтае и там сошелся с дочерью армейского офицера. Матушка моя — образованная мечтательница. Отец же — суровый реалист, при том не ахти какой грамотей, но щедро наделенный способностями, с удивительно сильной волей и строжайшей самодисциплиной. Мне всегда думалось, что отцу по плечу любое дело. — Дмитрий помолчал. — Вот такие у меня родители. Меня они не баловали, отец воспитывал в спартанском духе. Учился я хорошо. Не столько от одаренности, а скорее всего из самолюбия. Не допускал, что бы кто-то из соучеников мог знать больше меня, сделать лучше, чем я.
От матери унаследовал любовь к музыке и песне. После революции отец остался в Красной Армии, служил на границе… Погиб в стычке с басмачами. — Дмитрий вздохнул, помолчал. — Матушка после десятилетки уговорила меня поступить в консерваторию. Поступил, учился по классу вокала и фортепьяно. Что-то причлось не по душе — бросил консерваторию и подался в армию, наверное, потому, что отец мечтал видеть меня военным. Службу полюбил, отдался ей всецело. Пришло время — воевал с финнами, освобождал Западную Белоруссию, есть чем гордиться, а почему бы и нет? — Дмитрий откачнулся от стенки, видимо, сжал кулаки — послышался хруст пальцев. — Нагрянула большая война. Отступление, был дважды ранен, дважды награжден. И вот… проклятое Изюмо-Барвенковское направление, наш разгром… ранение, и твой слуга покорный с куском крупповской стали в бедре — завшивленный и в бывшей конюшне.
Он замолчал, глубоко вздохнул. Меня подмывало спросить его о возрасте, но побоялся лишним вопросом спугнуть его откровенность.
— Странно все-таки устроен человек, — вновь заговорил Дмитрий. — К вечеру есть хотелось до одури, мечтал только о еде. Заморил червячка — мечтаю о куреве, больше чем о еде.
Я достал из сумки пачку сигарет, протянул их соседу.
— Сигареты? — обрадовался он. — Балуешь ты меня, Борисушка, — довольно зарокотал он. — Посвети-ка, чтобы ненароком не поломать какую, да и чудом техники не повредить пальцы.
Я зажег фонарик, направил его на Дмитрия. Волосы у него были черные и густые, черты лица крупные, глаза темные. Под фуфайкой угадывалась могучая грудь. И меня поразили его руки — кисть тонкая, изящная и пальцы длинные и тонкие.
Дмитрий достал из кармана кусок кремня, квадратик металла и комок ваты. Несколькими ударами металла о кремень высек искру на вату, подул на затлевший огонек, вата загорелась. Прикурил от нее. Я погасил фонарик.
— Я не хочу тебя обидеть, Борис, но правду говоря, сигареты дрянь, особенно по сравнению с нашей махоркой. Ею, голубушкой, затянешься пару разков, и сразу в тебе все жилочки от радости затрепещут, аж петь захочется от удовольствия. Это немецкие — дрянь полнейшая!
Я не курил и разницы между сигаретами и махоркой не находил — и то дым, и это дым. Но чтобы поддержать разговор, уверенно сказал:
— Немцы курят морскую траву, пропитанную никотином.
— Похоже так. Вообще, продукты, вина и табаки немецкие хуже наших. У нас все цельное, крепкое, а они черт знает что примешивают. Эрзацы делают, да еще и задаются, сволочи.
Он несколько раз глубоко затянулся, стряхнул на ладонь пепел и продолжал:
— У какого-то народа есть пословица: пока ты жив — не умирай. По-моему, это прежде всего относится к духовной и моральной стороне человека. Если он живет только во имя стола и постели, его лишь условно можно назвать живым человеком. Труп он, правда, не смердящий. Быть рабом природных инстинктов пошло и глупо. Настоящая жизнь не мыслима без борьбы, и обязательно во имя чего-то возвышенного нужного людям. Человек должен быть одержим, жить азартно, жадно, конечно же, в самом наилучшем смысле этих слов. — Дмитрий опять глубоко затянулся, чуть заторопился. — Вот я… сейчас я… вроде бы никто! Бродяга беспачпортный! — он вдруг дотянулся рукой до меня, крепко сжал мой локоть. — Почему-то верю тебе, Борис. Я коммунист. Сын своей партии и народа. И это, Борис, не слова! В бедственном я сейчас положении, но дух мой не сломлен, потому что я знаю чего хочу, а хочу не малого: свободы для Родины.
Он торопливо прикурил новую сигарету от недогоревшей, заговорил тихо, проникновенно:
— Раненого меня подобрали и выходили добрые старые люди. Наши люди, понимаешь, Борис? Великое им спасибо за хлеб-соль и ласку. В том селе, где меня выхаживали, жила одинокая солдатка, муж ее погиб: в первые дни войны. И вот старик и старушка, уже называвшие меня своим сыном, своих детей у них не было, решили засватать за меня молодицу. Женщина она красивая, работящая, в доме у нее достаток. Казалось, чего же еще тебе надо? Пристраивайся — уцелеешь в этой военной круговерти. Все просто, как дважды два. А имею ли я на это право? Нет… Если я это позволю, мне кажется, что красные корки моего партийного билета станут черными. Душа станет черной… — Дмитрий помолчал. — В ножки поклонился я своим спасителям, извинился перед красавицей вдовой и… ушел с незажившей раной и без всяких дающих право на существование документов. Иду. Куда? Зачем? А вот зачем, — и Дмитрий легонько напел:
Артиллеристы, Сталин дал приказ, Артиллеристы, зовет Отчизна нас…Помолчав недолго, Дмитрий заключил:
— Вот и меня зовет она, Отчизна. С ее гибелью мне придет конец. Но она не погибнет — нас, таких как я, миллионы, и победить нас никому не удастся. Вот так-то, Борис!
Как завороженный, слушал я Дмитрия. Мне хотелось обнять его, сделать для него что-то полезное. Возникло желание сказать Дмитрию правду о себе, о друзьях по борьбе. Осторожность подпольщика останавливала: почему мне, случайному человеку, Дмитрий так откровенно и смело открыл душу, сказал то, о чем в подобных ситуациях не говорят. Мог ли настоящий коммунист так сразу довериться, да еще и «ранее состоявшему в комсомоле» юнцу, который к тому же в трудное время ест хлеб с салом и угощает немецкими сигаретами. Может быть, он наврал, а может быть… это прием провокатора?
Но говорил он искренне, с подъемом, я не уловил ни фальшивой интонации, ни сомнительной фразы. Он не лез с расспросами, не поинтересовался моими убеждениями, не требовал ничего в ответ на свою откровенность.
Мы долго сидели, не проронив ни слова. И вдруг, повернувшись ко мне и словно понимая мое состояние, он сказал:
— Я тебе, Борис, слишком много наговорил. Получилось нечто среднее между исповедью и уроком политграмоты. Но всем естеством своим я чувствую, что ты честный парень, и хочется мне, чтобы наша встреча помогла тебе найти свое правильное место в этой вздыбленной войной жизни. Наверное, у каждого человека бывает такое состояние, когда его распирает от избытка мыслей и чувств и, как джин из закрытой бутылки, они рвутся наружу. В такие минуты нужен человек. Спасибо, Борис, ты выслушал меня терпеливо.
И неожиданно весело спросил:
— Ты любишь песни?
— Люблю.
— Петь умеешь?
— Немного.
— Заметь, Борис, что грубые и злые натуры не любят песен. Послушай вот одну песню. Ты, наверное, ее никогда не слыхал. Мелодия несложная, слова простые, найдешь ее привлекательной, пусть будет памятью нашей встрече.
Он тихо запел. Голос зазвучал красиво. С особым чувством он пел о том, что милый «снова едет на восток». Из песни было ясно, что милый девушки едет на восток, где шла война с заклятым врагом. «А ведь Дмитрий тоже идет на восток, — подумал я. Возникла мысль: — А не сам ли Дмитрий написал эту песню, учился же он в консерватории?»
Песня мне понравилась, чтобы запомнить ее, я попросил его спеть еще раз. Он охотно исполнил. Я повторял за ним слова. Заснули мы около полуночи. Сквозь сон услышал, как на мне поправили сползший пиджак.
Утром Дмитрия рядом не оказалось. Я вышел из сарая — около колодца его не было.
Я подосадовал, что мне довелось побыть так мало вместе с Дмитрием, конечно же, умным и незаурядным человеком. Меня охватило чувство вины перед ним: почему я не дал ему на дорогу хлеба и сигарет. Даже не поблагодарил за откровенность, за уверенность в нашей победе.
Умывшись и слегка перекусив, я заклеил проколотую камеру и снова двинулся в путь. Из головы не выходили слова Дмитрия, его песня, но где-то глубоко в душе шевелилось чувство неудовлетворенности, собственной неправоты. Оно долго не покидало меня.
В поисках оружия я объездил несколько районов Харьковской и Днепропетровской областей, побывал у родственников, старых знакомых, но все напрасно. Даже дальний родственник, оставленный для подпольной работы в немецком тылу (о чем я узнал гораздо позднее), не пошел на контакты со мной. Тогда мне было семнадцать с половиной лет, и он, наверное, не считал меня способным на что-либо серьезное.
После двухнедельных мытарств возвратился в Константиновну обессиленный, разбитый, угнетенный сознанием невыполненного задания.
Домашние встретили меня с радостью и недоумением — был в селе у родственников, а вернулся изможденный и худой, как скелет. Брат таинственно шепнул:
— Вчера твой Колька приходил.
На следующее утро пришел Николай. Друг не мог скрыть радости от встречи, тормошил меня, спрашивал о самочувствии. Он, видимо, догадывался о безуспешности моего путешествия и всячески уводил разговор от этой темы.
— Ребята уже волноваться начали, обещал вернуться через неделю, а пробыл целых две. Сегодня в два часа у Анатолия сбор. Приходи.
Николай взял совершенно разбитый велосипед:
— Досталось ему бедняге. Но ничего, отремонтирую, как игрушка будет.
В середине дня я направился к командиру.
Встреча была шумной — меня засыпали вопросами.
Я рассказал, что вдоль дорог видел взорванные танки, сожженные автомашины, разбитые пушки, повозки, походные кухни. За сокрытие оружия, боеприпасов или военного обмундирования немцы беспощадно расстреливают местное население. О действиях партизан в тех районах не слыхал.
— Так и вернулся не солоно хлебавши, — грустно улыбнулся я. — Дважды задерживался полицией: один раз отпустили, а в Доброполье сбежал.
— Не надо унывать, — подбодрил политрук. — Хорошо, что вернулся цел и невредим. Оружие мы все равно добудем.
Женя Бурлай доложила, что немцы проводят кампанию по вербовке молодежи в Германию, напечатаны плакаты и призывы, в которых на все лады расхваливается «райская» жизнь в рейхе.
Решили саботировать мероприятия немцев. Политрук составит текст листовки, потом каждый напишет по десять штук и расклеит. Я рассказал Николаю о встрече с Дмитрием. Друг выслушал и сказал:
— Какой человек!.. Как бы он нам был нужен! Ты неправильно поступил, что так… просто с ним расстался.
— Он же ушел, — оправдывался я.
— Ты не должен… Надо было… Коммунист, командир Красной Армии… умный и сильный человек — какая бы это была для нас находка. Достали бы ему документы, подыскали жилье, и закипела бы работа.
— А вдруг он не тот человек, за кого себя выдавал?
— Ерунда. Ты дал маху и не спорь! — Николай долго шел молча, потом, улыбнувшись, сказал: — Песня замечательная, спой тихонечко.
Он начал повторять за мной слова песни:
Утопают села в вишнях и черешнях, И над степью тает голубая мгла, Я вчера встречалась с пареньком нездешним, Ласковым и нежным на краю села. Он такой хороший, милые девчата, Ласковый, как теплый майский ветерок, Он принес мне радость — весточку от брата, Говорил, что снова едет на восток. Говорили долго, сидя под черешней, Расставались — зорька над рекой плыла, И хочу я снова встретиться с нездешним, Ласковым и нежным, на краю села.К моему удивлению, Николай сразу запомнил песню, позже ее разучили и другие подпольщики, и она стала нашим паролем.
Прошло более тридцати лет с тех пор, как я услыхал ее впервые. Она была со мной в суровые годы военного лихолетья, сопутствовала в трудные и радостные времена студенчества. Да и теперь еще не утратила своей прелести. Меня многое связывает с этой песней, она напоминает о короткой, но яркой, глубоко запавшей в душу встрече с Дмитрием, и о славном друге Николае Абрамове.
МЕДУЧИЛИЩЕ
До войны в Константиновке был медицинский техникум. Преподаватели и врачи, работавшие в техникуме и не успевшие эвакуироваться, теперь занимались кто чем мог, лишь бы прокормиться и дожить до лучших времен. В августе сорок второго года мы узнали, что оккупационные власти города разрешили открыть медицинское училище.
Эта идея приписывалась врачу Веслоухову, бывшему преподавателю, с приходом немцев назначенному главным врачом городской больницы.
О докторе Веслоухове ходили противоречивые толки. Одни утверждали, что он хлебом-солью встречал захватчиков и проклинал еврейско-большевистскую власть. Другие же доказывали, что он далек от всякой политики, третьи высказывались, что ему «все равно кого любить и все равно кому молиться». Поговаривали, будто за вознаграждение он выдавал справки о болезни, и этим избавлял людей от угона в Германию. Из-за разноречивых толков мы, подпольщики, ему не доверяли и терялись в догадках: зачем ему-то училище? Как специалист-терапевт он славился не только в городе, но и за его пределами. Ему несли и везли лучшие продукты, а это было тогда основным мерилом богатства, ни в чем недостатка он не испытывал, и вдруг — непонятная затея с училищем.
Веслоухов развил удивительно кипучую деятельность: установил адреса преподавателей, отыскал учебники у бывших студентов и своих коллег, присмотрел в школах уцелевшие парты. Подходящее помещение найти было трудно, но «шеф» училища (тогда это слово для нас было новым) не унывал и продолжал поиски.
Наш комсомольский вожак Вера Ильинична, работавшая в городской больнице, не уважала Веслоухова за его слащавость, беспринципность, называла «гнилым интеллигентом» и «беспозвоночным угодником».
Рано утром ко мне пришел Николай, спокойным и деловым тоном сказал:
— Сегодня в два часа общий сбор у Вали Соловьевой. Скажи об этом Онипченко и Иванченко. Не опаздывайте.
— Что-нибудь случилось?
— Командир и политрук молчат. Догадываюсь, речь пойдет об училище. Посмотрим.
Я предупредил ребят о сборе и пошел в центр города. Недалеко от здания полиции на большом фанерном щите вывешивались сводки немецкого командования, приказы коменданта, распоряжения бургомистра, оккупационная газетка «Ввдбудова».
Несколько человек стояли у щита, молча читали. Из-за плеча здоровенного детины, одетого в старую засаленную фуфайку, я начал просматривать газету. Информация о наступлении немцев на Дону и Кавказе, «исторический очерк» об «извечной дружбе» немцев и украинцев, вирши какого-то поэта-националиста, фельетон о людоеде коммунисте, истязавшем своих детей-комсомольцев.
Мое внимание вдруг привлекло объявление, напечатанное в самом конце полосы: в городе открывается медицинское училище, и за справками надо обращаться в регистратуру центральной поликлиники.
Когда мы собирались у Валентины, ее мать обычно усаживалась на маленькую скамеечку у подъезда и лузгала семечки. Если же возникала какая-либо опасность — она ходила около подъезда. Когда все были в сборе, кроме Веры Ильиничны, Женя Бурлай сообщила, что комсорг опоздает, она, мол, предупредила об этом, но тут же послышался условный стук в дверь, и вошла раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Яковлева.
— Товарищи, — без обычных предисловий начал политрук, — все вы уже слышали, что в городе собираются открыть медучилище. Сегодня в «Ввбудов» напечатано объявление о наборе учащихся в него. Об условиях приема расскажет Вера Ильинична.
Яковлева начала ровным голосом:
— Директором училища назначен Веслоухов. Учебная программа рассчитана на один год, потом четыре месяца практики. Комсомольцы не принимаются. Власти хотят набрать человек шестьдесят. Заявления сдавать в регистратуру поликлиники, о начале занятий будет сообщено дополнительно. Мне предложено читать лекции по инфекционным болезням. Я согласия не дала, как решите, так и поступлю. Кстати, Вале Залогиной предложили вести курс микробиологии.
Она умолкла, посмотрела на Стемплевского, потом на Дымаря, ожидая вопросов, но их не было, и она села.
— Давайте обсудим, товарищи, — сказал политрук. Женя Бурлай с присущей ей порывистостью заговорила первой:
— Немцы училище открывают с определенным умыслом: соберут молодежь и в любой момент, без всяких облав смогут угнать в Германию. Кроме того, они наверняка преследуют политические цели: распишут, растрезвонят, что, мол, победа Германии — дело решенное, возврата к старому не будет, а открытие училища — свидетельство заботы властей о народе. И поэтому не следует сопротивляться немцам, они благодетели, а не поработители, да и сопротивление им, дело, мол, безнадежное. Если на фронте они приближаются к Волге, а в тылу открывают учебные заведения, то стоит ли бунтовать, браться за оружие? Я считаю, что нам следует с большой осторожностью отнестись к этой затее властей, но оставаться в стороне мы не должны.
Уравновешенный Алексей Онипченко на сборах выступал редко, но всегда по-деловому, конкретно. Однако у него была странная манера говорить: не всегда было понятно, когда он спрашивает, а когда утверждает. На этот раз он явно проявлял нетерпение. И не успела Женя сесть, как он тут же заговорил:
— Можно ли думать, что для того, чтобы собрать пятьдесят-шестьдесят человек молодежи, немцы задумали бы комедию с училищем? А не допускаете ли вы, что из учащихся фашисты надеются сделать поборников «нового порядка», своих приспешников? А разве исключено, что гестапо и полиция в среду учащихся направят своих агентов, осведомителей, а с их помощью не нападут на след подпольщиков или хотя бы не выявят враждебно настроенных, способных к смелым действиям? Я думаю, что два-три человека нам надо направить в училище. Я согласен стать студентом, подхожу по всем статьям: не комсомолец, смирный, неприметный, к немцам отношусь «лояльно». — Окинув взглядом товарищей, Алексей продолжал убежденно: — Мы должны использовать училище в своих целях и сумеем это сделать. Вере Ильиничне необходимо быть преподавателем.
Когда он сел, все вдруг разом загалдели, перебивая друг друга, оживились. Присуща молодости горячность брала верх над осторожностью, законами конспирации.
— Спокойно, спокойно, — строго приказал Стемплевский. — Базар какой-то получается. Высказывайтесь по очереди.
Все замолчали. Валя Соловьева подошла к окну, посмотрела на улицу: мать сидела на скамеечке. Значит, полный порядок. Вернувшись на место, она сказала:
— Прежде чем открыть медицинские курсы, в комендатуре и в бургомистрате, наверное, обсуждали этот вопрос — и не один раз. Конечно, сразу мы не узнаем, чего хотят немцы. Вере Ильиничне и Валентине Савельевне следует соглашаться с предложением, а из нас три-четыре человека должны подать заявления. Таким образом, как среди учащихся, так и среди преподавателей будут наши товарищи. Я, как и Алексей, согласна там учиться.
Во время ее выступления Павел Максимов и Иван Иванченко о чем-то перешептывались.
— Мы с Ваней посоветовались и тоже решили удариться в науку, — сказал Максимов. — Мы так рассуждаем: среди учеников можно будет высмотреть подходящих, боевых ребят. Может быть, сумеем выявить завербованных немцами подлецов.
Я несколько раз поглядывал на Николая, который пока не проронил ни слова, и только лицо его выражало неодобрение и насмешку над всем, о чем здесь говорили. Мне почему-то казалось, что если бы встал вопрос о поджоге училища, то он понимал бы-разговор деловой и, наверное, первым попросился бы на задание. А все рассуждения, предположения, догадки казались ему странными и ненужными. Николай был человеком конкретных и решительных действий, а играть в кошки-мышки претило его натуре.
Мне вдруг захотелось возразить ему, доказать его неправоту, хотя он не сказал ни слова.
Глядя на Николая, я сказал:
— Нам все равно, как назовут это заведение: школа, училище или курсы. Главное в том, что учащимся выдадут документы, они нам могут здорово пригодиться. На многих соучеников мы сможем влиять, сообщать им правдивые сведения о делах на фронте, о зверствах фашистов. Эти сведения разнесутся по всему городу, и лучшего рупора нам не придумать. Если училище будет для нас бесполезным, а тем более вредным, то мы сожжем его к чертям и — баста! Я прошу направить меня учиться, а белый халат мне будет к лицу, — весело заключил я и заметил, что Николай утратил насмешливость и даже просиял.
Командир, политрук и комсорг о чем-то вполголоса переговорили между собой, политрук поднялся.
— Будем считать вопрос решенным: заявления в училище подадут Алеша Онипченко, Ваня Иванченко, Павлик Максимов, Боря Мезенцев и я.
— Хоть одну, одну бы девушку… — вырвалось у Вали Соловьевой.
— Они ребята бравые и девушками там обзаведутся, — сказал Владимир, и все засмеялись. — Тебе, Валя, будет дано другое задание.
Через неделю мы, пятеро подпольщиков, стали учащимися медицинского училища. Это подтверждалось удостоверениями личности, в которых подпись шефа Веслоухова скрепляла огромная печать с изображением орла на свастике.
В старину говорили, что человек состоит из тела, души и паспорта. У немцев человек имел право на существование, если располагал документом. Если же его не оказывалось, человека отправляли в концлагерь.
Училище разместилось за Николаевским мостом, в бывшем здании санатория, у самой реки Кривой Торец. На другой ее стороне был парк имени Якусевича. Кривой Торец — река мелководная, ленивая. Для нужд заводов необходимый уровень воды в черте города поддерживался несколькими плотинами. После эвакуации заводов, при отступлении, плотины взорвали, и Торец стал небольшим ручьем, который во многих местах переходили по набросанным в воду камням. Переход около бывшего санатория для нас имел немаловажное значение: за парком жили наш командир и Николай Абрамов и, в случае необходимости, мы легко могли попасть к ним.
Учеба началась в первых числах сентября. В двух группах было по 30 человек. Политрук и я попали в первую группу, а Онипченко, Иванченко и Максимов — во вторую.
В первый день занятий перед слушателями выступил шеф училища Веслоухов. С мягкой наигранной улыбкой он пояснил:
— Обучение будет носить чисто профессиональный характер. Всякая политическая деятельность в училище запрещена, и замеченные в неблаговидном поведении будут немедленно отчислены. Нам пошли навстречу, позволили открыть училище, которое даст вам специальность, кусок хлеба и уважаемое положение в любом обществе. Призываю вас: проявите усердие и дисциплину.
Говорил Веслоухов с подъемом, но застывшая, привычно заискивающая улыбка на его лице вызывала чувство жалости.
Почти половину учащихся составляли девушки, среди них я узнал несколько бывших студенток медицинского техникума. Через несколько дней мы все перезнакомились.
Из разговоров нетрудно было установить, что одни пошли в училище с надеждой избежать угона в Германию, другие не знали, куда себя деть, где найти себе применение, третьи серьезно думали о профессии медика. Мы постоянно помнили, что среди учащихся есть завербованные гестапо или полицией.
Через неделю после начала занятий в городской газете появилась статья. Анонимный автор писал, что украинский народ должен с благодарностью оценить великодушный жест немецких властей, изгнавших большевиков и евреев, а теперь открывших училище медиков.
Корреспондент врал, что слушатели в верноподданическом порыве спели гимн фашистской Германии, а также гимн украинских националистов. Грязная стряпня возмутила нас, и кое-кто высказывал мысль о разоблачении этой фальшивки: надо, мол, написать листовки. Но, посоветовавшись, решили пока «не дразнить гусей»: еще посмотрим, кто будет истинным хозяином в училище, кому и какую службу оно сослужит. Пусть брешет националист, а мы пока помолчим…
Среди преподавателей оказались преинтересные субъекты. Лекции по физиологии читала Варвара Никифорова, пожилая, с некрасивым лицом дама. Читала интересно, вдохновенно. В темы лекций, которые на первый взгляд были далеки от политики, она умело вставляла рассуждения о патриотизме, гражданском долге, хвалила довоенную жизнь, не скрывала своей неприязни к захватчикам, их «новому порядку». Ее слова восхищали одних, настораживали и даже пугали других.
Однажды я спросил у В. С. Залогиной о Варваре Никифоровне.
— Она демагог. Раньше брюзжала и поругивала Советскую власть, сейчас поносит немцев. Вздорная баба, ни на что серьезное не способна.
Как-то мне суждено было встретиться с Варварой Никифоровной при необычных обстоятельствах. Находясь уже на нелегальном положении, летом 1943 года я пришел по вызову руководства из Часов-Яра в Константиновку, и Т. С. Сегеда поселила меня у хороших людей. По «легенде» я был сбитый летчик. Хозяева — большие патриоты, относились ко мне радушно. Вечером наши самолеты бомбили аэродром. Выбежав во двор, я наблюдал за взрывами бомб и вдруг заметил что кто-то проскользнул в дом. Вышел хозяин и сказал, что пришла сестра жены. Я вошел и оторопел: за столом сидела Варвара Никифоровна.
— Вы не летчик, вы самозванец, — бросила она сердито. — И вы не имеете морального права подвергать риску жизнь благородных людей. Я требую, чтобы вы сейчас же покинули этот дом. А ваша судьба меня не волнует: вы знали, на что шли.
— В городе воздушная тревога, полно полицаев и немцев, и уйти я не могу…
— Убирайся вон! Вон! — истерично закричала Варвара Никифоровна. — Не то я сейчас, сейчас…
Она зарыдала, села на диван. Во взглядах хозяев я заметил растерянность и даже испуг.
— Уймись, Варя, — просила хозяйка, обнимая сестру.
— Пусть сейчас же уходит, сию же секунду! Если его здесь застанут, нас всех повесят.
— Успокойтесь. Я, конечно, уйду, но перед утром, — сказал я, доставая пистолет и усаживаясь у двери.
В ту ночь в доме никто не спал, а едва начало светать, я ушел.
После войны Варвара Никифоровна просила у меня прощения за свой «неразумный» поступок.
Резко отличался от других преподаватель латинского языка. Старый, худой, с выцветшими глазами и ехидной улыбкой, он будто сохранился со времен бурсы. Латинист курил махорку, смешанную с окурками немецких сигарет, которые собирал около солдатских казарм. Коричневые от никотина пальцы мелко дрожали, и мел часто выпадал из его рук. Говорил он на украинском языке, со странным акцентом. «Крайда», «лямпа», «кляс» и подобные выверты произносил с упоением, убеждая, что именно так говорили запорожские казаки. Этот махровый националист ненавидел все советское. Во рту у него осталось три черных от курения зуба, которые напоминали вилы-трезубец — знак украинских буржуазных националистов.
— Наверное, сама природа решила «наказать» его трезубцем, — сказал как-то политрук.
Латинист утверждал, что украинский язык является основой всех языков славянских народов. В своих националистических воззрениях доходил до абсурда. Заманить в стан националистов он, конечно, никого не мог, но старался изо всех сил навязать свои взгляды. Внешней неопрятностью латинист вызывал чувство брезгливости. Двух мнений об этом человеке не было, его ненавидели дружно и открыто.
Была еще одна личность — преподаватель немецкого языка, как мне помнится, Боголюбская. Ей присвоили кличку «Божий одуванчик». Старая барыня, бог весть откуда попавшая в училище, знала несколько европейских языков. Она назойливо хвастала, что закончила Смольненский институт благородных девиц в Петербурге и на выпускном вечере в актовом зале присутствовала сама царица Александра Федоровна. Об этом она говорила почти каждый день. Боголюбская румянила щеки, носила старомодные шляпки и пахла старопорядками. Порой казалось, что старушку долго держали в ящике с нафталином, а теперь по надобности извлекли и пустили в жизнь. Занятия она начинала словами:
— Когда я еще училась в Смольненском институте благородных девиц… — И далее следовал рассказ о пустяковой историйке, случившейся с какой-либо девицей с громким титулом или известной в царское время фамилией. Повествование она обильно снабжала немецкими словами и заключала:
. — Каждый уважающий себя педагог должен иметь свою методику преподавания. У меня такая методика есть. Рассказывая что-либо, я нарочно употребляю немецкие слова и постепенно настраиваю вас на восприятие этого языка. Следуя моей методике, вы в кратчайший срок постигнете язык Гете, Шиллера, Гейне.
— Но ведь Гейне — еврей, — замечал кто-то с места.
— Это неправда. Если бы он был еврей, я непременно знала бы. Когда я еще училась в институте благородных девиц, то мы поголовно зачитывались Гейне. Какой очаровательный поэт! Вот послушайте…
Она читала несколько стихотворений на немецком языке, неуклюже жестикулируя руками.
Метод Божьего одуванчика нам нравился: она спрашивала только тех, кто этого сам хотел, говорила больше отвечающего, а на хорошие оценки была безгранично щедра.
Однажды на уроке кто-то напомнил о войне. «Немка» заохала, всплеснула руками и, плача, заговорила:
— Как это ужасно. Разумные существа убивают друг друга, а все это — от безбожия и гордости. Ведь можно без войны договориться, по-братски решить спорные вопросы, и пусть люди благоденствуют в мире и согласии. На войне погибают даже интеллигенты, а это может привести к одичанию и гибели цивилизации.
Она платочком осторожно вытирала старческие слезы, стараясь не размазать румяна на желтом морщинистом лице.
Я рассказал Николаю об этих преподавателях. Что-то прикинув в уме, он сказал:
— Латинист мечтает о Петлюре, а «нафталиновая бабушка» — о царе, но оба — против Советской власти. Не люди, а хлам какой-то…
Среди учащихся были патриотически настроенные парни и девушки: одни открыто ругали оккупантов, верили в победу Красной Армии, другие помалкивали, не высказывали своих мыслей об этом, но можно было заметить, что они ненавидят фашистов, ждут их изгнания.
Встречались и убежденные враги Советской власти, как правило, дети всякого рода «бывших», «обиженных». Такие радовались победам гитлеровской армии, восхищались их техникой, военную муштру называли образцовой дисциплиной, внешний лоск — высокой культурой. Злодеяния фашистов они оправдывали необходимостью борьбы с диктатурой большевиков.
Успехи фашистской армии, отступление наших войск, большое количество военнопленных, геббельсовская пропаганда, болтовня злобствующих антисоветчиков — все это, как кислота, разъедало души людей, рождало неверие, бездеятельность. Разуверившиеся, заплутавшиеся в круговороте событий некоторые молодые люди стали равнодушными ко всему происходящему вокруг, конечно, если это не касалось их самих. Распространялись провокационные, дезинформирующие сведения, которые сбивали с толку легковерных и наивных и парализовали их волю.
Учащиеся проживали в различных частях города, из разнообразных источников получали информацию, и этот поток выдумки, полуправды, явной лжи стекался в наш «храм науки». До занятий, в перерывах между лекциями молодежь обсуждала сводки беспроволочного телеграфа. Получив новые сведения, они разносили их по городу.
Вначале мы решили понаблюдать за окружающими, присмотреться, кто чем дышит. Сами не вступали в споры, не вдавались в оценку слухов, но стремились услышать все, о чем говорили соученики, стараясь понять отношение сообщающего новость к ней самой.
Как-то шел я из училища с сокурсником Василием Куцем. Он был старше меня года на два.
— Я ни черта не пойму в этой жизни, — откровенничал он. — До войны отец работал на химическом заводе, премии получал, часами наградили, жили хорошо, сыто, а теперь сапожную мастерскую открыл, плату за работу самогоном берет, пьет, а потом плачет и проклинает все на свете. В школе я учился хорошо, но в комсомол не поступил и вообще политикой не интересовался. Был на оборонительных работах, вернулся домой. Немцы мне противны, предателей презираю, а что делать — ума не приложу. В голову много смелых мыслей приходит, а ночью боюсь выйти из дома в уборную. Никому не верю и ничего не хочу. Училище, наверное, брошу и подамся в деревню к бабке, природа там красивая.
Я отмолчался, и мы разошлись.
Спустя несколько месяцев, когда мы уже регулярно оповещали учащихся о битве на Волге и окружении немцев, я заметил, что Василий оживился, ждал новых вестей. Разгром армии Паулюса отметил своеобразно: пришел на занятия под хмельком.
После освобождения Константиновки Куц ушел на фронт, храбро воевал и погиб в Будапеште.
В нашей группе был Григорий Воропаев. До войны я его знал мало, встречались на пляже. Атлетическая фигура, вьющиеся светло-русые волосы, васильковые глаза и удивительной белизны зубы привлекали внимание многих девушек. Он знал много песен, охотно пел приятным голосом, когда его просили. Григорий лихо, самозабвенно танцевал, был склонен к позерству и демагогической болтовне. Выискивая философские премудрости или какие-либо мистические темы, он так увлеченно говорил, что порой казался умным, образованным парнем. Воропаев стремился выделиться, быть в центре внимания, но на политические темы никогда не говорил.
Политрук предложил мне «прощупать» Григория. И я без труда наладил с ним хорошие отношения. Он продиктовал мне несколько песен, напел мотивы, и на этой почве мы сошлись. Дважды провожал я его домой, в пути о многом говорили. Мой собеседник пытался доказать, что почти все знает, обо всем имеет свое мнение. Вначале он показался интересным, содержательным человеком, но я скоро понял, что Григорий пустой фразер.
Как-то он спросил:
— Что думаешь о Леке?
Я слукавил, похвалил ее добрый нрав, непосредственность, на этом разговор закончился.
Елена Мищенко — Лека отличалась болтливостью, вела себя развязно и надменно. Ее гортанный, лающий смех раздражал. Лека, или как она стала себя именовать — Эллен, одевалась кричаще, часто меняла наряды, носила дорогие украшения. Она с гордостью говорила, что ее брат какая-то шишка в полиции. Хотя Лека была податливой, но ее сторонились и даже избегали.
Мы узнали, что старший брат Леки — Михаил — до войны сидел в тюрьме за грабеж, в городе появился после прихода оккупантов и сразу же пошел в полицию. Семья переехала в большой особняк и зажила на широкую ногу. Поговаривали, что Михаил принимал участие в расстреле евреев и разграблении их имущества. Наши соученицы судачили, уверяя, что лучшая портниха города подгоняет по фигуре Леки платья, добытые ее братом.
Лека была непривлекательная, с мужеподобной фигурой, и я не допускал мысли, что она может понравиться красавчику Воропаеву.
После занятий Григорий предложил прогуляться. Я согласился, и мы бродили по осеннему парку.
— Понимаешь, — разглагольствовал он, — дважды был на танцульках под патефон у одной нашей студентки. Там присмотрелся к Леке и, кажется, того… влюбился. Хожу, как в тумане, все мысли о ней, а признаться не могу, робею. Ты мне поможешь?
— Как?
— Скажи ей, что, мол, страдает по ней один парень, дружить хочет.
Мне стало смешно, но я сказал:
— Чего не сделаешь для друга…
На следующий день я сказал Леке, что она нравится одному парню, и что он влюблен по уши, но боится сделать первый шаг.
— Я знаю, кто он, можешь не называть его. Парень подходящий, симпатюля.
Она громко засмеялась:
— Проводите меня сегодня домой.
Так начался их роман. Григорий стал своим человеком в доме Леки, подружился с ее братом, а тот в пьяном состоянии иногда выбалтывал секреты о планах полиции. Григорий, видимо, в знак благодарности за мою «любезность», хвастал своей осведомленностью, сообщал мне ценные сведения. От него я узнавал о готовящихся облавах, об изъятии у населения скота, массовых проверках документов для выявления непрошедших регистрацию лиц. Об этом мы различными путями оповещали горожан. Григорий начал лучше одеваться, поправился, курил хорошие сигареты. Однажды он пригласил меня к себе. Жил Воропаев с матерью и сестрой в небольшом доме. Его отец оставил семью еще до войны и куда-то уехал. В комнатах поражали чистота и порядок. На стенах — фотографии, на этажерке с книгами — портрет Леки. Из-под кровати Григорий вытащил старый фанерный чемодан с висячим замком, достал несколько книг, положил на стол. Я посмотрел на них и от неожиданности растерянно спросил:
— Зачем они тебе?
Он засмеялся, взял со стола «Вопросы ленинизма» И. В. Сталина, «Моя борьба» Гитлера на немецком языке и, расхаживая по комнате, заговорил:
— Ума-разума набираюсь. Надо узнать, с кем быть, кому служить, а кого считать своим врагом.
«Провокатор», — мелькнула мысль, но я продолжал внимательно слушать Воропаева.
— Когда пришли немцы, то я с сестрой из библиотеки Дворца культуры привез пять тележек книг. Половина сарая ими завалена. Сперва много читал, а потом надоело. Наткнулся вот на эту… — он поднял кверху «Вопросы ленинизма». А вот эту вещь мне дал брат Леки.
Григорий бросил книги на стол, закурил и, усевшись рядом, продолжал:
— Немецкий я не шибко знаю, пытался со словарем прочитать, но ничего не получалось. По соседству живет обрусевший немец, не ахти какой грамотей, но шпрехает бойко. Вот с ним мы прочитали эту штуку, ясности эти книги в башку не внесли. Я завидую Мишке, брату Леки. Он знает, чего хочет, кто друзья, а кто враги. У него философия громилы и бабника, об угрызении совести знает понаслышке. Все просто, ясно, и никаких сомнений. Я же запутался и не вижу выхода из этого лабиринта. С детства мечтаю быть богатым, хочу мягко спать, сладко есть, а пути к этому не могу выбрать. Леку я люблю, но она не способна помочь разобраться во всей этой путанице. Может быть, ты по-дружески поможешь, а?
В его речи не было искренности, фальшь и наигранность настораживали. Я взял со стола философский словарь, небрежно полистал:
— Меня никогда не волновали такие вопросы, я живу просто, без философского словаря. Главное — выжить в этой бойне, а потом — кто победит, тому и служить буду. Нечего голову дурными мыслями забивать. Так то…
Мой собеседник посмотрел на меня разочарованно, предложил пообедать, но я отказался и ушел.
Внешне мои отношения с Григорием остались прежними, но по поведению Леки было видно, что Григорий ей рассказал о нашей беседе. Я понял, что от Григория надо держаться подальше, но совсем не отстраняться — он может еще пригодиться.
Спустя несколько дней я заметил, что Григорий и Лека шепчутся, на перерывах несколько раз отзывали в сторону толстуху Валентину из другой группы и в чем-то ее убеждали. Мне их поведение показалось подозрительным. На последней лекции в окно увидел маячившего по ту сторону реки Николая. Закончились занятия, и я помчался к другу.
— Коля, надо последить за одной парочкой. У тебя есть время?
— Есть.
— Идем скорей, покажу их.
Я увидел цветастое платье Леки и показал Николаю. Из училища вышли, весело болтая, Григорий и толстуха Валентина.
— Следи за парнем.
— Хорошо. Завтра утром зайди к Анатолию, возьмешь сводку.
Николай, прыгая с камня на камень, быстро удалялся к училищу и скрылся за высоким кустарником.
На следующий день я шел к командиру через парк и любовался золотом листвы. Октябрь выдался тихим, солнечным, паутинным. Увядающая природа щедро дарила удивительную гамму красок. Это располагало к мечтательности, сентиментальности.
Анатолий открыл дверь, чему-то улыбаясь. В комнате был Николай.
— Рассказывай, Коля, — командир указал мне на табурет.
— Пошел я за ними. На Пушкинской улице они зашли во двор большого особняка. Я забрался в палисадник противоположного дома, замаскировался и наблюдаю. Приехали на велосипедах два полицая, потом пришел следователь с собакой. Озираясь, прошмыгнули две женщины с сумками. Заиграл патефон. Открыли настежь окна, послышался шум, смех, звон стаканов. На мотоцикле подъехал немецкий офицер, с ним какой-то тип в штатском. Снова звон стаканов, музыка, но галдежа стало меньше. Запели:
Я Сеньку встретила на клубной вечериночке, Картину ставили тогда «Богданский вор», Глазенки карие и желтые ботиночки Зажгли в душе моей пылающий костер.Николай улыбнулся, помолчал, иронично добавил:
— Так и пели — «богданский вор», а не багдадский.
— А что же потом? — поторопил я.
— Стало темно, прохладно. Вылез из укрытия и айда домой. Жаль, что гранаты не было с собой, а то бы я их угостил.
— Ну-ну, — Анатолий погрозил пальцем, — ты эти штучки брось. Надо будет — угостим. Не то из-за этих подонков сотни людей расстреляют…
Командир посмотрел на меня, пожал плечами:
— К чему эта слежка?
— Надо было парня одного проверить, он, наверно, завербован полицией.
— Ну, если так… — Анатолий встал, принес из другой комнаты исписанный лист бумаги, подал мне.
Я прочитал сводку Совинформбюро и посмотрел на Николая. Весело подмигнув, он сказал:
— Так-то. Захлебнулось наступление фрицев. Силенок не хватило. А тут зима на носу, и, дай бог, чтобы как прошлогодняя была, вот тут-то наши поддадут им жару. Это уж точно.
Я сложил листок и хотел спрятать его в карман.
— Нет-нет, — запротестовал Анатолий, — .прочти несколько раз, запомни и расскажи ребятам. Надо, чтобы сегодня ваши однокашники разнесли эту новость по всему городу. Скажи хлопцам пусть будут осторожны. Ясно?
Перечитав несколько раз сводку, я пошел в училище. Иванченко и Онипченко стояли на берегу Торца. Рассказал им о новостях, передал приказание командира. Политрук явился перед самым началом занятий, и поговорить мы смогли только во время перерыва.
Обычно информацию среди учащихся мы распространяли так: подходишь к кому-нибудь и доверительно шепчешь: ты, мол, слышал, о чем говорили ребята из той группы? Интересные сведения. Следовали вопросы. Потом таинственно сообщаешь все, «что говорили ребята из той группы».
Мы убеждались, что к концу занятий наши новости знали почти все учащиеся. Одни верили нашим сводкам, другие не верили, но обязательно возникали споры, пересуды. Как правило, мы в таких диспутах участия не принимали, но внимательно прислушивались к ним. В споре человек раскрывает свои убеждения скорее, чем в обычном разговоре.
Во всяком случае, мы добивались своего: сведения растекались по городу, неся людям правду и надежду на скорое освобождение.
В тот день мы поступили так же.
Перед концом занятий я спросил у Григория, почему он плохо выглядит.
— Дядя из села пришел, самогону принес, выпили по-семейному, а сегодня голова болит, — не моргнув глазом, соврал Григорий. Мне показалось, что ответ был заранее продуман.
Наконец, наступило то долгожданное время, когда Красная Армия на Сталинградском направлении перешла в контрнаступление. Вражеская пропаганда, распинаясь, трезвонила о полном крушении Красной Армии, мол, советское командование бросает в бой стариков, учащихся ремесленных училищ, женщин. Немецкая армия твердо стоит на Волге, и нет сил, которые могли бы ее сдвинуть с места.
В противовес этой стряпне мы ежедневно распространяли правдивую информацию о положении дел на фронте, о потерях фашистской армии. Наши сведения вытесняли рожденные вымыслами слухи. Было заметно, что в настроении многих учащихся происходили перемены. Равнодушных становилось все меньше, растерявшиеся обретали уверенность, у бездеятельных пробуждалась активность. Некоторые из антисоветских болтунов притихли. Нас это радовало.
Дисциплина в училище была не строгой. Учащиеся иногда по нескольку дней не посещали занятий, и это не вызывало никакой реакции со стороны преподавателей, за пропуски лекций не бранили, причинами прогулов не интересовались. Такие порядки нас вполне устраивали. Если для выполнения задания кому-либо надо было отлучиться из города, то мы не беспокоились, что неявка на занятие может вызвать ненужные расспросы, подозрения или негодование преподавателей.
Декабрь был морозным, ветреным. Николай в своей шинелишке, а иногда в отцовской фуфайке появлялся возле лодочной станции, принося сводки. Он придумал такую сигнализацию: из проволоки сделал два крючка, к одному привязал белую тряпку, а к другому — черную. На ветку невысокого клена, который был нам хорошо виден из училища, он цеплял крючок с тряпкой. Белая означала: встреча сегодня после занятий; черная — завтра перед занятиями; белая и черная — надо явиться к командиру. Если же появлялся Николай — встреча немедленно. Крючки кое-когда цепляли Анатолий или брат Николая, но тот, конечно же, не знал о назначении сигналов.
С помощью нехитрой «тряпочной» сигнализации мы экономили время, лишний раз не ходили друг к другу домой, а сводки нам поступали почти бесперебойно. В училище так привыкли узнавать «последние вести», что считали это нормальным явлением, и задержка информации даже вызывала недоумение.
Наша деятельность по распространению сводок Совинформбюро не ограничивалась стенами училища, мы писали листовки, воззвания и расклеивали в городе, но в училище листовок не распространяли.
В первых числах января ко мне пришли Владимир и Николай. В тот день я поссорился с отцом и был не в духе.
— Как дела, казаки, — серьезно спросил отец, глядя на политрука.
— Ничего, Алексей Кузьмич, скоро докторами будем, — бойко ответил Владимир.
— Если будете учиться, как мой Борис, толку не будет. Ночами читает художественную литературу, да и пишет явно не конспекты. Я все вижу. Поступайте, как совесть велит, но все надо делать с умом.
Отец оделся и ушел. Ребята недоуменно смотрели на меня. Я попытался перевести разговор на отвлеченную тему, но мой прием не удался. Политрук требовательно спросил:
— Что случилось?
— Ничего особенного. Ночью на кухне читал. На окно повесил одеяло — светомаскировка. Оно, проклятое, подвернулось, и свет падал на улицу. Среди ночи сосед постучал в окно, выходил отец, а потом зашел ко мне в комнату, поправил одеяло, вырвал книгу, бросил под кровать и погасил лампу. Утром отругал.
— И правильно сделал. Ты же прекрасно знаешь, что в городе было много случаев, когда немцы, увидев огонь, стреляли в окна, могли с обыском нагрянуть. Я тоже люблю читать, но надо меру знать. Досталось — и поделом.
Владимир заметил, что я сник, и весело сказал:
— Его пример — другим наука… Ладно, не раскисай, давайте поговорим о деле. Как ты думаешь, а не отметить ли нам в училище новый год по-старому стилю. Украсим елку, пригласим баяниста, потанцуем — панихиду по окруженным немцам справим. Мысль?! Тебе самый раз этим делом заняться: парень ты веселый, общительный, девушкам нравишься. Уж я-то знаю…
Ребята рассмеялись. Обида постепенно уходила. Идея мне понравилась.
— Анатолий знает?
— Да. Он не придет, а вот Колю пригласили, барышню ему подберем.
— Что-то у тебя сегодня шутливое настроение, — недовольно заметил я.
— Тебя хочу растормошить. Сидишь бука букой. Потом добавил:
— Мы пошли. Ты помозгуй, а через два-три дня соберемся и обсудим.
Меня назначили ответственным за проведение праздника, Иванченко и Онипченко — моими помощниками. Организаторского таланта у меня нет да и житейской сноровки было немного. А тут свалились на меня такие заботы, что голова кругом пошла. Благо, помощники бедовые. Подготовка велась секретно. Алексей попросил уборщицу открыть нам в воскресенье училище. Елку и деда-Мороза раздобыл Владимир, игрушечными украшениями занимался Иван. Я знал, что у одной девушки из нашей группы брат баянист, и попросил ее переговорить с ним. Тот согласился.
— Гриша, — обратился я к Воропаеву, — некоторые ребята и девушки хотят отметить Новый год по старому стилю. Елочку соорудим, баянист будет, потанцуем, ты нам споешь. Учимся вместе, а живем, как кроты, всяк сам по себе. Пригласи брата Леки, пусть повеселится с молодежью.
Григорию предложение пришлось по душе, и на следующий день он сказал, что Лека и ее брат согласны прийти, но хорошо бы выпивку организовать. Потом, поразмыслив, добавил, что сам продумает этот вопрос.
В назначенный день мы с Николаем зашли к политруку, взяли небольшую елку, уродца деда-Мороза и отправились в училище. Иван и Алексей уже выносили парты в коридор. Все мы принялись за работу: политрук с Иваном украшали елку, Алексей растапливал буржуйку в классе, а мы с Николаем расставляли стулья.
К условленному часу начали сходиться учащиеся. На расписных санях приехали Григорий, Лека с братом и баянист. Все засуетились, загалдели. Баяниста встретили аплодисментами.
Михаил был одет с иголочки, выбрит, надушен. Скуластое грубое лицо, широкогрудый, короткие, колесообразные ноги. Взгляд полупьяных глаз тяжелый. Когда он снял пальто, из-под мешковатого, видимо, с кого-то снятого пиджака была видна кобура с пистолетом. Заметив, что я хлопочу больше остальных, он, обращаясь к Григорию, сказал:
— Зятюха, познакомь с этим…
Воропаев подозвал меня и представил. Михаил улыбнулся, показывая редкие зубы, дохнул перегаром:
— Чтоб никаких советских песен и всякой там агитации.
Он грозно посмотрел на собравшихся, хотел еще что-то сказать, но я перебил его:
— Что вы, пан начальник, разве мы не понимающие. «Мурку», «Гоп со смыком», «Позабыт, позаброшен» — такие песни можно?
— Начинай, — снисходительно разрешил он.
Взоры присутствующих были обращены на нас. Николай сидел в углу и не спускал с полицая глаз. Мой друг на всякий случай взял с собой охотничий нож.
Я подошел к баянисту:
— Давай «В лесу родилась елочка».
Чувство скованности постепенно начало проходить, молодежь зашевелилась. Появились танцующие, несколько человек, образовав круг, вполголоса пели. Началось веселье. Я уговорил Григория спеть. Он исполнил два цыганских романса, а потом, взглянув на Михаила, после его чуть заметного жеста, спел блатную песню «Судьба во всем большую роль играет». Бойкая девушка прочитала отрывок из «Маскарада» Лермонтова. Потом снова танцы. Кружась с хрупкой длинноволосой девушкой, я, как бы между прочим, заметил, что вот мы, мол, веселимся, а в Сталинграде окруженных немцев добивают.
— Ну и пусть добивают. Так им и надо.
Когда я завел такой же разговор с другой партнершей, она сказала:
— Последнее время отец ждет моего возвращения из училища как манны небесной, ждет, новостями интересуется. И сегодня приказал: ты, доченька, прислушивайся, о чем народ гутарит, запоминай, а потом поведаешь мне. Так это правда, что окружили их и колотят?
— Истинная правда, — ответил я словами Божьего одуванчика.
— Я здесь не раз слышала об окружении и говорила отцу. Он рад без памяти, перестал с мамой ссориться, уже месяц бреется, а то было совсем опустился.
Ко мне подошел веселый раскрасневшийся Василий Куц и тихо сказал:
— Умные люди эту сходку придумали: сразу два праздника отмечаем.
Я непонимающе глянул на него, пожал плечами.
— Молодцы. Во…
Он показал большой палец, улыбнулся, подмигнул и пошел к группе девушек.
Вдруг произошло какое-то смятение, начался переполох. Баянист перестал играть. Я не понимал, в чем дело. Рядом оказался Николай.
— Унтер с собакой и два солдата идут к училищу. Главное — спокойствие.
Он подошел к вешалке, снял шинель и сразу же повесил. Я направился к Михаилу, стоявшему в коридоре с толстухой Валентиной.
Солдаты с автоматами остановились у входа, а унтер с овчаркой вышел на середину класса, обвел всех взглядом.
— Почему собрались? — спросил он по-немецки, кладя руку на черную кобуру парабеллума.
Я посмотрел на Михаила — он стоял бледный, растерянный, глаза блудливо бегали.
Наступило тягостное молчание. Вдруг к унтеру приблизилась девушка в простеньком сиреневом платье и четко, словно на уроке, ответила на немецком языке:
— Мы учимся в медицинской школе, ее открыли немецкие власти. Сегодня мы встречаем Новый год, но не советский, а по-старому… как при царе было. Посмотрите.
Девушка указала в угол, где стояла украшенная елочка и похожий на гнома дед-Мороз. Унтер брезгливо скривился, посмотрел на солдат, потом на девушку:
— Ты — немка?
— Да, но родилась на Украине. — И, помолчав, добавила: — Среди нас есть полицейский. Вот он.
Унтер глянул на Михаила и поманил его пальцем. Выпятив грудь, полицейский строевым шагом направился к немцу. Сидящая у ног унтера овчарка вскочила на ноги, тихо зарычала. Михаил остановился и театральным жестом протянул документ. Унтер бегло взглянул и вдруг, покраснев, срывающимся голосом рявкнул:
— Убирайтесь прочь, свиньи!
Полицай выскочил из помещения как ошпаренный. Из училища мы с Николаем уходили в числе последних. Пересекли замерзшую речку, и, очутившись на главной аллее парка, друг неожиданно залился таким безудержным смехом, что слезы покатились по лицу. Хлопая в ладоши, наклоняясь, он долго не мог справиться с приступом смеха:
— Ха-ха-ха, понимаешь… Ха-ха… я…
— Да уймись же ты, — сказал я, пытаясь казаться сердитым.
— Не могу… подожди…
Он набрал в ладони сыпучего снега, приложил к щекам. Платком вытер лицо и, овладев собой, начал:
— Когда сказали, что к санаторию идут немцы, я вспомнил о листовке — наши с самолета сбросили. Вчера вечером принес Валек Ковальчук, я положил в карман, да в суете забыл о ней. Вдруг — немцы. Меня как током пронзило. Пробрался к вешалке, сунул в пальто полицая листовку, подержал в руках свою шинель и айда на место в угол. Начнутся, думаю, обыски, и получится любопытная картинка: у полицая в кармане пальто листовка Политуправления Красной Армии. Отдубасили бы его тут же, как в книжках пишут, на глазах изумленной публики. Представляя себе эту сцену, не могу удержаться от смеха. Осталась листовка полицаю на память. Ладно, пусть просветится, малость призадумается.
— Но у тебя могли найти нож?
— Отыскал ему схоронку: в углу стоял ящик с углем, так я его под ящик спрятал, а уходя забрал. Как ты думаешь, Михаил скажет начальству о листовке?
— Не заявит. Побоится.
На следующий день мы узнали, что девушку-немку зовут Лизой, отец ее попал в плен в первую мировую войну, в Германию возвратиться не захотел, женился и остался в России.
Потом много говорили о «встрече Нового года», который, кстати, даже по старому стилю наступил на три дня раньше нашего торжества. Осталось загадкой: случайно ли немцы оказались около училища или же кто-то донес о нашей сходке. Никаких последствий это событие не породило.
Наши курсанты — два закадычных друга: Иван Мнушко и Петр Белоцерковский когда-то ходили в одну школу, вместе играли в футбол, а в училище даже сидели за одной партой и вообще друг без друга нигде не появлялись. Я знал ребят еще до войны, но вот теперь начал к ним присматриваться, изучать. Парни, смотрю, толковые, серьезные, но скрытные. Много раз замечал, что они наблюдают за мной, стремятся быть поближе. Как-то после занятий я завел с ними разговор о положении дел на фронте, о зверствах и произволе полиции. Ребята разговорились, искренне возмущались поведением немцев, недоумевали, почему же отступает Красная Армия. Однажды, узнав о листовках, ребята сказали мне, что вот, мол, в городе кое-кто призывает к сопротивлению фашистам. Нетрудно было понять: они испытывали меня, хотели знать, одобряю ли я действия подпольщиков? Я уклонился от ответа, но со временем все больше убеждался, что друзья способны и готовы к активной борьбе.
Как-то мы с Николаем встретили Ивана и Петра, прошлись вместе, поговорили. Когда ребята ушли, он сказал:
— Хорошие хлопцы. Ты говорил о них Анатолию?
— Политруку они нравятся, а командир сказал, что надо еще проверить, дать им два-три задания.
Все поручения парни выполняли охотно. Петр раздобыл четыре итальянские гранаты-лимонки, Иван — карабин и несколько обойм с патронами. На чердаке заброшенного дома они скрывали раненого окруженца; когда тот окреп, мы переправили его в село. Ребята оказались настоящими боевыми товарищами.
В феврале политрук оставил училище, а вскоре и я распростился с этим «храмом науки». Потом перестали посещать занятия Онипченко, Максимов и Иванченко. Нашим рупором остались Белоцерковский и Мнушко, но в середине мая их арестовали.
Более месяца гестаповцы и следователи полиции пытали Ивана Мнушко и Петра Белоцерковского, а потом казнили их в балке за Красным хутором, где за время оккупации было расстреляно несколько тысяч константиновцев. После освобождения города от оккупантов Иван Мнушко и Петр Белоцерковский были захоронены в братской могиле партизан и подпольщиков. Они посмертно награждены боевыми медалями.
Вскоре комендант распорядился закрыть училище, а учащихся под конвоем отправить на строительство оборонительных, укреплений. Подпольщики от бургомистра А. Я. Короткова узнали об этом решении. Николай написал несколько листовок, ночью проник в училище и расклеил их на видных местах. Когда в середине дня нагрянула полиция, лишь в одном классе было несколько учащихся и Божий одуванчик, а остальные разбежались. В облаве участвовали брат Леки и Григорий Воропаев.
Медучилище, сыгравшее важную роль в нашей подпольной деятельности, перестало существовать.
БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ…
По шоссейной дороге двигались фашистские войска. Огромные кони понуро тянули крытые брезентом повозки, сопровождаемые солдатами.
Николай стоял у Дома молодежи, где теперь была немецкая конюшня, смотрел на запруженную войсками улицу. Цоканье копыт, скрип повозок, стук кованых сапог сливались в один общий гул, но он не мог заглушить другой откуда-то доносившийся и быстро нарастающий звук. «Наверное, танки, а может быть и самолеты», — подумал Николай и посмотрел в небо. Звук моторов усиливался, становился все более грозным. Ни самолетов, ни танков не было видно, но колонны вдруг остановились, и солдаты рассыпались вдоль дороги. Раздалось несколько выстрелов зениток, и тут Николай увидел самолеты с красными звездами на крыльях. Они низко летели вдоль шоссейной дороги и сыпали смертоносный груз. Земля дрожала от взрывов. Николай пробежал несколько метров и упал на землю со смешанным чувством радости и страха. Подняв голову, он наблюдал за метавшимися охваченными ужасом фашистами.
За первой группой самолетов появилась вторая. Потом еще и еще. Совсем рядом разорвалось несколько бомб. По дороге с неистовым ржанием, громыхая повозкой, промчалась пара осатанелых от испуга лошадей, налетая на лежащих людей, опрокидывая другие повозки, кухни и все, что им попадалось на пути. От пыли и дыма стало темно.
Вдруг Николай увидел, что прямо на него с диким храпом мчится здоровенная рыжая лошадь. Он отскочил в сторону. Повозка врезалась в телеграфный столб и остановилась. Раненая лошадь забилась в конвульсиях. Николай увидел возле столба унтер-офицера. Он был мертв. Большая черная кобура унтера приковала внимание Николая. Оглянувшись, он быстро подполз к немцу. Вытащил из кобуры пистолет, вскочил и бросился в переулок.
Бомбежка закончилась так же внезапно, как и началась.
В день налета советской авиации на город я был у командира.
В окно кто-то постучал. Стук был условный.
— Это Коля, — сказал командир, — пойди открой. Николай, счастливо улыбаясь, доложил:
— При поддержке нашей авиации мною захвачена боевая техника противника. Можете меня поздравить.
Он достал из-за пояса новенький парабеллум. Мы с Анатолием застыли от удивления и радости.
— Рассказывай, — поторопил Анатолий.
Николай не спеша уселся верхом на стуле и спокойно, с подробностями рассказал о бомбежке:
— Пришел домой и ношусь с ним как дурак с писаной торбой, не знаю, куда его деть. То под подушку спрячу, то под шифоньер, а потом снова за пояс. Мама обратила внимание на мое волнение, сказала об этом отцу. Тот объяснил, что все очень просто: мальчик впечатлительный, побыл под бомбежкой, испугался, вот и не находит себе места. Мама заставила выпить какого-то лекарства для успокоения. Огорчать я ее не стал, выпил.
Сразу став серьезным, он пожаловался:
— Зарядить и разрядить его пара пустяков, а вот разобрать…
Анатолий взял пистолет и начал внимательно рассматривать. К нашему удивлению, он быстро понял сложное устройство парабеллума, разобрал его и тут же собрал. То же проделал и Николай, а вот мне это далось с большим трудом. Моя неумелость смешила ребят.
В окно вновь условно постучали.
— Вова идет, спрячь пистолет, — сказал Анатолий.
Войдя в комнату, Владимир заметил по нашему виду, что мы чем-то возбуждены, но пытаемся это скрыть от него. Политрук спокойно, дольше обычного расчесывал волосы, потом посмотрел на каждого из нас с особым вниманием и уселся у стола. Воцарилось напряженное молчание, томительность которого долго выдержать трудно, тем более, если тебя распирает чувство радости.
Первым дрогнул я. Достал пистолет из кармана и, наставив его на Владимира, рявкнул:
— Руки вверх!
— Не дури, — спокойно сказал политрук. — Оружие раз в год и незаряженное стреляет, — и потянулся за пистолетом. Повертев в руках парабеллум, мечтательно сказал: — Будь у каждого из нас такая «пушка», мы чувствовали бы себя увереннее. Но будут у нас скоро штуки и похлеще.
Слова политрука оказались пророческими. Спустя некоторое время большинство членов нашей подпольной группы имели пистолеты, автоматы и другое оружие. Но приобретение первого боевого пистолета было для всех нас значительным и важным событием. С этим пистолетом и прошел Николай свой путь подпольщика.
* * *
Сталинградская группировка еще не была окончательно разбита, но в настроении немецких солдат уже проглядывали подавленность и растерянность. Геббельсовская пропаганда всячески изощрялась в словоблудии, скрывала правду от своих оболваненных солдат и обещала в недалеком будущем грандиозные победы. Тем временем фашистские полчища отступали, и солдатское кладбище в парке имени Якусевича росло и росло. Почти все уцелевшие школы и мало-мальски подходящие здания были заняты под госпитали. Раненых и обмороженных было так много, что способные передвигаться размещались по частным квартирам недалеко от госпиталей. Некоторые солдаты, хотя и с оглядкой, но уже вслух осуждали войну.
По предложению Николая мы решили по-своему отметить эти события. Он где-то раздобыл и спрятал в сарае большой портрет Гитлера. Для чего ему нужен портрет, Николай не говорил. Бесноватый фюрер с железным крестом и золотым фашистским знаком на груди, со свастикой на рукаве стоял на фоне разбросившего крылья черного орла. Глаза холодно смотрели куда-то в сторону, плотно сжатые губы под маленькими усиками выражали жестокость.
Утром мы с политруком встретили командира и Николая возле хлебозавода и направились к зданию бывшего детского сада, построенного в парке перед войной. Недавно там жили немецкие солдаты, но вот уже несколько дней оно пустовало. Входная дверь была забита гвоздями, но мы без труда открыли ее. Поднялись на второй этаж. Все стены были разрисованы коричневой и черной краской.
Выбрав комнату побольше, мы приколотили к стене портрет, и каждый из своего пистолета начали палить в ненавистного фюрера. Первым стрелял командир. Он отличался особой меткостью. Николай и Владимир тоже хорошо стреляли. У меня получалось хуже. Если я говорил, что целюсь в Железный крест на груди Гитлера, то пуля попадала в усы. Друзья подтрунивали надо мной. Через несколько минут мы начисто изрешетили портрет. Николай периодически подходил к окнам и осматривал округу. Я вторично стал на «огневой рубеж» и начал старательно целиться, но в это время Николай выкрикнул:
— Фрицы!
Мы кинулись к окнам и увидели приближающихся немцев. Неподалеку стояла легковая автомашина, возле которой расхаживал шофер в дубленом полушубке.
— Это врачи. Наверное, здесь будет госпиталь, — сказал политрук.
Уходить через дверь было уже поздно. Немцы, видимо, наших выстрелов не слыхали, так как шли не спеша и непринужденно болтали.
— Спокойно, — проговорил Анатолий. — Будем прыгать через окно на другую сторону.
Снегу было много, сугробы возвышались почти до самых окон первого этажа. Прыгнул Анатолий. Одновременно на подоконник вскочили политрук и я. Владимир присел, но я, сам того не замечая, наступил на его пальто. Прыгнув, политрук на миг завис, а потом кубарем полетел вниз. Я прыгнул следом, а за мной Николай. Утопая в глубоком снегу, мы перебежали замерзшую реку и очутились около завода «Автостекло». Остановившись и переводя дыхание, Анатолий и я залились таким дружным смехом, что, глядя на нас, не удержался и Николай, хотя он и не видел, что произошло с Владимиром.
— Под ноги надо смотреть, растяпа! — раздраженно сказал мне политрук.
— Прости, Володя, я ведь не хотел.
Николай, наконец поняв причину смеха, достал финку и аккуратно обрезал торчащие веером нитки на месте оторвавшихся пуговиц. Владимир с недовольным видом застегнул пальто на женский манер — справа налево — и мы, разделившись на пары, двинулись к центру города.
Проходя мимо сквера химиков, увидели двух рослых немцев, которые, перегоняя друг друга, мчали на лыжах. Хотя зима была снежная, немецких солдат скорее можно было увидеть на велосипедах, чем на лыжах.
— Красиво, гады, ездят, — сказал я.
— На лыжах ходят, — поправил меня Николай. Проходя мимо бывшей фабрики-кухни, где теперь размещалась столовая для солдат, Николай сказал:
— Портрет Гитлера мне достала Катя Куплевацкая. Замечательная она девушка. Ты ее знал до войны?
— Знал. Она училась в девятнадцатой школе, была членом комитета комсомола. Занималась спортом. Поступила в авиационный институт, но война помешала учебе.
— Катя очень похожа на одну мою знакомую из ремесленного — Таню. Та тоже красивая и умная девушка.
* * *
Алексей Онипченко передал, что меня вызывает командир. Не доходя до дома Анатолия, я увидел Николая с пустыми ведрами в руках. Он был возбужден и сиял от радости.
— Дома стирка, целый день воду ношу, а сам земли под ногами не чую. Под Сталинградом немцам здорово дают прикурить! Беги, Анатолий все расскажет.
Влетел я к Анатолию, закричал:
— Это правда?!
— Праздник, Боря. Большой праздник, — сказал Анатолий, отбрасывая немецкий журнал с множеством картинок. Наш командир хорошо говорил по-немецки, и довольно бойко читал, хотя полностью обойтись без словаря не мог. Видя мое нетерпение, он продолжил:
— Пропаганда у фашистов не ахти какая мудрая, а вот возьми — удалось нацистам одурачить народ. Бесноватого фюрера до небес возносят, слепо ему подчиняются, злодействуют, грабят… Легкие победы опьянили нацистов, но Красная Армия начала их отрезвлять. — Положив руку мне на плечо, он торжественно сказал: — Между Волгой и Доном немцев с их союзничками бьют. Под Сталинградом котельчик им устроили, и… по всему югу фашисты драпают!
Вбежал Николай, тяжело дыша, плюхнулся на стул.
— Устал я, братцы, а душа поет! — Он снял шапку, вытер лоб и твердо сказал: — Немедленно нужны листовки! Слышите? О Сталинграде весь город должен знать! Сегодня же!
— Не пори горячки, всему свое время. Пока распространим написанные, — сказал командир и, уже обращаясь ко мне, добавил: — Утром видел Володю, договорились, что ты с ним будешь расклеивать там же, где и в прошлый раз. К четырем часам он тебя ждет дома.
Остаток дня мы с политруком коротали за книгой. Владимир любил Пушкина, особенно восторгался словами из «Гусара»: «Ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп, а мы видали виды».
Листовки и в этот раз расклеили без всяких происшествий. Утром мачеха ушла на рынок. Мне хотелось ее дождаться и узнать: как отнеслись к нашим листовкам в городе?
Вскоре она возвратилась — возбужденная, взволнованная.
— На базаре облава, — начала она с порога. — Забрали трех парней и мужика. Как звери, на людей кидаются, даже женщин обыскивали. Одна отчаянная баба полицаю по морде съездила. Видать, им, подлецам, от начальства здорово влетело. Ночью пьянствовали, а партизаны этим и воспользовались.
Я чувствовал, что мачеха чего-то недоговаривает. Но, стараясь казаться безразличным к ее новостям, молчал. После небольшой паузы она сказала:
— Только отошла от базара, навстречу мне Романовна. Я ей возьми и скажи о листовках и что полицаи, как псы цепные, на всех набрасываются. Она всплеснула руками и, как молодая, помчалась на базар. Я еще, грешным делом, подумала: знали бы партизаны про Романовну — обязательно взяли бы к себе.
Представив себе сцену встречи мачехи с бабкой, я засмеялся и начал одеваться. Мачеха предостерегла:
— Не ходил бы ты сегодня в город, опасно.
— Ничего, я ненадолго.
Не застав никого из друзей дома, с надеждой на случайную встречу с ними я направился ко Дворцу культуры химиков.
Войск в городе было мало, и солдаты на улицах почти не встречались. Только возле бывшей фабрики-кухни, где открыли увеселительное заведение, расхаживали полупьяные солдаты, назойливо приглашая прохожих девушек развлечься.
Большое и красивое здание Дворца культуры было построено в центре города в годы первых пятилеток. В его левом крыле, где до войны размещался драматический театр имени Пушкина, теперь демонстрировали немецкие кинокартины, иногда ставила пьесы небольшая группа артистов-любителей. «Артистам» выдавали продуктовые карточки, и терзаемые голодом люди шли «в искусство».
В центральной части Дворца культуры находилась комендатура. У ее входа постоянно дежурили солдаты, то и дело к подъезду подкатывали автомашины и мотоциклы, прибывали конные и пешие, мчались по вызову полицейские чины и работники бургомистрата. Простые люди редко приходили сюда добровольно. Чаще их доставляли под конвоем, где над ними вершили неправый суд и расправу. В правом крыле здания был спортивный зал, занятый немцами под склад. Летом 1942 года перед фасадом Дворца культуры оккупанты на полутораметровом постаменте, выкрашенном в белый цвет, установили внушительного размера орла, отлитого из металла. Черный хищник восседал на лавровом венке, окружавшем свастику. Люди с отвращением поглядывали на это олицетворение мракобесия и жестокости, и Николай однажды сказал мне, что как только у нас появится достаточно взрывчатки, он непременно даст возможность «взлететь» стервятнику.
У Дворца культуры я узнал из афиши, что в 13 часов будет показана пьеса «Назар Стодоля», а в 16 начнется демонстрация немецкого кинофильма. До начала спектакля оставалось еще более часа, но уже то там, то здесь парами и небольшими группами прохаживалась молодежь. Надеясь увидеть кого-либо из знакомых, я присматривался к этому праздному люду. Мое внимание привлекло одно довольно странное обстоятельство: прогуливавшиеся по непонятной для меня причине норовили пройти в непосредственной близости от орла. Затем они замедляли шаги, к чему-то присматривались и торопливо уходили, таинственно и тревожно переговариваясь.
Прошелся и я мимо орла и глазам своим не поверил: на тетрадном листе в клеточку ровными печатными буквами написана листовка со знакомым текстом. «Колина работа», — подумал я и, отойдя в сторону, стал наблюдать за поведением людей, число которых все увеличивалось. Листовка, словно магнит, притягивала к себе внимание. И мало кто, прочитав ее, оставался равнодушным.
Люди по нескольку раз перечитывали листовку, прикрепленную на свастике. Она словно перечеркивала этот паучий знак.
Приклеить листовку в таком месте было делом весьма рискованным. Наше руководство всегда осуждало ненужную, показную героику, требовало от нас избегать неоправданного риска. Как расценят этот поступок Николая старшие товарищи? А может быть, ему разрешили?
Я пошел на Бутылочную колонию. Николай стоял недалеко от дома Анатолия и, увидев меня, помахал рукой. Он сказал, что с Максимовым ходил к Онипченко и Иванченко, потом ко мне.
— Друг друга искали, — обронил я. — Пойдем, походим в парке.
По пути я, как бы между прочим, спросил:
— Ты где расклеивал?
Он равнодушно ответил:
— На Николаевском поселке и на Химической колонии. А что, не там разве?
— Анатолий был с тобой?
— Нет. Он ходил на поселок цинкового завода и на Зеркальную колонию. А чего ты допрашиваешь? — С напускным удивлением Николай пожал плечами.
— Ты около комендатуры был?
— Вообще — да, но листовку не приклеивал. Одну нечаянно уронил, а ее ветром к орлу занесло. Еще будут вопросы?
— Влетит тебе от командира, а от политрука и подавно. И по комсомольской линии могут взгреть. Я тоже за выговор голосовать буду, чтоб не рисковал зря.
Он шел и глядел куда-то вдаль. Сощуренные глаза, плотно сжатые губы — все говорило о его внутреннем напряжении.
— Неужели могут на комсомольском собрании обсуждать?
Мне стало жаль друга, и, стараясь его успокоить, я сказал:
— Не обязательно, но могут.
Словно из-под земли, перед нами выросли Анатолий и Владимир. Командир хмурился, а политрук был рассержен. Пристально посмотрев на Николая, он спросил:
— У тебя, Николай, вчера все закончилось нормально?
Обращение настораживало: вместо обычного «Коля» вдруг — «Николай».
— Да.
— Ты пристроил листовку к орлу?
— Я.
— С кем советовался?
— Ни с кем, а что?
— А то, — горячась, говорил политрук, — что разумная осторожность и дисциплина — залог успеха в нашем деле. Почему ты, не посоветовавшись, пошел ночью к комендатуре и без надобности подвергал риску себя, а заодно и нас? Листовки мы распространяем не для того, чтобы дразнить немцев. А складывается впечатление, что ты решил известить коменданта, что в городе есть очень смелый подпольщик Коля Абрамов, которому все нипочем. Следовало бы еще подписаться под листовкой и адресочек указать.
Николай поморщился от слов политрука, но виновато сказал:
— Насчет нарушения дисциплины — согласен. А в остальном нет: риска никакого не было. Я знал, что сегодня во Дворце будет представление, людей соберется тьма, вот и подумал: пусть прочтут листовку, тогда и пьесу интереснее смотреть будет.
— Недавно пришел оттуда, читают люди, — вставил я.
— Хорошо, что читают, — перебил меня политрук и, помолчав, продолжал уже более спокойно:-Конспирация, организованность и дисциплина — вот на чем мы можем держаться и действовать. Смелости нам не занимать, а вот опыта и мудрости пока нет. Осторожность — не трусость. Дурная храбрость — равна предательству.
— Это верно. У нас не должно быть анархии и расхлябанности, — заговорил командир. — Тебе не следовало самовольничать. Сегодня с Володей мы должны были пойти во Дворец на встречу с одним человеком, а из-за этой листовки возможна облава и другие неприятности. Пришлось отложить встречу.
— Из-за других листовок облавы не будет, а из-за этой — обязательно? — буркнул Николай.
— Облавы бывают и вовсе без листовок, — сказал политрук, продолжая хмуриться. — Мы тебя пока серьезно предупреждаем, Николай. Но запомни, впредь пощады не будет.
— Ведь я хотел как лучше, — оправдывался Николай и вдруг совсем по-школярски, но серьезно сказал: — Больше не буду! Честное слово, не буду!
Весь город узнал об успешном наступлении Красной Армии. И полиции дальше молчать было нельзя — пришлось докладывать коменданту, что в городе появились листовки.
Спустя несколько дней, по указанию коменданта, на улицы вышли полицейские расклеивать желто-розовые бумажки.
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За последнее время неизвестными лицами были распространены листовки. Поскольку виновники не выявлены, то арестовано 5 известных коммунистов-заложников. В случае повторения этого бесчинства, заложники будут расстреляны.
При всяких обстоятельствах я буду следить за спокойствием, безопасностью и порядком.
Гауптман и комендант Брандес».Не желая подвергать смертельной опасности арестованных заложников, мы на время прекратили расклеивать листовки. Сводки Совинформбюро мы устно передавали знакомым, а они своим друзьям. Николай о событиях на фронте информировал дядю Васю, а я, конечно же, неугомонную Романовну.
ЭХО СТАЛИНГРАДА
Начатое от берегов Волги наступление наших войск отбросило немцев до северо-восточных границ Донбасса, но дальнейшее продвижение Красной Армии было приостановлено, и фронт надолго установился по Донцу и Миусу. Казавшееся таким близким освобождение отодвинулось на неопределенный срок.
В городе было полно войск и техники. Появились «тигры» и «пантеры», которые были в диковинку даже самим немецким солдатам, и они, сочно причмокивая, восторгались мощью новых бронированных чудовищ. Потери в Сталинграде и в последующих боях немецкое командование восполняло за счет тотально мобилизованных. Желторотые юнцы и пугливые пожилые солдаты пришли на смену погибшим и попавшим в плен.
Ежедневно в двух кинотеатрах демонстрировали военную хронику, где вовсю расхваливались подвиги немецких войск, показывали парады, оккупированные города, колонны военнопленных. Крупным планом выделялись монгольские лица, и диктор утверждал, что в Красной Армии русских солдат почти не осталось, а на азиатах далеко не уедешь — вояки они никудышные.
Чем больше врала немецкая пропаганда, тем явственнее виделось, что Германия никак не может оправиться от удара, полученного под Сталинградом. Геббельс и его подручные прибегали к любым средствам, дабы поддержать в армии и народе воинственный дух, веру в победу, преданность фюреру. Незначительные успехи возводились в ранг грандиозных побед, потери противника увеличивались до баснословных размеров, а свои уменьшались в несколько раз.
Мы всячески разоблачали лживую информацию врага. Николай использовал даже такой способ: брал резинку и карандаш, обходил места, где вывешивались немецкие военные сводки, и, улучив удобную минуту, вносил исправления. Например, из штаб-квартиры фюрера сообщалось, что сбито 100 самолетов противника, 5 немецких машин не вернулось на свои аэродромы. 100 он исправлял на 10, а 5 на 50. Подделка была очевидной, но большинство читающих считало исправление правильным, а соотношение потерь соответствующим действительности. В город прибывали новые части.
— Опять немцы всю колонию запрудили, у нас шофер поселился, — жаловался Николай. — Меня и братьев в кухню выгнал, в нашей спальне обосновался сам. — После небольшой паузы добавил: — Но немцы уже не те. Далеко не те. В прошлом году у нас жил ефрейтор. Недалекий, напыщенный, но относился ко мне сносно. Играли в шахматы, я выигрывал, он не обижался. Как-то потрогав мышцы на моих руках, похлопав по спине, сказал, что я умный и сильный парень. Когда Германия победит Россию, у него будет имение и он меня обязательно назначит управляющим. Немцы, мол, умеют ценить умных и работящих. Представляешь — я управляющий немецким имением, как это тебе нравится, а?
— Ты хоть поблагодарил? — поддел я.
— В порыве благодарности хотел задушить его. До сих пор жалею, что не сделал этого… Нынешний квартирант об имении уже не мечтает. Гнусавит: «Война нехорош, Сталинград… капут». К нашему постояльцу ходит обер-ефрейтор Курт. Молодой, красивый, но тонкий, как жердь. Однажды из их разговора я понял, что они проклинают войну, нацистов и все на свете. Курт спросил у меня, согласен ли я, чтобы Гитлер и Сталин устроили между собой поединок, как средневековые рыцари. Победитель потом пусть диктует свои условия: забирает земли, города, села, но без войны. Народы не должны страдать из-за прихоти своих вождей, тем более, что война ведется нечестно, не по правилам, как он выразился. Все добивался: согласен ли я с ним? Я притворился непонимающим. Он махнул на меня рукой и больше подобных разговоров не заводил, хотя я не раз ловил на себе его пристальный взгляд. Так вот я тебе и говорю, — заключил Николай, — что теперь немец не тот, каким в прошлом году был. По всему видать: Сталинград заставил их призадуматься, пораскинуть умишками. Они уже понимают, что война складывается не в их пользу. Боевой дух солдат снижается, хотя все еще они верят в своего фюрера. Я с квартирантом проделал такую штуку, — после недолгого молчания продолжил Николай. — Была у меня одна листовка из тех, что наши сбрасывают для немцев. Как-то шел Эгон веселый, посвистывал. Я у самой калитки бросил листовку, а сам нырнул в сарай и в щелку наблюдаю. Поднял он листовку, осмотрелся и пошел в дом. Чуть погодя я зашел. В квартире никого не было. Дверь в детскую закрыта. Ручной мельницей начал молоть кукурузу на крупу. Вдруг вышел Эгон — испуганный, бледный, с отвисшей челюстью.
— Вы дома? — удивленно спросил я. — Вы не больны?
— Нет, — вяло ответил он. — Немного голова болит. Он вышел во двор, листовку переложил из кармана брюк в китель и при этом дважды оглянулся. Весь день ходил сам не свой, шептался со своим другом, но нас словно не замечал. Вчера угостил меня конфетами и завел разговор о войне, политике и человеческой судьбе. Он хорошо знает польский. И я его понимаю. Разболтавшись, постоялец признался, что он набожный человек и верит в судьбу. Утверждал, что Германия войну не выиграет, но и не проиграет. Он останется живым, а по его расчетам на следующий год будет заключен мир. Между прочим, сказал, что почти все русские — партизаны, каждый второй — коммунист или комсомолец, а поэтому немецкие солдаты не любят и боятся советских людей.
Бесстыдство, наглая надменность, презрение и ненависть к нашему народу были старательно привиты немецким солдатам. Беспрекословное повиновение даже самым сумасбродным приказам оккупантов было обязательным правилом, и всякое ослушание расценивалось как саботаж с вытекающими последствиями: расстрел, расстрел, расстрел.
В стремлении подавить в человеке чувство достоинства захватчики доходили до садистских приемов. Их идеологи утверждали, что славяне недочеловеки, они лучше понимают хлыст, чем разум. И поэтому их надо держать в страхе. Но враги просчитались. Никакие репрессии и жестокость не сломили советских людей, а Сталинград пробудил новые силы, укрепил уверенность в победе, звал к борьбе. Теперь уже мало кто старался выполнять требования властей. Согнанные на работу вроде бы и трудились, но всегда спустя рукава и норовили все делать во вред. Полицейские нещадно били нерадивых, а порой, сами боясь расправы со стороны начальства или немцев, просили работать лучше, «без вредительства». Отремонтированные участки дорог через какое-то время становились хуже, чем были до ремонта. Восстановленная водонапорная башня на вокзале вдруг дала течь, а потом и совсем пришла в негодность. На металлургическом заводе ночью обрушилась крыша цеха и вывела из строя только что начавшую работать механическую мастерскую. Все это вызывало злобу у врагов, но ни угрозы, ни зверства не могли поставить наших людей на колени. Казавшиеся послушными и робкими, они в действительности были смелыми и мужественными борцами и везде, где только молено, причиняли ущерб оккупантам и делали это без приказа, по зову сердца. Каждый патриот находился в состоянии войны с захватчиками. Это была воистину всенародная война. Чем злее становился враг, тем мужественнее и самоотверженнее было сопротивление. Радостно потирая руки, Николай говорил: — Пройдет еще немного времени, и каждый оккупированный город для фашистов станет маленьким Сталинградом.
Они молча шли по неширокой улице, стараясь держаться поближе к домам. У Николая на согнутой левой руке пиджак. Рукава темной рубашки засучены выше локтя. В перекрашенных в черный цвет солдатских брюках — документы на вымышленное имя. На ногах — сшитые отцом парусиновые тапочки на подошве из широкого прорезиненного приводного ремня.
На Викторе Прищепе был довоенный выцветший темно-синий костюм, сиреневого цвета футболка с некогда белым воротником, обут в большие, с коваными каблуками, немецкие ботинки, при ходьбе хлопавшие.
Посреди улицы десяток подростков, взбивая пыль, гоняли тряпичный мяч. Не ощущая боли, они нещадно колотили по мячу, стараясь забить гол «противнику».
Друзья остановились в тени с искореженным стволом акации. Николай подзадоривал мальчишек. Виктор наблюдал за игрой без интереса, больше посматривая по сторонам.
— Пойдем, Коля, — сжал он локоть товарища, кивком головы указывая на другую сторону улицы, где шли двое: полицай, в зеленой форме неопределенного кроя, и — женщина в легком платье с прической, перенятой из немецких журналов.
Полицай вел велосипед и оживленно что-то рассказывал непрестанно смеющейся попутчице. Виктор узнал в ней свою бывшую соученицу Клавку — ленивую и пустую, еще до войны вышедшую замуж по расчету за вдовца-бухгалтера. Муж ее был призван в армию, и она, отдав свекрови пятилетнего пасынка, с приходом немцев повела «веселую» жизнь: свой дом превратила в притон, где завсегдатаями были немецкие офицеры, полицейские чины.
Появление Клавки-Коросты, как звали ее в школе, насторожило Виктора. Николай был на четыре года моложе своего друга и о Клавке ничего не знал. Хотя он уловил в голосе Виктора нотки беспокойства, но особой опасности во встрече с полицаем не видел: с ними он встречался часто, смело шел навстречу, не доходя нескольких метров, изображал на лице улыбку и, слегка поклонившись, здоровался. Такое приветствие действовало безотказно. Даже бдительный, с подозрением смотрящий на всех полицейский, бывал обезоружен наигранной вежливостью. Как правило, многие из них снисходительно отвечали на приветствие.
Николай прижал сползавший с руки пиджак и медленно пошел по своей стороне улицы навстречу полицаю. Виктор немного отстал, стремясь быть за спиной друга, вне поля зрения Клавки. Поравнявшись с ребятами, она взглянула на них и что-то быстро сказала полицаю.
— Стой, стрелять буду! — крикнул тот, отшвыривая велосипед. Сразу же раздался выстрел, за ним второй.
Николай увидел рядом, на кирпичной стене дома, взметнувшиеся фонтанчики красной пыли. Виктор выхватил из-за пояса пистолет и, резко повернувшись, хотел выстрелить, но между ним и полицаем оказались подростки. Подпольщики бросились во двор, пробежали садом, перемахнули через забор и очутились на другой улице. Полицай еще дважды выстрелил, но преследовать побоялся.
Николай, успевший надеть пиджак, с пистолетом в руках бежал впереди, а Виктор в тяжелых ботинках, то и дело спотыкаясь, отставал.
— Скинь ты их к черту! — остановившись, сказал Николай.
Виктор, глубоко дыша, сунул пистолет в карман, быстро расшнуровал ботинки и, поочередно взмахнув ногами, разбросал их в разные стороны. И уже не отставал от Николая. Запутывая следы, ребята миновали несколько дворов, пробираясь к окраинной улице. Пробегая по огороду с картофелем, они чуть не столкнулись с вышедшим из уборной немцем. Он был в майке, коротких брюках и ботинках на босу ногу. Увидев вооруженных людей, немец начал медленно поднимать вверх руки.
— Не стреляй, я — штукатур! я — штукатур! — срываясь с крика, лепетал он побелевшими губами.
Виктор погрозил ему пистолетом. У немца подкосились ноги, и он плюхнулся на землю.
Ребята перебежали еще две улицы и, наконец, оказались на окраине города. Продравшись через высокие подсолнухи и кукурузу, в лесной балке перевели дыхание, напились из обложенного камнями родника.
Николай вдруг расхохотался:
— «Штукатур, штукатур», а? Хорошо, что он из уборной. Ха-ха-ха. Пришлось бы ему не штукатуром быть, а прачкой — стирка случилась бы непредвиденная…
— Ты, выходит, Клавку-Коросту не знаешь? — спросил Виктор. И, не ожидая ответа, зло добавил: — Ну, стерва, выслежу и застрелю, как гадюку.
Николай, помолчав, попросил:
— Вить, она ведь… женщина, а?
— Одна такая баба — опаснее пяти мужиков. Стерва!
— Не разрешат тебе, — проговорил Николай. — И правильно: она… ну, как тебе сказать, ошибается…
— Она нас выдала, — не сдавался Виктор.
— У меня из головы не выходит немец, — переменил разговор Николай. — Поди, когда стрелял наших, подлец, не спрашивал, кто они. А самому круто пришлось — сразу «штукатур, штукатур!» Рабочий класс, так сказать! Уверен, что его пощадят… Поди, давно такое продумал, а?
— Этому их Сталинград научил. Пойдем на Минскую улицу. Хотя Стебель не любит неожиданных визитов, но ведь надо доложить о нашей встрече. Новую конспиративную квартиру командира и политрука даже не все наши ребята знают. Оно так лучше, безопасней. Жандармы и полицаи совсем осатанели, рыщут по городу как угорелые. Из Горловки приезжал какой-то крупный чин, в военной разведке партизанами занимается. На коменданта с кулаками кидался, а полицаев пообещал в концлагерь поотправлять. Вот они теперь и усердствуют.
ОКРУЖЕНЦЫ
В феврале 1943 года части Красной Армии продвинулись к Донбассу — к городам Краматорску, Красноармейску и другим. Растянутость тылов, перебои в снабжении боеприпасами, горючим, усталость войск, а также переброска немцами из Европы крупных войсковых соединений и большого числа техники привели к изменению соотношения сил. Наступление наших войск приостановилось, началось вражеское контрнаступление. Фашисты рассчитывали в районе Харькова взять реванш за Сталинград. Но их планы провалились: как говорят в народе, кишка оказалась тонка. Однако некоторые наши далеко продвинувшиеся подразделения потеряли связь с командованием и вынуждены были отступать к Донцу.
Остатки штаба отдельной лыжной бригады во главе со своим командиром — майором Ключаровым — были окружены под Красноармейском, но все-таки вырвались из вражеского кольца и почти без боеприпасов пробирались на восток, чтобы соединиться с отступившими войсками. Из семи человек трое были обморожены. Их путь перерезал большак, по которому бесконечным потоком двигались фашистские войска и техника. Дождавшись ночи, окруженцы пересекли дорогу и оказались на окраине села Первомайки, где действовала группа подпольщиков, руководимая коммунистом И. Г. Ладником, с которой мы поддерживали постоянную связь.
Член этой группы, Татьяна Евгеньевна Сегеда, узнав о бойцах, сразу же вызвалась помочь.
Широкоплечий, с мужественным лицом майор Ключаров попросил укрыть его группу, — люди окончательно выбились из сил. Их разместили в трех хатах. У себя Татьяна Евгеньевна оставила старшего лейтенанта Бориса Зейермахера, у которого были обморожены руки и ноги, и солдата Ахмата Жунусова с обмороженными руками.
У А. М. Шейко под небольшим стогом сена была яма. В случае опасности в ней можно было спрятать окруженцев.
Отец Татьяны Евгеньевны, дед Евген, устроил тайник в сарае — выкопал небольшое углубление, а над ним сложил кизяк, которым зимой топили печь.
Вечерами подпольщики собирались в доме Анны Павловны Шейко, где находились майор Ключаров, капитан Клейман и адъютант майора Спартак Малков. Словоохотливый капитан рассказывал о победе под Сталинградом, о подвигах советских людей на фронтах и в тылу. Веселый и мягкий по натуре Малков напевал вполголоса рожденные в войну песни, которых подпольщики еще не слышали. Он был неистощим на шутки, и даже сильно обмороженная нога, причинявшая неимоверные страдания, не умеряла его жизнерадостности.
Майор, прислушиваясь к отдаленному гулу артиллерийской канонады, смотрел на карту и прикидывал, где вероятнее всего может установиться фронт, выбирал наиболее подходящее место для его перехода. Ключаров казался суровым, замкнутым человеком, но в обращении был мягок и даже ласков.
Татьяна Евгеньевна и ее племянница Роза Мирошниченко вызвались быть провожатыми до самого Донца, но Ключаров отклонил предложение — рисковать их жизнями, он не имеет права. Пообещал, что, перейдя фронт, сообщит кому следует о патриотах, попросит установить с ними связь, оказать помощь.
Майор решил, что в ночь на 7 марта его группа двинется в путь, а Спартака оставят у подпольщиков.
Утром шестого произошло непредвиденное. Едва рассвело, как село было уже окружено автоматчиками. По улице промчался мотоцикл, а потом автомашина с солдатами, которые на ходу выскакивали из кузова, беспорядочно стреляя.
— Немцы, немцы! — закричала Роза, вбегая в хату. — Скорее в сарай…
Зейермахер и Жунусов вместе с дедом Евгеном выбежали в сарай, мигом разобрали кирпичи, Борис и Ахмет улеглись в выемку, а дед тут же возвел над ними крышу из кизяка. В свои семьдесят лет он справился с делом удивительно быстро и ловко. Сразу же возвратившись в дом, начал усердно строгать столовым ножом небольшое полено.
В дом заскочило трое автоматчиков. Один заорал с порога на ломаном русском языке:
— Где партизан?
— Какие партизаны? — леденея, но внешне спокойно переспросила Татьяна Евгеньевна, пожимая плечами.
— Если находиль — капут, — пообещал фашист.
— Никого у нас нет и не было, — ровным голосом сказал дед Евген. — Разве я на старости лет стал бы брехать, грех на душу брать? Видит бог, правду говорю, а если не верите, то ищите…
Обыскав комнату, солдаты вышли в коридор, где стояла лестница, ведущая на чердак. Немцы перебросились между собой несколькими словами и, подозвав Татьяну Евгеньевну, приказали лезть. Следом поднялся высокий бледнолицый солдат, дал очереди в самые темные углы чердака, опустился вниз. Татьяна Евгеньевна с отцом в сопровождении двух солдат зашла в сарай. Дед Евген настолько владел собой, что даже пытался насвистывать, но Татьяна Евгеньевна шла словно на окаменелых ногах, едва справляясь с охватившим ее страхом.
— Вы напрасно теряете время, паны, — громко сказал дед. Откуда у нас могут взяться партизаны: ни лесов, ни болот…
В метре от тайника были сложены один на один несколько кизяков. Говоривший по-русски немец уселся на них, закурил. Второй осмотрел сарай, автоматом разворошил небольшую кучу стеблей подсолнечника и кукурузы, которые также использовались как топливо, и, что-то сказав, вышел. Куривший также покинул сарай. Татьяна Евгеньевна закрыла дверь на вертушку. Зайдя в дом, обессиленная опустилась на стул. Дед Евген маленькими глотками нервно пил воду. Роза через окно наблюдала за немцами на улице.
На другом конце села события развернулись иначе…
Увидев в селе немцев, Анна Павловна вбежала в дом и сдавленно вскрикнула:
— Скорее в укрытие, в селе фашисты!
Майор Ключаров и капитан Клейман, схватив оружие, побежали к стогу. Спартак Малков еще с трудом передвигался: обернутая в женский платок обмороженная нога причиняла страшную боль даже при осторожной ходьбе.
Нина, дочь Анны Павловны, бросилась к Малкову, и он, опираясь на плечи девушки, поковылял к стогу.
Немцы увидели Малкова — открыли огонь. Нина почувствовала, как он вздрогнул, еще более отяжелел и начал падать. Она попыталась его удержать.
— Скорее, скорее, милый! — шептала она. Он упал на колени. Девушка наклонилась над ним, увидела погасшие глаза бойца…
Не успевшие спрятаться майор и капитан поднялись с земли, расцеловались. Майор выстрелил из пистолета себе в висок, капитан приставил к груди автомат и рухнул на землю.
Уже по мертвым офицерам фашисты открыли автоматный огонь и стреляли, стреляли. Молодой боец-окруженец в панике выскочил на улицу и тут же был сражен автоматной очередью.
Трое суток трупы лежали под открытым небом, потом их разрешили захоронить. Когда несли тело майора к братской могиле, из кармана гимнастерки выпала небольшая металлическая коробочка, которую незаметно подобрала Роза Мирошниченко. В ней оказалась печать бригады. После изгнания немцев ее передали командованию Красной Армии.
Кроме Бориса и Ахмета удалось спасти молодого сержанта, спрятанного в подвале под опрокинутой кверху дном бочкой. Немец прострелил бочку, но пуля не задела сержанта.
Придя в Константиновку, Роза Мирошниченко рассказала нам о случившейся в Первомайке трагедии. Надо было срочно подыскать квартиры в городе и укрыть в них уцелевших воинов.
У Абрамовых немца-шофера на постое уже не было, и он сразу же предложил свой дом. Кто-то возразил, что брать окруженца Николаю нельзя: большая семья. Николай обиделся.
— Почему не доверяете? Отец не откажет красноармейцу, а маму вы все знаете — она ведь детей недокормит, а пленным продукты понесет. Братья у меня хорошие, дисциплинированные, я их вышколил, как следует… — От обиды у него дрожали губы. Таким его видели редко. — Мама в больнице работала… обмороженному перевязки будет делать.
Вечером отправились за окруженцами. Анатолий и Роза шли впереди, за ними мы с Николаем. За небольшой ложбинкой спустились в балку и остановились у больших старых верб.
— Договорились встретиться здесь, — тихо сказала Роза и, всматриваясь в зеленоватые фосфорические стрелки наручных немецких часов, добавила: — Скоро должна появиться Татьяна Евгеньевич или Нина Шейко.
На противоположной стороне балки показалась крадущаяся фигура. Мы достали оружие, насторожились.
— Это Нина, — воскликнула Роза и несколько раз мигнула фонариком.
— Ось и я, здраствуйтэ, хлопци, — подойдя к нам, сказала Нина. — Евгеньевна з нашимы у другий балци, тут нэдалэко. Я швыдко сбигаю, но щоб и Роза зи мною. Гаразд?
Девушки ушли, а мы уселись на старой, сваленной ветром вербе. Предстоящая встреча с окруженцами волновала, но говорить об этом не хотелось. Мороз был небольшой. Ночь звездная, тихая. Вдали по балке виднелась темная стена с большой расщелиной посередине — до войны там была плотина.
— Хорошие места были, — проговорил Николай. — Вон на той вербе проволока висела. — Раскачаешься на ней, а потом перевернешься в воздухе несколько раз — и бултых в воду. Кра-со-та…
— Идут, — сообщил командир.
Первым подошел мужчина лет тридцати, выше среднего роста, широкоплечий. Хрипло проговорил:
— Зовите Борисом. Простите, руки не подаю, обморожена.
— Я тоже мороженый, — с акцентом произнес низкорослый. — Называюсь Ахмет.
— Семен, — представился третий: молодой, узкоплечий, в короткой шинели.
Татьяна Евгеньевна обратилась к Анатолию:
— Мы с Ниной должны возвратиться. В селе три дня сидит следователь, ищет документы, карты и оружие убитых. Немцы, мол, нашли не все, часть кто-то спрятал. Допрашивает всех поголовно, и наше отсутствие может быть замечено. Дня через три приду.
Мы двинулись к городу. Анатолий и Роза пошли с Борисом и Семеном, Ахмет шел с Николаем, а я немного сзади. До Бутылочной колонии добрались благополучно. Мы с Ахметом ночевали у Николая.
Дня через два я пришел к Николаю, принес бинты, кусок настоящего фабричного мыла и сахарину.
— Заходи, — радостно пригласил Николай, — дома только мы с Ахметом. Посмотри, как я его подстриг. Первый раз в жизни парикмахером был, но Ахмет говорит, что лучше меня никто раньше его не стриг. Сейчас баню устроим.
Друг говорил оживленно. Забота о новом товарище доставляла ему удовольствие. Ахмет приветливо кивнул мне и смущенно улыбнулся. Небольшого роста, мускулистый, лицо крупное, глаза узкие, живые, волосы черные как смоль и добрая застенчивая улыбка — таким мне запомнился Ахмет Жунусов.
— Коле говорю, не надо баню, надо скребелку. Голову зудит, чесать надо, а он — баня, баня…
Я понял, что слово скребелка является чем-то средним между гребенкой и скребницей. Одна рука Ахмета была забинтована, кисть другой покрыта струпьями. «Как же он будет мыться?» — подумал я, прислушиваясь к грохоту, доносившемуся из кухни.
В детскую, где мы с ним сидели, вошел Николай:
— Перво-наперво помоем голову. Потом и телесам омовение учиним, как говорит наш сосед дядя Вася.
Ахмет поерзал на стуле и неохотно встал.
— Смелей, смелей, — подбадривал его Николай.
Из кухни долго доносились всплески воды, смех. Ахмет появился в немецкой нательной рубашке до колен, счастливо улыбающийся. Николай гремел посудой, переливал воду, напевал. Я дал Ахмету расческу, и он, держа ее двумя пальцами, с трудом расчесывал густые и жесткие волосы.
— Вымыт, как перед свадьбой, — весело сказал Ахмет, глядя на вошедшего Николая. — Побьем немца — жениться буду, вас на плов приглашу.
Николай принес немецкие брюки, перекрашенные его матерью из зеленого в черный цвет, отцовскую, в полоску рубашку-косоворотку и носки, сшитые из солдатских обмоток. Ахмет растерянно посмотрел на одежду, еще больше покраснел, а щелочки глаз увлажнились. Хотя все оказалось впору, он чувствовал себя явно не в своей тарелке. Чтоб как-то вывести его из состояния неловкости, я спросил:
— Кем вы были до войны?
— Я — один Ахмет, а не много Ахметов, потому надо мне говорить — ты, — сказал он, улыбаясь. — Я был пасечник.
— Пастух, — поправил Николай.
— Да, да, пас табуны лошадей. Я очень люблю лошадей, они умные и честные. Когда пройдет война, я опять буду пастух. Вы приедете в гости и покушаете кумыс. Кумыс хорошо, большая польза от него.
Николай вдруг спохватился, засуетился:
— Надо смазать руки мазью и перебинтовать.
В окно нетерпеливо постучали.
— Это мама.
Тетя Валя, увидев у сына в руках бинты, сказала:
— Сама забинтую.
Я оделся, Николай вызвался меня проводить.
— Замечательный малый Ахмет. Душевный, добрый, но, когда речь заходит о немцах, от ненависти зубами скрежещет. Моим родителям понравился. Братья как на диковинку смотрят, но лишних вопросов не задают. Дней через десять руки у Ахмета заживут — как мама говорит, — а она у нас все знает.
Николай вдруг подфутболил искореженную консервную банку. Дребезжа, она взвилась в воздух и упала в лужу. Уловив мой осуждающий взгляд, улыбнулся:
— Подумал, наверное, пацан я еще. Так?
— Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, — продекламировал я.
— Сам ты блаженный, — с напускной обидой сказал Николай и остановился. — Дня через три пойду к Владимиру Ивановичу. Анатолий посылает.
Владимир Иванович Маяк был одним из руководителей городского подполья. К нему мы пошли вдвоем. Николай проскользнул во двор, а я сел на скамейке у противоположного дома. Николай вышел хмурый.
— Я должен отвести Ахмета в десятый совхоз, или госхоз, как теперь его называют. Казаха с приметной внешностью трудно скрывать в городе. Там он будет работать официально, себя прокормит и задание ему поручат. — Николай тяжело вздохнул.
— Так, наверное, лучше тебе и Ахмету.
— Много ты понимаешь, — недовольно сказал он. — Я Ахмету обещал, что как только он окрепнет, мы на боевую операцию пойдем. Пойми — я обещал. Выходит, что я трепач?
— Напрасно злишься. Госхоз недалеко — на велосипеде всего час езды. Сможешь и на операцию его взять, если, конечно, разрешат.
— Ты же знаешь, что выполню любой приказ руководства, но ведь и со мной надо считаться.
Через несколько дней В. И. Маяк сообщил Николаю пароль и назначил время встречи с управляющим госхозом Сатаровым. Смелый, но осторожный Петр Юрьевич не кричал, что ненавидит большевиков, но и не восторгался «новым порядком». Знающий свое дело зоотехник был будто бы вне политики, трезвенник, исправно нес службу и оккупационные власти вполне устраивал. Но десятки военнопленных работали в госхозе, и семьи многих подпольщиков, арестованных коммунистов, не зная откуда, иногда получали муку и подсолнечное масло, картофель и зерно.
Конечно, Петр Юрьевич не мог всем оказать помощи, и недовольные нередко грозили: погоди, мол, придет Красная Армия, и ты свое получишь, холуй немецкий.
В госхоз шли по топкой тропинке, оставляя большак в стороне. Сапоги глубоко вязли в клейкий грунт. Когда показалось село, Николай сказал:
— В контору пойду я, ты подождешь меня за селом. Ахмет остался на околице у заброшенного сарая.
Управляющий сидел на пороге и за что-то отчитывал стоящего перед ним мужчину. Николай поздоровался.
— Вы ко мне? — спросил Сагиров.
— Я насчет работенки, — ответил Николай. — Документы исправные.
— Делать что умеете?
— Все и ничего.
— Пойдемте в контору.
Сагиров прошел в небольшой кабинет. Плотно прикрыв дверь, спросил: — А где Ахмет?
— За селом.
— Руки сильно обморожены?
— Почти зажили, но еще неделю бы надо…
— Отведете его к Евдокимовне. Третий дом от края села. Скажете Евдокимовне, что я распорядился принять на жилье. Завтра утром пусть зайдет ко мне. Все, до свидания.
…После освобождения города Ахмет рассказывал, что к нему в совхоз Николай еще дважды приезжал на велосипеде. Привозил сигареты и мыло, потом гранату и карманный фонарик. Обещал достать пистолет и взять Ахмета на боевую операцию. С передовыми частями наших войск Ахмет пошел на запад добивать врага. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
Петр Юрьевич Сагиров за подпольную деятельность в годы Великой Отечественной войны награжден медалью «За отвагу».
АКРОБАТ
Перед войной у нас в школе было повальное увлечение акробатикой. Мальчишки без устали прыгали, кувыркались, выполняли всевозможные «сальто», «кульбиты» и прочие трюки. Прыгая в яму для прыжков, они старались проделывать в воздухе самые сложные фигуры.
И Николай не избежал, как тогда говорили, «акробатической лихорадки». Хотя он был сильнее и ловчее многих сверстников, но не раз ходил прихрамывая, а то и с подвязанной рукой. За ним укрепилась слава лучшего акробата школы.
В парке имени Якусевича были установлены высокие опоры, между ними висела трапеция, а внизу натянута сетка для страховки. Заводские артисты летали между опорами, совершали головокружительные номера.
Весь город собирался на представление, зрители охали и ахали при виде сногсшибательных полетов, а мы, подростки, восторгались мастерством артистов, любовались красотой их сильных тел.
Один из акробатов, самый сноровистый и ловкий, выступал в комической роли. Нарочито неуклюже он совершал самые опасные и трудные «фигуры высшего пилотажа». Звали его Михаилом, но с чьей-то ребячьей руки именовали «Чкалов».
Мы смотрели аттракционы с замирающими сердцами, и Николай не раз говорил:
— Будь я взрослым, обязательно летал бы вот так.
Последнее представление акробаты давали красноармейцам за полтора-два месяца до ухода наших войск из города. Но вот акробат Мишка, любимец горожан, вдруг объявился в оккупированном городе. Афиши уведомляли: «Михаил Сурженко — лучший акробат города, демонстрирует свое искусство в театре. Во времена советов его талант не мог раскрыться, теперь увидите апофеоз артиста. Такое возможно только при новом порядке».
Мы с Николаем стояли у афиши и не верили написанному.
— Неужели «Чкалов» пошел в услужение к фашистам? — растерянно спросил Николай. — Неужели из-за куска эрзац-хлеба паясничает и унижается перед гадами?
Он посмотрел на меня так, словно я обязан был тут же дать ответ на волновавший его вопрос.
— Возможно, Мишка не сволочь, а просто дурак, — неуверенно ответил я.
— Патриотизм, наверное, не только умом рождается, а еще и чем-то другим, — Николай постучал себя по груди, добавил: — Он от сердца идет, а вернее… от всего существа.
Я понимал, что его уважение к акробату сменилось разочарованием. Кумир оказался ничтожеством.
Потом о Мишке долго не вспоминали. Как-то Николай сказал:
— Забыл тебе сообщить: позавчера случайно видел Михаила. Я подумал: а не пойти ли мне к нему в ученики?
Друг говорил оживленно и явно ожидал поддержки.
— Да не связывайся ты с этим холуем.
— Может, он неспроста кувыркается перед немцами. Возможно, он связан с другими подпольщиками или не согласится действовать с нами?
Он ухватился за эту мысль и увлеченно развивал ее.
— Я разгадаю Мишку, узнаю, чем он дышит, и если он наш человек — будет здорово. Вечерами дает представления для немчуры, значит, имеет пропуск, может ходить по городу ночью. С его помощью в театре тоже можно кое-что провернуть. Я уверен, есть люди, которые только для вида сотрудничают с немцами, а в действительности работают на наших, во вред оккупантам. Они обрекают себя на ненависть, но фактически делают большое и полезное дело.
Николай начал часто появляться около театра, старался встречаться с Михаилом, заговаривать с ним. Приходя ко мне, он до изнеможения упражнялся на турнике. Полуголодный, истощенный, он многократно повторял различные гимнастические упражнения. Ладони его покрылись грубыми мозолями, он еще больше худел, но, повиснув на перекладине, легко управлял своим телом.
Как-то поджидая акробата у театра, Николай увидел его с молодой красивой женщиной. Это была певица, выступавшая в одной концертной бригаде с Михаилом. Ее постоянно видели в обществе офицеров, непринужденно болтавшей по-немецки. Ловя на себе осуждающие взгляды горожан, она, словно бросая всем вызов, вела себя развязно, и даже нагло.
«Вот ты с кем водишься, — подумал Николай об акробате. — Но ничего, разберемся, с какой ты начинкой».
Михаил, размахивая стареньким портфелем с двумя дамками, повернул к театру. Делая вид, что случайно оказался здесь, Николай не спеша двинулся ему навстречу.
— Здравствуйте, я хочу поучиться у вас цирковому искусству. С детства люблю спорт.
Николай начал застенчиво, но последние слова звучали смелее, тверже. Михаил удивленно поднял брови, молча пощупал руки и плечи Николая, заключил:
— Кое-что есть, но еще жидкий. Ну что ж, давай попробуем.
Пройдя безлюдный, едва освещенный зал, они поднялись на сцену.
Михаил раскрыл портфель, достал тренировочную форму, переоделся и начал разминку. Николай смотрел на быстрые ловкие движения и, конечно же, сожалел, что сам не такой сильный и гибкий.
— Нечего глаза таращить, — грубо сказал акробат, — раздевайся и повторяй все за мной.
После разминки подошли к висевшей трапеции, Михаил указал на нее:
— Покажи, на что способен.
Николай едва допрыгнул до трапеции, проделал несколько силовых упражнений. Отдышавшись, с досадой сказал:
— Я на турнике занимался, а тут болтаешься, как… — он не закончил, осекся.
Михаил, явно стараясь удивить единственного зрителя, около часа вертелся на трапеции, отшлифовывая каждый трюк. Выходя из театра, сказал Николаю:
— Вижу, парень ты порядочный. Хочешь подучиться — приходи каждый день. Тебе польза, и мне будет веселей. Сшей из материи тапочки и одежонку имей полегче, попросторнее.
Николай стал приходить в назначенное время. Стараясь расположить к себе Михаила, внимательно прислушивался к каждому его слову, следил за каждым жестом. Жаловался мне:
— Понимаешь, очень скрытный, ни на какие удочки не клюет.
Прошло две недели. Николай, войдя в доверие, свободно ходил по театру. Он обшарил каждый его уголок, попытался проникнуть на чердак — не удалось, заперт. Кинобудка тоже закрывалась на два винтовых запора и огромный висячий замок. Обследовал подсобные помещения, пожарные лестницы, а один раз, как он потом признался, сидел под сценой среди старых декораций, слушал концерт для немцев, там же провел ночь в обществе крыс: выйти из театра ночью было невозможно. Придя на следующее утро, Михаил удивился, увидев своего ученика уже на сцене. Как-то на репетицию зашел обер-фельдфебель, занимавшийся вопросами «искусств и развлечений». Похлопал Михаила по мускулистым плечам, сказал:
— Ты есть феноменаль. Комендант дает добавка: фовиант, сигарет и марки. Труппа едет на фронт. Конверт на славный немецкий зольдат. Корошо?
Михаил подобострастно поблагодарил и охотно согласился ехать на фронт. Хотя немец хорошо понимал русский язык, акробат говорил на ломаном немецком.
— Кто есть этот юнош? — полюбопытствовал обер.
— Это мой ученик, — не без гордости, уже по-русски, ответил Михаил, подталкивая Николая и нажимая на плечо, чтобы тот наклонился. Николай слегка подался вперед, но вопреки желанию Михаила еще больше выпрямился, вскинул голову, четко сказал:
— Хочу быть артистом.
— Корошо. Немецкая нация ценит смелый артист. Большевики опускали культуру вниз, это есть дикость.
Самодовольно улыбаясь, обер-фельдфебель ушел, а Михаил начал разминку. Николай сослался на недомогание и молча наблюдал за своим наставником. Его подмывало спросить: «А нельзя ли и ему поехать с артистами на фронт?»
Михаил, тяжело дыша, уселся на стул и, рассматривая мозолистые ладони, грустно сказал:
— Люди не видят, как тяжело артисту достается эта легкость.
— А когда я уже смогу выступать? — неожиданно для себя спросил Николай.
— Еще немного окрепнешь — и начнем работать чад программой. Я уже продумал все.
— А как же с поездкой на фронт?
— Это ненадолго, — уверенно ответил Михаил. Между требовательным тренером и исполнительным учеником установились хорошие взаимоотношения. Николай исподволь располагал к себе Михаила, не лез с настораживающими расспросами, не проявлял интереса к его убеждениям, планам на будущее.
Михаил начал постепенно откровенничать, посвятил ученика в свои сердечные дела.
Николай однажды мне сказал:
— Это же черт знает что. Знает, что Верка-певичка таскается с заместителем коменданта, но хочет на ней жениться.
— О ком ты? — недоумевая, спросил я.
— Да о своем, как теперь принято называть, шефе. По-моему, он трус, и нутро у него гнилое. Нашло на него как-то, начал меня уму-разуму учить. Главное, говорит, во всей этой неразберихе, в безумной драке уцелеть. Выжить любыми средствами, а дальше видно будет. Готов служить даже черту, но чтоб только спастись… Ну как можно не понимать, что если все будут заботиться только о том, чтобы уцелеть, выжить, то наверняка все погибнем. Уничтожат нас фашисты, как второсортных людей. Они же о нас говорят, что мы недочеловеки. А Мишка плетет, что немцы обычно сатанеют во времена войн, а потом, мол, победив, становятся хорошими людьми. Ерунда! Если будут подчиняться Гитлеру, то окончательно озвереют. Это точно. — И добавил разочарованно: — Наверно, свою затею брошу, толку не вижу.
— Давно пора, — поддержал я.
— Оно так, если бы не одна мыслишка, — глаза Николая загорелись. — Здорово было бы через отверстие в потолке, где крепится люстра, высыпать на головы немцам во время концерта десяточек лимонок. А?
— Командиру об этом говорил?
— Пока не разрешает. Взобраться на чердак и за бросать фашистов гранатами — пара пустяков, а скрыться потом почти невозможно. Надо помозговать еще.
Вскоре отношения Николая и Михаила расстроились. Провожая акробата домой, Николай осторожно спросил:
— Ну, как там немцы на фронте, уверенно себя чувствуют или не очень?
— А тебе это зачем? Ты на шпионство меня не наталкивай и в политику не впутывай. Кто меня кормит тому я и служу. Красные придут — им тоже нужен буду. Артисты всем нужны. А насчет бунтарства и прочих безобразий, так я противник этого. Пусть шкодничают те, кому жить надоело.
— Хамелеон жалкий, — сердито рассказывал Николай. — Окажись он настоящим человеком, мы кое-что провернули бы.
Николай, раздобыв несколько листовок, сброшенных нашими самолетами для немецких солдат, дважды расклеивал их в фойе театра и на большом афишном щите у входа, где вывешивались объявления. Листовки по нескольку дней висели нетронутыми, словно их и не замечали. Многие солдаты, бегло прочитав и не желая связываться с гестапо, уходили прочь, наверное, рассказывая потом по секрету близким товарищам о прочитанном.
В середине апреля гитлеровцы стали готовиться к празднику — дню рождения Гитлера. Солдатам выдавали новое обмундирование, свежей краской красили машины; всюду вывешивались портреты фюрера. Высоко поднимая ноги, солдаты с утра до вечера маршировали около Дворца культуры. На площади строилась трибуна. На столбах появилось несколько похожих на граммофонные трубы репродуктов.
Николай доложил о приготовлениях немцев и предложил испортить оккупантам праздник. Командир и политрук согласились.
В канун самого праздника площадь вымели и посыпали песком. Вокруг были усилены патрули, у каждого жителя, появлявшегося в центре города, проверяли документы. Даже немецким солдатам запретили расхаживать по главной улице.
В назначенное время площадь начала заполняться солдатами. Офицеры выравнивали ряды, осматривали выправку. Вдруг из театра появился обер-фельдфебель: смертельно бледный, с выпученными от страха глазами, он что-то несвязно пробормотал взбешенному коменданту города гауптману Брандесу.
— Свинья! — задыхаясь от гнева, рявкнул Брандес. — Если к приезду генерала не найдете украденный микрофон… голову сниму! На фронт отправлю!
Обер-фельдфебель кинулся в театр. Через несколько минут на площади показались три легковые машины. Встречающие офицеры и солдаты замерли. Из «оппель-адмирала», не торопясь выбрался низенький, толстый генерал.
Высоко вскидывая начищенные до зеркального блеска сапоги, комендант Брандес подошел к генералу, стоящему в окружении прибывших офицеров. Рапорт прозвучал кратко и четко.
В сопровождении свиты генерал важно взошел на трибуну. Не увидев микрофона, гневно взглянул на Брандеса.
— Мы все предусмотрели, радиофицировали площадь, — испуганно забормотал Брандес. — В самый последний момент… микрофон… микрофон испортился, господин генерал.
— Не миновать вам фронта, — тихо пообещал генерал и заговорил во всю силу своего голоса.
С напряженным вниманием слушали на площади генерала, обещавшего с помощью нового чудо-оружия стереть в порошок всех врагов любимого фюрера.
Вдруг голос оратора словно надломился. Генерал закашлялся и умолк. Вытерев вспотевшее лицо платком, он попытался заговорить снова зычно и громко, но лишь сипло хрипел. Достав платок, он долго и нудно сморкался. По лицам некоторых солдат скользнули улыбки.
Наконец-то генерал поборол кашель, приказал прибывшему с ним подполковнику вручать награды.
Наблюдавшие издали за происходившим горожане посмеивались над неудавшимся торжеством. Они не знали, кто сорвал праздник, но поговаривали, что без подпольщиков, мол, тут не обошлось.
Потом мы узнали, что обер-фельдфебеля разжаловали и отправили на передовую. Комендант Брандес отделался выговором.
Николай Абрамов и Роза Мирошниченко, оставившие генерала без микрофона, ходили гордые и счастливые.
Акробат бежал из города вместе с оккупантами.
ДВЕ СУДЬБЫ
День был морозный и ветреный. Мы с Николаем ходили на аэродром высмотреть, как охраняется горючее. Возвращались медленно, болтая о разных пустяках. Возле бывшей рабочей больницы, где размещался госпиталь для немецких офицеров, неожиданно повстречался наш школьный товарищ. Мы не видели его с начала оккупации города. На нем были засаленная фуфайка и такие же брюки, старая шапка с опущенными ушами неловко сидела на голове, а огромные ботинки со сбитыми каблуками не зашнурованы и едва держались на ногах. Он воровато оглядывался по сторонам, зябко ежился и вообще выглядел запуганным и жалким. Увидев нас, он еще больше ссутулился, втянул голову и норовил пройти стороной.
— Владик! Владислав! — вырвалось у Николая. Мы остановились, глядя на вздрогнувшего и застывшего в нерешительности товарища. — Подожди. Ты что, не узнаешь?
Владик, виновато улыбаясь, приблизился к нам и, нервно пожимая руки, заговорил быстро, повторяя отдельные слова по два-три раза:
— Я сразу и не узнал. Думаю, вы или не вы? Вы или не вы? Решил, что не вы, и потопал прочь. Да, да, подумал… не вы и… ходу домой.
В школе уважали Владика: он был добрый и правдивый парень, много читал, охотно делился книгами из своей библиотеки отличался исполнительностью. Хорошо играл на нескольких музыкальных инструментах и обладал удивительной «артельностью». Не проходило ни одного общественного мероприятия, чтобы Владик оставался в стороне. По складу характера он не был склонен к предводительству, но своей энергией и энтузиазмом зажигал самых вялых ребят. Всегда опрятный, он в отличие от других «чистюль» не задавался, был скромен, хотя его часто ставили нам в пример. Отец Владика работал каким-то большим начальником, но перед самой войной с ним что-то случилось: то ли его арестовали, то ли он оставил семью и уехал. Во всяком случае, семейная трагедия очень отразилась на впечатлительном парне, он замкнулся, отдался музыке, но учился по-прежнему хорошо. Как сложилась его дальнейшая судьба, мы не знали, и вдруг вот эта встреча. До ухода в «ремесло» Николай с большой симпатией относился к Владику и даже кое в чем подражал ему.
— Ну, как дела? Ты давно в городе? — нетерпеливо спросил Николай. — Рассказывай же!
— А что рассказывать. Живу, как горох у дороги — кто идет, всяк щипнет. Всех боюсь и все ненавижу. Себя тоже, как мокрицу жалкую, презираю. Мне бы в самый раз в петлю, но трус я, трус.
От таких слов мы оторопели, а Владик, бросив по сторонам быстрый и беспокойный взгляд, судорожно повел плечами и, стукнув ботинком о ботинок, сказал:
— Давайте двигаться, а то я в сосульку превращусь. Мы медленно пошли в сторону бутылочного завода.
Николаю не терпелось подробнее узнать о жизни товарища, и он с присущей ему настойчивостью потребовал:
— Ты расскажи о себе без философии.
— Только откровенность за откровенность, — Владик глубоко вздохнул, пристально посмотрел на Николая и продолжал: — Перед приходом немцев послали меня на оборонительные работы, к Днепру. Людей там набралось видимо-невидимо, а лопата одна на троих, носилки — на пять человек. Рыли противотанковый ров. Немцы с самолетов начали обстреливать, а потом разнесся слух, что танки прорвали фронт и могут нас окружить. Пристал к одной группе взрослых мужчин и шел с ними на восток. Потом мы рассыпались, и я поплелся один. Пристроился к эшелону с эвакуированными, но эшелон разбомбили, и я снова пустился в путь на своих двоих. Немецкие танки обогнали меня, и, поскитавшись еще несколько недель, я приплелся домой. Простудился, наверное, чирья пошли по всему телу. Месяца четыре матушка выхаживала. Окреп, снарядился в село вещи на продукты менять. На границе с Запорожской областью попал в облаву. Забрали в лагерь, повезли в Германию. Удалось сбежать. Мытарствовал по всей Украине. Угодил к партизанам. Был у них недолго. Пошел в разведку, заблудился и… домой двинул. Мать все поменяла на продукты и вообще стала какой-то полупомешанной. Гадает на картах, верит снам, читает библию. Рядом живет полицейский и неусыпно следит за каждым моим шагом, а почему — непонятно. В доме холодина, есть почти нечего. Надломлен до такой степени, что готов руки на себя наложить. Да-да, вот именно — наложить!
Подкупающая откровенность да и вид Владика не оставляли сомнений в правдивости сказанного, но тем не менее он чего-то недоговаривал. Да иначе и не могло быть, ведь мы о себе пока еще не сказали ни слова.
— У меня и у Бориса все сложилось проще, — заговорил Николай. — Я с «ремеслом» пытался эвакуироваться, немец перехватил танками — и шабаш. Живу с родными, то менять езжу, то огороды обрабатываю — вот так и перебиваюсь.
— На оборонительных работах и мне пришлось побывать, — словно отчитываясь, начал я. — А потом отступал. Немцы обогнали на мотоциклах, попал в перестрелку, чуть не погиб. Пришлось домой шагать. Вот так и живем — кукурузу жуем да у моря погоды ждем.
По осуждающему взгляду Николая я понял, что шутка моя не удалась, а лицо Владика выражало недовольство. Ему не понравилась лаконичность наших рассказов о своей жизни на оккупированной территории.
— Я понимаю, о какой погоде ты говоришь, — обратился он ко мне. — Красные придут и, конечно, спросят, а что ты делал при немцах? Ничего. А почему с оружием в руках не сражался? Ждал погоды у моря. Возьмут тебя под белы рученьки — и в Сибирь. Да-да, в Сибирь. Даже на фронт не пошлют, оружия не доверят.
— Это трепня, — ровно и спокойно сказал Николай. — Ты боишься вопросов: что, мол, делал? А если не спросят, тогда как? Разве собственная совесть не может спросить? По-моему, перед кем-то отвечать легче, чем перед собственной совестью. Если, конечно, она есть и не очень замарана.
— Я понимаю, понимаю, — быстро заговорил Владик. — Немцы, конечно, ведут себя отвратительно, бесчеловечно. Они все разрушают. Убивают невинных людей. Издеваются и глумятся над своими жертвами. Это чудовищно, и они делают большую ошибку, что так безобразно обходятся с населением. И из-за этого могут проиграть войну.
— Ерунда, — жестко отрезал Николай. — Из истории известно, что завоеватели всегда вели себя с покоренными народами бесчеловечно, но неужели ты думаешь, что если бы фашисты не были такими жестокими, то наш народ смирился и признал бы их победителями, освободителями или как там они себя еще называют?
— Да, но ты, он, я и другие смирились? — спросил Владик и беспомощно развел руками. Потом тихо прибавил: — Не всякий способен каждый день жизнью рисковать даже за самые высокие идеалы. Тем более, если… брюхо пустое и от ветра качаешься.
— Может быть, мы с тобой и плохой пример, но; ведь есть люди, которые не стали на колени, сопротивляются, воюют.
— Для настоящей партизанской борьбы в Донбассе нет природных условий, — устало сказал Владик и потупился.
Мне показалось, что для первой встречи разговор носит слишком откровенный характер, тем более, что настроение Владика мне совсем не нравилось.
— Ты видел кого-нибудь из наших «однокашников»? — обратился я к Владику, незаметно подмигнув Николаю: мол, меняем пластинку. Друг понял.
— Никого. Я почти не показываюсь на улице, и главным образом от стыда. Кроме этой — другой одежды у меня нет, да и сил для прогулок не хватает: выйду на улицу — и голова кружится. Приучил себя спать по двадцать часов в сутки. Я слыхал изречение: кто спит, тот обедает.
Владик изобразил на изможденном лице что-то напоминающее улыбку, но вдруг остановился и, глядя на Николая, сказал:
— Через два-три дня я с соседом поеду в село на менку, вернее, помочь ему. Я свободно говорю по-немецки и нужен ему как тягловая сила и переводчик на всякий случай. Обещает кормить и посулил ботинки. Возвращусь через пару недель и зайду потолковать.
Владик боязливо глянул по сторонам и быстро простился.
— Он хороший и умный парень, но растерялся, раскис, а жалко, пропасть может. Ему надо помочь найти себя, но первым долгом подкормить малость. Пусть сходит в село, а потом непременно я займусь им. — Николай долго шел молча, о чем-то напряженно размышляя, потом резко повернулся ко мне, продолжил: — Как ты думаешь, разрешат мне заняться Владиком? — И, не ожидая ответа, сказал твердо: — Будет он подпольщиком. Я постараюсь, а ты мне поможешь.
Однако планы Николая не сбылись. Через месяц мы узнали, что Владик с матерью в своем доме отравились угарным газом. Был ли это несчастный случай, или самоубийство — никто определенно сказать не мог, но мой друг искренне горевал по поводу гибели товарища, и мы замечали, что он терзался угрызением совести, хотя ни в чем не был повинен перед Владиком.
* * *
У Николая появился новый товарищ — Валек. Я спросил у него об этом парне.
— Мировой пацан, — ответил он охотно. — Моложе нас, но хлопец что надо. Смелый, толковый и «без языка». О нашей организации он не знает, но мне кое в чем помогает. Вот познакомишься, он и тебе понравится.
Потом Николай сказал, что они с Вальком достали 5 гранат, еще через несколько дней сообщил, что Валек принес 10 коробок патронов. Все Валек да Валек. Решили узнать этого паренька поближе.
Приходим с политруком к Николаю — и удачно: застаем его вместе с новым товарищем. Познакомились, но разговор не клеился. Даже Владимир, всегда умеющий находить общие темы для разговора с совершенно незнакомыми людьми, молчал, изучающе поглядывая то на Николая, то на Валентина. Мне показалось, что я его уже где-то видел. Потому и спросил:
— Послушай, ты не в нашей ли, одиннадцатой, школе учился?
— Да. Перед войной в седьмом классе был.
— Родители у тебя есть?
— Есть мать и сестренка меньшая. Живем на Стекольной колонии.
— А отец?
— В тридцать седьмом забрали, и ни слуху ни духу.
— А ты чем занимаешься? — спросил политрук, не отрывая взгляда от Валька.
— Кражами! — не моргнув глазом, брякнул новый знакомый.
— Кражами? — переспросил политрук, недоумевая.
— Да, кра-жа-ми, — чеканя каждый слог, ответил Валек, удивляясь: неужели, мол, непонятно?
Николай вдруг несколько раз кашлянул и, краснея, робко вмешался в разговор:
— Понимаешь, Вова, они воруют только у немцев… Продукты, обмундирование и даже оружие.
— Кто это они?
— Я и мои товарищи, — спокойно ответил Валек и, недовольно взглянув на Владимира и меня, не простившись, ушел.
— Ну и дружка ты приобрел, — в замешательстве проговорил политрук и развел руками. — С таким другом быстро угодишь, если не в гестапо, так в полицию. И сложишь там голову не за понюшку табаку. Это как пить дать.
— Воры — народ хлипкий, одного поймают, а он всех выдаст, — прибавил я.
Наши слова обидели Николая.
— Вы напрасно о нем так плохо думаете. Валек — настоящий парень. С ним можно в огонь и в воду — не дрогнет! Я уже испытал его. А от дружков отважу и на правильный путь поставлю.
— Может быть, — недоверчиво сказал Владимир. — Но сейчас нет времени перевоспитывать. Ты хоть с Анатолием говорил о Вальке?
— Да. Он только запретил упоминать о нашей группе.
— Ну, это само собой разумеется.
Николай был доволен концовкой разговора и даже хитровато подмигнул: моя, мол, взяла.
…Вскоре пришлось вновь встретиться с Вальком. Вызвал меня командир, сказал:
— Пойдем оружие искать.
Мы пришли к сгоревшему зданию конторы химического завода, и тут я, к своему удивлению, увидел Николая и Валентина. Вместе спустились по ступенькам в подвал, но не до самого низа. Темно, сыро и немного жутко. Дно подвала залито водой. Валек сухо сказал:
— У меня есть свечка и несколько газет, это для освещения. Воды здесь немного… За одним пистолетом пойдет Коля, я ему рассказал, где лежит. А другой должен находиться за трубой, на той стороне подвала.
— А почему должен находиться, а не находится? — поинтересовался Анатолий.
Валек остановил на нем взгляд и, как мне показалось, сказал с оттенком насмешки:
— Прятал еще зимой, за это время и забрать могли. Не только вам оружие нужно.
— Кому это — вам? — спросил я, но в ответ Валек только многозначительно улыбнулся.
Командир начал поспешно разуваться, а за ним и мы с Николаем. Валек снял ботинки последним и, дав мне спички и газеты, сам со свечкой в руках первым шагнул в ледяную воду. Дно подвала густо усеяно кирпичом, трубами и разным хламом. Я поджег газету и светил вдоль толстой трубы, идущей на высоте полутора метров, а Анатолий обшаривал каждое углубление и выступ. Двигаясь вдоль стены, мы уже подходили к середине подвала, как вдруг донесся радостный возглас Николая:
— Есть, нашел!
Эти слова нас подхлестнули, и мы с Анатолием с еще большим усердием стали обшаривать каждый сантиметр стены, но понапрасну, видимо, кто-то уже забрал пистолет. Также осторожно ступая, мы направились к светлевшему квадрату выхода из подвала, где Николай и Валек, уже обувшись, рассматривали находку. Командир разочарованно вздохнул. Это был громоздкий, заржавленный шестизарядный револьвер без единого патрона. Заглянув в его ствол, командир сказал упавшим голосом:
— Очень большой калибр. К нему и патронов не достанешь. К тому же страшно тяжелый и неудобный.
Николай отнесся к этому более оптимистично:
— Ничего, ничего. Авось да пригодится.
— Второй пистолет был лучше, — заметил Валек. — Я в оружии не разбираюсь, но у того в ручку вставлялись патроны.
— Не в ручку, а в рукоятку, — поправил Николай.
— Ну пусть в рукоятку. Я постараюсь узнать: кто взял его.
Голос Валька звучал немного виновато. Разошлись мы по двое. В пути Анатолий заметил:
— А что, видать, Валек толковый малый.
— Да, пожалуй, — согласился я. — А револьвер, наверное, «противотанковый». Такой я у румынского офицера видел.
Через несколько дней ко мне пришел Николай и, улыбаясь, спросил:
— Не простудился, интеллигентик?
— А почему «интеллигентик»?
— Так Валек тебя и Вовку назвал после знакомства. Прямо так и сказал: «Какие-то засмоктанные интеллигентики».
— А теперь?
— Теперь у него мнение другое. У вас, я думаю, тоже мнение о нем изменилось?
— Парень, видать, что надо. Ты помнишь, как он политруку о себе выложил: вор, и все тут. Так может поступить только смелый, но неосторожный человек.
Николай задумался.
— Я ведь сразу сказал, что Валек башковитый и нужный нам парень. От воровской шпаны я его отшатнул. Немцы к ворам крайне жестоки и расстреливают за малейшую кражу. В городе пять человек расстреляли. На Химической колонии одного прямо на улице застрелили и два дня хоронить не давали, для устрашения других. А на вокзале невиновного убили. Какой-то сердобольный немец матери убитого дал буханку хлеба, и этим, наверное, очистил свою совесть. Так сказать, искупил грех. Они ведь «набожные», даже на солдатском ремне написано: «С нами бог».
Он насмешливо улыбнулся и продолжал:
— Валек наотрез отказался от дружбы с ворами. Они его посчитали отступником, обвинили в трусости и даже угрожали. Он же остался непреклонным. Я с ним по этому поводу много раз говорил. Однажды намекнул ему: будем заниматься другим и тоже опасным делом. Он меня понял и согласился быть с нами. Так-то…
— Нет, ты не думай, пожалуйста, что я хвастаюсь, — смущенно добавил Николай. — Нет, просто приятно, что хорошего парня из болота вытащил. Вот увидишь, он полезным человеком будет.
Я дважды спрашивал о револьвере, но Николай уклонялся от ответа, а потом со вздохом сказал, что он неисправный, сломан боек, да и патронов к нему нет.
Впоследствии Валек получил в нашей группе постоянную «прописку» и стал настоящим боевым товарищем. Он выполнял опасные задания, проявляя удивительную смелость, сообразительность, и всем ребятам пришелся по душе.
В начале лета 1943 года полиция арестовала бывшего товарища Валька из воровской братии. На допросе он в числе соучастников назвал и Валентина, но высказал предположение, что тот переметнулся к «политическим», то есть к партизанам. Обосновал догадку тем, что однажды вытащил у Валька из кармана листовку, что тот с блатной братвой перестал водиться.
От знакомого полицейского Николай узнал, что его другу грозит опасность, и Вальку было предложено немедленно перейти на нелегальное положение.
Теплой летней ночью он осторожно пробирался домой: надо было переодеться, взять спрятанный в сарае пистолет, а потом хотя бы на время покинуть город. Легкий стук — и испуганное лицо матери показалось в окне.
— Где ты бродишь, что натворил? — тревожно спросила она, в потемках целуя сына. — Ищут тебя. Полицейские приходили, и немцы на мотоцикле приезжали, обыск делали, но ничего не нашли. Забрали золотой перстенек и серьги, что еще твой отец подарил. Сказали, что как только ты явишься в полицию, так и отдадут эти вещи.
— Мам, — перебил ее Валек, — дай поесть. Найди серую рубашку и пиджак в полоску, мне надо уходить.
В этот момент за дверью раздались голоса:
— Открывай! Немедленно открывай — стрелять будем!
Валек прижался к стене и слегка выглянул в окно: двое вооруженных полицейских стояло около двери, а один у самого окна.
— Дом окружен, открывай! — неслось со двора.
Мать, дрожа, металась по комнате и причитала:
— Что же будет… Что же это будет… Заскочив в спальню, окно из которой выходило на улицу, Валек открыл его и выпрыгнул. В тот же миг раздался выстрел. Раненый Валек был схвачен. В полицию его доставили без сознания. Опасаясь, что предполагаемый подпольщик умрет раньше, чем они успеют у него что-либо выведать, полицейское начальство распорядилось немедленно отправить его в больницу.
Когда кризис миновал и врачи заверили, что парень наверняка выживет, у его постели появилась охрана. Круглые сутки двое полицейских, сменяя друг друга, дежурили около Валька, не допуская к нему никого из посторонних.
Николай узнал, что друг попал в засаду, ранен в бедро и лежит под охраной в городской больнице. Было ясно, что едва Валек окрепнет и начнет передвигаться хотя бы на костылях, его немедленно отправят в полицию, а после допросов и пыток, конечно, расстреляют. И Николай начал вынашивать план похищения друга.
Валек лежал на втором этаже в небольшой палате, в которой размещалось пять коек, стоявших так плотно друг к другу, что больные едва могли протиснуться между ними. В палате было жарко и душно, и полицаи чаще всего сидели в коридоре у двери или около поста дежурной сестры у самой лестницы.
В больнице работали врачами наш комсомольский секретарь В. И. Яковлева и член нашей организации В. С. Залогина, а также М. В. Шулишова — женщина энергичная и смелая, сплотившая вокруг себя группу патриотически настроенных медработников.
Во второй половине мая 1943 года В. И. Яковлева и В. С. Залогина были арестованы жандармерией. Подозревали, что они связаны с партизанами. За отсутствием улик после изощренных издевательств их освободили, но установили слежку в надежде изобличить их и напасть на след партизан.
Чаще один, а иногда с подпольщиком Виктором Прищепой Николай бывал около больницы. Наши врачи сообщали ему о состоянии здоровья Валька, но увидеть друга Николаю не удавалось.
Однажды он с молотком, плоскогубцами и гаечным ключом объявился в больнице и, расхаживая по палатам, осматривал полужесткие сетки кроватей. Многие нуждались в ремонте. Зайдя в палату, где лежал Валек, он спросил:
— У кого кровать неисправная? — и, не дождавшись ответа, потребовал: — Ходячие, встаньте, я осмотрю сетки.
Одного больного не было в палате, а трое встали и нехотя вышли. Валек осторожно приподнялся на кровати, опустил на пол здоровую ногу и попросил подать стоявшие в углу костыли. Сидевший у входа полицай глазами указал на них, но сам не шевельнулся.
— Перелом или вывих? — спросил Николай, подавая костыли и глядя, как больной с трудом пытается встать с кровати.
— Перелом, — скрежеща от боли зубами, бросил Валек и, стуча костылями, сделал несколько неуверенных шагов.
— Бывает, — посочувствовал «слесарь» и снял с кровати Валька весь в шишках матрац. — Сеточку бы надо перетянуть, заменить несколько пружин, и вообще…
В неотложном ремонте нуждалась еще одна сетка, и Николай, насвистывая, ушел, а Валек, вслух проклиная «бездельника-слесаря», снова лег в постель, положив костыли на пол у кровати.
Через день, придя с проволокой, пружинами и инструментом, Николай принялся ремонтировать сетки. Молодой толстогубый полицейский сидел около сестры.
Кроме Валька в палате был еще один изможденный недугом человек, слегка похрапывавший у окна.
— Через неделю переведут или в лагерь или в тюрьму. Об этом говорил сегодня полицейский с врачом.
Валек сообщил это с таким безразличием, словно речь шла не о нем, а о каком-то другом, постороннем. Николай, делая из проволоки крючок, тихо промолвил:
— Жди меня завтра к концу дня.
— Нет, давай послезавтра. Дежурить будет сегодняшний полицай, а он каждое дежурство влюбляется в какую-нибудь сестричку или няню. Волочась за ними, иногда часами не появляется около меня. Завтра дежурит пожилой, этот ни на шаг не отходит. Молчаливый и, видать, очень злой. Лучше послезавтра.
— Добро. Рубашку и брюки уже приготовили, квартиру нашли. Сегодня и завтра взбей температуру. Ты знаешь, как это делается? — спросил Николай, поглядывая то на дверь, то на спящего больного.
— Уже научили.
Весь следующий день Валек не вставал, жаловался на боль в ноге и просил лекарств «от головы». Ночью нарочно стонал и почти не спал. Утром приходила мать и сказала, что опять был обыск. Губатый полицай явился на дежурство гладко выбритый, пахнущий немецким ароматическим мылом. По лицу скользила блудливая ухмылка, и он не скрывал хорошего настроения.
— Тебе стало хуже? — злорадно спросил он у Валька и, не дождавшись ответа, добавил: — Скоро уведут отсюда. Нам уже надоело торчать здесь около тебя.
Достав сигарету, он щелкнул зажигалкой и, глубоко затянувшись, вышел в коридор. Днем Вальку сделали перевязку, и, отвечая на его жалобы, врач ободряюще сказал, что рана заживает нормально и скоро можно будет танцевать. Выходя из перевязочной, Валек увидел Яковлеву, которая на ходу сообщила, что во время ужина Николай будет ждать его в туалетной комнате.
Подошло время ужина — больным выдавали кусочек эрзац-хлеба и стакан закрашенного ячменем кипятка с сахарином.
Медсестра в сопровождении Губошлепа, как прозвали полицейского, понесла ужин двум тяжелобольным в самую дальнюю палату.
Поликлиника на первом этаже давно опустела, а дежурившая у входа няня хлопотала на больничной кухне в надежде поживиться кусочком хлеба.
Опираясь на костыли, Валек в белье стоял у окна и, казалось, рассеянно глядел во двор. За кустами мелькнуло два велосипеда, и он безошибочно узнал Николая и Виктора Прищепу.
Стараясь не стучать костылями, Валек направился к условленному месту. Коридор был пуст. Он вошел в туалетную комнату. Туда же пробрался Николай, начал помогать другу надевать рубашку и брюки.
Лестница была сразу же за стеной. Николай выглянул в коридор, скомандовал: — Берись за плечи.
Валек обхватил друга, и тот с удивительной прытью вынес его во двор. Виктор усадил беглеца на раму велосипеда и усиленно завертел педалями. Когда ребята скрылись за углом, Николай вскочил на свой велосипед и быстро догнал их. Петляя по переулкам, они приехали на поселок, именуемый в городе Нахаловкой, и оставили Валька у надежных людей.
Медсестра была ласкова с полицейским, много смеялась и даже прощала ему некоторые вольности.
Вдруг кто-то закричал на весь коридор:
— Сестра! В туалете стоят костыли, а человека нет!
Как ужаленный вскочил полицейский и, выхватывая на ходу пистолет, кинулся к палате, где лежал Валек:
— Где этот партизан?
— Не знаем. Не видели. Мы были на ужине, — вразнобой отвечали соседи Валька. Губошлеп бросился в туалет: костыли сиротливо стояли в углу.
Несколько дней бесилась полиция, были произведены многочисленные обыски, устраивались засады, облавы, но все безрезультатно.
Вместо Валька в тюрьму угодил толстогубый полицай.
Принеся как-то Вальку продукты, бинт, вату и сделав ему перевязку, Николай спросил:
— Где спрятан пистолет?
— Дома, в сарае. У самого входа лежит камень, и под ним закопан «вальтер». Дважды в сарае рылись полицаи и не нашли. На камне стоял офицер и руководил обыском.
— Забрать бы надо, но сейчас нельзя. Твою маму все время таскают в полицию. За домом наблюдают днем и ночью. Но я все равно принесу тебе «вальтер».
Валек грустно молчал. Он понимал, что полицаи не оставят мать в покое, будут терзать, обвинять ее в причастности к побегу. Николай уловил настроение друга и успокаивающе сказал:
— Ты не волнуйся за маму, с ней ничего не случится. Ты вне опасности, и это придает ей сил.
Валек немного повеселел и спросил:
— Как ты мог с такой легкостью нести меня по лестнице? Как пушинку мчал.
— Я десять дней тренировался: взвалю братьев на плечи и бегаю по двору, приседаю и даже прыгать пытался. Сначала мышцы болели, а потом все прошло. Я сейчас на одной ноге тридцать раз присесть могу.
— Ну уж и тридцать! — недоверчиво протянул Валек.
— Давай спорить? — Николай азартно протянул руку для пари. — Дрейфишь?
— Нет. Не люблю спорить.
— То-то… — мягко сказал Николай и поднялся. — Будь здоров. Приду через несколько дней. Есть одно интересное задание.
Это был единственный случай, когда Николай не сдержал данное другу слово — они больше никогда не увиделись.
В начале сентября 1943 года в Константиновку вступили части Красной Армии, и Валек долечивался уже в военном госпитале. Черные дни оккупации навсегда миновали и стали историей.
Сейчас Валентин Ковальчук живет в своем родном городе, он закончил техникум и трудится на химическом заводе.
За активное участие в подпольном движении в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленный при этом героизм В. Я. Ковальчук награжден ме-: далью «За отвагу».
БУРГОМИСТР
После лютых морозов весна сорок третьего года наступила бурно. Говорливыми ручьями снег сошел за одну неделю. Увязая в мокром, разбухшем песке, я шел к Виктору Парфимовичу. Встретила меня Вера, его младшая сестра, сказала, что брат и Николай скоро возвратятся, и просила подождать их. Радушная застенчивая хозяйка, видимо, желая завязать разговор, спросила:
— До войны знал Колю?
— За одной партой сидели до его ухода из школы.
— А я училась с ним в ремесленном, в соседних группах были. Ребята уважали его за справедливость и доброту. Ты заметил, что Коля часто потирает левую ладонь?
— Заметил, но не знаю, почему он это делает.
— Было так, — охотно начала Вера, — первый раз немцы бомбили Константиновку в августе сорок первого. Ночью налетели и сбросили зажигательные бомбы на Красный городок, в районе завода «Автостекло». Там же было наше училище. Коля тогда дежурил с парнями.
Несколько «зажигалок» упало на крышу, возник пожар. Дежурные по лестнице взобрались на здание, начали гасить пламя. Подоспел военрук, потом два мастера, и огонь ликвидировали. Тогда, на крыше, Николай проколол насквозь левую ладонь ржавым гвоздем, но с дежурства не ушел. Утром рука распухла, к врачу идти отказался. Военрук его насильно отвел. Две недели он руку на повязке носил. На общем собрании директор училища объявил благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожара, грамотами их наградили, а Колю еще и ценным подарком. А он, понимаешь, на собрании поднялся с места и заявил:
— Почему мне грамоту и подарок, а Сашке Харламову только грамоту? Несправедливо. Сашка тоже на крыше был, пожар тушил…
Вера помолчала, к чему-то прислушалась.
— Понимаешь, подарок не взял и с собрания как ошпаренный выскочил. На следующий день директор вручил подарки Коле и Сашке… Шрама на руке у него уже не видно, но он ее часто потирает, словно массажирует. Видать, нерв был задет.
Друг никогда не говорил мне об этой истории, а я почему-то ни разу не поинтересовался, отчего у него привычка потирать левую ладонь.
Вскоре домой возвратился Виктор. Один. Рассказал, что ходил с Николаем на поселок цинкового завода, где расквартировалась саперная часть. Патрульные торчат днем и ночью, разведать пока ничего не удалось, но наверняка, там есть мины, взрывчатка.
Я передал Виктору, что вечером он должен встретиться с политруком около бывшей насосной станции, и пошел к Николаю.
Чтобы не вызвать подозрений частыми визитами к Парфимовичам, друг поджидал меня у колодца на соседней улице.
Был он хмурый, поздоровался сухо.
— Чего ты надутый? — осторожно спросил я.
— Настроение плохое, на душе какая-то тяжесть.
— Пройдет, у меня тоже такое бывает. Если что-либо не получается, скисаю, — нарочито весело сказал я, чтобы как-то расшевелить друга, отвлечь его от мрачных мыслей. — Ты не хандри, а лучше расскажи, как пожар в училище тушил? — Очень просто. Or зажигалок загорелась крыша, бомбы мы клещами на землю сбросили, а огонь погасили. Вот и все. Ладонь гвоздем ранил, теперь немеет.
Я сказал:
— А вообще ты скрытный, о тебе только от других и узнаешь.
— Нашел скрытного, — бесстрастно бросил Никола и ускорил шаг.
В этот день мы вместе с Иванченко собирались пойти в Кондратьевку забрать гранаты.
Иван поджидал нас возле своего дома. В пути он рассказал, что там живут его родственники Тимошенко, пятнадцатилетний двоюродный брат Ваня, озорной и сообразительный паренек, в одиночку вредит захватчикам: порезал брезент на автомашине, испортил мотоцикл, ночью котел солдатской кухни загрузил такими «продуктами», что два дня немцев сухим пайком кормили, а потом новую кухню привезли. Дня три тому назад Ваня приезжал на велосипеде, по секрету сообщил, что из автомашины утащил штук восемь гранат с длинными деревянными ручками и спрятал в карьере, где жители берут красную глину.
Семикилометровый путь прошли быстро. Мы остались в небольшой балке на краю Кондратьевки, а Иван направился к родственникам. Настроение у Николая было по-прежнему подавленным. Не зная, как растормошить его, я спросил:
— Коль, а как вы обмундирование добыли?
— Без особых трудностей, — вяло начал друг. — Женя Бурлай и Валя Соловьева рассказали Анатолию, что на Интернациональной улице стоит несколько больших автомобилей с новым летним обмундированием. Солдаты получали кители, брюки, ботинки, белье. Ты не был на последнем сборе, а тогда говорили, что многих окруженцев, бывших военнопленных не во что одеть, да и подпольщики обносились. Сообщение девушек было; кстати, и Анатолий приказал нам провести разведку… Два дня мы вели наблюдение: охрана небольшая, забраться в автомашины легко. А тут, к нашей радости, пошел сильный дождь, немцы из домов носа не показывают. Я взял с собой нож, карманный фонарь, Валя приготовила два мешка, и мы с нею двинулись на Интернациональную улицу, а Женя со своим двенадцатилетним братом пошла за нами.
Вова мальчик смышленый, серьезный и в роли связного незаменим. Дождь лил как из ведра, кругом темень непроглядная. Когда убедились, что около машин нет ни души, я отстегнул ремни, прикреплявшие брезент к борту, забрался в кузов. Как условились, Валя и Женя стояли с разных сторон неподалеку от машин, а Вова сновал между ними и свистом подавал мне сигналы. Девчата свистеть не умеют, а Вова в этом деле большой мастак. Зажег я фонарь, увидел ящики с ботинками, большие тюки с обмундированием. Положил в мешки несколько пачек кителей и брюк, ботинки и, выглянув из-под брезента, кашлянул. Девчата мигом оказались рядом. Сбросил мешки, пристегнул ремнями брезент. Забрав добычу, мы ушли, а Вову домой отправили. Один мешок нес я, второй — девушки. Дождь лил не переставая, мешки намокли, стали тяжелыми, как гири. Женя и Валя от усталости с ног падали, но, молодцы, даже от моей помощи отказались.
Николай потер левую ладонь, поднял с земли небольшой камень, швырнул с такой силой, что тот упал далеко от нас. Поднял еще камень, бросил в том же направлении.
— Хорошее упражнение: резкость развивает, силу, и вообще… Люблю работой мышцы нагружать.
— Что потом сделали с обмундированием? — допытывался я.
— К Мураховским отнесли. У них и у Адаменко целые мастерские открыли. Перешивали кители, брюки, перекрашивали их. Костюмчики получились что надо. А знаешь, с какой трудностью столкнулись? Понадобилось много обычных пуговиц. Немецкие срезали и закопали, а где достать «штатские»? С трудом раздобыли. Некоторые ребята приоделись, теперь, как женихи, ходят.
Показался Иван с высоким нескладным подростком, несшим на плече лопату. Парень с любопытством, но смущенно осматривал нас, а подойдя, опустил голову, потупился.
— Ну что? — спросил Николай, кладя руку на плечо хлопца, но тот молчал.
— Говори, Ваня, — подбодрил его Иванченко.
— Гранаты спрятаны в карьере, в норе, — осмелев, заговорил Ваня, — восемь штук. Пойдемте, покажу.
Карьер был недалеко. Ловко орудуя лопатой, юный смельчак откопал гранаты, одну протянул Ивану.
— Молодец, — вырвалось у Николая, — но как их забрать? В кармане не унесешь, за пояс можно лишь одну спрятать.
Мы переглянулись. Оставлять гранаты не хотелось, а брать с собой рискованно. Вдруг Николай, обращаясь к Ване, спросил:
— Дома есть тележка?
— Есть, — живо ответил тот.
— Давайте так: в тележке глиной присыпем гранаты, и никто нас ни в чем не заподозрит. Через полтора-два часа будем дома. Уговор?
— Толково, — одобрил Иванченко, потянул Ваню за руку. — Пойдем за колымагой.
Мы снова остались вдвоем. Николай поднял голову и долго смотрел в нежно-голубое небо. Повернувшись ко мне, серьезно спросил:
— Твои домашние знают, что ты подпольщик?
— Я им ничего не говорил, но они наверняка догадываются. Даже как бы невзначай помогают кое в чем. Я ведь понимаю, что отец меня насквозь видит, да и мачеху, Галину Петровну, тоже на мякине не проведешь. Вопросов мне не задают, делают вид, что ничего не замечают.
— Такая же история и у меня. Играю с родителями в кошки-мышки. Мне им врать — нож острый, а приходится. Кон-спи-ра-ция. Я, бывало, в детстве набедокурю, потом спрячу голову под подушку и думаю, что меня никто не найдет, наказывать не будут. Так и теперь получается. Отец вчера откровенно поговорить хотел, так я, дурак, нагрубил ему, а теперь душа болит стыдно…
— Ты не горюй, Коля, — сказал я. — Такое же положение у всех наших ребят. Ведь это, как говорит Залогина, святая ложь…
— Выдумки! — резко оборвал меня Николай. — Святая ложь, благородная подлость… Ерунда. Ложь есть ложь, а подлость — подлость. Люди иногда черт-те чему оправдание находят…
Он редко бывал раздраженным, но я знал, когда он в таком состоянии, спорить с ним бесполезно. Я смотрел на друга с укором, и он вдруг сказал:
— Прости, брат. Не пойму, что со мной творится, — и уже тепло добавил: — Хорошо иметь друга под горячую руку: себе душу облегчишь, хотя ему настроение испортить можешь. Но это я говорю в шутку… Прости…
Конечно же, мы не могли все время скрывать от родителей свою принадлежность к подпольному движению, но, открывшись, естественно, не посвящали их в детали нашей деятельности, не упоминали имен товарищей по борьбе.
Донесся скрип колес, и мы увидели приближающихся ребят. Засыпав гранаты глиной, направились в Константиновку. В пути нас обгоняли автомашины, всадники, но никто не обратил на нас внимания: тележки тогда возили многие. Глину высыпали у Иванченко во дворе, а гранаты он закопал в огороде.
Провожая Ваню, мы встретили служившего в полиции Ивана Ниховенко. Он ехал на велосипеде и, поравнявшись с нами, остановился.
— Здорово, хлопцы. Куда путь держите?
— Отец решил сарай подремонтировать. Я привез глины, а теперь за песком еду. Ребята вызвались помочь, — бойко ответил Иванченко.
— А как житье-бытье? — глядя на меня, спросил Ниховенко, достал пачку сигарет, протянул нам. Никто из нас не курил, но я взял одну сигарету.
— Житье так себе, — ответил я. — А ты? Простите, а вы как?
— Чего там «выкать», можешь, как и раньше, — на «ты», хоть я сейчас и при власти.
Полицай глубоко затянулся, указательным пальцем сбил пепел с сигареты, многозначительно ухмыльнулся.
— А твои-то как дела? — переспросил я.
— Что надо! Скоро следователем поставят. Жаль только, что в школе мне трудно грамота давалась, а то давно назначили бы… Начальству виднее, кто за кусок хлеба в полиции служит, а кто всей душой. Мне один наш грамотей сказал, что я идейный враг большевиков, то есть заклятый. Это правда. От меня никто спуску не получит, а сам попадусь, проситься не буду. Я такой…
— Жратву хорошую дают? — полюбопытствовал Иванченко.
— Кормят как на убой. Ешь — не хочу. Да и сюда — перепадает… — Ниховенко щелкнул пальцем по горлу. — Житуха… Вот недавно начальник вызвал, спрашивает: — «Ты почему, Иван, ничего не докладываешь»? А я отвечаю, что мне нечего доложить, ведь вчера вместе все деньги пропили, даже на похмелье не осталось. Разживусь деньжатами и доложу. — Глуповато улыбнувшись, закурил новую сигарету, прибавил: — Я сразу не понял, что он про службу спрашивал.
Мы слушали этого ублюдка, не перебивая, а он увлеченно куражился:
— Вот выдали мне наган, а в нем власть заключается: кого угодно могу убить и прав буду. Я коммунистов перестрелял бы всех до одного. С довойны их ненавижу. Был у меня бригадир по фамилии Третьяк. Не вышел я как-то на работу, а он докладную написал. За прогул из заработка проценты выворачивали. Так он, коммунист проклятый, меня подкармливал. Бывало говорит: «Иван, ты не обижайся, ведь я член партии, нарушать законы не могу». Деньги, подлец, взаймы предлагал. Я с тех пор коммунистов всех подряд потрошил бы.
Ниховенко заскрипел зубами, поправил кобуру, глянул на нас холодными, злыми глазами.
— Ну ладно, я поехал.
Мы долго шли молча. Иванченко вдруг сказал:
— Когда он бывает пьяным, то зверь зверем. Дома все крушит, соседей гоняет, кошек и собак перестрелял. Его мать перед соседями хвалится, называет Ивана соколом, а он по пьяной лавочке и ей бубны выбивает. У них есть набожная соседка, смирная, мухи не обидит. Мать Ниховенко как-то насплетничала, что эта женщина за грехи молодости бездетной осталась. Соседка ответила ей, что она не настолько грешна, чтобы бог наказал ее таким сыном, как Иван. Этот разговор мать передала своему «соколу», так он чуть дом этой женщины не развалил, ее убить грозился, но соседи беднягу спрятали.
Я еще до войны знал Ниховенко. Он всегда ходил один, друзей у него не было. Даже на реке купался не там, где обычно все купались. Его считали недалеким и трусливым, ребята подтрунивали над ним, не принимали играть в футбол, строили козни. Он был старше меня года на три, но каким-то образом уклонился от призыва в армию, а с приходом оккупантов сразу поступил на службу к немцам.
— Какой страшный человек, — сказал Николай, когда мы, проводив Ваню, возвращались обратно. — Ведь он, наверное, получает удовольствие от того, что причиняет другим горе.
Предположение друга было верным. Забегая вперед;. скажу, что в конце весны, когда не удалось меня арестовать, полицаи схватили моего отца. Его допрашивали гестаповцы и следователи полиции. Отец потом рассказывал, что во время допросов его избивали, но самые жестокие пытки учинял Ниховенко, который к тому же знал отца — жили ведь неподалеку.
— Где скрывается Борис?
— Не знаю.
— Где он спрятал оружие?
— Не знаю.
— С кем он был связан?
— Не знаю.
После каждого «не знаю» Ниховенко наносил удары то ли шомполом, то ли круглой ножкой от «венского» стула.
— Ваня, за что же ты бьешь?
— Здесь задаем вопросы мы, — оскаливался Иван и снова — удары, удары.
Как-то после очередного допроса он вел отца в камеру. Спускаясь со второго этажа, ударил его и ногами катил по ступеням до самого низа.
— Да, — грустно заключал отец, — по части истязаний Ниховенко был большой мастер, немцы ему в подметки не годились. Он избивал с улыбкой на лице, удары наносил не куда попало, а с расчетом.
Отца моего тогда не расстреляли благодаря его находчивости. Вопреки истине он утверждал на допросах, что я ему не родной сын и что после смерти первой жены пасынок не стал повиноваться, ни с кем не считался, делал что хотел. Поэтому за меня он не может нести ответственности. Соседи подтвердили легенду отца, и это спасло ему жизнь.
Мы с Николаем встретились на берегу Торца, около бывшей водокачки, находившейся в километре от Бутылочной колонии. Место пустынное, для наших встреч удобное. Тогда в городе стояло много воинских частей, и видеться подпольщикам было небезопасно. Долго ждали мы политрука. Владимир был пунктуальным, и его задержка нас волновала, но вот он показался.
— Простите, братцы, еле убежал. В центре облава, хватают людей и везут куда-то на срочные работы.
Отдышавшись, Владимир сказал Николаю:
— Тебе серьезное задание. Необходимо узнать, где сейчас живет Коротков Александр Яковлевич. Раньше он жил на колонии завода Фрунзе, около второй больницы, а теперь поменял квартиру. Работал учителем, при бомбежке ему оторвало ноги. У него есть сын, Саша, по возрасту такой, как ты. Займись этим срочно. Ясно?
— Сколько ему лет? — осведомился Николай.
— Лет сорок пять. Как только узнаешь адрес, немедленно сообщи Анатолию или мне.
Владимир замолчал, задумался. Постояв несколько минут неподвижно, он вдруг провел рукой по мягким светлым волосам, сказал мне:
— Сбегай к Иванченко и Онипченко и передай, чтобы они разведали, сколько телефонных проводов тянется в сторону Артемовска, Горловки, Красноармейца и Краматорска. Сведения пусть передадут Анатолию.
— Понятно.
В тот же день мы с Николаем, выполнив свои задания, встретились у Анатолия. Оставив нас в квартире, командир куда-то ушел с матерью, и мы его ждали.
— Загадка с этим Коротковым. Раньше работал в конторе химзавода, потом вроде бы учительствовал, а при немцах в горуправе подвизался. Как ты думаешь, зачем он нам вдруг понадобился?
— А кто ж его знает, — ответил я. — Может, провокатор, а возможно, и наш человек. Узнаем.
— Не так-то просто распознать человека. Иногда свой хуже чужого. Ты Федора Галкина знаешь? Ведь парень что надо: немцев смертельно ненавидит, смелый, на любое задание пойдет. Я уверен, что он и под пытками язык не развяжет. Казалось бы, чего еще надо, принимай в нашу организацию, и делу конец. Не раскрывая карты, как-то я дал ему маленькое задание — лишний раз проверить не мешает. Выполнил он его с блеском, но через два дня о моем задании уже многие хлопцы знали, догадки разные строили. Ну не трепло этот Федор? Вот уж правду говорят: услужливый дурак — опаснее врага.
Стемнело, но мы сидели, не зажигая света. Поспешно вошел Анатолий, с порога сказал:
— Коля, тебя мама ждет. Приходи завтра утром. Боря будет ночевать у меня.
Николай ушел, а мы сразу разделись и легли на одной кровати. Не спали, вспоминали школу, секцию бокса, где занимались. Анатолий неожиданно спросил:
— Барышню свою встречаешь?
— Какую там еще барышню? Никакой барышни у меня нет…
— Брось хитрить. Я имею в виду Лиду. Красивая девушка, серьезная, училась хорошо. Она многим нравилась.
Думал отмолчаться, но Анатолий не отставал, и я признался.
— Случайно встречал ее несколько раз в городе, а однажды домой проводил. Я ей тогда намекал, что, мол, в городе подпольщики действуют, против оккупантов борются. Если бы предложили, то пошла бы? И знаешь, не задумываясь, ответила, что не пошла бы. Не создана, говорит, я для такого дела. Немцев, как тараканов, и боюсь и ненавижу, но бороться с ними не способна. Нет во мне силы воли, нет, говорит, способности заставить себя идти на риск, на жертвы.
— Ты поблагодарил ее за откровенность? — спросил командир.
— Тогда не успел, подруга ее встретилась, и я ушел. Больше мы не виделись. Да ну ее к монахам… Ты мне скажи, зачем вдруг понадобился Коротков и кто он такой?
— Как тебе объяснить? — неуверенно начал Анатолий. — Он в общем-то порядочный человек, был ранен при бомбежке, без ног остался, его в городе многие знают. Короткову предложили стать бургомистром, а он отказался. Нам такой человек как воздух нужен. Хотим его уговорить дать согласие идти в бургомистры и заодно — работать с подпольщиками.
На том разговор закончился, и мы скоро уснули.
Утром Анатолий пошел к Дымарю, тетя Катя отправилась к больной родственнице, а я остался поджидать Николая. Не зная, чем заняться, рассматривал картины, нарисованные масляными красками отцом Анатолия — талантливым художником-самоучкой, умершим перед войной. Стены квартиры сплошь увешаны работами дяди Вани, и я, уже в который раз, любовался натюрмортами, портретами, пейзажами.
Под некоторыми картинами висели заведенные в рамки грамоты, которыми были отмечены полотна на выставках.
Пришел Николай, веселый, возбужденный, начал рассказывать какую-то забавную историю, но, заметив, что я слушаю без внимания, осекся.
— Ты о чем думаешь? — спросил он.
— Смотрел картины, грамоты и почему-то грустно стало. В жизни столько красивого, возвышенного, и тут же рядом — война, человеческие страдания, вражда…
— Это верно. Но обрати внимание вот на это, — Николай подошел к одной рамке с грамотой и, рисуя пальцем круги, словно что-то очерчивая, продолжал. — Здесь изображены Леонардо да Винчи, Бетховен и Лев Толстой. Люди разных эпох, наций, но изображены рядом, как друзья. Итальянец, немец и русский… гении… и… и… забыл слово…
— Гуманисты?
— Вот именно, они, — повторил он и хотел еще что-то сказать, но стук в окно прервал его. Вошел Анатолий и, обращаясь к Николаю, сухо спросил:
— Пистолет при тебе?
— Нет. А что?
— Возьми его и иди к хлебозаводу, там тебя ждет Володя. Пойдете к Короткову, разговаривать с ним будет политрук, а ты помалкивай, но будь начеку. Прищепа и Парфимович на всякий случай будут дежурить невдалеке от вас. Понятно?
Николай утвердительно кивнул головой и сразу ушел.
— А мы давай делом займемся, — сказал Анатолий, взял в коридоре несколько связанных металлических стержней и направился в сарай.
— Что будем делать? — спросил я, глядя, как командир зажал один стержень в тиски и ударил молотком по торчащему кверху концу.
— Шило сделаем, — и он согнул конец стержня. Получилась буква «г».
— Возьми напильник и заточи длинный конец, но сперва — молотком.
Заточил стержень, протянул Анатолию. Он пригнул короткий конец к длинному. Получилось что-то вроде ручки.
— Так-то лучше будет, удобней, — деловым тоном сказал командир. — Еще таких штук десять сделать надо.
— Но ведь это не шило, а швайка. Шила в мешке не утаишь, а швайку, наверное, можно, — пытался сострить я, но Анатолий не отреагировал.
С зимы 1943 года наши самолеты часто появлялись над городом, несколько раз бомбили аэродромы, железнодорожный вокзал, районы большого скопления военной техники.
Чтобы уберечь моторную часть автомобилей от осколков бомб, немцы заставляли горожан выкапывать в земле углубления и туда загоняли машины.
Однажды Николай и Алексей Онипченко предложили прокалывать покрышки передних колес находящихся в укрытии автомашин. Шоферы не видят, спущены ли передние шины, а когда надо будет срочно выезжать — вот тут и пойдет кутерьма.
— Предложение ценное, — сказал командир, — не сделать это надо в одни сутки и в разных частях города. Мы продумаем операцию и в ближайшее время осуществим.
Когда были готовы двенадцать шваек, Анатолий связал их тонкой проволокой и положил под ящик, стоявший в дальнем углу сарая. Запирая дверь на замок, он спросил:
— Как «шило» во множественном числе?
— Швайки, — не задумываясь, ответил я.
— Шилья, — весело сказал Анатолий. — Пойдем руки мыть.
Сели обедать. Анатолий ел молча, часто посматривал на ходики, хмурился. Он, конечно же, волнуется за ребят, которым поручено сложное и щекотливое задание. Командир, видимо, сожалел, что сам не пошел на переговоры с Коротковым.
— Ты о ребятах думаешь? — спросил я.
— Да, о них. Уверен, что все будет нормально, а на душе почему-то тревожно. Зря я с Володей согласился, мне надо было с ним пойти…
— Наверное, Вова прав. Командиру и политруку ходить вместе на каждую операцию не следует, тем более на такую. Всякое может случиться. Но чувствует моя душа, что Коля вот-вот придет.
Анатолий вышел на улицу, но вскоре возвратился.
— Не видать.
Было понятно, что спокойствие стоило ему усилий.
Мне передалось его настроение, но, чтобы не показать этого, я начал рассказывать смешной случай из своего детства. Раздался стук в окно. Командир открыл дверь, и Николай, едва переступив порог, счастливо улыбнулся:
— Пор-ря-док! Дайте воды напиться.
Я поторопил:
— Ну, говори же…
Владимир поджидал Николая в сквере напротив хлебозавода. Около старого кладбища они встретили Прищепу и Парфимовича.
— Оружие у всех есть? — спросил политрук.
— Есть, — ответили ребята.
— Мы с Николаем зайдем во двор, и вы будете находиться по обе стороны дома. Старайтесь не привлекать к себе внимания. В случае опасности дадите нам знать.
Владимир и Николай пошли впереди, а тезки двигались метрах в семидесяти позади.
— Вот этот двор, — прошептал Николай и кивнул вправо.
— Я уже здесь утром проходил. Ты точно обрисовал это место. Пройдем до переулка, осмотримся, — сказал политрук, глядя перед собой.
— Во дворе на скамейке сидит мужчина с костылями. Сидит один, — доложил Николай и оглянулся. Прищепа остановился почти напротив дома Короткова, сел на скамейку и начал лузгать семечки.
Владимир и Николай, дойдя до переулка, немного постояли и повернули обратно.
— Ты, Коля, в разговор не вступай. Если задам вопрос, отвечай коротко и ясно. Пошли.
Дом, в котором жил Коротков, находился в глубине двора, а от улицы, сразу за забором, начинался сад. Во дворе колодец, в нескольких метрах от него, ближе к дому, длинная скамья на вкопанных в землю столбиках. На ней — худой мужчина лет пятидесяти, из-под фуражки выбиваются седые волосы. Лицо доброе, но нахмуренные брови придавали ему суровость. Глаза голубые, слегка навыкате, взгляд грустный.
— Здравствуйте, Александр Яковлевич. Разрешите, пожалуйста, водички напиться.
— Здравствуй, племя молодое… — ответил мужчина. — Утолите жажду. Кружечка вон там.
У колодца на дереве висела алюминиевая кружка. Тут же рядом на камне стояло ведро с водой. Владимир зачерпнул больше половины кружки, посмотрел на Николая и, поняв, что тот пить не хочет, мелкими глотками осушил ее и повесил на прежнее место. Хозяин внимательно наблюдал за гостями.
— Еще чем-либо могу быть полезен?
— У вас в доме посторонних людей нет? — вместо ответа спросил Владимир.
— В доме нет никого. А кто вы, собственно, такие и по какому праву учиняете мне допрос?
— Мы — партизаны, — глядя в глаза собеседника, твердо и отчетливо сказал Владимир.
Александр Яковлевич побледнел, достал из кармана немецкий носовой платок с синими разводами, вытер лицо, откашлялся.
— Ничего не понимаю… Я не ослышался?
— Нет. Мы — партизаны и пришли к вам с предложением: дайте согласие быть бургомистром.
Коротков еще раз вытер платком лицо, посмотрел на молчавшего Николая, растерянно сказал:
— Вы садитесь, а то как-то неловко получается: я сижу, а вы стоите. Давайте спокойно разберемся. Я, знаете, не пойму вашей миссии… Почему я должен верить, что вы именно те, за кого себя выдаете. Если вы действительно партизаны, то зачем вам нужно, чтобы я стал бургомистром. Вам-то прок от этого какой?
— Вам, конечно, известно, что в городе действует подпольная организация. Мы ее представители. Документов, кроме этих, у нас, естественно, нет.
Владимир извлек из-за пояса пистолет и как бы между прочим переложил его в карман брюк. Николай хотел скопировать товарища, но удержался. Он ловил каждое слово политрука, поглядывая в сторону улицы.
— Оружие имеют и полицейские. Я вправе думать о вас что угодно. Где гарантия, что вы не провоцируете меня? Я не люблю бездоказательных утверждений, и верить вам у меня нет оснований.
Александр Яковлевич испытующе смотрел в глаза Владимиру. Политрук выдержал пристальный взгляд. Коротков заметил, что мимо двора прошел парень, явно не из любопытства посмотревший в их сторону.
— Тот гражданин тоже с вами? — последовал вопрос.
— Да, там наши товарищи, — сказал Владимир, напряженно думая, как быть дальше, каким образом можно убедить умного, осторожного человека в том, что они не провокаторы, не ищейки, а именно те люди, за которых себя выдают?
— Вы Семена Семеновича Дымаря знаете? — глухо спросил Владимир.
— Преподавателя математики? Конечно, знаю.
— Это мой отец.
Брови Короткова поползли кверху, лицо выразило одновременно удивление и недоумение. Политруку показалось, что недоверие у собеседника проходит.
— В этом вы можете легко убедиться. Мы теперь живем на Ленинской улице, около тринадцатой школы.
— Я знаю, — рассеянно обронил Коротков и, оживившись, спросил: — Но откуда вам известно о моем назначении бургомистром?
— Наши люди работают в полиции и в бургомистрате. Вообще для многих горожан это уже не секрет. Если согласитесь с предложением коменданта и будете поддерживать с нами связь, вы принесете пользу многим, окажете большую услугу подпольщикам и даже Красной Армии. Если же откажетесь стать бургомистром, то немцы вас уничтожат. Мы не верим, что вы можете быть предателем, изменить Родине. Не будь у нас уверенности в вашем патриотизме, мы не вели бы с вами переговоры. Немцев скоро вытурят отсюда, и каждый патриот должен всячески способствовать этому.
Александр Яковлевич опустил голову и, глядя в землю, задумался. Сомнения, а возможно, и страх, владели им. Столько неожиданного сразу свалилось на его седую голову: предложение коменданта, приход партизан…
— Вы меня поставили в более сложное положение, чем комендант: он дал на размышление три дня, а вам надо давать ответ незамедлительно.
Николай, поглядывая то на политрука, то на Короткова, чувствовал, что Александр Яковлевич все больше и больше проникается доверием ко всему, о чем говорил Владимир.
— Конечно, без риска не обойдется. Даже будучи бургомистром, если и захотите сделать что-нибудь доброе для горожан, без доверенных людей вам не обойтись. Вы вынуждены будете искать надежных товарищей и можете стать жертвой провокации. Ваша первая задача: согласиться стать бургомистром. О вашей связи с нами будут знать всего лишь несколько человек. В бургомистрате есть наши люди, но первое время с вами будут встречаться я или же он.
Владимир глазами указал на Николая, который почему-то встал со скамьи, смущенно представился:
— Николай.
— Вам завтра в котором часу комендант назначил свидание? — спросил Владимир таким тоном, словно Коротков уже согласился выполнять задания подпольщиков.
— В десять часов я должен быть у Брандеса, — ответил Александр Яковлевич.
— По пути в комендатуру можете зайти к моим родителям удостовериться — я их единственный сын, но о нашей встрече не говорите. Через несколько дней я наведаюсь к вам. Позволите?
— Ваша просьба звучит как приказ, — грустно сказал Коротков. — Можете зайти, но прошу не забывать, что я пока еще не связал себя никакими обязательствами. Дайте мне время все осмыслить, а пока будем считать наш разговор несостоявшимся. О вашем визите я, естественно, никому не скажу. Прощайте.
— Мы верим, что вы советский человек, патриот своей Родины, и люди вам скажут спасибо за добрые дела.
Ребята поднялись, вышли со двора, оставив Короткова в раздумье. Надо сказать, что за время оккупации немцы в Константиновке назначали несколько бургомистров и дольше других им был Вокар, маленький вертлявый человек, с лысой, как бубен, головой. Пошел он в бургомистры сразу, по-первому же предложению коменданта. Вокар услужливо подписывал любой приказ или распоряжение гитлеровцев, не думая о том, какие тяжкие последствия влекут они для горожан. Ночами напролет бургомистр пьянствовал с приближенными и немецкими офицерами, распутничал. Карьера его завершилась белой горячкой. В один из дней Вокар побежал по городу с безумными глазами в нижнем белье, распевая романсы. Комендант отстранил его от дел, и теперь оккупантам понадобился другой бургомистр: трезвый, уважаемый населением города человек, хотя бы лояльно относящийся к немцам, если, конечно, не удастся найти антисоветчика. Выбор пал на Короткова. Его кандидатуру предложил кто-то из бургомистрата. Полиция и гестапо ничего не имели пробив него. О Короткове они вспомнили не случайно. Однажды в районе железнодорожного вокзала остановилось много немецкой техники и солдат. Наша авиация бомбила скопление вражеских войск, и Коротков попал под бомбежку. Бывшего учителя на какой-то телеге доставили в больницу и там ампутировали обе ноги. Об этом знал почти весь город, и вот немцы вспомнили о «пострадавшем от красных» Короткове.
Во время разговора с комендантом Александр Яковлевич поблагодарил за столь «высокое доверие», но от предложения отказался, сославшись на плохое состояние здоровья. Комендант пообещал офицерский паек, лечение у лучших немецких врачей и, на что он особенно упирал, протезы, на которых можно будет танцевать. Фон Брандес посулил рысаков и фаэтон, но дал понять, что, как истинный ариец, он не умеет прощать обид и черной неблагодарности. Короткову дали три дня на размышление.
Эти-то обстоятельства и стали известны нам. О самом Короткове мы почти ничего не знали, а времени для наведения справок о его характере, политических убеждениях и других качествах у нас не было. Вот и решили действовать напрямик.
На следующий день Александр Яковлевич в назначенное время явился к коменданту. Аудиенция была короткой.
— Я не ошибся в своем выборе, — сказал фон Брандес, — вы разумный человек, таких мы умеем ценить. Кто не хочет нам служить, того мы уничтожаем. Король Фридрих говорил: «Думайте что хотите, но повинуйтесь». Этого мы хотим от вас, этого вы требуете от подчиненных и от населения. Я надеюсь, что вы будете честно служить рейху…
Коротков резко кивнул головой, твердо пообещал:
— Я буду работать не за страх, а на совесть!..
Круглое лицо коменданта расплылось в довольной улыбке. Он провел рукой по узкому лбу, погладил рыжие прилизанные волосы, встал.
— Инструкции получите у моего заместителя.
Константиновцы говорили о Брандесе, что у него «где думать — узко, а где жевать — широко».
В тот день, когда новый бургомистр занял место предшественника, подпольщики ходили по городу и прокалывали покрышки автомашин. Ночью были повреждены провода телефонной связи, соединяющие Константиновку с соседними городами. На вокзале вспыхнула цистерна с мазутом. Воинские части, расквартированные в городе, комендатура, жандармерия и полиция были подняты по тревоге. Началась паника, беспорядочная стрельба. Разнесся слух, что где-то поблизости высажен десант. Офицеры набрасывались с кулаками на шоферов, вдруг обнаруживших, что покрышки спущены и надо их срочно менять.
Горожане, видя паническое поведение немцев, терялись в догадках. А. Я. Коротков, став бургомистром, через несколько дней согласился сотрудничать с подпольщиками. Постоянную связь с ним мы поддерживали через Надю Арепьеву.
Конечно, первая встреча с А. Я. Коротковым была рискованным и несоответствующим требованиям конспирации шагом, но другого выхода мы тогда не видели.
А. Я. Коротков оказался смелым и мужественным человеком. Он информировал подпольщиков о планируемых оккупантами облавах, угоне молодежи в Германию, сборе продуктов, мобилизации населения на работы. С его помощью были получены документы на проживание в пустующих домах: домовые книги оформлялись на вымышленных лиц, а поселялись в домах находившиеся на нелегальном положении подпольщики, скрывающиеся от преследования властей горожане. Александр Яковлевич выдавал нам пропуска на хождение по городу после комендантского часа, направлял на работы бывших военнопленных, снабжал продуктовыми карточками. Он всячески использовал свое положение для облегчения оккупационного режима, помощи населению, но делал это осмотрительно, умно.
После изгнания фашистов Александр Яковлевич Короткое работал в школе преподавателем математики. Последние годы жизни был на пенсии. Его сын А. А. Коротков закончил Донецкий политехнический институт, кандидат технических наук.
Многие константиновцы и сейчас помнят Александра Яковлевича — человека большого мужества и доброго сердца.
ЖАРКАЯ ВЕСНА
Наша подпольная организация накапливала опыт, искала различные формы и методы борьбы. Нас неоднократно постигали неудачи, были просчеты, которые едва не кончались провалом. Но юные подпольщики закалялись, деятельность их становилась активней и разносторонней.
Николай заметно возмужал, окреп физически, в глазах появилось что-то новое, взрослое. Исчезли резкие смены настроений. Трудности и неудачи не угнетали его, а, наоборот, разжигали страсть борца, пробуждали жажду деятельности.
Он неустанно мечтал о крупных диверсионных актах. Слушая из Москвы передачи по радио о действиях партизан в Белоруссии, на Брянщине и в других лесных местах, он с завистью говорил:
— У них леса, связь с Москвой. Им, наверное, оружие и взрывчатку шлют. А тут голая степь да кряж лысый. От города до города палку докинуть можно, вот и партизань на виду у фашистов. Особенно не разгонишься.
Когда мы установили связь с другими подпольными группами, имели взрывчатку и оружие, Николай утверждал, что скоро придет день, когда о нашей группе заговорят как о самой боевой… Коле не удалось дожить до этого времени, а как бы он радовался ему!..
Весной 1943 года я вынужден был уйти на нелегальное положение. На меня донес «русский» немец-фольксдойч, у которого я отобрал пистолет, и полиция разыскивала меня. Жить приходилось или у ребят, или на конспиративных квартирах, которыми мы предусмотрительно обзавелись. Однажды остался ночевать у Николая. Лежа на одной кровати, мы долго не спали и шепотом беседовали о самых разных вещах.
В этой же комнате спали, тихо посапывая, его братья. Кто-то из них во сне чмокал губами и жалобно стонал.
— А ты не боишься, что тебя поймают, будут мучить, а потом расстреляют? — вдруг спросил Николай.
Вопрос для меня был неожиданным, но я ответил почти сразу:
— Я почему-то уверен, что не поймают. Меня, наверное, скоро направят в другой город — в Дзержинск или Часов Яр, там тоже дело найдется. А вот о смерти я не думал.
— Это правильно, — подхватил он. — По правде сказать, я о смерти раньше тоже не задумывался, но когда погибли Борис и Петя иногда подумываю о ней. Я даже как-то представил себя убитым, но от этого не стало страшно. Наверное, люди не способны до конца осознавать, что они смертны.
Николай сел, обхватил руками согнутые колени и горячо продолжал:
— Я тебе вот что еще скажу: если, очутившись в опасности, человек думает только о спасении своей шкуры — у него больше шансов погибнуть, чем у того, кто в трудную минуту думает о порученном деле. Страх за свою жизнь сковывает волю, парализует сознание, и такой человек впадает в отчаяние. Забывает обо всем, кроме себя. Делает глупости и… гибнет. Я над этим не раз думал.
Николай лег и надолго умолк. Меня томило его молчание, я не выдержал и спросил:
— Ты о чем думаешь?
Он как-то несмело, словно извиняясь, тихо спросил:
— Скажи откровенно, ты с девушками… целовался?.. — И, не ожидая ответа, грустно продолжал: — Мне не приходилось. В «ремесле» одна нравилась. Самая красивая: глаза большие и… голубые-голубые, а на щеках… ямочки. Волосы пышные, русые… Стихи читала на вечерах и в хоре пела… Девчонки ее не любили, всякое сплетничали о ней, а многие хлопцы по ней сохли… Сама она приезжая, жила у тетки… Перед войной встретил я ее на Николаевском мосту, поздоровался. Хотел было мимо пройти, но она остановила. Разговорились и до самого ее дома дошли… Потом еще два раза провожал. Понимаешь, встречи эти закружили мне голову, сон потерял и ходил, как чумной. А тут война началась. Вот уже два года прошло, а последнюю встречу я, наверное, никогда не забуду…
Он снова вздохнул и умолк. Видимо, первое чувство любви вновь переполняло его существо воспоминаниями, а говорить на эту тему друг не хотел.
— Давай спать, — прошептал он-Скоро утро..
Проснувшись, я не увидел Николая. Его братья еще спали. Тихо встав, я заглянул в соседнюю комнату: Николай занимался гимнастикой. Форточка и дверь в коридор были открыты, и я, только вставший с теплой постели, ощутил ползущий по полу холодок.
Николай, глубоко дыша, повернулся ко мне.
— Давай вместе, — махнул он мне рукой, и мы сделали зарядку.
Умываясь над поставленным на скамью тазом, он громко фыркал, брызгался и повторял:
— Люблю воду, как утка.
Настроение у него было превосходное, он шутил, озорничал: мою рубашку сунул в карман пиджака, в ботинке я обнаружил пустой пузырек. Подойдя к постели братьев, он связал рукава их рубашек, спрятал брюки и громко сказал:
— Ой вы, детки-малолетки, на столе вас ждут котлетки, кто скорее добежит, тот скорее будет сыт!
Ребята быстро вскочили с кровати и повисли на плечах старшего брата, который закружился волчком, а потом вдруг резко сел на пол, и все трое кубарем покатились, смеясь.
Мальчишки быстро умылись. Притворно поныли по поводу связанных рубашек, но брюки отыскали сразу и, шмыгая носами, сели за стол.
Завтракали быстро и дружно. Ни о каких мясных котлетах тогда и речи не могло быть, основным и едва ли не единственным продуктом был картофель, а если кто имел свеклу, бобы или кукурузу, это считалось большой роскошью и богатством.
И на этот раз все, как обычно: сваренный в мундирах картофель, крупная соль, в блюдце подсолнечное масло и по небольшому куску хлеба-суррогата.
Ели молча. Масла в блюдце было мало. Николай посмотрел на меня и как бы невзначай пододвинул блюдце ближе к братьям и к маслу уже не прикасался.
Завтрак закончился чаепитием. Вкус настоящего сахара мы позабыли, но и сахарину были рады. Ребята выпили по два стакана и, дружно поблагодарив, умчались на улицу.
Утро выдалось замечательное: тихое, солнечное, теплое. Май еще только наступил, но деревья и кустарники уже оделись в сочную листву. Мы отправились к Анатолию. Он встретил нас у калитки, сказал мне тревожно:
— Иди к Володе. Он скажет, что надо делать. Будь предельно осторожен, за тобой охотятся, — командир пожал мне руку, добавил: — Тебе готовят документы на другое имя. Под чужой личиной будешь выполнять новое задание. Но когда и где — решим потом.
Николай цепко сдавил мне руки, обнял, сказал мягко, ласково:
— Крепись и береги себя…
* * *
Спустя неделю после того, как я ночевал у Николая, меня и политрука выследили полицейские ищейки Бабаков и Маслеев. Застрелив их, мы скрылись. Анатолий, Владимир и я, сопровождаемые Татьяной Евгеньевной Сегедой и Розой Мирошниченко, ночью оставили город, взбудораженный убийством следователей полиции.
Облавы, обыски, прочесывание целых кварталов, аресты заложников и другие карательные меры окончательно растревожили и до того беспокойную жизнь людей. Полиция и жандармерия свирепствовали вовсю, бесясь от своей беспомощности. Подумать только! — партизаны днем, в городе, убили двух вооруженных и опытных сотрудников полиции. В некрологе этих предателей называли «верными сынами нового порядка», а нас именовали бандитами и большевистскими наемниками.
Две недели мы бродили из одного села в другое, попадали в засады, едва не стали жертвой провокатора. После горьких мытарств и вынужденного безделья командир и политрук возвратились в город. Я остался в госхозе у Ахмета. Возвращаться мне настрого запретили — в полиции были мои фотографии, и я легко мог быть опознан. Документов на другое имя еще не сделали.
Когда ребята уходили в город, я рассказал им, где у меня в саду зарыты револьвер, две гранаты, финский нож и несколько пачек патронов.
Вскоре меня направили в Дзержинск к патриотически настроенным людям — татарам по национальности.
Им я был представлен как сбитый летчик. Пришедший меня проведать политрук передал от ребят приветы, но самый большой — от Николая. Владимир сообщил, что после возвращения в город он рассказал ему о спрятанном у меня дома оружии, и тот вызвался его забрать.
Полицию и жандармерию не оставляла надежда поймать меня. В нашем доме постоянно дежурили немецкие солдаты, иногда власовцы, а последнее время — полицейские.
Николай несколько раз проходил мимо нашего двора то с мешком травы для кроликов, то со связкой соломы и заметил, что у забора от соседей слева стоит бочка с известью. Под ней, как я рассказывал, и было зарыто оружие.
Выбрав ночь потемней, он через дворы пробрался к нам, под носом у немцев забрал оружие и возвратился домой.
Николаю и двум Викторам — Парфимовичу и Прищепе — было поручено подготовиться к подрыву железнодорожного полотна. Николай должен был подыскать подходящее место и установить график движения поездов. Мину готовил Парфимович.
Ребята жили предстоящей операцией. Николай предложил совершить диверсию южнее города. Здесь поезда, идущие со станции Никитовка, на крутом склоне развивали большую скорость и насыпь высокая, значит, в случае удачи от эшелона мало что останется. Прилегающую местность он изучил досконально. Показал командиру самые короткие и почти безопасные пути подхода к предполагаемому месту диверсии, доложил о времени движения поездов, об охране этого участка пути.
Справившись с заданием, Николай порывался пойти к Виктору Парфимовичу, помочь тому изготавливать мину. Но командир категорически запретил. Когда Анатолий наконец-то передал, что наступающей ночью надо идти на диверсию, Николай радовался.
…На восточной окраине города в небольшой посадке Анатолий и Николай поджидали товарищей. Показалась высокая сутуловатая фигура Парфимовича, несшего в руках плетеную корзину, немного позади него шел Прищепа. — Порядок? — спросил командир.
— П-порядок, — слегка заикаясь, ответил Парфимович.
— Старшим группы назначается Прищепа. Если будете замечены, отходите тихо, без стрельбы. При погоне — старайтесь держаться вместе. Завтра утром доложите.
— Есть, — по-военному ответил Прищепа.
Николаю показалось, что Анатолий чересчур официален и строг. Но командир вдруг похлопал друзей по плечам:
— Будьте осторожны, не зарывайтесь. В добрый час.
Погожий июньский день угасал, надвигались сумерки. Когда приблизились к облюбованному Николаем месту, было уже совсем темно. Подползли к кустарнику и залегли. Земля была теплая, ласковая. Прогромыхал поезд из двадцати вагонов; половина — порожняк. Медленно проехала открытая дрезина с мощным прожектором. Сильный пучок света рассекал темноту то слева, то справа от дороги. Затаив дыхание, ребята прижались к земле. Синеватый свет медленно пополз по кустам и перенесся куда-то вдаль.
— Айда, ребята, — живо сказал Николай, как только дрезина скрылась. — Следующий состав будет через тридцать минут.
На полотно взобрались мигом. Парфимович и Прищепа быстро и почти бесшумно заложили под рельс мину.
— Уходите, а я останусь, — распорядился Парфимович, которому поручено было взрывать мину.
Николай и Прищепа скатились с насыпи. Отбежав к небольшой балке, залегли. Всматривались туда, где остался друг. Было тихо до жути. Но вот еле заметно вздрогнула земля, донесся шум. Показался слабо освещенный паровоз, и в этот момент с насыпи кубарем полетел Парфимович. Очутившись около ребят, он тяжело упал и, поднявшись на руках, смотрел на мчавшийся мимо эшелон.
— Что такое, что такое? — непонятно у кого растерянно спрашивал он.
— Наверно, что-то неисправно, — ответил Николай и грустно добавил: — Бывает.
— Четыре дня тому я за городом взорвал толовую шашку. Все было нормально… Что же могло случиться? — недоумевал Парфимович.
— Пошли заберем заряд, — недовольным тоном отозвался Прищепа. — Все надо сделать аккуратно, чтобы обходчики ничего не заметили. Через несколько дней снова попробуем.
Ребята забрали мину, тщательно подровняли гравий и, понурив головы, двинулись к городу.
— Это я невезучий, — после долгого молчания проговорил Николай. — Фатальное невезение.
Домой ребята добрались благополучно. Узнав о несостоявшемся взрыве, командир вскипел, но вид у ребят был такой удрученный, что он тут же остыл, и даже начал подбадривать неудачников. Руководством подполья было решено, что Парфимович снова подготовит заряд и попытается взорвать. Николаю поручили новое задание.
Через несколько дней Парфимович и Прищепа с Анатолием Низдвецким подорвали дорогу: паровоз и двенадцать вагонов с военной техникой полетели под откос. Почти сутки потребовалось для ремонта железнодорожной магистрали.
Узнав о совершенной диверсии, Николай бурно радовался, хвалил ребят и мечтал:
— Выполню задание в Новоселовке, попрошусь на взрыв дороги.
Село Новоселовка примыкало к северной окраине города. Нашему руководству стало известно, что там находится склад с оружием. Николаю поручили все разведать. Вскоре он докладывал:
— Солдат немного. Человек тридцать — сорок. Живут по хатам. В бывшей колхозной конюшне разместили склад. Я видел, как привезли на машинах новые велосипеды, пулеметы, разные ящики. Дверь закрывается на замок. Подступы удобные, можно подойти незаметно. Охрана слабая. По улице ночью прохаживаются два фрица. Когда они сменяются, еще не установил. Сегодня выясню.
— Все хорошо, — ободряюще сказал Стемплевский. — Немцы в селе напуганы, постарайся их не всполошить. Еще раз проверь все, а я потолкую с товарищами о времени операции.
Николай, пристроившись к уставшему меняльщику, добросовестно тащил его тележку. Отдыхать остановились у колодца, откуда хорошо был виден склад, кухня в соседнем дворе, две автомашины, спрятанные в зарослях бузины. — Напившись воды, меняльщик взглянул на скрывающееся за горизонтом солнце, засуетился: надо завидно добраться до города. Николай прошмыгнул между домами и залег в небольшом рву, скрытом высоким густым кустарником. У него были немецкие наручные часы со светящимся в темноте циферблатом.
Двое солдат с карабинами через плечо и в касках появились в девять часов. Громко разговаривая, ходили по середине улицы. Где-то недалеко играл аккордеон, оттуда доносились пение, смех. К полуночи все смолкло.
Патрульные остановились около колодца, закурили и двинулись дальше. Николай подполз к двери склада, достал связку ключей, начал открывать замок. Три ключа не подошли, но четвертый с легким скрежетом дважды повернулся. Закрылся замок также легко. В несколько прыжков Николай очутился в своем укрытии. От радости потер ладони. «Порядок!» — вырвалось у него, и собственный голос испугал.
Патрули сменились в час ночи, Николай с легким сердцем пошел к городу.
К исходу следующего дня вблизи Новоселовки на берегу реки Кривой Торец встретились Анатолий Стемплевский, которому было поручено руководить операцией, Владимир Дымарь и пришедшие позже Николай Абрамов, Виктор Прищепа и Анатолий Низдвецкий. Ребята были вооружены пистолетами, у командира и Николая были еще и гранаты, а у Низдвецкого и Прищепы — финские ножи. Настроение было приподнятое, веселое. Николай, сняв пиджак, сделал стойку на руках, походил колесом. Шутили, вспоминали смешные истории и, вообще, вели себя беззаботно.
Вдруг командир посерьезнел, остановил всех. Приказал:
— Первыми пойдут Коля и Володя. Потом мы — втроем. Сбор в саду у тополя.
Лица ребят посуровели. Анатолий Низдвецкий, посмотрев многозначительно на друзей, улыбнулся и достал из кармана небольшую жестяную коробку. Две тонкие плитки шоколада были разделены с аптекарской точностью.
— Пойдем потихоньку? — спросил политрук, трогая Николая за плечо.
Они сразу растаяли в летней ночи. Вскоре за ними последовали остальные. Встретились в условленном месте. Добрались ползком до зарослей бузины и там залегли. Склад был совсем рядом. Патрульных не было видно. Николай тихо прошептал:
— Я с Виктором поползу к складу. Оттуда просматривается улица.
— Давайте, — разрешил командир.
Патрульные сидели на толстом большом бревне, лежавшем на улице недалеко от колодца. Вспыхивали желтые огоньки сигарет, едва слышалась немецкая речь. Солдаты встали, залопотали громче и прошли мимо ребят.
— Смотри за ними, а я отомкну склад.
Замок поддался легко, беззвучно. Николай подал сигнал, и ребята сразу же оказались рядом. Дверь жалобно скрипнула и отворилась. Уже находясь в складе, командир сказал Николаю:
— Иди к Виктору. Смотрите за фрицами. Мы быстро справимся.
Виктор с пистолетом в руках, не отрываясь, наблюдал за солдатами. Те вдруг громко засмеялись, постояли посреди улицы и двинулись вдоль улицы.
— Поторопи ребят, — хрипло прошептал Виктор.
— Выходить можно? — раздался из-за двери голос политрука.
— Можно, только тихо, — отозвался Николай.
Анатолий Низдвецкий вывел два велосипеда, политрук вышел с двумя пулеметами, командир — с пулеметом и велосипедом.
— Николай, берите с Виктором по велосипеду, магазины к пулеметам. Дверь закрой на замок.
Велосипеды и замотанные в плащ-палатки заряженные диски для пулеметов уже лежали у самых дверей. Замкнув склад, Николай последним пришел к месту сбора.
Пулеметы спрятали на кладбище. С велосипедов стерли смазку, накачали камеры. Благополучно возвратились в город.
Подпольщики нашей группы привыкли регулярно получать сведения о событиях на фронте, о жизни страны и мира, но с уходом Анатолия на нелегальное положение мы остались, что называется, «без ушей».
В квартире Анатолия уже вторую неделю была засада: дежурили днем — один, а ночью два полицая. Мать командира, тетя Катя, каждый день уверяла полицейских, что сын ушел менять вещи на продукты в Запорожскую область и, возможно, останется там у богатого мужика батрачить за кукурузу и картошку.
Чаще всех днем в квартире сидел круглолицый, всегда с полуоткрытым ртом полицай. Тупой и нахальный, он ревностно нес службу.
— Мурло мурлом и дурак редкостный, — отзывалась о нем тетя Катя. — Прежде чем сказать явную глупость, он ее старательно и долго обдумывает.
Несколько раз наведывался в дом бывший парикмахер, ставший при фашистах каким-то полицейским начальником. Узкоплечий, с накрашенными усами, вертлявый, он важно расхаживал по комнате и орал на тетю Катю:
— Врешь, ведьма, знаешь, где твой бандит! Не скажешь — тебя заберем, — а у нас, как известно, несладко. И не тебе чета, а язычки развязывают.
— На менке он, правду говорю, — отвечала тетя Катя.
Николай не находил себе места, придумывал самые фантастические планы, которые позволили бы заполучить приемник. Зная, когда и где обычно купается ребятня, Николай близко к полудню спрятался в лозняке на берегу Торца. Вскоре из-за старой казармы выскочила ватага подростков и взапуски пустилась к реке. Среди ребятишек был и его брат, Толик. Все они, на ходу поснимав рубашки и майки и побросав их на берегу, с визгом попрыгали в воду. Дождавшись, когда Толик вышел на берег, Николай окликнул его.
— Как у нас дома? — спросил, когда братишка подбежал к нему.
— Папка болеет, кашель его замучил. Мамка сама огород полола.
— А тетя Катя?
— Полицаи у них дежурят. Дальше колодца ее и не пускают. Анатолия полицаи караулят, а он, как и ты, убег куда-то.
— Скажи маме, пусть вечером придет в парк к лодочной станции. И, смотри, обо мне ни слова и никому… что мама пойдет ко мне.
— Понимаю. Не маленький.
— Ладно, Толяй, не обижайся, я просто предупредил.
Перед вечером Николай в парке забрался в гущу кустарника около бывшей лодочной станции. По сторонам причала на квадратных постаментах стояли гипсовые фигуры гребцов, изрешеченные пулями развлекавшихся стрельбой немцев. Николай смотрел на обезображенные скульптуры, вспоминал, как до войны помогал старику смотрителю станции конопатить и смолить прогулочные лодки, а за это старик разрешал вволю кататься на его персональном двухвесельном «катере».
Николай услышал торопливые шаги, приподнялся. Раздвинув ветки, увидел быстро идущую мать, в руках она несла ведро.
— Мама! — окликнул он ее.
Она подошла, протиснулась в глубь кустарника. Обнимая и целуя Николая, горько проговорила:
— Не дай бог матерям дожить до таких дней, чтобы встречаться с сыновьями украдкой.
— Мама, это упрек?
— Нет-нет. Ты поступаешь, как велит тебе сердце. Я горжусь тобой, но мне… страшно, сынок.
Она достала из ведра две кукурузные лепешки и бутылку с еще горячим чаем. Передавая сыну, спросила:
— Трудно тебе?
— Не очень, мама, живу у надежных людей, — Николай съел лепешку, выпил чай, положил на дно ведра вторую лепешку. — Это вам, меня хорошо кормят. — Поглядел на мать, спросил: — Как дела у нас и у тети Кати?
— К нам дважды наведывались полицаи, спрашивали про тебя. Мы сказали, что ты работаешь в госхозе. Наводили они справки и у соседей. Те подтвердили, что ты на заработках… А вот у тети Кати дела хуже. Полицаи днюют и ночуют. С нее глаз не спускают, к соседям запретили ходить. К колодцу пока отпускают.
Она глубоко вздохнула. Николай ласково тронул ее за плечо, сказал:
— В комнате Анатолия спрятан радиоприемник, а он так нужен нам. Мама, договорись с тетей Катей, чтобы оставила она открытым окно… и пусть уведет полицая в коридор или во двор. Я тем временем заберу приемник.
— Опасно, сынок.
— Мигом справлюсь, мама. В кустах сирени заранее спрячусь, а когда заберу — сразу в парк, и был таков. Поговори завтра у колодца с тетей Катей, потом придешь сюда. С утра буду здесь. Мама, сделаешь?
— Попробую, сыночек.
— Захвати для меня наволочку или мешок, — Николай поцеловал мать и быстро пошел по берегу в сторону Новоселовки.
На следующий день мать пришла рано утром.
— Коля, надо идти сейчас же. Тетя Катя все продумала. Я пойду впереди. Буду нести тряпку и ведро. Если уроню тряпку, значит, опасно, насторожись. Поставлю ведро на землю — уходи!
Мать спокойно пошла в сторону Бутылочной колонии. Пройдя мимо сараев и очутившись около угла дома, где жил Анатолий, Николай юркнул в густые заросли сирени. Мать прошла мимо квартиры Стемплевских, подала знак тете Кате: Николай здесь.
Тетя Катя начала жарить лепешки. От сковородки потянуло густым удушливым смрадом.
Вскоре полицай, ожидавший обещанных лепешек, вытирая слезящиеся глаза и беспрерывно кашляя, забурчал:
— Ты що их на мазути смажэшь? Пропасты можно.
— Жир такой, потерпи уж, — отозвалась тетя Катя, добавляя на сковородку какой-то смеси.
— Та хай воны сказяться, очманив! — не вытерпел полицай и, подхватив винтовку, выскочил в коридор.
Тетя Катя метнулась в комнату Анатолия, распахнула окно.
Она еще не закрыла за собою дверь, а Николай был уже в комнате. Положив рядом пистолет, финкой поддел доски, вытащил приемник, сунул его в наволочку. Затем прикрыл лаз в подпол и метнулся к окну.
Улица была пустынна, лишь недалеко у колодца стояла мать. Приподняв руку, дала знать, что вокруг спокойно.
Тетя Катя потом, смеясь, рассказывала:
— Эрзац-жир помог. Правда, в него я всякой дряни понадобавляла. Не только мы, но и полицай лепешки есть не стал, хотя прожорливый, как свинья.
В тот же день приемник был установлен у Вали Соловьевой. Подпольщики снова начали слушать Москву, в городе появились листовки, сообщавшие о разгроме немцев на Орловско-Курской дуге.
КУЗЬМИЧ
С Николаем мы встретились возле хлебозавода. Я шел к Залогиной за радиолампами, а он к подпольщику Виктору Парфимовичу, дом которого находился недалеко от городской больницы. Настроение у Николая было радостное:
— Ты читал «Как закалялась сталь»?
Я удивленно посмотрел на друга: до войны, конечно же, не было ни одного школьника, не прочитавшего этой книги.
— Нет, ты прочитай сейчас, на многое посмотришь иначе. Хочешь, сегодня принесу Островского? Возьму у Парфимовича.
Я согласился. Условившись встретиться возле зеркальной фабрики, мы разошлись по своим делам.
Виктор Парфимович, открывая дверь Николаю, жестом предупредил, что он не один. В зале сидел мужчина лет сорока. Он был чисто выбрит, опрятно одет.
— Познакомьтесь, — суетливо пододвигая стул Николаю, сказал Виктор.
— Коля. Николай Абрамов.
— Кузьмич, — назвался новый знакомый, изучающе осматривая Николая. — Из бутылян? Я знал нескольких Абрамовых, — голос Кузьмича звучал ровно, но глаза подобрели.
Николай, поглядывая на Кузьмича, силился вспомнить, где он видел этого человека, откуда знакомо его лицо?
— Это наш старший товарищ, — многозначительно проговорил Парфимович. — Теперь будем действовать сообща.
У Николая учащенно забилось сердце. Что-то в Кузьмиче было располагающее и в то же время властное, подчиняющее.
— Как настроение? — обратился к нему Кузьмич. — Немцев не боитесь?
— Настроение боевое.
Скупой ответ Николая понравился Кузьмичу.
— Если у вас все такие ребята, это очень хорошо.
— У нас хлопцы геройские! — вырвалось у Виктора.
— Великое дело, когда люди верят друг в друга, — одобрил Кузьмич. — Ну, мне пора. Нужен буду — ищи меня на прежнем месте., Вы потребуетесь — пришлю связного.
Молча пожав ребятам руки, Кузьмич в сопровождении Виктора вышел. Возвратившись, Парфимович спросил:
— Ну как? — и, не дожидаясь ответа, сказал: — Дядька что надо! И… из партийного подполья, понял?
Валентину Савельевну Залогину я разыскал быстро и, забрав радиолампы, пришел к назначенному месту. Прохаживаясь по переулку, увидел быстро идущего Николая. Друг был возбужден и, взяв меня под руку, торопливо спросил:
— Тебе Анатолий говорил о связи с партийными товарищами?
— Мне политрук рассказывал, что они с Анатолием на одной конспиративной квартире встречались с бывшим партийным работником… Петром Кузьмичом. Этот товарищ вроде бы руководит подпольной группой у нас в городе. Вот и все, что мне известно.
— Ты себе не представляешь, какой это человек. Сразу видно — умный и сильный. Глаза удивительные. Он меня поразил, и я книгу у Парфимовича забыл взять.
Николай редко так восторженно отзывался о людях, но человек, с которым он познакомился, был действительно замечательный.
Василий Кузьмич Колоколов (в подполье называли Петр Кузьмич) был старшим сыном в бедной крестьянской семье. Он рано познал труд батрака, юношей добровольно вступил в продотряд, а потом служил в Красной Армии. В 1924 году стал членом Коммунистической партии, окончил совпартшколу, работал в культпро-светучреждениях, органах ГПУ, в Константиновском горкоме партии. Сразу же после нападения фашистских войск на нашу Родину Василий Кузьмич ушел на фронт, жена и трое детей эвакуировались. Командиром Красной Армии В. К. Колоколов сражался с врагом, но попал в окружение, а затем и в плен. Находясь в концлагере, он организовал массовый побег военнопленных и вернулся в Константиновку. Немного освоившись с оккупационными порядками, Василий Кузьмич установил связь с подпольными группами, действовавшими до этого разрозненно. Благодаря опыту партийной работы, личному авторитету, настойчивости и правильному пониманию обстановки, ему удалось объединить подполье и стать одним из его руководителей.
Среди скрываемых нами окруженцев и военнопленных были боевые командиры и политработники Красной Армии, люди храбрые и беспредельно преданные Родине, но немногие из них оказались способными бороться в условиях оккупации, а тем более руководить подпольем.
Человек большой эрудиции, практического ума, тонкий психолог, Кузьмич к тому же был деятельным и храбрым. Он принимал непосредственное участие в подрыве железной дороги, в диверсионных актах на заводе «Автостекло», который оккупанты пытались восстановить, и в других операциях.
В. К. Колоколов неоднократно говорил, что настоящий руководитель должен воспитывать личным примером и сам для нас был образцом. Василий Кузьмич излагал мысль просто, доходчиво. Он ценил юмор, но, рассказывая что-либо смешное, оставался серьезным. Однажды ребята спросили, как расшифровать «СС»?
— Очень просто: «сукины сыны», — без улыбки ответил он.
Надолго запомнились слова Колоколова, сказанные на одном сборе: «Фрицы мечтали о легкой победе, под барабанный бой думали по советской земле пройти, а получилось, что теперь по всей Германии погребальный звон разносится. У их фюрера, наверное, по истории двойка была, а то бы он знал, что Россия зарвавшейся немчуре много раз шею мылила. Теперь они тоже свое получат. Сполна. Это уж доподлинно».
Николай слушал Василия Кузьмича как завороженный. Каждое слово его старался запомнить.
Как-то в разговоре Кузьмич посетовал, что нет топографической карты Донбасса.
— Я достану, — вызвался Николай.
— Если сможешь, то раздобудь, но без лишнего риска, — попросил Василий Кузьмич. — Карта позарез нужна.
Три дня Николай мотался по городу, прохаживался около комендатуры, куда подкатывали «оппели» и «мерседесы», наблюдал за домами, где квартировали офицеры, но безрезультатно — карту добыть не удавалось.
На четвертый день около полудня недалеко от комендатуры, у водоразборной колонки, остановился старенький, весь в грязи «оппель». Пожилой майор медленно вылез из автомашины, поднял кверху руки, глубоко вздохнул, потом сделал несколько приседаний и, что-то сказав шоферу, направился в комендатуру. Высокий худой солдат-шофер обошел вокруг машины, протяжно свистнул, протер очки и посмотрел по сторонам. Увидев маячившего невдалеке Николая, немец подозвал его и с помощью жестов объяснил, что надо носить воду и мыть машину. «Наверное, долго ехали: машина в грязи, майор разминку делал — тут должна быть карта», — подумал Николай, взял два брезентовых ведра, которые достал из багажника шофер, пошел за водой. Обмывая тряпкой дверцы «оппеля», он заглянул в машину: на переднем сиденье лежал большой планшет, а рядом скрученный офицерский ремень. Немец обратил внимание, что Николай работает быстро и аккуратно. Сказав несколько похвальных слов, шофер, насвистывая, направился к колонке и начал мыть короткие, с широкими голенищами сапоги. Николай осмотрелся, открыл переднюю дверцу, расстегнул планшет. Там лежало несколько карт и какие-то бумаги. Верхняя карта сложена печатной стороной наружу. Он вытащил ее, сунул за пояс брюк, планшет положил на прежнее место и захлопнул дверцу. Через несколько минут «оппель» был вымыт. Шофер протянул три сигареты с таким величественным видом, словно отдавал половину царства.
— Ты молодчина, Коля, — восхищался Кузьмич, рассматривая разложенную на столе огромную карту Сталинской и Ворошиловградской областей. — Даже самые маленькие хутора обозначены, проселочные дороги, речушки — все есть. Замечательная карта. Объявляю вам благодарность, товарищ Абрамов, — неожиданно по-военному сказал Василий Кузьмич.
Николай был скромным, лишенным тщеславия парнем, но добрые слова руководителя, высокая оценка воодушевляли его.
Эта топографическая карта уцелела, и я eё храню, как дорогую реликвию, напоминающую мне о двух прекрасных людях: В. К. Колоколове и Николае Абрамове.
Если намечалась какая-либо операция, то Кузьмич взвешивал все «за» и «против», советовался с другими, старался организовать выполнение операции с наименьшим риском для людей и наибольшей вероятностью успеха. Скоропалительных решений он не принимал, неоправданной горячности и безрассудной смелости не терпел, но и к чрезмерно осторожным относился с опаской — не трусы ли?
Обсуждая план операции, Василий Кузьмич постоянно напоминал и о политическом резонансе, который может вызвать это мероприятие.
Был такой эпизод:
В начале лета 1943 года недалеко от Константиновки на парашютах приземлилась группа советских разведчиков. Они попали в засаду, и в перестрелке был ранен боец. Зайдя в село Стенки, разведчики оставили раненого в одном из домов и попросили хозяина укрыть его от властей, а сами ушли выполнять задание. Хозяин дома оказался старостой села, немецким прихлебателем и вместе со своим кумом, таким же фашистским приспешником, они явились в жандармерию и рассказали о раненом красноармейце. Разведчик был схвачен и после длительных пыток расстрелян.
В городской газете «Ввдбудова» была напечатана статья, где на все лады расхваливался «подвиг» старосты и его подручного, сообщалось, что комендант наградил их крупной суммой денег немецкими марками, им выделили по гектару засеянной пшеницей земли, и каждый получил поросенка.
— Подлецам много по гектару, — решительно сказал Кузьмич. — Их предательство более двух саженей земли не стоит. — Спросил ребят: — Не сумеете ли достать немецкую форму? Солдата и офицера. Можно бы чисто провести операцию.
Николай тотчас попросил поручить это задание ему и рассказал, что в старой городской больнице располагается офицерский госпиталь, а недалеко от него в школе, — солдатский. Однажды Николай наблюдал, как из небольшого каменного склада во дворе санитары переносили обмундирование в госпитали. Больничный двор был огорожен высоким каменным забором, возле которого в одном месте стоял телеграфный столб. По нему можно взобраться на забор и перемахнуть во двор.
После тщательного обсуждения будущей операции Николай получил разрешение.
Ночью по берегу Торца он подошел к тыльной стороне больницы. Притаившись, дождался, пока мимо пройдет наружный патруль. Быстро взобрался по столбу на забор. Привязав к нему веревку, осторожно спустился во двор. Ползком подобрался к складу, вынул самую большую шибку в раме и забрался в помещение.
Прошел вглубь и, посвечивая немецким карманным фонариком с синим стеклом, осмотрелся. На полках лежали кители и брюки, накидки от дождя, одеяла и простыни, в дальнем углу стояли ботинки, сапоги: и грубые, с широкими голенищами, и высокие — кавалерийские, и мягкие хромовые, с пряжками. Заглянув в несколько ящиков, обнаружил поясные ремни и кобуры для пистолетов, погоны и знаки различия, нашивки и даже орденские ленты.
Николай, вспоминая, как одеты офицеры, скомплектовал офицерское обмундирование, положил его в мешок. Потом в него затолкал солдатскую форму, с трудом завязал. Подобрав ботинки и сапоги, подумал, что в случае опасности они будут мешать. Тут же сунул в карманы свои тапочки, надел сапоги, ботинки повесил на плечо. Подошел к окну, огорченно махнул рукой: мешок не пролезал. По частям разгрузил его за окно, вылез сам. Быстро приладил на старое место стекло, вновь все сложил в мешок.
Когда он был уже у забора, раздались тихие голоса немцев. Николай достал пистолет, затаился. Патруль не остановился около столба, и Николай облегченно вздохнул.
Привязав мешок к веревке, взобрался по ней на забор. Перекинув свою добычу на улицу, отвязал веревку и спустился по столбу на землю.
Домой возвращался по берегу Торца, бредя по воде, чтобы собаки не взяли его след, если немцы быстро обнаружат, что кто-то был в складе.
Кузьмич горячо похвалил Николая.
— Да чего там, — смутился Николай, — дело, считайте, пустяковое. Пришел, перелез через забор, потом назад — вот и все.
Операцию продумали до мельчайших подробностей, ее выполнение поручили Анатолию и Владимиру.
В бургомистрате работала подпольщица Надя Арепьева, на пишущей машинке она отпечатала несколько экземпляров приговора, где было сказано, что расстрелянные являются изменниками и такая участь постигнет каждого, кто предаст интересы Родины. В конце значилось, что приговор привел в исполнение лейтенант Красной Армии Киселев. Конечно, по шрифту гестаповцы могли установить, что текст приговора отпечатан на машинке, имеющейся в бургомистрате. Но там Арепьева пользовалась безупречной репутацией, была вне всяких подозрений, а доступ к машинке имели и другие лица. Рассчитывали также и на помощь А. Я. Короткова.
Было решено казнить предателей ночью, на перекрестке дорог. Исходили из того, что утром идущие в город и на базар жители сел, а также меняльщики увидят убитых, прочтут приговор, и эта новость мигом обле-тит не только город, но и ближайшие населенные пункты.
Стемплевский облачился в форму немецкого унтер-офицера, а Дымарь превратился в щеголеватого обер-лейтенанта. Светловолосый, голубоглазый, с продолговатым лицом, политрук свободно мог сойти за чистейшего арийца. Только наш «обер», в отличие от своего «переводчика», по-немецки едва мог связать не сколько слов. Зато бранные словечки знал наизусть, и не только немецкие, но итальянские и даже румынские. Такого словарного багажа у Владимира было достаточно, а состоявший при нем «унтер» должен был переводить речь своего шефа бойко, но произвольно.
Придя в село, ребята отыскали старосту, а потом и его кума, представились служащими фельджандармерии и предложили следовать в город: с ними, мол, хочет поговорить высокий эсэсовский начальник.
— Может, пролеточку запрячь? — угодливо спросил староста.
— За селом нас ждет машина. Забарахлил мотор, шофер, наверное, уже отремонтировал.
Шли парами: впереди староста с кумом, следом — ребята. Когда вышли на большак, Анатолий и Владимир расстреляли предателей, разбросали вокруг листовки-приговоры и благополучно возвратились в город.
Весть о расстреле предателей вытеснила из города все остальные новости. Одни втихомолку, другие громко обсуждали это событие. С большими предосторожностями читали приговор. Нашлись такие, что «слышали», как ночью недалеко от Стенков садился «кукурузник», и на нем, как они утверждали, прилетал лейтенант Киселев. Большинство горожан признавало месть справедливой.
Кузьмич был доволен операцией, тем более, что никаких репрессий расстрел не вызвал.
Николай привязался к Кузьмичу. Не повидав его несколько дней, он даже тосковал. Однажды он признался:
— Вот ведь человек какой: побудешь с ним полчаса и обязательно чему-нибудь научишься, узнаешь новое. Возле него умнеешь. На все он смотрит широко и видит самое главное.
Остальные ребята нашей группы также уважали Колоколова, всегда советовались с ним. Ни одно серьезное решение не принималось без согласования с ним. Он же, в свою очередь, часто спрашивал мнение подпольщиков, считался с их предложениями. При разногласиях терпеливо доказывал свое, убеждал и, даже будучи раздосадован неудачами и промахами, никогда не повышал голоса.
На бывшем заводе «Красный дубитель» оккупанты восстановили цех по первичной обработке шкур рогатого скота. Там действовала патриотическая группа, возглавляемая Н. И. Касперчиком — грамотным инженером, смелым, осмотрительным подпольщиком.
Директор «фирмы», обрюзгший флегматик, ничего не смыслил в политике, но мечтал открыть в России крупное кожевенное предприятие и, движимый жаждой наживы, приехал в Донбасс. В энергичном, остроумном русском инженере шеф не чаял души, приглашал на чашечку кофе, угощал сигаретами. Поскольку кожа, в конечном счете, предназначалась для нужд армии, то к заводу был приставлен обер-фельдфебель с большими полномочиями. Его нельзя было обвинить «в усердии не по уму», как любил говорить Николай Иванович, и на заводе обер почти не появлялся, шеф частенько давал ему деньги «на мелкие расходы», и тот куда-то уходил играть в карты. Как правило, он проигрывал, снова намекал на безденежье, получал подачку и опять исчезал.
Николай Иванович организовал процесс обработки шкур таким образом, что через два-три месяца увезенные из завода кожи трескались, приходили в негодность. Колоколов установил контакт с Касперчиком, а связь с ним поддерживал через Николая.
Однажды Николай Иванович сказал связному, что хочет встретиться с Василием Кузьмичом. Встреча состоялась за городом. Николай сопровождал Кузьмича. Н. И. Касперчик попросил В. К. Колоколова дать ему другое задание: на заводе, мол, дело налажено хорошо, и есть товарищ, который может его заменить. Конкретного решения тогда не было принято, Кузьмич посоветовал Николаю Ивановичу, не торопясь, самому поискать себе дело. Подпольное движение становилось все более массовым, а действия дерзкими и хитрыми. Оружия и взрывчатки было уже достаточно для совершения крупных диверсий. Разрабатывался план проведения нескольких операций одновременно. У ребят словно крылья выросли — пришло время больших дел. Они уверовали в свои силы и рвались в бой.
Но произошло то, чего мы больше всего боялись.
…Весной 1943 года в городе появился щеголеватый офицер власовской армии. Он командовал головорезами из охраны лагеря военнопленных, но поведение его было довольно странным: покрикивал на подчиненных, проявлявших непомерную жестокость, запросто вел себя с военнопленными. Михаил Волошин, так звали офицера, рассказывал, что он летчик, был сбит, попал в плен и, чтобы не умереть с голоду, вступил во власовскую армию. В разговорах намекал, что не верит в победу немцев. Через своего адъютанта он сошелся с группой узников и помог им бежать. Потом из лагеря исчезло еще несколько человек. Перед побегом Волошин убеждал военнопленных, что если ему удастся найти связь с партизанами, то готов выполнять их задание. Один из сбежавших, смелый и энергичный человек, познакомился с окруженцем, которого мы снабдили документами, устроили на работу. От этого товарища нам стало известно о Волошине. Стемплевский и Дымарь после первой встречи с Михаилом заподозрили в нем провокатора, но было решено проверить его на деле. Волошин выпустил еще нескольких узников, достал пистолет, сообщал пароли, с нашими ребятами ходил подрывать железную дорогу, но группа была обстреляна охраной. Он все больше и больше входил в доверие к руководству подпольем, обещал обезоружить охрану лагеря, поднять восстание военнопленных.
Как выяснилось впоследствии, Волошин оказался гестаповским резидентом, он выдал многих наших товарищей, и в первую очередь В. К. Колоколова.
Кузьмич подвергался пыткам, но ничего не смогло поколебать его стойкости. Он остался коммунистом и борцом до последней минуты. Гестаповцы его повесили.
До самого вступления в город частей Красной Армии избежавшие ареста подпольщики продолжали сражаться, они мстили врагу и за смерть своего руководителя.
Деятельность В. К. Колоколова в константиновском подполье отмечена медалью «За отвагу», которую передали его семье; портрет Василия Кузьмича висит в городском музее.
КОНЦЛАГЕРЬ
Павел Максимов с матерью, двумя сестрами и шестилетним племянником Вовкой жил в центральной части города — на Октябрьской улице. Их двор с высоким сплошным забором был удобен для наших конспиративных встреч. В глубине двора, в сарае, мы прятали оружие, боеприпасы, детали для радиоприемника. Немцы у Максимовых останавливались редко — выручали справки, выданные нашими врачами-подпольщиками В. И. Яковлевой и В. С. Залогиной; в этих справках указывалось, что хозяйский мальчик страдает инфекционными заболеваниями. Так что едва появлялись во дворе солдаты, как Вовка стремглав мчался к постели, на голову ему клали мокрое полотенце, и он начинал жалобно стонать.
— Тиф? — испуганно спрашивали немцы и, взглянув на справку с печатью, торопились уйти.
Вовка был сообразительный, любознательный мальчик. Если кто-либо из подпольщиков приходил к Павлу, то требовалась немалая изобретательность и сноровка, чтобы освободиться от столь назойливого «хвоста».
По условиям конспирации мы не имели права без надобности приходить друг к другу. В случае крайней необходимости к товарищу шел тот, кто обычно чаще других посещал его. К Павлу и ко мне, как правило, посылали Николая. Когда А. Стемплевский, В. Дымарь и я покинули город, то всю связь между подпольщиками взял на себя Николай.
Как-то он встретил знакомого полицейского, некогда предупредившего об опасности, грозившей Валентину Ковальчуку. Этот полицай и на сей раз как бы между прочим сказал Николаю, что за домом рыжеволосого парня с Октябрьской улицы установлено наблюдение и появляться в этом районе опасно.
Николай догадался, что слежка установлена за домом Максимова. Предупредив об этом оставшихся на легальном положении подпольщиков, он через соседнюю улицу пробрался в стоявший без окон и дверей заброшенный дом, расположенный напротив двора Павла. Разбив на небольшие куски лежавшую во дворе черепицу, Николай начал бросать их в забор Павла, но со двора никто не вышел. Вывернув из печи кирпич и отбив увесистый кусок, Николай бросил его с такой силой, что тот, ударившись о забор, разлетелся на мелкие части, а в доске осталась глубокая вмятина.
Из калитки выскочил Павел и, недоумевая, посмотрел по сторонам.
— Медведь, Медведь! — тихо позвал Николай, называя друга по привычке уличной кличкой. — Подойди поближе.
Павел молча пошел во двор и сразу же возвратился оттуда с лопатой. Около дома напротив начал обкапывать кустарник, ловя каждое слово друга.
— За твоим домом следят. Забери оружие, оденься потеплей и сейчас же приходи сюда.
Положив на плечо лопату, Павел неторопливо пошел к себе. Через несколько минут он появился с той же лопатой и небольшой сумкой в руках. Увидев, что в третьем подворье от дома, где скрывался Николай, показался мужчина и стал из-за забора наблюдать за улицей, Павел у кустарника поставил на землю сумку и, к удивлению Николая, начал подкапывать корни и складывать на сумку ветки. Когда мужчина исчез, Павел прошмыгнул к Николаю. Пройдя через двор на другую улицу, они направились в сторону Первомайского поселка, где жили Онипченко и Иванченко.
Через два дня, на рассвете, сильные удары в дверь подняли всех на ноги в доме Максимовых. На крыльце и во дворе стояли немцы и полицейские. Ворвавшись в дом, бегло осмотрев комнаты, офицер заорал на мать Павла:
— Где твой сын-бандит?
— Не знаю.
— Врешь, старая…
— Зачем мне врать? Он давно собирался в село, вот, наверное, и ушел. Одно слово — безотцовщина. Матерей теперь не слушают.
— Закрой свой рот! — оборвал ее офицер и что-то быстро сказал по-немецки.
Начался обыск. Перевернули буквально все. В книгах, альбомах, старых письмах искали фотографии Павла. Чудеса бывают редко, но все же бывают. Видимо, в поспешности Павел забыл взять паспорт, который лежал в книге. Гестаповец дважды брал ее в руки, лениво листал, но почему-то на паспорт не обратил внимания. Сжавшись в комочек, Вовка сидел у бабушки на коленях и с ужасом смотрел на непрошеных гостей, хозяйничавших в доме. По ходу обыска они впихивали в свои огромные нашивные карманы оставленные про черный день крепдешиновые платья, платки и другие вещи, еще не обмененные на продукты.
Неожиданно в спальне раздался оглушительный выстрел, а вслед за ним последовало дикое гоготанье. Один из фашистов решил развлечься — выстрелил из пистолета в большое зеркало (таким оно стоит в доме Максимовых и сегодня, как немой свидетель того черного дня).
После обыска куда-то увезли на автомашине сестер Павла. Два солдата остались караулить Марию Васильевну и Вовку. Когда солнце уже было высоко над землей, подъехала повозка. Правил ею грузный немец. Взять с собой ничего не разрешили.
Арестованных усадили на соломе спиной к повозочному, конвоиры пошли сзади.
Ехали долго. Показался лагерь для гражданских лиц. Мария Васильевна шепотом попросила Вовку:
— Ничего, внучек, не бойся. Не плачь. Если будут о чем спрашивать, отвечай: не знаю, не видел, не слышал. Понял?
— Ага! — серьезно ответил Вовка.
Был уже почти полдень, когда подъехали к ограждению из колючей проволоки. Открылись одни, затем вторые ворота, и новые узники пополнили число заключенных концлагеря. С левой стороны, почти у самой железной дороги, стояло сравнительно большое серое одноэтажное здание с высоким крыльцом, с оплетенными колючей проволокой окнами. В него-то немцы из охраны и привели бабушку с внуком. В темной камере, куда их поместили, было тесно, душно, и новенькие едва нашли место, чтобы присесть на полу.
Заключенные неделями не мылись и не меняли белье. Особенно трудно переносили зловоние, исходившее от так называемой «параши».
Как ни были угнетены своим бедственным положением люди, но новые товарищи по несчастью вызвали у старожилов интерес. Посыпались вопросы: «Откуда?», «За что арестовали?», «Чей мальчик?» Женщины искренне сокрушались по поводу ожидавшей мальчишку участи.
Перед вечером Марию Васильевну вызвали на допрос. Следственная комната находилась в конце коридора. За столом сидели двое: один в гражданской одежде, другой в военной форме с белыми, витыми погонами. В левом углу лежала огромная с высунутым длинным языком овчарка, готовая по первой команде броситься на жертву. На небольшом столике справа — орудия пыток: сплетенная из кожаных шнурков плетка, толстая резиновая трубка, шомпол, наручники. Что-то еще было прикрыто куском зеленого брезента. В правом углу стоял небольшой кованый сундук, закрытый на замок-гирьку.
Вел допрос следователь в гражданском. Говорил он на чистейшем русском, но было видно, что и второй, в военной форме, все понимает, хотя иногда он кое-что и переспрашивал у следователя. Тот вкрадчивым, мягким голосом говорил, что большевикам все равно скоро будет конец и те, кто надеется на их возвращение, тупицы и дураки. Очень плохо, мол, что ее сын Павел связался с преступниками, которые его обманули, впутали в грязные дела. Павла, утверждал он, уже поймали, но он упорствует и не хочет выдавать соучастников. Конечно, если к нему применять, как он выразился, «сильные меры», то сын во всем сознается. Но немцы, мол, народ не жестокий, а он, следователь, надеется на благоразумие матери и верит, что она поможет сыну избежать страданий. После такого вступления последовали вопросы:
— С кем дружил сын? Кто бывал в доме? Где живут эти люди?
— Сына я ничему дурному не учила, — ответила Мария Васильевна. — Павел по натуре замкнутый человек, больше любит сидеть дома… Близких друзей у него с детства не было. — Она помолчала. — Иногда приходили парни и девушки, но в дом он их не заводил, и я о них ничего не знаю. Вы говорите о каких-то делах Павла, уверяю вас: он ничего плохого не делал.
Мария Васильевна говорила тихо, без видимого волнения, если не считать, что небольшой скомканный носовой платок все время перекладывала из руки в руку. Следователь достал из ящика стола несколько фотографий, развернул веером, поднес к ее лицу, спросил:
— Из этих вы… кого видели?
Мария Васильевна долго и внимательно вглядывалась в фотографии, даже осмелилась повернуть к окну руку следователя, чтобы лучше рассмотреть снимки. Потом с ноткой вины в голосе ответила:
— Извините, пан… пан начальник, я никого из них не видела.
— Что ты слышала от сына о Жене Бурлай, Борисе Мезенцеве? Они учились в одной школе с сыном. Вот они, смотри…
Следователь швырнул две фотографии на стол и резко встал. Овчарка закрыла пасть, насторожила уши, выжидающе уставилась на хозяина.
Мария Васильевна хорошо знала Женю Бурлай и меня, но решила не признаваться в этом: Вздохнув, сказала:
— Ничего не слыхивала…
— Ты нам голову не морочь! — срываясь на крик, стукнул кулаком следователь. — Мы можем и иначе разговаривать.
Мария Васильевна закрыла платком глаза, несколько раз всхлипнула и запричитала:
— Я ни в чем не виновата… И дочки ни в чем не виноваты, и внучок не виноват… Отпустите нас, пан следователь, отпустите, милость сделайте, пан следователь.
Поняв, что таким методом ничего не добьется, он выругался непристойными словами и приказал увести женщину.
Вскоре к нему привели Вовку. Мальчишка с опаской взглянул на собаку, потом на военного и застыл у входа.
Следователь поманил его пальцем, протянул две конфеты в красивых обертках.
— Как тебя зовут?
— Вовка.
— Сколько тебе лет?
— Сэсть. Скоро седьмой пойдет.
— С кем ты дружишь?
— Меня на улицу не пускают с мальчиками водиться. У меня есть кошка Мурка и собачка Кутька.
Вовка осмелел, кулаком с зажатыми конфетами провел под носом и попросил:
— Дядя, разресите мне сходить домой и принести сюда Мурку. Я быстро вернусь.
Детская наивность не тронула следователя, но по лицу офицера скользнула улыбка.
— Если ты, Вова, честный мальчик и будешь говорить правду, то отпустим не только за Муркой, а и за… за собачкой.
Глаза мальчишки вспыхнули радостью, он оживился, и уже ни овчарка, ни военный не смущали его. Следователь подошел к Вовке и, поглаживая его по голове, спросил:
— Где сейчас дядя Павел?
— Он ушел. Три дня его дома нет.
— С кем ушел, Вова?
— Не знаю.
— Куда дядя Павел ушел?
— Не знаю.
— К нему приходили ребята?
— В дом не приходили, а на улицу меня не пускали… я болел.
Следователь взял его за ухо и мягко потрепал.
— В окно же ты их видел, а?
— Видел.
— Ты их знаешь?
— Не знаю, они не с нашей улицы.
— Змееныш, — прошипел фашист и больно дернул за ухо. — Сдохнешь здесь, а твари твои околеют дома.
Он вырвал из рук мальчишки конфеты, бросил их собаке, та на лёту поймала огромной пастью и, громко хрупнув, проглотила.
Вовка закричал, заплакал, растирая по щекам слезы. Со страхом посматривал на овчарку, которая вдруг поднялась на передние лапы, оскалилась и начала хвостом бить о пол. Следователь что-то крикнул солдатам по-немецки. Вовку отвели в камеру к бабушке.
Начались лагерные будни.
В основном в камере находились жители Константиновки и близлежащих сел: Кондратьевки, Екатериновки, Шультина и других. Чаще всего ни в чем не повинные люди были жертвами рьяной службы полицаев и доносчиков. Одну женщину лет пятидесяти арестовали за то, что, собирая на вокзале уголь, она, по редкой для женщины привычке, посвистывала. Полицай посчитал, что женщина кому-то подает условные сигналы, и этого подозрения было достаточно для ареста. Никакие убеждения, мольбы и слезы не могли убедить палачей в невиновности «свистухи», как ее называли в камере. Многие были взяты заложниками. Изможденная, больная, с большими грустными глазами, женщина сидела в углу камеры и неустанно гладила по голове свою пятнадцатилетнюю дочь, такую же большеглазую и испуганную. Какой-то подлец донес, что глава этой семьи — коммунист. И мать и дочь находились под стражей до тех пор, пока фашисты не схватили близкого им человека. Его расстреляли, а лишившуюся рассудка женщину и харкающую кровью дочь выпустили.
В камеру иногда подсаживали чрезмерно любопытных «сочувствующих», стремящихся расположить к себе измученных людей, вызвать их на откровенность, а затем донести на них. «Старожилы» научились легко распознавать таких негодяев и старались предупредить тех, к кому лезли в душу «квочки», как именовали провокаторов.
Если же в одних камерах оказывались подпольщики или члены их семей, то, как правило, они старались не общаться между собою, не показывать, что знают друг друга или имеют общих знакомых. Когда в камеру, где находилась Мария Васильевна Максимова, привели Катю Куплевацкую, то ни та, ни другая не подали вида, что знакомы. Общительная и веселая Катя со всеми была дружелюбна, находила каждому слова утешения и только один раз едва заметно подмигнула Марии Васильевне, давая понять: держитесь, и все будет хорошо. Иногда Катя получала передачи, главным образом фрукты, она щедро делилась ими с узниками.
Как-то Вовка обнаружил в сумке с остатками пайка хлеба несколько абрикосов и показал их бабушке. Катя ободряюще кивнула головой и улыбнулась. Более вкусных вещей Вовка никогда не ел. Конечно, Катя знала, что ее ожидает, но до последнего дня пребывания в лагере не теряла присутствия духа и мужественно переносила все лишения. На допросы ее почему-то не вызывали. Очевидно, ее уже допрашивали где-то в другом месте, еще до отправки в лагерь, но она об этом не говорила.
Каждое утро в одно и то же время, к воротам концлагеря подъезжала с металлическим кузовом машина «черный ворон». По коридору гулко раздавался стук сапог, и в камерах воцарялась гробовая тишина. Все знали, куда увозит эта машина заключенных и что возврата оттуда уже не будет. Этого не скрывали и сами немцы. Не было более жутких минут, чем те, когда назывались фамилии заключенных. Люди безропотно, бесшумно собирали свои пожитки, уходили. Не было слез, истерик, мольбы о пощаде. Это было не проявлением покорности судьбе, а выражением мужества. Прежде чем зайти в душегубку, многие еще раз махали рукой оставшимся, хотя знали, что они этого не видят. Обычно охрана не разрешала никому стоять у окон и исключение делала только для малолетнего Вовки.
Теплым солнечным утром назвали фамилию Кати. Многие заплакали, но у нее не было ни слез, ни растерянности. Молча она собрала вещи, простилась со всеми, поцеловала Вовку и уже у порога сказала:
— Прощайте, товарищи. Не показывайте этим гадам своей слабости, будьте мужественными. Наши скоро придут, и вы дождетесь этого дня. Поверьте моему комсомольскому слову.
Она поправила волосы, уложенные короной вокруг головы, и вышла в коридор.
Обливаясь слезами, Вовка стоял у окна и видел, что Катя, прежде чем подняться в машину, посмотрела на небо, потом повернулась лицом к солнцу и спокойно вошла в пасть «черного ворона».
Весь день в камере не разговаривали. На прогулке все ходили, понурив головы.
Так закончилась жизнь Кати Куплевацкой — смелой подпольщицы, стойкой комсомолки и красивого человека. Она посмертно награждена медалью «За отвагу», ее именем названа улица в новом районе города.
Заключенные страдали не только от постоянного недоедания, скученности и удушливого воздуха. Каждый вечер, как только становилось темно, помещение тюрьмы наполнялось душераздирающими криками истязаемых.
На допросах били беспощадно, и так продолжалось до глубокой ночи. И, конечно же, в камерах после этих кошмаров люди не спали до самого утра. Многие узники не выдерживали лагерного режима, сходили с ума, прибегали к самоубийству.
Ежедневно после полудня была пятнадцатиминутная прогулка. Первыми выводили мужчин. Их вид был ужасным: обросшие, оборванные, некоторые босые, истощенные голодом и бессонницей, они, как призраки, ходили по небольшому пятачку двора. Многие, вконец обессилевшие или истерзанные экзекуциями, с чернильно-красными полосами на спине и руках, короткое время прогулок проводили, сидя на земле.
Пищу выдавали немцы-надзиратели один раз в день: кусок черного, как земля, эрзац-хлеба и пол-литровую банку вареного красного цвета проса. В воскресные дни вместо просяной баланды выдавали темную лапшу, отваренную в сладкой воде, которой мыли бочки из-под повидла, а иногда подслащенной сахарином.
Внутреннюю охрану несли немцы пожилого возраста, наверное, непригодные на какой-нибудь другой солдатской службе. Среди них были и такие, которые относились к заключенным с сочувствием. Один солдат по имени Отто, коренастый, плотного телосложения, с раскосыми глазами и астматическим дыханием, казалось, испытывал чувство стыда за своих соотечественников, проявлявших бесчеловечность к людям, оказавшимся за колючей проволокой. Он привязался к маленькому узнику, угощал Вовку белыми мятными конфетами, а иногда давал кусок хлеба с повидлом.
Несколько раз Отто выпускал Вовку из камеры и гулял с ним по двору. Показывая фотографию своих детей, тяжело вздыхал и прятал слезящиеся раскосые глаза. Этот простой немецкий солдат, во всем виде которого не было ничего армейского, не скрывал неприязни к надзирателям, издевавшимся над заключенными. Однажды он сказал Вовке, что из лагеря скоро всех выпустят, русские прорвали фронт.
О том, что дела на фронте у немцев складываются плохо, видно было и из того, что фашисты убыстряли темпы дознания, пытали заключенных не только ночью, но и днем, а душегубка стала приезжать утром и вечером.
К тому времени внешнюю охрану лагеря передали подразделению власовцев, в основном молодым. В немецкой форме, откормленные, наглые, зачастую пьяные, они, не стесняясь женщин, изрыгали потоки нецензурщины, пели похабные песни и, что особенно поражало, много смеялись.
Однажды, когда мужчин вывели на прогулку, к проволочному забору подошла женщина и стала умолять власовца передать мужу яблоки, завернутые в тряпку. Охранник обругал ее и приказал удалиться. Женщина отошла на несколько шагов, а потом вдруг бросила узел через забор. Передача зацепилась за колючую проволоку, тряпка разорвалась и яблоки посыпались на лагерный двор. В этот же миг раздался выстрел и сраженная власовцем женщина упала в нескольких метрах от ограды. Узников завели в камеры, а власовцы собрали яблоки и, жуя их, ржали на весь лагерь.
Недели три спустя после ареста здоровье Вовки начало сдавать: сказалось недоедание, нервное перенапряжение. Поднялась высокая температура, по ночам он стал бредить. Все в камере, как могли, пытались помочь ему, обращались к конвоирам с просьбой показать Вовку врачу.
Медицинский пункт размещался в одном из бараков химической колонии. Главный врач, немец, и его помощник не считали нужным оказывать медицинскую помощь заключенным. Они лишь занимались выявлением тифозных и дизентерийных больных, опасаясь заражения солдат. Заключенные говорили об этом медпункте, что это служба не красного креста, а черного.
Сюда и попал Вовка — истощенный, больной, еле державшийся на ногах. Обер-медик удивленно посмотрел на него и, не скрывая иронии, улыбнулся:
— Это ты-то и есть… враг великой Германии? Ты есть комиссар? Партизан?..
Вовка смутно представлял себе, где он находится и что от него хочет немец.
А тот вдруг присел, обхватил острые колени руками и, покачиваясь из стороны в сторону, залился смехом, иногда прерывая его возгласами:
— Ты есть комиссар?! Ты есть партизан?!
Вовка испуганно смотрел на немца, не понимая, почему тот так смеется.
Посерьезнев, немец выпрямился, снял очки. Посматривая на Вовку, достал из кармана халата кусок бинта, вытер им глаза. Помолчав, тихо приказал:
— Сними рубашку.
Врач осмотрел остальных заключенных, и всех их снова отвели в концлагерь. Через несколько дней женщин отпустили, а мужчин куда-то увезли. Немцы драпали из города.
Вскоре Константиновка была освобождена Красной Армией.
Пребывание в лагере не прошло бесследно для мальчишки. По ночам его долго мучили кошмары, он боялся спать один, заикался.
Если бы Коля Абрамов не предупредил Павла о грозящей опасности, то был бы схвачен и расстрелян не только Павел. Ни Мария Васильевна, ни Вовка не избежали бы казни.
ОПОЗНАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ
В середине июня 1943 года ко мне в Дзержинск пришел политрук и принес документы на имя Быбко Павла Андреевича: паспорт, биржевую книжку и удостоверение личности — аусвайс. В паспорте моя фотография и вкладыш с описанием на украинском и немецком языках роста, цвета волос, глаз и других особых примет владельца. В углу вкладыша пунктиром обозначен квадратик размером с почтовую марку.
— А это для чего? — полюбопытствовал я.
— Для отпечатка пальца, — ответил Владимир, достал маленький пузырек с тушью, намазал ею мой большой палец правой руки и приложил к вкладышу. Получился четкий оттиск.
Владимир сказал, что я должен перебираться в Часов Яр, где действовала группа подпольщиков во главе с Леней Иржембицким. Николай и Леня будут нас встречать на окраине Константиновки. Друг узнает мое новое жилье и возвратится обратно. Я обрадовался предстоящей встрече с Николаем.
Проселочной дорогой мы направились к Константиновке. Пройдя балку, увидели длинный двигавшийся навстречу обоз. Свернули налево, к селу. Миновав несколько домов, заметили в садах замаскированные повозки, привязанных к деревьям лошадей, но солдат не было видно. Вдруг уже на краю села из-за стога старой, почерневшей от времени соломы вышли два солдата. Один высокий с рыжими прилизанными волосами, с винтовкой наперевес, второй низкорослый с черной шевелюрой, с пистолетом в левой руке. Одеты они были странно: короткие, выше колен брюки, легкие темно-песочного цвета кители. Солдаты остановились в нескольких метрах от нас и, словно по команде, взвели оружие.
— Стой! — рявкнул по-немецки черноголовый, наставив пистолет мне в грудь, а рыжий целился в политрука.
— У нас есть документы, немецкие документы, — сказал я по-немецки, стараясь казаться спокойным.
— Партизанен?
— Мы работаем, помогаем Германии. У нас есть документы, — повторил я и глянул на побледневшего Владимира.
Рыжеволосый опустил винтовку, криво улыбнулся и что-то быстро сказал низкорослому. Тот отвел за спину руку с пистолетом и выругался. Нам разрешили идти дальше.
Когда мы опустились в ложбину, услыхали стрельбу. Огромная стая всполошенных ворон поднялась над селом.
— Ты сдрейфил? — спросил политрук.
— Малость было, — ответил я, чувствуя, что краснею. — До сих пор еще не приду в себя. Присядем?
Отойдя от дороги, мы сели у куста боярышника. Я сорвал несколько зеленых ягод и начал жевать. Горьковато-терпкий вкус показался приятным. Владимир лег на спину.
— А ты молодец… Быстро сориентировался. Мне показалось, что ты хвастал перед немцами: у меня есть немецкие документы. Они не хотят смотреть, а ты навязываешься… Молодец, не растерялся.
Политрук засмеялся сначала тихо, а потом все громче и громче. Я сперва сдерживался, но не справился с собой и тоже залился. Словно подзадоривая друг друга, мы смеялись нервно, до колик в животе. Постепенно успокоившись, поднялись и пошли. На душе было легко.
— В твоем пистолете патрон в патроннике? — спросил Владимир, когда мы уже приближались к Константиновке.
— Конечно.
Я достал из-за пояса пистолет, щелкнул предохранителем, слегка отвел назад затвор и показал политруку патрон в патроннике. Политрук одобрительно кивнул головой.
Обойдя город стороной, мы пришли в заросшую кустарником балку, где нас уже ждали Роза Мирошниченко и Леня Иржембицкий.
— Где Коля? — удивленно спросил я, оглядываясь но сторонам: не спрятался ли друг в кустах?
— Николай получил срочное задание. Он очень хотел повидаться с тобой, собирался, как на свидание с девушкой. Последние три дня только о тебе и говорил. Сегодня утром по срочному делу отправился в, Дружковку. Отказаться не мог, он ведь парень дисциплинированный. Вот передал тебе…
Роза достала из плетеной корзины сверток. В нем оказались две коробочки патронов к пистолету, карманный фонарь, завернутый в бумагу кусок сахара и губная гармошка. Все с любопытством смотрели на гостинцы.
— А гармошка зачем? — спросил Леня.
— Умею чуть-чуть пиликать.
Я был растроган заботой друга, но то, что он не пришел, обидой отозвалось в сердце.
— Коля просил сказать, что полицаи и жандармы охотятся за тобой, как псы. Деньги за твою голову обещают, а если поймают, то обязательно повесят. Еще советовал живым в руки к этим паразитам не попадать. Последнюю пулю оставляй для себя.
Роза замолчала и, вздохнув, добавила:
— Когда говорил эти слова, то голос у него срывался… Ясное дело — друг.
— Не бойтесь, мы его убережем, — пообещал Леня и подтолкнул меня плечом.
Мы расположились у куста шиповника. Роза из корзины достала кукурузные лепешки, кусок жесткой отварной солонины, пучок зеленого лука. Перекусив, направились к дороге, ведущей в Часов Яр. День был на исходе, а нам надо засветло добраться хотя бы до села Николаевки, примыкавшего к Часов Яру.
Шли через заросшее высоким бурьяном поле. До главной дороги оставалось уже немного, но шедший впереди Леня вдруг резко присел, приложил ладонь к губам, давая понять, чтоб замолчали. Мы присели, насторожились, Володя и я достали пистолеты.
— Немцы или полицейские на велосипедах, человек пять, — прошептал Леня.
Несколько минут сидели не шевелясь, потом Роза осторожно привстала.
— Проехали, — тихо сказала она. — На руках повязки — полицаи.
Все посмотрели вслед удаляющимся в сторону Константиновки велосипедистам.
— Везет нам сегодня как утопленникам, — горестно проговорил Владимир.
— Но в общем-то везет, — уточнил я. — Мы сегодня встречались с немцами, оружие на нас наставляли, но не обыскали. Конечно же, повезло. А то круто бы нам пришлось.
Вышли на дорогу, и, прощаясь, политрук сказал:
— Ну, Боря… впрочем прости, ты ведь теперь Павел, смотри в оба. Первое время никаких действий, а когда привыкнешь, ознакомишься, тогда посоветуемся, с чего начать.
Леня определил меня на жительство у подпольщика Мурадяна, человека удивительно чуткого и храброго. Но долго оставаться у него я не мог: дом находился поблизости от круглосуточно охраняемого полицией железнодорожного переезда. Если надо было идти на встречу с подпольщиками, чтобы не вызвать подозрений у полицаев, Христофор Назарович для отвода глаз посылал со мною свою шестилетнюю дочь Свету. Возвращаясь обратно, я замечал, что Мария Ивановна, ожидая дочь, плакала. Однажды за нами увязался «хвост». Я отпустил Свету домой, а сам пошел петлять по городу и оторвался от преследователя. В тот же вечер Христофор Назарович отвел меня на квартиру к учительнице Дарье Ивановне Колесник. Седовласая, энергичная, всегда чем-то озабоченная, Дарья Ивановна была воплощением доброты, человеколюбия. Ко мне она относилась с материнской нежностью.
Жила Дарья Ивановна одна. Другую половину дома занимала ее племянница с дочкой. В этом районе немцы квартировали редко.
Как-то возвратилась учительница из центра города и взволнованно рассказала, что на улице лежит убитый молодой мужчина. Часов Яр город небольшой, почти все его жители знают друг друга, но погибший, видимо, пришлый. Люди поговаривали, что расстрелян партизан или разведчик.
Сообщение меня обеспокоило. Но днем пришла Роза и сказала, что из наших ребят никто в Часов Яр не направлялся.
Поздно вечером, сидя перед раскрытыми окнами, Дарья Ивановна неожиданно спросила:
— Павлик, скажи, пожалуйста, что ты будешь делать, если тебя застукают у меня немцы или полицаи?
— Что буду делать? — переспросил я и, вспомнив слова Николая, почти сразу же ответил: — Буду отстреливаться, а последнюю пулю оставлю для себя.
Она долго молчала, машинально комкая и разглаживая на коленях платок. Тихо заговорила:
— Гимназию я окончила до революции, учительствовала на Полтавщине. Началась гражданская война, и я выступила перед крестьянами с призывом записываться добровольцами в Красную Армию. Дважды в меня стреляли бандиты: один раз — когда вечером шла из школы, а второй — в комнату, через окно, но все мимо. Началась коллективизация. Кулаки взбунтовались, за обрезы взялись. Я в селах выступала, агитировала в колхоз идти. Один раз ехали на бричке с секретарем партячейки, стрельбу по нас открыли, секретаря в плечо ранили, лошадь убили, а я целехонька осталась…
Дарья Ивановна умолкла, чему-то улыбнулась, провела по лицу платком и продолжала:
— В том селе, где я работала, был одноглазый детина: сильный, как вол, дурной, как ступа. Кулаки спаивали его самогоном и подговаривали убить меня. Этот дурень согласился расправиться с учительницей, но за свои «труды» потребовал загодя овчинную шубу. На нем увидели шубу и спросили, откуда она? Одноглазый выболтал, что за нее он убьет учительницу. Его и подстрекателей арестовали и осудили…
Она встала, прошлась по комнате, снова села. Я понимал, что Дарья Ивановна не сказала чего-то важного, но не торопил ее.
— Павлик, ты, наверное, оставляй не одну, а две пули: для меня и для себя. Смерти я не боюсь, а мучиться не хочу. Если эти поганые ироды схватят меня, то сразу не убьют… Начнут пытать, издеваться и доведут до такого состояния, что мертвому завидовать стану. Они на это большие мастера. Нет, сынок, оставь две пули…
С благодарностью вспоминаю я эту замечательную патриотку. После войны неоднократно бывал у нее, поддерживал связь до ее смерти.
На следующее утро после того памятного разговора с Дарьей Ивановной пришли Роза Мирошниченко и Леня Иржембицкий. В плетеной корзине Роза принесла продукты: маргарин, искусственный мед, несколько банок рыбных консервов.
— Это тебе от Коли. Они с Анатолием Низдвецким в немецкий склад забрались и два мешка продуктов унесли. В городе полно власовцев, ребята стащили у какого-то предателя мундир и, уходя из склада, бросили его там. Гестаповцы власовцев поголовно обыскали, двоих задержали.
— Молодцы, чисто сработали ребятушки, — вырвалось у меня.
— Молодцы, да не очень, — вздохнула Роза, — они это сделали без разрешения, самовольно. Когда наше начальство узнало об этой проделке, то такую трепку им устроило, что с ума сойти можно. Говорили, что за такие штуки в армии под трибунал отдают.
Я, конечно, понимал, что без разрешения руководства нельзя идти на какое-либо опасное дело, но, чтобы поступок ребят вызвал такую реакцию, это мне казалось чрезмерной строгостью.
— Коля не оправдывался, но сказал, что немцы морды наедают, а партизаны с голоду пухнут… Продукты ребята роздали самым истощенным, а вот это твоя доля.
— А сам, наверное, доходной? — спросил я.
— Худючий, как щепка, но говорит, что он двухжильный. Даже Саша Лобода удивляется его выносливости.
Прощаясь, Роза сказала, что меня скоро вызовут в Константиновку. Леня пошел ее проводить, а я остался один и почему-то подумал об Александре Лободе. Посещавшие мою конспиративную квартиру товарищи, рассказывая о Николае, непременно упоминали какого-то Александра из числа присоединившихся к ним окруженцев. Ребята считали его хорошим, надежным и смелым человеком, лишь иногда их беспокоила излишняя горячность Александра.
Когда говорили, что Николай подружился с этим окруженцем, меня охватывало непонятное чувство беспокойства и досады. Возможно, это была ревность, возможно, что-то другое, но чувство это было не из приятных.
Из расспросов я кое-что узнал об Александре Лободе. Лет ему было около двадцати четырех, родом якобы из Краснодара или Краснодарского края, оттуда и был призван в Красную Армию. Танкист. Не то сержант, не то лейтенант. В зимнее наступление 1943 года был ранен в голову возле Славянска или Краматорска.
После отступления наших войск его подобрали на улице, укрыли и спасли. Осколком ему выбило глаз, и он носил марлевую повязку. Все сведения приблизительные.
Как выяснилось позже, и другие наши ребята, даже те, которые были с ним на заданиях, знали о нем не больше. Нам осталось неизвестно даже его отчество. Лобода о себе говорил мало, был немногословен, да и не принято тогда было задавать много вопросов.
Я почему-то думал, что новоявленный друг не сможет по-настоящему оценить Николая, его надо иногда и сдержать, иногда и позаботиться о нем.
В первых числах июля меня вызвали из Часов Яра в Константиновну. Готовилось несколько операций, в которых должен был принять участие и я.
Татьяна Евгеньевна Сегеда и Роза Мирошниченко занимали дом на улице Минской, которая в то время была одной из окраинных. Пустующих домов в городе было много, и по разрешению городских властей можно было занимать любой из них, но только после особой регистрации. С помощью А. Я. Короткова и Нади Арепьевой документы были получены без соблюдения формальностей, и новые хозяева заняли дом.
Там же постоянно проживали Анатолий и Владимир, но нелегально. Приходить и уходить старались незаметно, в домовой книге они не были прописаны даже по своим «липовым» документам.
Таких партизанских явок в городе было несколько. Ребята в шутку говорили, что наш дом — наша крепость. Если судить по находившемуся в нем оружию, а там были автоматы, пистолеты, гранаты, то английская поговорка была абсолютно верной.
Вот в эту-то «крепость» и привела меня Роза Мирошниченко. Со многими ребятами я давно не встречался и соскучился по ним. Явственно представлялась встреча с Николаем, которого не видел уже почти два месяца. Мне почему-то хотелось, чтобы при этом никого не было. Совсем никого.
Появляться на улице мне было запрещено, и я двое суток не выходил из дома. Анатолий и Владимир бегали по городу, озабоченные подготовкой к операции. Роза ушла по какому-то заданию. Татьяна Евгеньевна подгоняла под мой рост форму немецкого солдата. Одним словом, все были чем-то заняты, а я не находил дела и очень досадовал.
К тому времени моих родных выпустили из полиции как приманку, с расчетом на то, что я захочу повидаться с ними. Я гнал прочь мысль о возможности такой встречи, но вот Николай… Ведь он наверняка знает, что я в городе, а не приходит. Меня это обижало. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, принимался чистить пистолет. Политрук утверждал: если «распсихуешься», то ничто так не успокаивает нервы, как чистка оружия. Разбери пистолет, смажь каждую деталь маслом, собери, и «психа» как не бывало. Но манипуляции с пистолетом пользы не приносили. Особенно томительным был второй день: я прямо-таки не находил себе места. Даже приход Марии Козельской — нашей неуемной балагурки — и ее настойчивые попытки развеселить меня ничего не изменили.
Смутное, но тяжелое предчувствие не покидало, оно угнетало и тревожило. Минуты тянулись мучительно медленно, а часы казались сутками. Когда стемнело, я вышел во двор, лег на траву и, вглядываясь в темноту, ждал ребят. Анатолий и Владимир появились со стороны огорода, и это меня еще больше насторожило, тем более, что в руках они держали пистолеты. Друзья были взволнованны. Предчувствие меня не обмануло: что-то произошло.
— Что случилось? В чем дело? — набросился я на них. — Да говорите же наконец!..
Зашли в дом. Вид у ребят был настолько подавленный, что, взглянув на них, Татьяна Евгеньевна застыла в ожидании какого-то страшного известия. Владимир в меньшей мере, чем Анатолий, справлялся с волнением. Он был смертельно бледен, углы рта нервно дергались, глаза неподвижны.
Глядя в сторону, командир хрипло заговорил:
— Несколько часов назад… в районе Новоселовки какие-то ребята… попали в засаду. Завязалась перестрелка… хлопцы погибли. Был убит или тяжело ранен унтер-офицер… или офицер. Весь этот район оцепили. В городе усилены патрули. Кругом облавы и обыски.
— Ты что-то недоговариваешь. Говори все! Кто были эти хлопцы, сколько их? — нетерпение все больше овладевало мною. — Говори же, говори!..
— Понимаешь, — почти шепотом продолжал Анатолий, — в Новоселовку ушли Коля Абрамов и Саша Лобода. У обоих пистолеты, а у Коли… и «лимонка». Что там произошло, мы не знаем.
— Но, может быть, это не они, а кто-то другой? — сдерживая крик, спросил я.
— Возможно… не они, — усаживая меня на кровать, сказал Владимир. — Возьми себя в руки.
Казалось, что голос доносится откуда-то издалека, я его еле слышал.
— Коля, Коля… — вырвалось у меня, и я заплакал.
Татьян а Евгеньевна, закрыв лицо руками и прислонившись к стене, тихо плакала. Политрук начал успокаивать, пытался убеждать, что погибли не наши ребята.
— Через день-два, — то и дело покашливая, говорил он, — мы узнаем, что произошло в поселке… в Новоселовке. Ты, Борис, возвращайся в Часов Яр. Подумай там с Леней Иржембицким и Мурадяном о квартирах для десяти-двенадцати человек. Квартиры нужны будут завтра же!
Анатолий посмотрел на часы, строго добавил:
— Володя прав. Тебе надо уходить. Намеченная операция отменяется. Завтра к вечеру жди людей. Встреча у крайнего карьера. Я или Володя будем с первой группой.
Спокойный голос командира немного подействовал, и я, овладевая собой, понял, чего от меня требуют.
— Конспиративные квартиры есть. Человек восемь смогу разместить сразу. Люди проверенные, надежные. Двоих могу взять к себе. Троих можно спрятать у знакомых девчат.
Пытался говорить спокойно, но что-то сдавливало грудь, голова раскалывалась от боли. Я понимал, что ребята страдают ничуть не меньше, но вот нервишки у меня почему-то слабее, тряпичнее, как говорил политрук.
Через несколько дней стали известны обстоятельства гибели Николая Абрамова и Александра Лободы.
В Новоселовке у Александра были знакомые, у которых он иногда появлялся. После того как из склада были забраны пулеметы и велосипеды, ему предложили не показываться в селе, тем более, что он был очень приметен: на лице постоянно была повязка. Кроме того, у него не было никаких документов. В Новоселовке немцы учинили повальные обыски, арестовали нескольких сельчан. Но партизан обнаружить им не удалось, и никаких сведений о них фашисты не раздобыли.
Однако кто-то из жителей села видел в городе на велосипеде «одноглазого», который ранее бывал в Новоселовке, но после «ограбления» склада исчез. Поползли слухи, высказывались догадки, предположения.
Об этом стало известно гестаповцам, имевшим в селе своих осведомителей. За несколькими домами, где ранее видели Лободу, установили наблюдение. На протяжении двух недель человек с повязкой не являлся, но засады не снимались.
В Новоселовке остановилась новая воинская часть. Технику немцы замаскировали за селом в большом фруктовом саду. Там же под открытым небом находилось большое количество боеприпасов, накрытых брезентом и сетками.
Николай Абрамов и Александр Лобода узнали об этом и пошли в разведку. У них были пистолеты, а у Николая еще и граната. Вначале двигались вдоль села за огородами, но потом вышли на улицу и направились к дальней окраине. Когда пол Новоселовки было уже позади, мимо проехали два солдата на велосипедах, потом обогнал мотоцикл, прошмыгнула легковая автомашина с двумя офицерами. Ребята шли спокойно, о чем-то беседуя. Ничто у них не вызывало подозрений, а тем более тревоги, поведение немцев было обычным.
Лишь когда они приблизились к окраине села, заметили что-то неладное. Потом убедились, что за ними наблюдают. Почуяв опасность, ребята свернули в первый попавшийся двор и направились к высоким кустарникам, растущим за огородами.
Вдруг окрик:
— Хальт! Хальт! Рус — сдавайся…
— Комсомольцы не сдаются! — крикнул Николай. По ним открыли огонь. Отстреливаясь, ребята бросились к зарослям.
Александр упал, срезанный автоматной очередью. Николай на мгновенье остановился, увидел бегущего к нему с пистолетом унтер-офицера. Дважды выстрелив, Николай увидел солдат, вынырнувших из-за сарая. Он бросил в них гранату, но она почему-то не взорвалась. Побежал и тут же упал. Гитлеровцы будто боялись подходить к погибшим ребятам. Тяжелораненого унтера отвезли в госпиталь, в тот же вечер он скончался.
К месту гибели подпольщиков наехало множество всякого начальства. Самый внимательный обыск не дал никаких сведений о личности убитых: документов у них не оказалось.
Кто они? Откуда пришли? Кем посланы?
Много возникало вопросов у жандармских и полицейских чинов, но ответов на них не находилось. Эсэсовский офицер орал на солдат, обзывал их кретинами и свиньями за то, что не могли живьем взять хотя бы одного партизана.
— Дегенераты! — неистовствовал взбешенный офицер, злобно глядя на растерянных солдат, которые считали, что они справились со своей задачей.
И вот кого-то осенило: собрать из близлежащих городов и сел полицейских, квартальных и всякого рода «своих людей» для опознания трупов. Потом согнать как можно больше жителей с округи для осмотра убитых. У близких или у родственников при виде погибших, мол, могут не выдержать нервы.
Установив личность хотя бы одного из партизан, легко будет, схватившись за эту ниточку, размотать весь клубок.
Около партизан была поставлена круглосуточная охрана.
Александр лежал на боку. Рука прижата к туловищу, другая, с зажатым в ладони комком земли, отброшена в сторону. Автоматной очередью выбит и второй глаз, на лице следы нескольких ран. Узнать его почти невозможно даже хорошо знавшим его людям.
Николай распростерся на спине, широко раскинув руки и ноги, как будто хотел защитить родную землю, хоть часть ее прикрыть своим телом. Глаза слегка открыты, рот словно тронут полуулыбкой. Лицо сурово и в то же время добродушно-насмешливо. На пальце левой руки кольцо от неразорвавшейся гранаты, на груди несколько бурых пятен…
Таким видели в последний раз Николая Абрамова, нашего боевого товарища, который своей борьбой и самой смертью, подтвердил безграничную преданность Отечеству. Комсомольца, не успевшего получить комсомольский билет. Влюбленного, но не поцеловавшего возлюбленную. Нежного сына. Чуткого друга.
Длинной вереницей потянулись люди к месту гибели партизан. Одних заставили идти. Другие шли сами в надежде узнать знакомых, а может быть, и близких. Третьих привозили на мотоциклах или автомашинах. Были просто любопытствующие…
Во всем этом многоликом человеческом потоке то там, то здесь появлялись шпики, переодетые полицейские и прочие фашистские прихвостни, которые вступали в разговоры, расспрашивали и провоцировали. Около погибших стояло несколько военных и гражданских. Они внимательно всматривались в каждого проходящего, изучающе заглядывали в глаза. Задавали, один и тот же вопрос:
— Не знаете?
Жители Новоселовки, знавшие Николая Абрамова, заявили, что они его ранее не видели. Даже доносчики промолчали: Николаем был убит немецкий унтер, а за это уничтожат все село.
Люди все шли и шли.
Многие, едва взглянув на убитых, бледнели и, сказав «нет», поспешно удалялись.
Некоторые долго смотрели в лица, словно пытаясь что-то вспомнить, и, разводя руками, уходили.
Кое-кому становилось дурно. Таких потом тщательно допрашивали и брали на заметку.
К Николаю подошел старик с реденькой седой бороденкой. Став на колени, он внимательно вгляделся в его лицо. Поднявшись, перекрестился. На него тотчас насели с вопросами:
— Что, дед, узнаешь? Говори: видел раньше? Кто он такой?
Дед прищурил красные, слезящиеся глаза, помялся с ноги на ногу и сказал скрипуче, врастяжку:
— Я колы пидходыв, так мэни здалося, що оцэй мэншый на мого внука скидаеться. Аж сэрцэ закололо. Тэж був бидовый хлопэць, отчаюга. И всэ якыйсь новый порядок лаяв. Колы наши танкы взымку наступалы, то онук мий подався кудысь, та й нэма до сых пир. А тут почув, що хлопцив якихось забыто. Дай, думаю, пиду та подывлюсь, може, онук додому йшов, та заблудыв, а його й прыстрэлылы. Алэ прыдывывсь гарнэнько и бачу, що цэ не онук, хоча вбытый, мабуть, тэж ув добрячий хлопчина…
— Ладно, ладно, иди, не мели дурным языком…
В общем потоке не спеша двигалась еще сравнительно молодая женщина. Из-под серого платка выбивались непослушные темно-русые волосы, которые она привычным движением руки возвращала на место. Ничто в ней не обращало на себя внимания: таких, как она, здесь проходило много. К ней пристроилась какая-то молодящаяся женщина с бегающими глазами и взбитыми над низким лбом волосами. Как бы между прочим она спросила:
— Небось, сынок пропал? Я, знаете, третий день брата не могу найти. Шалун, знаете, картежник да и на руку слаб, а немцы ведь с ворами вона как строги.
— Нет, я никого не ищу, мои все дома. Просто хочу партизана увидеть. Хоть мертвого.
— А я, знаете, не из любопытных. И если бы не брат, меня сюда и палкой не загнали бы.
Женщина в платке, не желая продолжать разговор, зашагала быстрей, обогнала несколько человек, смешалась с другими и пошла обычным шагом. Приблизившись к лежащим, она одинаково внимательно посмотрела на одного и другого. Потом сделала несколько шагов, снова глянула на лежащего ближе Николая и, подняв голову, прошла мимо жандармов и полицейских, сухо и твердо ответив:
— Не знаю. Раньше не видела.
Ни один мускул не дрогнул на ее лице, ни одна слеза не выкатилась из глаз, а то, что она побледнела, так это случалось со многими, с большинством женщин.
Не глядя под ноги, устремив широко открытые глаза в небо, не замечая людей, шла домой простая русская женщина и несла в сердце страшную безграничную боль невозвратимой потери. Непокорные волосы по-прежнему выбивались из-под платка, они уже стали белыми, седыми.
Невозможно постичь, какие чувства испытывала несчастная мать, увидев убитым своего любимого сына. Какие мысли промелькнули в голове, когда она глядела на изрешеченного пулями дорогого первенца.
Но что бы ни испытывала в эти страшные минуты мать Николая, она проявила удивительное мужество, стойкость и самообладание. Допусти она слабость, потеряй власть над собой — и трудно представить, какие тяжкие последствия могли наступить для ее семьи, для многих других семей. Напрягая всю свою волю, она дошла до дома, переступила порог и упала в беспамятстве.
…Два дня лежали погибшие. Никто не сказал, что знает их.
Хотя более десяти человек узнали Николая и потом пытались предупредить семью Абрамовых о гибели старшего сына и о стремлении немцев установить его личность.
Для оккупантов погибшие остались без имен. На третий день по указанию полиции местные жители закопали их возле сада.
После освобождения Константиновки от фашистских захватчиков останки погибших народных мстителей были перевезены в сквер пионеров и с почестями захоронены. На братской могиле установили небольшой временный обелиск с надписью: «Здесь похоронены партизаны».
…Куда бы ни забрасывала меня жизнь, какими бы заботами я ни был обременен, но каждый раз, приезжая в свой город, я первым долгом иду к братской могиле партизан. Иду поклониться праху боевых друзей, праху Николая Абрамова — моего самого лучшего друга, которому суждено было остаться вечно молодым…
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Года через три после войны я приехал из института домой на летние каникулы. В первое же утро пошел в сквер пионеров. Обелиск был побелен, звездочка на его шпиле покрашена в ярко-красный цвет, на могиле и прилегающих клумбах посажены цветы. Вокруг белый песок.
По аллее шла девушка в синем платье. Небольшого роста, худенькая. Светловолосая. Глаза голубые-голубые. Я внимательно посмотрел на нее — и во мне вдруг возникла неясная догадка.
«Где я ее видел? Откуда знаю? Кто такая? Почему так рано пришла в этот пустынный сквер?»
Девушка держала руки за спиной, но правая рука вдруг опустилась, в ней я увидел букетик цветов. Почти всех родственников похороненных здесь партизан я знал.
Не доходя до обелиска, она остановилась, посмотрела на меня, потом, сделав несколько нерешительных шагов, спросила:
— Скажите, пожалуйста, здесь похоронены партизаны?
— Да, здесь.
— А вы знали кого-нибудь из них?
— Знал всех.
Цветы задрожали в ее руке.
— Вы знали… вы были знакомы с Колей… с Николаем Абрамовым?
— Мы дружили с детства до его гибели….
Я смотрел на девушку и вдруг… совершенно неожиданно для самого себя сказал:
— Вас зовут Таней. Да, Таней?
— Откуда вы меня знаете? — она шагнула ко мне, удивленная и растерянная.
— Вы с Колей учились в ремесленном…
— Да.
— Коля говорил о вас… говорил, что вы очень похожи на Катю Куплевацкую… на нашу погибшую партизанку.
Девушка склонила голову. Подошла к холмику. Бережно положила цветы. Постояв, вернулась ко мне. Тихо попросила:
— Расскажите мне все о Коле…
Мы отошли от памятника. Выбирая, как мне казалось, самое главное, я рассказал Тане о друге детства и суровой юности. Не удержался, невольно поведал девушке о Колиной любви к ней…
— Послушайте, — вдруг сквозь слезы сказала она, — дайте мне… фотографию Коли. Я вас очень… очень прошу.
Ни я, ни другие наши товарищи тогда фотографии Николая не имели. Меня раньше других разоблачили немцы, в их руках оказалась моя фотография, ее размножили и разослали в полицейские пункты. После этого наше руководство приказало подпольщикам уничтожить свои фотографии.
Рассказав Тане об этом, я пообещал исполнить ее просьбу при первой же возможности.
Прошло несколько лет, и Виктору Парфимовичу удалось найти фотографию Николая у его соученика. Потом отыскалась еще одна. Копия с нее теперь висит в городском музее.
— Скажите, а подвиг Коли отмечен? — спросила Таня.
— Он посмертно награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Награда хранится у его родителей.
Таня, помолчав, сказала:
— Завтра я уезжаю. Разрешите, я одна пойду… проститься с ним.
* * *
После выхода в свет первого издания повести я получил много писем от бывших подпольщиков, их родственников, знакомых и незнакомых читателей. Они сообщали неизвестные для меня факты, советовали внести в повесть те или иные добавления и исправления, спрашивали о судьбах оставшихся в живых.
Многое, о чем они писали, мною учтено при подготовке настоящего издания, и я благодарен всем, кто участливо отнесся к повести, ее героям.
О некоторых письмах не могу умолчать.
«Я понимаю, что воевала вся страна, десятки миллионов людей, многие не возвратились домой. Наверное, каждая мать погибшего спрашивает у судьбы, почему именно ее сын сложил голову? Я не ропщу. Оплакивая сына, я в то же время горжусь, что дала жизнь человеку хорошему, смелому. Пусть рано поседела моя голова, пусть никогда не высохнут мои слезы, но душа полна гордости, что мой Коленька в трудную для страны годину был там, где полагается быть честному человеку. Спасибо тебе, мой сынок Боря, что нашел правдивые слова о своем друге, моем незабвенном мальчике. Если позволит здоровье, то приеду к тебе в гости и вместе отправимся на могилку к моему любимцу, поклонимся его праху и молча поплачем».
Так писала мне мать Николая Абрамова из Львова.
Получил я письма от жены В. К. Колоколова из Харькова, от его старшего сына-доктора технических наук Олега Васильевича Колоколова — из Днепропетровска.
Трогательную весточку прислал Борис Маяк, сын умершего несколько лет назад В. И. Маяка, нашего старшего товарища по борьбе. Тезка писал, что учится в седьмом классе на «4» и «5», но будет учиться еще лучше. Обещал быть достойным человеком, не посрамить светлой памяти отца.
Писали мне красные следопыты, пионеры отряда «Поиск» из многих школ Донецка, Днепропетровска, Кадиевки, Кировска, Константиновки, Часов Яра и других городов. Приглашали приехать в гости, просили ответить на вопросы.
На встречах со школьниками или студентами, молодыми рабочими или учащимися промышленных училищ, мне обязательно задают два вопроса: как сложилась судьба комсомольцев-подпольщиков после войны? Кем был бы Николай Абрамов, если бы не погиб?
Наш командир А. И. Стемплевский окончил техникум, работает диспетчером Константиновского завода стеклоизделий.
Политрук В. С. Дымарь — инвалид Великой Отечественной войны, окончил университет, директор школы в Днепропетровске.
Комсорг В. И. Яковлева все послевоенные годы работает врачом в своем родном городе.
В. С. Залогина трудится в Министерстве здравоохранения УССР.
Е. С. Бурлай заведует кафедрой английского языка Волгоградского педагогического института.
В. А. Соловьева — инженер управления лесхозов и заповедников Абхазской АССР. Живет в городе Сухуми.
В. И. Парфимович работает на химическом заводе в Константиновке. Там же трудится и В. Я. Ковальчук, он окончил техникум, избран депутатом городского Совета народных депутатов.
А. Ф. Онипченко работает начальником смены на заводе «Вторчермет» в городе Константиновке.
И. Н. Иванченко был кадровым военным, сейчас в отставке. Живет в городе Белгород-Днестровский.
П. Р. Максимов — строитель, живет и работает в Часов Яре.
Сын старого большевика В. И. Прищепа по призыву нашей партии уехал на целинные земли, где трудится и в настоящее время.
Т. Е. Сегеда многие годы работала на партийной и советской работе, сейчас на пенсии. Живет в г. Дружковке.
Р. И. Мирошниченко после войны была на комсомольской работе в западных областях Украины. Ныне работник Константиновского райкома Компартии Украины.
М. В. Шулишова работала врачом в Киеве, сейчас на пенсии. Живет в столице Украины.
П. Ю. Сатаров долгие годы работал агрономом, сейчас на заслуженном отдыхе. Живет в Жданове.
X. Н. Мурадян — пенсионер, живет в городе Часов Яре.
Н. Д. Шейко — офицер советской милиции, работает в Константиновском городском отделе внутренних дел.
Надя Арепьева и Вера Парфимович живут и работают в Москве.
Все члены нашей подпольной организации удостоены правительственных наград. Большинство из них — члены КПСС.
Кем мог стать Николай Абрамов? Рабочим, техником, инженером, ученым? Не знаю… Но я твердо убежден: он был бы честным, активным и, безусловно, полезным обществу человеком. Николай нашел бы применение своему трудолюбию, доброжелательству, и, конечно же, не искал бы легких путей в жизни. И непременно был бы коммунистом.
Николай Абрамов прожил недолгую, но яркую жизнь. Он был настоящим патриотом, честным человеком и прекрасным товарищем. Константиновны чтут его память: трудящиеся завода стеклоизделий имени 13 расстрелянных рабочих (бывшего бутылочного) зачислили Николая Абрамова в почетные рабочие своего коллектива, выполняют и перевыполняют производственные планы под девизом: «За себя и за того парня».
На братской могиле подпольщиков и партизан Константиновки установлена скульптура женщины, возлагающей цветы. Это мать Родина славит своих храбрых сынов, отдавших жизнь во имя ее свободы и величия.
Бессмертен подвиг советского народа, отстоявшего в войне честь и независимость социалистического Отечества.
Уходят годы, уходят люди. Время выветривает из памяти образы, события, факты. Мы говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто». Да, безымянных героев не бывает. Даже у неизвестного солдата есть имя — сын Отечества. Отдавшие жизнь во имя Отчизны достойны памяти потомков, и каждый, кому есть что сказать о погибших друзьях, кто может это сделать, не должен молчать.



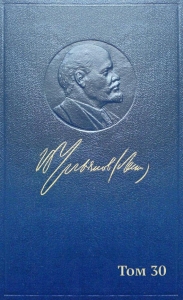
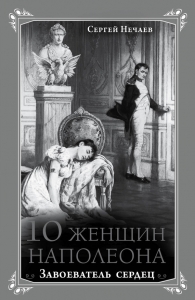
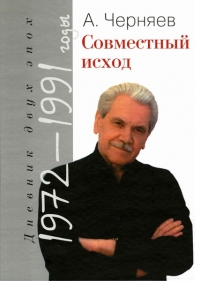
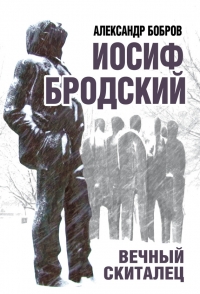
Комментарии к книге «Опознать отказались», Борис Алексеевич Мезенцев
Всего 0 комментариев