В этих записках я хотел поделиться не только опытом, но и рассказать о собственных ошибках.
Капитан Лысенко
Осеннее утро. Хмурое небо. Лужи подернулись тонкой коркой льда. Батальон в строевом ритме шагает по улице просыпающегося города.
Только что из теплой постели, наспех прикрывая плечи, женщины смотрят из настежь распахнутых окон. Они встревожены, и в их глазах удивление. Чему удивляться? Я оборачиваюсь: идут стройные колонны, по четыре в ряд, рота за ротой. Нас — шестьсот. Между колоннами, взапряжку по два, по четыре, цокая копытами по мостовой, тридцать шесть пар коней тянут орудия, зарядные ящики, двуколки, повозки. Строй замыкает широкая санитарная линейка с облепленной грязью эмблемой Красного Креста на ящике.
Загорелые, сосредоточенные, с воспаленными от бессонницы глазами, потемневшими от пыли бровями, обветренными лицами, с потрескавшимися губами и поросшими жесткой щетиной щеками идут люди в строю. На плечах — русские винтовки. Серые от утреннего морозца штыки лесом колышутся над колонной. Шаги не дробят, а тяжело, равномерно отчеканивают по мостовой.
Кажется, под тяжестью строевых шагов растянувшейся колонны прогибается улица, качаются дома... Идут сурово. Идут здорово!
— Запевай! — командую я.
Идущий рядом Толстунов дергает меня за рукав и шепчет:
— Что ты, комбат?
— Запевай! — повторяю я, как бы отвечая ему.
— За-пе-вай! — повторяют команду ротные командиры, и слышится подсчет:
— Ать, два! Ать, два...
Слушай рабочий, война началася, Бросай свое дело, в поход собирайся...— простуженно, хрипло начинает запевала первой роты, и... его голос вдруг срывает последнюю ноту куплета. Тут же, не давая умереть сорвавшемуся звуку, подхватывает басом его сосед:
Рвутся снаряды, трещат пулеметы, Но их не боятся советские роты!...Он поет, держа ритм песни под левую ногу.
— Вот это голосище! — говорит мне Толстунов улыбаясь. — Прямо как Михайлов.
Строй подхватывает припев:
Смело мы в бой пойдем за власть Советов, И как один умрем в борьбе за это.Городок, недавно казавшийся мертвым, от эха многоголосого припева быстро оживает. Люди выходят на улицу, угрюмо смотрят на нас. Некоторые, удостоив нас коротким взглядом, отворачиваются, огорченные и подавленные.
— Как неприятно! — шепчет Толстунов. В его голосе чувствуется боль и обида.
— Что ж, товарищ старший политрук, им же тяжело смотреть на нас, отступающих, — отвечает ему Бозжанов. — Ведь отсюда до Москвы — рукой подать.
Высыпавшая на улицу детвора сначала робко прячется за плачущих матерей, а потом осмеливается, выбегает на середину улицы и целой ватагой бежит с нами рядом, подражая солдатам, шагающим в строю.
Колонна идет, колонна поет...
Мы проходим мимо открытых настежь дверей магазинов с наваленными на тротуаре осколками битой посуды, кусками тканей, готовых платьев... Проходим мимо свежих развалин... Проходим мимо пепелища сгоревшего домика, мимо сорванных и висящих на последнем гвозде вывесок...
Мы идем по улице, мы поем:
Смело, мы в бой пойдем за власть Советов...Эта октябрьская песня 1917 года через четверть века, в осеннее утро октября 1941 года, звучит гимном, и ее последние слова: «И как один умрем в борьбе за это» — повторяются поющими как клятва...
— Откуда к ним пришла эта старая песня? — спрашиваю политрука Бозжанова.
— Вид города, вид населения, товарищ комбат, — кратко отвечает он, не вдаваясь в подробности.
От группы женщин, стоящих у крыльца маленького домика, построенного в екатерининском стиле — с арочками, балкончиками, нишами, маленькими оконцами, отделилась седая женщина. Она шла прямо к нам. Ее старомодное платье с кружевами на воротнике и рукавах потеряло былую свежесть. С ее плеч сползал теплый пуховый платок. Она мелкими шажками подошла к нам, идущим в голове колонны, и, семеня рядом с нами, обратилась почему-то к Бозжанову.
— Миленькие, родненькие, — задрожал ее голос от подступивших слез, — откуда вы идете, родимые?
— С войны, мамаша, с войны идем, мамаша, — ответил ей Джалмухаммет.
— А немец скоро придет сюда? — спросила она.
— Завтра-послезавтра, мамаша, но мы его здесь встретим.
— Вчерась раненько он здесь бомбил, — она указала на разрушенные дома, — один раз аж в церковь угодил. Безбожники проклятые, басурманы, даже церковь не пожалели! Бомбят, бомбят...
— Откуда знать старухе, что большинство идущих — потомки мусульман? — сказал я по-казахски Толстунову.
Услыша незнакомый говор, старуха немного отпрянула от нас, пристально и вопросительно посмотрела на меня и в нерешительности спросила:
— А вы-то наши?
— Конечно, ваши, мамаша. А чьи же, думаете? — смеясь, ответил ей Бозжанов.
— Наши черномазые казахи и киргизы, — шутил Толстунов, — да и русских тут немало, мамаша. Разве не видите? Своих не узнаете?
— Да сохранит вас бог, наши защитники, — сказала старуха и, отстав от колонны, долго провожала нас глазами.
Мы с песней идем по главной улице города. Имя этого города — Волоколамск.
Когда, оставив позади окраину города, мы подходили к пригородной деревне Возмище, посыпал дождь.
Впереди, во дворах деревни, виднеются люди в военной форме. Они тоже смотрят на нас. Мы идем...
Возле чисто выбеленного домика с дощатым забором кто-то меня окликнул. Я обернулся. Ко мне бежал адъютант генерала Панфилова.
— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант, — запыхавшись, с радостной улыбкой подбежал молодой розовощекий лейтенант. — Вас генерал... товарищ старший лейтенант.
Поручив начальнику штаба Рахимову вести дальше батальон, я остановился и отошел в сторону. Роты по-прежнему, как и в городе, шли стройно за своими командирами., Дождь моросил бойцам в лицо. Они не защищались, шли с поднятой головой. На мокрых лицах людей было выражено сознание выполненного долга, а в глазах мелькал еле уловимый блеск радости путника, вернувшегося издалека к своим близким. Да, мы прошли сквозь бои, пробираясь по тылам противника к своим товарищам, к нашим. Мы пришли, мы совершили то, что еще прошлой ночью казалось несбыточной мечтой. Все пережитое нами за эти дни теперь на самом деле было позади. Проходящие в строю бойцы и командиры поздравляли меня молчаливыми взглядами, я поздравлял их. Они прощали мне мои окрики, я им прощал попытки неповиновения. Нам казалось теперь все смешным: мне — мои окрики, им — их обиды.
— Сюда, сюда, товарищ старший лейтенант, — заботливо указывал мне калитку адъютант.
Пройдя через сени, я открыл указанную адъютантом низкую дверь. Переступив порог, я было вытянулся, чтобы по форме доложить, но генерал Панфилов не дал и рта раскрыть. Он быстрым движением шагнул мне навстречу, взял мою руку обеими руками и, тепло, по-отечески пожимая ее, знакомым тихим голосом сказал:
— Смотрю в окно, войска идут. Откуда, думаю, столько народу? Вдруг в голове колонны узнал вас, — он отпустил руку и, провожая меня к столу, продолжал: — Признаться, сначала не верил своим глазам. Вы меня очень обрадовали, товарищ Момыш-улы, очень обрадовали... Хорошо, что пробились... — Взволнованный генерал прервал свою речь и предложил мне отдохнуть.
Я был смущен приветливой речью генерала, его радостью и отеческой лаской после долгой и трудной боевой разлуки. Для меня все это было неожиданно. Я шел в эти дни в тревоге, думал, что генерал с меня взыщет за то, что я потерял с ним связь в дни боев, потерял связь с соседями, со своим командиром полка, вел бои в одиночку, в отрыве от других, отстал в тылу у врага. Несколько раз в своем воображении я представлял нашу встречу совершенно иной. Мне казалось, что генерал, узнав о нашем прибытии, вообще не удостоит меня встречи, а просто прикажет майору Елину, моему командиру полка, отстранить меня, быть может, и разжаловать. А если вызовет к себе... Я не думал, не допускал мысли, что генерал будет кричать на меня. Никогда мне не доводилось видеть его в запальчивости. Нахмурив брови, чуть громче и отчетливее, нежели обычно, сделает мне замечание, и его слова будут тяжелее окриков. Он скажет, думалось мне:
«Вы сами, товарищ старший лейтенант, напрашивались на батальон. Я вас предупреждал, что командовать батальоном вам будет не легко. Теперь вы убедились, товарищ старший лейтенант, что батальон — это не батарея. Тут ваше «правее ноль-ноль, левее ноль-ноль» гораздо шире. Тут тактика, батенька, а не «четыре снаряда — беглый огонь»... Я вам поверил, а вы оказались неспособным командиром. Вы испортили дело: вывели из боевого порядка целый батальон, потеряли связь, остались в тылу партизанить. У меня, товарищ старший лейтенант, не партизанский отряд, а дивизия регулярной армии. Как командир батальона вы мне больше не нужны».
Так я представлял нашу встречу и последние пять суток с боязнью спешил на такой суд. Но все вышло по-иному. Генерал весь сиял радостной улыбкой. Я не верил, мне надо было разобраться, что происходит, но тут я услышал снова голос генерала:
— Садитесь, товарищ Момыш-улы, — указал он мне на стул, стоящий у стола, покрытого топографической картой. — Садитесь, пожалуйста. Чаю не хотите? — Не ожидая ответа, он приоткрыл дверь и кому-то приказал принести чаю.
За время, что я его не видел, генерал, кажется, похудел, сделался еще меньше, сутулее. Ворот его кителя стал словно на два номера больше, брюки с лампасами висели, как шаровары. Лицо загорело, морщины углубились, на коротко остриженной голове ежилась седина, нос и подбородок немного заострились, всегда аккуратно подстриженные квадратиком усы торчали пучком, видимо, их в эти дни не касались ножницы. Генерал впервые, показался мне стариком.
Тут я вспомнил своего покойного отца, такого же малорослого, сутулого, седого. Вспомнил наши с. ним последние встречи в 1938 году, когда я через сопки Приморья, леса Уссури, пересекая полоску вечной мерзлоты у Сковородина, Волочаевки, ленту Амура, через шестьдесят тоннелей на берегу Байкала, через горы и равнины Сибири пробрался к родному своему аулу у подножия Киргизского Ала-Тау, чтобы повидаться с самым родным мне человеком — со старым моим отцом. Вспомнил, как взволнованно и ласково он встретил меня, брал мои руки в свои худые маленькие ладони, долго не отпускал, жал их, гладил, целовал, нюхал, прикладывал к своим блестевшим от волнения глазам. Вспомнил, как он дрожащим голосом, не спрашивая у меня ничего, говорил нашим домашним: «Скорей поставьте самовар, пошлите в отару за бараном, стелите мягче сиденье», — как будто я ехал голодным и «сначала надо накормить проголодавшегося ребенка». Да, действительно, я каждый год приезжал из Дальневосточного края домой в отпуск, изголодавшись по ласкам отца, по старомодному пузатому самовару; я приезжал, чтобы есть мед отцовской ласки и пить чай из вкусной чистой воды нашего родника, из того источника, где впервые меня купали, меня поили...
— Садитесь, товарищ Момыш-улы, — прервал мои воспоминания генерал. — Садитесь и рассказывайте. Много людей потеряли? — Тут он как бы опомнился, забеспокоился, его брови круто сдвинулись. Потом он виновато перебил себя: — Простите, пожалуйста. Как на кухне — продукты у вас есть?
Я ответил, что двое суток в наших походных кухнях ничего не варилось. Генерал живо встал со своего места, поднял телефонную трубку и, соединившись с абонентом, приказал:
— Велите немедленно накормить батальон Момыш-улы горячей пищей и устройте бойцам отдых в домах.
Генерал вернулся на свое место, сел против меня и, протянув открытый портсигар, повторил свой вопрос:
— Много людей потеряли? Я доложил о потерях.
— А раненых вывезли?
— Они здесь, товарищ генерал, — ответил я.
Генерал поднял трубку и приказал начальнику штаба доложить в штаб армии о том, что мой батальон прибыл, пробившись из тыла противника.
— Так и доложите, Иван Иванович, что батальон полноценный, что он не пропал, в Волоколамск прибыл организованно, с артиллерией и обозом.
Эти слова генерала успокоили меня, и я осмелился перебить его:
— Товарищ генерал, из шестисот человек девяносто не наши, мы их подобрали по дороге.
Генерал сделал знак, чтобы я не мешал ему слушать, и я неловко умолк. Он стоял и слушал по телефону доклад начальника штаба, поглядывая на развернутую карту.
— Да, мм... да... Нет, нет, нет! — вдруг запротестовал он. — Я не думаю, я не верю этому спокойствию. Запросите еще раз, Иван Иванович, уточните... Перед бурей всегда тихо. Пошлите к нам офицера, да... да, да, капитана Гофмана или майора Старикова...
Положив трубку, генерал склонился над картой, взял карандаш, неторопливо сделал несколько пометок. Брови у него снова сдвинулись, он нахмурился и концом карандаша постучал о стол, повторяя задумчиво:
— Да, да... так, так...
Затем, спохватившись, он взглянул на меня: — Что вы хотели сказать, товарищ Момыш-улы? Я рассказал о тех девяноста бойцах и сержантах, которые к нам поодиночке или группами присоединились по дороге, о том, что некоторые из них идут от самой границы, что я их вел почти под конвоем, отдельной колонной. В этом месте моего доклада генерал недовольно нахмурил брови.
— Я так не думаю, товарищ Момыш-улы, как вы, — сказал он серьезно. — Кто такие бойцы, в одиночку пробивающиеся из окружения? Это наши люди, части которых разбиты, или же они отстали от своего полка. И вот он один, без командира, без товарищей, предоставленный самому себе, беззащитный, голодный пробирался к своим. Эти люди, товарищ Момыш-улы, люди честные, преданные, они идут к нам, они не хотят оставаться с врагом. Одно то, что они пробираются к своим с лишениями, риском, страданиями, — одно это уже говорит о многом. Они — наши люди.
Я устыдился своих резких слов об этих солдатах и сержантах при докладе генералу и с болью в душе вспомнил о своих действиях по отношению к ним во время похода. Я вспомнил, что, когда я приказал построить их отдельной колонной и приставить к ним несколько бойцов из нашего батальона, один высокий обросший детина в форме пограничника запротестовал и бросил мне в лицо: «Что мы, товарищ старший лейтенант, пленные, что ли?» Я хотел было на него крикнуть, но другой, переодетый в гражданское платье, добродушно сказал ему:
«Ничего, Иван Митрофанович, слава богу, что хоть к своим в плен попали».
«Ладно, — согласился пограничник, — построимся, товарищ старший лейтенант, через фронт перейдем, нам оружие дадут, и снова в строю будем воевать». «Где твое оружие?» — крикнул я на него. «Вот, — сказал он, вытаскивая из-за пазухи револьвер, и, вертя его на ладони, добавил: — Только два патрончика осталось, товарищ старший лейтенант, месяц берегу на всякий случай. Думалось, что, в случае чего, один — для немца, другой — для себя».
Он погладил револьвер и снова засунул его за пазуху. Об этом эпизоде я вначале забыл доложить генералу, а теперь просто утаил.
— Я к ним, товарищ Момыш-улы, как старый солдат, отношусь с уважением, за это время со многими встречался, — продолжал генерал. — Это люди волевые, сильные люди. Ведь, представьте себе, они тысячу раз имели возможность сдаться в плен или просто остаться на оккупированной территории, но они идут, вдосталь терпя горе; они идут, чтобы стать снова в строй, они не от войны бегут, а к войне идут, потому что в сердце своем верят в нашу победу. Вы сделали правильно, что не дали им разбрестись по деревням, собрали их и привели.
Генерал сделал паузу, как бы обдумывая сказанное. Признаться, до меня не сразу дошли убедительные слова генерала, я был ослеплен обидой, что из-за этих девяноста человек получил от генерала весьма деликатный и тем более тяжелый для меня выговор.
— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — сказал генерал.
Его «рассказывайте» показалось мне деликатным «аудиенция заканчивается». Я и сам чувствовал, что злоупотребил вниманием очень занятого человека. Не желая больше отнимать у командира дивизии времени и отвлекать его от дел, я решил доложить как можно короче. Мне думалось, что здесь, на окраине города, на улицах которого не сегодня — завтра разыграются тяжелые бои, генералу, естественно, не до меня.
— Двадцать третьего октября вечером... — начал было я, перескочив через неделю.
— Нет, батенька, погодите вы с вашим двадцать третьим, — перебил меня генерал. — Начинайте от Житахи и Синькова, — вот они, — показал он эти пункты на карте. — Помните нашу спираль-пружину? — спросил он меня. — Как она действовала у вас? Вот с этого и начинайте.
Я кратко доложил ему о боях наших взводов, выставленных далеко вперед, под командой лейтенантов Донских и Брудного, и об их подвигах.
Донских, который в бою получил девять ранений и остался в строю, генерал приказал мне представить к награде и просил написать письмо его родным. Про Брудного генерал слушал молча, но неспокойно. Он вынул из кармана часы и, не взглянув на них, стал гладить большим пальцем правой руки стекло. Этот жест ничего хорошего не предвещал. Я решил доложить подробно обо всем, что случилось с этим лейтенантом. Рассказав, я сделал паузу. Генерал тоже молчал. Он положил часы на стол, подвинулся и, как бы разговаривая сам с собой, сказал:
— Есть понятие — требовательность... Есть понятие — жестокость. Требовательность — закон. А жестокость беззаконие... Впрочем... — сказал он, растягивая это слово и глядя на меня прищуренными глазами. Я не отвел глаз. — Впрочем, — повторил он, — вы отчасти правы... — Не досказав, в чем я прав, он с минуту помолчал, обдумывая что-то свое. Взяв часы со стола и снова потерев стекло, он продолжал свою мысль: — Вы знаете, что война часто путает эти два понятия, и это закономерно. Вы от Брудного и от девяноста окруженцев справедливо и настойчиво требовали выполнения долга. Настойчивость в военное время иногда стирает грань между требовательностью и жестокостью... — Он подчеркнул эти слова. — Конечно, на войне некогда голосовать, излишне сердобольствовать — война требует, бой требует решительных действий... Но надо иметь чувство меры.
— Товарищ генерал, в чем же я неправ? — не выдержал я.
— Вы были, товарищ Момыш-улы, правы, когда приняли решение, но вы оказались неправы, когда ваше решение, ваша воля командира оказались так благополучно выполненными. Брудный, слов нет, был виноват перед вами, а когда вы его прогнали, и он в отчаянии совершил подвиг, искупил с лихвой свою вину, не ушел, а вернулся к вам же, — теперь вы оказались перед ним виноватым, вы оказались к нему жестоким. А если бы он, выполняя ваше «иди к немцам, ты мне не нужен» погиб или пошел на путь измены Родине, тогда что?..
— Я бы всю жизнь мучился, товарищ генерал, что толкнул человека на гибель или на преступление.
— Вот в том-то и дело, товарищ Момыш-улы, в том-то и дело. Хорошо, что вы сами это говорите.
— Вы же мне подсказали, товарищ генерал.
— Подсказать-то можно, а понять, осознать, что подсказывают, гораздо труднее... А вот многие из наших людей, не желая зла, перегибают палку — и баста. Вы тут немного перегнули свою командирскую власть. Я вам рекомендую Брудного восстановить и реабилитировать его перед товарищами. Вообще, в дальнейшем без особой надобности не перемещайте людей. Все-таки воин привыкает к своему командиру, к своим товарищам, к своему полку и на войне дорожит всем этим, как родной семьей. Брудный вернулся потому, что он к вам привык, — тут он ткнул в меня указательным пальцем, и я невольно отпрянул назад. — Он на вас, безусловно, обижен, но вы ему дороги.
— И он мне очень дорог, товарищ генерал.
— Вот в этом-то и дело, что вы полюбили его.
— Конечно, товарищ генерал, я немного превысил свои права.
— Не немного, а многовато. Вот попробуйте без превышения власти командовать. У меня-то власти больше, чем у вас, но я пока никого не прогнал из дивизии, — этими словами генерал окончательно выразил свой приговор мне за Брудного.
— Виноват, товарищ генерал.
— Не виноваты — горячеваты вы, товарищ Момыш-улы, горячеваты. Ну, рассказывайте дальше.
— Дальше, товарищ генерал, дело известное...
— Не бойтесь, я же вас пока ни разу не ругал. — Хитрая усмешка пробежала по его губам.
— Конечно, нет, — ответил я, тоже с иронией. Мы оба засмеялись.
— Расскажите, как воевали, чему научились? Это самое важное для нас, товарищ Момыш-улы.
Я рассказал ему о первых боях под Новлянском, Васильевом. Генерал уточнял отдельные детали обстановки вопросами, вносил исправления на своей рабочей карте и вдруг, отложив карандаш, спросил меня, знал ли я капитана Лысенко.
Я знал капитана Лысенко еще в Алма-Ате и спросил генерала, что с ним случилось.
— Он со своим батальоном героически погиб, — грустно ответил генерал.
Тут вошел начальник оперативного отдела капитан Гофман, низкого роста, с коротко подстриженной курчавой шевелюрой, очень моложавым и добрым лицом. Я встал. Мы поздоровались.
— Да, товарищ Гофман, нашего полку прибыло, — сказал генерал. — Вот сижу и слушаю его, уточняю и. поправляю наши картинки. — Он указал на карту. — Товарищ Момыш-улы — живой свидетель. Мы тут с вами нарисовали не то, иногда не то докладывали начальству.
— Я вам, товарищ генерал, всегда докладывал лишь наши предположения, — смутившись, ответил Гофман.
— Конечно, — сказал генерал, — многие данные совпадают, но некоторые и не совпадают... Ну, что у вас? — спросил он Гофмана.
— Доложить, товарищ генерал? — Гофман глазами показал на черную папку, которую он держал в руках.
— Ах, простите, — сказал генерал, обращаясь ко мне, — мы до того увлеклись, что про ваш обед, вернее завтрак, забыли. Идите, товарищ Момыш-улы, поешьте. Он указал на дверь соседней комнаты. — А мы пока с товарищем Гофманом о делах поговорим.
Я сидел за низеньким круглым столиком. Повар подал тарелку щей, заправленных сметаной.
— Стопочку не желаете ли, товарищ старший лейтенант? — заботливо спросил меня адъютант.
В соседней комнате слышался голос Гофмана, докладывавшего генералу. Я не прислушивался к словам. Машинально хлебая щи, я думал о капитане Лысенко. Помню, он прибыл в штаб в первые дни формирования нашей дивизии. Как-то я выходил от генерала Панфилова. В приемной сидел выхоленный кавалерист, с гладкой прической, лихо закрученными черными усами. Он мне напомнил портрет Чапаева без папахи. Кавалерист сидел на стуле вразвалку, расставив маленькие ноги. На задниках щеголеватых сапог блестели аккуратно подогнанные широкие шпоры. Я на ходу отдал ему честь и направился к выходу.
— Слушай, старший лейтенант! — Он остановил меня с кавалерийской фамильярностью, подошел и, взяв меня за локоть, как будто мы с ним давно были знакомы, тихо спросил: — Как он?
— Вы о ком? — не понял я.
— Ты как думаешь, к нему без доклада можно войти? — Он указал глазами на дверь кабинета, но оттуда выглянула голова генерала. Капитан вытянулся во фронт, звякнул шпорами.
— Вы ко мне, товарищ капитан?
— Так точно, к вам, товарищ генерал.
— Войдите.
Звеня шпорами, капитан направился в кабинет. У самой двери он остановился и, знаком подозвав меня, сказал:
— Ты меня подожди, — и вошел к генералу.
«Что за привычка у этих кавалеристов щеголять и со всеми быть на «ты?» — думал я, но остался ждать его. Через десять-пятнадцать минут капитан вышел недовольный и, подойдя ко мне, сказал:
— Ну, пойдем.
Я был удивлен его обращением и подумал, что он, видно, хочет меня сделать своим адъютантом.
— Понимаешь, — сказал он сдавленным голосом, — в пехоту командиром батальона посылает.
— Ну что ж, хорошо, товарищ капитан, я сам напросился в пехоту.
Он удивленно посмотрел на меня и прошипел:
— Ты в своем уме был или нет?
— В своем, — ответил я.
Он молчал. Мы шли в тени по тротуару.
— Знаешь что, — сказал он, — я в этих пузолазовских делах ничего не понимаю... Готовился, десять лет в стратегической коннице служил, высшую кавалерийскую школу кончил... Что же, я все это делал для того, чтобы в пузолазы идти?!
— Не в пузолазы, а в пехоту.
— Ишь ты, какой патриот пехотинский стал! — усмехнулся капитан и, нервно погладив усы, спросил: — Ты лучше скажи мне, где тут у вас можно пожрать?
— Сена или комбикорма?
— Ты, вижу, парень, в фуражах разбираешься... — И мы оба рассмеялись.
Так состоялось наше знакомство. С этого дня мы с ним подружились. Впоследствии на учениях я его часто дразнил:
— Ну как, капитан, в пузолазовских делах разобрался?
Он весело отвечал:
— Малость начинаю кумекать.
Его однополчане рассказывали мне, что от своих он требовал кавалерийского щегольства и быстроты коня, что он вместо «вещмешок» часто говорил «переметная сума», что однажды в походе вместо «становись» он скомандовал «по коням»...
Меня позвал генерал и, предлагая сесть, спросил:
— Ну как, подкрепились?
Я поблагодарил.
— Я вам начал говорить о капитане Лысенко. Ему и его батальону мы многим обязаны.
Генерал подвинул карту и рассказал мне подробности боев. Двадцать первого октября, после двухдневных упорных боев, немцы, по пятам преследуя полк Капрова, наткнулись на узел, обороняемый батальоном капитана Лысенко. Неоднократные попытки передовых отрядов немцев с ходу преодолеть этот узел не дали положительных результатов. Батальон Лысенко осаживал противника. Рассказывая об этом, генерал сказал:
— Должен признаться, товарищ Момыш-улы, я переоценил силы Лысенко и злоупотребил старанием бойцов. — Генерал грустно опустил седую голову над картой, как бы чтя память погибших. — И это была моя роковая ошибка. Я держал пружину слишком натянутой, зная, что она вот-вот лопнет...
Далее генерал, показывая на карте, рассказал о действиях батальона капитана Лысенко. По рассказам генерала и по нанесенной на карту обстановке я представляю бой батальона капитана Лысенко так.
Перед Осташовским мостом стоят несколько подбитых немецких танков. В кювете шоссе валяются мотоциклы, лежат трупы в мышино-серых шинелях. Это передовой отряд немцев, стремившийся с ходу захватить Осташовский мост и обеспечить переправу своим главным силам через реку Рузу.
Лысенко — туго подпоясанный, в кавалерийской венгерке, в ушанке набекрень — на своем наблюдательном пункте, под кирпичным домом на окраине Осташова, по другую сторону моста. Он смотрит в бинокль. Перед его глазами — лафеты двух орудий из кургановского артиллерийского полка, хоботы двух станковых пулеметов на площадке. В траншеях мелькают каски перебегающих бойцов. Кругом оглушающие взрывы вражеских снарядов. Немецкий танк идет прямо на мост, за ним уступом — еще два, поддерживая первый огнем с коротких остановок.
— Почему молчат? — кричит Лысенко на входящего адъютанта.
— Товарищ капитан, — отвечает запыхавшийся адъютант, — немцы обходят справа и слева...
— Не докладывать, а бить надо! — кричит Лысенко и, не слушая адъютанта, выбегает из блиндажа. — Эй, вы! — кричит капитан на артиллеристов, взбегая на бруствер окопа. — Что же вы не стреляете?!
Орудийный расчет выскакивает из ниши, и сержант командует:
— По головному!
— Есть, — по головному! — отвечает наводчик.
Выстрел оглушает Лысенко, воздушная волна чуть не сбивает его с ног... Блеск под башней головного танка. Танк заволакивается дымом. Рядом затрещал пулемет и вдруг замолк. Лысенко оборачивается и видит наводчика, безжизненно опустившего голову на рукоятку пулемета. Одним рывком он бросается на площадку и, отодвинув мертвого пулеметчика, ложится на его место. Стукнув по рукоятке замка, кричит второму номеру:
— Подавай!
Сквозь прорезь прицела Лысенко видит перебегающие немецкие цепи... Он нажимает на спуск. Пулемет застрекотал.
— Так, так, так! — поддакивает Лысенко пулемету и косит вражескую цепь длинными очередями, рассеивая огневой ливень по фронту и в глубину...
Ночь. Вокруг выстрелы и разрывы снарядов. Лысенко сидит на табурете без шапки, с перевязанной головой. Окровавленная венгерка расстегнута.
— Нас окружили, — говорит он сидящим на полу и на скамейке командирам. — Вторые сутки немец сжимает кольцо. — Стукнув кулаком по колену, гневно произносит: — Нет, не удастся им это! Пока жив, ни моста, ни Осташова не отдам. — Его голос устало падает. — Живыми, хлопцы, — ни моста, ни Осташова... Вы понимаете меня?
В это время открывается дверь и, к удивлению всех, входит немецкий офицер с белой повязкой на рукаве. Вытянувшись во фронт, приложив руку к козырьку, он спрашивает на ломаном русском языке:
— Кто здесь есть командир?
— Я, — вставая, отвечает Лысенко.
Немец улыбается, снова прикладывает руку к головному убору.
— Очень, очень приятно, — говорит он. — Я есть парламентер, майор Кендыль.
— Капитан Лысенко.
— Мы с вами знакомы, господин капитан, — говорит немец.
— Как же, господин майор, — иронически улыбаясь в усы, отвечает Лысенко, — слава богу, наша дружба уже четвертые сутки тянется.
— О, дружба! — хохочет немец.
— Чем могу быть полезен, господин майор?
— О, очень многим, очень многим, господин капитан.
— Слушаю вас, господин майор.
— Вам, господин капитан, сопротивляться больше бесполезно.
— Вы так думаете?
— Это есть факт, господин капитан. Вы есть один, нас много. Вашей дивизии нет, мы заняли Волоколамск, завтра возьмем Москву. Мой генерал предлагает вам сдаться. Он обещает вам хорошие условия и пост...
— Передайте вашему генералу, — гневно прерывает Лысенко, — что мы здесь приняли бой не для того, чтобы сдаться. Хорошие условия и пост пусть он предлагает предателям, а я и мои бойцы не предатели. Мы, — оглядывая сидящих командиров, твердо продолжал он, — мы не сдадимся. Мы будем драться!
— Безумно, безумно, господин капитан, как можно...
— Нет, господин майор, по-нашему, разумно драться... — Он поворачивается и приказывает лейтенанту: — Проводите господина майора через нашу линию.
Немец откозырнул.
— Прощайте, господин капитан, ауф видерзейн!
Когда за немцем закрывается дверь, Лысенко, обращаясь к сидящим командирам, повторяет свои слова:
— Ни моста, ни Осташова, пока мы живы, товарищи!
— Ни моста, ни Осташова! — как клятву, повторяют несколько голосов в темных углах блиндажа...
* * *
— Двадцать второго октября немцы окружили батальон Лысенко плотным кольцом, — продолжал свой рассказ генерал, показывая острием карандаша синее кольцо неправильной формы на карте вокруг Осташова. — Я тогда только хватился, но было уже поздно...
Командир полка полковник Капров после тяжелых отступательных боев в районе совхоза «Булычево», на промежуточных рубежах в районе деревень Игнатово, Федосино, Княжево и других не сумел, вернее, не имел возможности своевременно оказать помощь капитану Лысенко.
Генерал Панфилов, узнав, что батальон окружен, бросил на выручку то, что у него было под рукой, сформировав отряд в сто человек под командой лейтенанта Каюма Гарипова. Гарипов не смог прорваться к Осташову. Отряд гранатами подбил семь вражеских танков и почти весь погиб в рукопашном бою. Из отряда вернулось только шесть человек раненых.
Я вспомнил лейтенанта Гарипова — командира роты третьего батальона нашего Талгарского полка. На него я обратил внимание еще на берегу горной речушки Талгарки, на полковом стрельбище. Этот смуглый татарин, среднего роста, в неподогнанном новом обмундировании, неловко заложив большой палец за плечевой ремень портупеи, ходил на огневом рубеже, щурясь от яркого солнца. Пистолет в кобуре оттягивал слабо затянутый офицерский ремень. На нем все было новое. На нем все сияло. Но военный костюм был для него до того непривычным, что Гарипов, казалось, не знал, что делать в своем одеянии. Своим людям он приказывал неуверенно, не командовал ими, а как бы уговаривал, приглашая жестом руки, вступал с подчиненными в долгие разговоры, убеждая их в чем-то. Смена из его роты задерживала нам стрельбу.
— Товарищ лейтенант, ко мне! — приказал я ему.
Подойдя ко мне, Гарипов неловко приложил руку к съехавшей на затылок пилотке и мягким тенорком неторопливо доложил:
— Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант.
Мои замечания он слушал смущенно, мигая добрыми карими глазами, и на его веснушчатом продолговатом лице выступил пот.
— Если вы, товарищ лейтенант, будете так нянчиться с людьми, то ничему не научите свою роту за это время. Надо требовать, а не уговаривать...
— У меня пока не выходит, товарищ старший лейтенант, — беспомощно, но честно признался Гарипов и добавил: — Я на людей не умею кричать. Я педагог, товарищ комбат.
Тут я узнал, что Гарипов пять лет назад окончил педагогический институт и все время до войны был учителем в средней школе. Через месяц я застал его журящим одного младшего командира.
— А теперь кричать на людей научились? — смеясь, бросил я ему.
Он тоже улыбнулся и, четко отдавая честь, ответил:
— Так точно, товарищ старший лейтенант. — Затем, как бы оправдываясь, виновато добавил: — Приходится, товарищ комбат, иногда... Некоторые сами напрашиваются. — А сержант стоял перед ним навытяжку.
Вот о нем, о бойцах его отряда теперь рассказывал генерал, как он, выручая товарищей из беды, геройски погиб в неравном бою...
Батальон Лысенко дрался трое суток. Все эти три дня и три ночи орудийный гул, трескотня пулеметов, шум моторов, пожарище в Осташове возвещали окрестностям, что там, в Осташове, идет неравный и жестокий бой...
— Пленный немец, унтер-офицер, показал, — продолжал генерал, — что не видел пленных красноармейцев из Осташова. Батальон капитана Лысенко и рота лейтенанта Гарипова, — заключил генерал, — это первые подразделения в нашей дивизии, проявившие массовый героизм. Они на трое суток задержали противника на одном из важных для нашей дивизии направлений, изрядно потрепав не меньше танкового батальона и полка пехоты немцев. Вот почему я говорю, что мы многим и многим в нашем теперешнем положении обязаны этим героям.
Я рассказал генералу подробности боя в роще вблизи совхоза имени Советов, о том, как мы огнем четырех орудий обрушились на немецкую колонну с артиллерией, идущую по дороге от Сафатова. Генерал передал мне свой двухцветный карандаш и показал на карте Сафатово.
— Нанесите на мою карту, товарищ Момыш-улы, то, что вы рассказали, — приказал он.
Я склонился над картой и нанес положение нашего батальона в лесу, расставил орудия, потом на коричневой линии дороги нанес синим концом карандаша немецкую колонну — стрелки с тремя черточками — и написал черным карандашом дату и время боя.
— Да, да, — говорил генерал. — Значит, здесь проходили два батальона пехоты и дивизион артиллерии?
— Так точно, товарищ генерал, — ответил я.
— Хорошо, рассказывайте дальше... Вот вам, товарищ Момыш-улы, и второй собеседник, — сказал он, указывая на карту.
Ход нашей беседы изменился. Я рассказывал и отмечал на карте красным концом карандаша наших, синим — противника. Генерал слушал. Такой характер беседы освободил меня от прежней натянутости и робости...
— Вот здесь нас, товарищ генерал, выручила винтовка, — докладывал я, показывая на карте деревню Миловани, и рассказал о нашем переходе через шоссе, о разгромленной нашим залповым огнем колонне.
— Постойте, постойте, батенька, — перебил меня генерал. — А когда это было, в котором часу? — спросил он. Я ответил ему. — Мм-да... теперь мне ясно кое-что. Дайте мне карандаш... — И, отчеркивая карандашом извилистые линии на карте, не глядя на меня, он продолжал: — В это утро полк Капрова и артполк Курганова вели бои за Рюховское и Спас-Рюховское, — он указал на эти населенные пункты, расположенные на шоссе, ведущем к Волоколамску.
Теперь снова рассказывал генерал. Я слушал.
Полк полковника Капрова и остаток дивизионной артиллерии подполковника Курганова поспешно перешли к обороне в районе указанных населенных пунктов. Наша дивизия была усилена еще одним истребительно-противотанковым дивизионом из резерва командующего армией. Рюховскому и Спас-Рюховскому наше командование придавало значение как важному узлу на данном направлении на подступах к Волоколамску. Поэтому генерал со своим командующим артиллерией подполковником Марковым приехал в этот район увязать взаимодействие артиллеристов с полком Капрова. Орудия были расставлены в боевом порядке пехоты. Мыслилось дать здесь бой противнику, задержать его подольше, чтобы предоставить другим частям возможность подготовить Волоколамский район к обороне.
На следующее утро полк бомбардировщиков противника делает пять заходов на эти пункты, и после короткой, двадцатиминутной артиллерийской подготовки противник атакует шестьюдесятью танками. Они сначала, идут в лоб, но артиллеристы встречают их огнем, подпустив на расстояние прямого выстрела. Снова обрушивается на наши боевые порядки артиллерия противника, снова идут танки с пехотой с флангов, беря в клещи наши позиции. И пехотинцам и артиллеристам приходится очень жарко — противник неумолим, атака следует за атакой. «Товарищ генерал, полку больше не удержаться», — докладывает Капров. «Товарищ генерал, пятьдесят процентов орудий вышло из строя, и боеприпасы на исходе», — докладывает Курганов. Генерал сам видит неравенство сил. Он приказывает прикрыться частью сил и отойти на следующий рубеж...
— Вдруг натиск противника ослабел, — продолжает Панфилов свой рассказ. — В чем дело, что случилось? Что за пауза?.. Оказывается, виновниками были вы, ваш батальон.
— Я не знал, товарищ генерал...
— Я вас не виню. Вам надо было перейти шоссе. И вы правильно перешли. — Тут генерал чуть задумался, улыбнулся и продолжал: — Кстати, о залповом огне вы рассказываете, как о своем открытии. Конечно, для вас это — открытие, но я вам должен сообщить, товарищ Момыш-улы, что это совсем не ново, это старина, которую, к сожалению, мы почему-то забыли. Вот хорошо, что война сама напомнила ее вам. Мы еще в старой армии вели огонь залпом. Стреляли по команде: «Рота, залпом пли!»
Еще немного подумав, он добавил:
— Но это не в обиду вам, товарищ Момыш-улы, учите людей этому и в дальнейшем действуйте так.
Он встал, прошелся, вернулся к столу, склонился еще раз над картой и как бы сам себе сказал:
— Какое счастливое и чисто случайное совпадение.
Он посмотрел на меня, но я не понимал, о чем говорил генерал, и поэтому молчал.
— Какое чисто случайное совпадение, — повторил он. — А как жаль, что это именно только случайное совпадение...
— Вы о чем, товарищ генерал? — осмелился я спросить.
— Я о том, товарищ Момыш-улы, — ответил он, — что в одно и то же время вы в Миловани, мы в Рюховском бились с одним и тем же противником, не подозревая об этом. Нам надо было отбиваться, а вам — пробиваться в этот лес (он указал на карту). Совсем рядышком были, выходит... Но взаимодействие... Да, мы не могли взаимодействовать, мы же не знали друг о друге. А немец, наверное, подумал, что это делается нарочно, преднамеренно, по плану, потому он и испугался. И, наверное, приписывает это мне, как нечто заранее продуманное.
Генерал разразился хохотом и, вытирая платком выступившие от смеха слезы, добавил:
— История знает много чудес, когда полководцу приписывались как его замысел случайные стечения обстоятельств. — Немного подумав, он сказал: — Это нам с вами урок на дальнейшее. Правда, связь у нас неважная, пока мы радиостанциями не обеспечены, — грустно добавил он. — Но если бы мы с вами тогда были связаны по радио, то заставили бы немца поплясать денька два-три в Рюховском.
Зазвонил телефон, и генерал поднял трубку. Видимо, о чем-то докладывал начальник штаба. Я, считая неудобным прислушиваться к разговору, вышел...
— Товарищ Момыш-улы, — окликнул генерал, — куда вы уходите?
— Покурить, товарищ генерал.
— Курите здесь, — сказал он. — Ведь мы с вами еще не кончили разговора.
— Товарищ генерал, вы же заняты, вам работать надо...
— Что вы! — перебил генерал, не дав мне досказать. — Разве я не работаю, разговаривая с вами? В этом моя работа, товарищ Момыш-улы, я вместе с вами разбираюсь, когда и что происходило.
Я недоумевал, в чем же надо дальше разбираться, и, уловив мое недоумение, генерал продолжил свою мысль:
— Вы знаете, что мы в мирное время после учений целыми днями делали разбор. Помните?
— Помню, товарищ генерал.
— Вы думаете, что на рассказы и разговоры я трачу время зря? Нет. Я работаю. Что, по-вашему, война не требует разбора? А? Именно здесь, после каждого боя, надо разобраться и разобраться во всем детально, серьезно. И вам советую, товарищ Момыш-улы, разбираться, советоваться, прислушиваться к мнению, советам других.
* * *
На прощание генерал дал некоторые указания и приказал представить к наградам отличившихся в боях.
— Если кто достоин Героя Советского Союза, — сказал он мне, — не стесняйтесь, представляйте.
Я шел от генерала. На улице моросил нудный дождь, кругом было сыро. «На Героя, — подумал я, — это уж слишком...»
На окраине деревни встретил меня мой коновод Синченко. Он повел меня в дом, где разместился штаб. Здесь на полу, разостлав шинели и подложив под головы противогазные сумки, спал Рахимов, рядом с ним — розовый блондин, досрочный выпускник Ташкентского пехотного училища, младший адъютант нашего батальона Тимошенко, Бозжанов и несколько связистов.
— Кушать подать? — заботливо спросил Синченко.
— Уже поел, — ответил я.
Интересно было смотреть на спящих. Рахимов лежал на спине, бледный, скрестив руки на груди, как покойник в гробу. Лицо Тимошенко пылало, он часто дышал. Голова Бозжанова сползла с противогазной сумки, и он лежал на боку, подперев голову рукой. Боец-связист прикорнул, прислонившись к стене. Ушанка его съехала набок, у ног стоял полевой телефонный аппарат, телефонная трубка лежала на полу.
— Да подожди же, говорю, — послышался голос Синченко за дверью, — только что от генерала пришел.
— Долаживай, тебе говорят! — вызывающим тоном требовал кто-то.
— Кто там?
— Да вот они, — виновато сказал Синченко, открывая дверь и косо смотря на входящих. — Не понимаю, что за люди, без спросу прут.
За дверью стояла целая делегация от девяноста присоединившихся к нам по пути бойцов.
Первым вошел пограничник и, приложив руку к козырьку, рявкнул:
— Товарищ старший лейтенант!..
Вошедший за ним бородач в гражданском платье дернул его за рукав, указывая глазами на спящих. Пограничник запнулся и виновато прикрыл ладонью рот. Затем на цыпочках подошел ко мне и зашептал:
— Товарищ старший лейтенант, спасибо от всего нашего общества, — и, выпрямившись, с широкой улыбкой объяснил, указывая на толпившихся у дверей товарищей: — Я от них, вроде, за главного. Спасибо! — повторил он. — Крепко пожурили вы нас, но зато вывели из окружения, напоили, накормили, теперича разрешите нам на формировочную, одежонку обновить, — тут он хитрым взглядом указал на бородача, — винтовочку получить и как следует быть, по форме с фашистами воевать.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант, — заговорили бойцы, — до своих довели...
Я не помню, что говорил им в ответ, но помню, что разговор вышел задушевный, и они ушли довольные... Я сидел и думал об этих людях.
— Истинно богатырским сном спят, — раздался голос рядом.
Я поднял голову: рядом со мной, улыбаясь, стоял Толстунов.
— А ты почему не спишь? — спросил я его.
— А ты сам?
— Я у генерала был.
— А я только что от комиссара.
— Знаешь, Толстунов, — перебил я, — генерал мне задачу дал...
— А что, снова бой?
— Да подожди, выслушай сначала, — остановил я его. — К награде отличившихся приказал представить.
— Ну что же, представляй.
— Ну что же! — передразнил я Толстунова. — Кого? Кого? Кто, по-твоему, отличился?
— Как кто! — недоуменно воскликнул Толстунов. — Донских, Рахимов, Муратов, Севрюков, Ползунов, Бозжанов, — тут он запнулся, добавил: — Брудный, — и, перечислив других, сказал: — Мало ли кого...
— Может быть, по-твоему, весь батальон к награде представить? — иронически спросил я.
— А почему бы и нет? — с обидой в голосе ответил он. — Ты, комбат, всегда...
— Нет, Толстунов, нет! Если кто хорошо действовал в бою, — перебил я его, — так он обязан так воевать! Ему за это не только награду, а и спасибо не скажу, потому что он обязан честно и хорошо выполнять свой долг...
— Как ты странно рассуждаешь, комбат! — возмутился Толстунов.
— Нет, не странно. Мы все время отступаем, оставляя свои позиции... за что же представлять?! За то, что мы отступаем? — крикнул я.
Толстунов замигал, растерялся и, смотря мне прямо в глаза, сказал:
— Ну, если так думаешь, так и доложи генералу.
— Доложил, — ответил я ему, — но он говорит, что солдат ждет теплого слова за честную службу, что проявленное каждым мужество в бою следует отметить... Ну, и в заключение приказал представить.
— Значит, так и надо, раз приказал, — сказал Толстунов и примирительно добавил: — Ведь генерал третью войну воюет, ему лучше знать, чем нам с тобой, что должно и что не должно...
— Я хочу понять, как и за что представлять. Может быть, ты мне объяснишь это...
— Назад! Тудыть твою!.. — вдруг закричал спросонья Краев, потрясая кулаком. — Я вам дам по деревням харчи искать! — Открыв глаза и увидев нас с Толстуновым, он растерянно огляделся вокруг.
— Вы на кого так, Краев?
— Да, товарищ комбат, эти окружении опять хотели разойтись, — ответил Краев хриплым, заспанным голосом.
Мы с Толстуновым засмеялись. Краев, натягивая сапог, ворчал себе под нос:
— Они мне всю дорогу кровь портили, аж здесь приснились. Особенно этот, пограничник.
— Он, товарищ лейтенант, приходил сюда, — сказал Краеву Синченко. — Перед уходом просил вам привет и благодарность передать и очень жалел, что вы спали.
— Ну, бог с ними, пусть идут дальше, — сказал Краев.
— Как, по-вашему, Краев, у нас герои есть? — спросил я.
— Как же, товарищ комбат! Есть, и немало. К примеру, взять бойца Блоху, чем не герой? А?
...Небо, словно опрокинувшийся котел, нависло над землей и лило проливным дождем. Вокруг было темно, издали доносились звуки канонады. Мы спешно строились на улице Возмища...
Ночь
Филимонов со средствами усиления давно оторвался от нашего батальона в направлении Иванково.
Батальон, меся грязь, шагал по проселку. Позади чернели купола церквей, башни колоколен. Вскоре их затянула мгла. Усилился ветер. Но дождь стал утихать.
Не слышно было рокота боя. Казалось, все замерло под Волоколамском.
Я шел в голове колонны рядом с командиром третьей роты лейтенантом Поповым, человеком среднего роста, чуть сутуловатым крепышом.
Темнота действовала на меня угнетающе: где-то во мгле перед нами противник. Не сбился ли Филимонов о пути?..
Вдруг я услышал позади топот коней. На миг топот смолк.
— Где командир батальона?
По голосу я узнал майора Аверинова и откликнулся.
— Далеконько вы ушли, — сказал майор, слезая с коня. — Приказано идти не в Иванково, а в Тимково. Занять Тимково, Тимковскую гору, и держаться.
— Первая рота со средствами усиления, наверное, уже на подступах к Иванкову.
— Придется ее вернуть. Ничего не поделаешь, — ответил майор.
— Да... В такую темноту менять направление... — вырвалось у меня.
— Поворачивайте сейчас же, — приказал майор, — время не терпит.
— Я не отделением командую. Поворачивать батальон в ночном марше не так-то легко...
— Мое дело передать вам приказание...
— Мне нужно часа два времени. Я не могу бросать людей мелкими группами в неизвестность, в темноту...
— Так я и доложу, — угрожающе крикнул майор.
— До свидания, товарищ майор.
Майор в сопровождении двух конников поскакал обратно.
За свою несдержанность в разговоре с майором в присутствии Попова я был впоследствии сурово наказан.
* * *
Вынужденный ночной привал. Бойцы присели на побитую заморозками мокрую траву у обочины дороги. Нудно моросил мелкий, будто сеющийся сквозь сито дождь. Кругом тихо и темно. Филимонов впереди, мы с двумя ротами стоим здесь, обоз и взвод связи где-то в пути — батальон разорван на три части. Все это из-за поспешности штаба дивизии.
— Поднимайте батальон по тревоге, выступайте в направлении Иванково. Задачу получите на марше, — говорил мне Гофман. — Выступайте налегке, обоз отправим, вслед за вами, — добавил он уходя.
— К Иванкову подходят немцы. Приказано форсированным маршем опередить противника... — сказал мне майор Аверинов.
— Командир первой роты лейтенант Филимонов, вашу роту с двумя станковыми пулеметами, двумя орудиями ПТО, батареей артполка назначаю в ГПЗ1. Форсированным маршем двигаться по маршруту В. Л. М. К... часу с ходу захватить Иванково и закрепиться до подхода батальона, — приказал я Филимонову.
Все это было совсем недавно, когда до сумерек оставалось больше часа, но непрекращающийся обложной дождь, исчерна-серое низкое небо делали день мрачным, а роты шли по расползающейся под ногами вязкой грязи незамещенных деревенских улиц.
Потом мы вышли на шоссе, передвигались ровными быстрыми шагами, затем вступили в темный тихий город. Помнится, кое-где сквозь незавешенное окно был виден тусклый свет лампы, в одном из переулков я заметил россыпь огоньков самокруток.
— Какое-то недисциплинированное подразделение на привале, — сказал я Рахимову, указывая на огоньки. — Нашим не сметь курить!
Все это было совсем недавно.
* * *
За какие-нибудь два-три часа батальон разорвали на три части. А теперь его собрать нелегко. Но надо действовать. Размышлять некогда. Надо немедленно послать за Филимоновым (он со средствами усиления составлял почти половину нашего батальона). Его надо вернуть. Как он бежал туда, так пусть бежит и обратно.
Но «Арыган атка камшынын сабыда ауыр»2.
А моих теперь и тяжесть иглы может сбить с ног...
Всякий казах любит промчаться верхом. А нашему Джалмухаммету Бозжанову — политруку пехоты — с самого начала войны не часто выпадал случай вложить ногу в стремена, натянуть поводья. Он всегда с восторгом и детской завистью смотрел, когда я посылал Лысанку с места в галоп. Иногда подбегал и гладил морду и шею запыхавшейся лошади, водил ее за узду и что-то успокаивающе говорил ей.
Бозжанов на Лысанке, Синченко на Гнедом помчались вдогонку Филимонову. Я остался без коня и коновода.
Когда время не терпит, командира выручает «спеши с умом», когда глаз не видит, — топографическая карта.
Мы с командирами вошли в первую попавшуюся избушку.
Она оказалась пустой, отдавало запахом лекарств. Рахимов навел луч карманного фонарика на углы комнаты: на полочках отсвечивали какие-то склянки, бутылки.
— Видимо, товарищ комбат, мы попали в аптеку местного ветеринарного пункта, — сказал он.
Я вынул из планшета карту.
Коричневые линии на карте показывали рельеф местности.
Левый берег реки Ламы круто возвышался над правым, и далее подъем плавно сходил на нет, а линия, обозначавшая вершину, представляла собой почти правильный эллипс площадью около полутора-двух квадратных километров. Далее спуск был отлогим; в конце спуска сидела «муха» с надписью «Тимково».
Эту высоту с отметкой «240,3» местные жители, никогда не видавшие настоящей горы, называли «Горой Тимково», как и любую сопку (в нашем, казахском понятии) под Москвой величают «горой». Эта «гора» действительно возвышалась (по-военному — господствовала) над окрестностью.
— Где противник, что за противник — мы не знаем, — начал я. — Местность знаем по этой карте; местность, конечно, не освещена фонариком, как эта карта. Она не ровная, как поверхность этой карты, следовательно, и местности толком не знаем. Единственный наш помощник — это компас. Пойдем на Тимково в расчлененном строю рот, повзводно, углом вперед, по намеченным азимутам. Впереди пойдет Попов как ГПЗ, остальные силы батальона двинутся, как только прибудет Филимонов. Давайте наметим азимуты... Так идти до встречи с противником, который, будем надеяться, даст знать о себе. Попову занять Тимково, Филимонову — Н. X., Краеву — Т. С., закрепиться, а дальше увидим, что покажет утро... Лейтенант Попов!
— Слушаю, товарищ комбат! — Попов делает шаг вперед, четко, каблук к каблуку, несмотря на грязь, приставляет ногу.
Его политрук, долговязый Еникеев, ссутулившись, стоит в углу; поясной ремень нелепо стягивает плохо пригнанную мокрую шинель.
— Вам понятно?
— Понятно, товарищ комбат.
— Сверьте вашу карту, — говорю ему, передавая свою карту Рахимову. — Поужинайте и через пятнадцать минут выступайте.
Выйдя на улицу, я услышал голос младшего лейтенанта Степанова, командира взвода связи нашего батальона. Он кого-то спрашивал:
— Где комбат?
— Степанов! — окликнул я его.
— Я!
— Что, все прибыли?
— Нет, товарищ комбат. Мы только с Киреевым пришли узнать, как у вас тут...
— На что вы с Киреевым мне тут нужны! — крикнул я на Степанова. — Где взвод связи, где хозвзвод, где санитарное отделение? Где они?
— Товарищ комбат, разрешите... Майор из штаба дивизии приказал: весь обоз направить назад, на ту окраину города... Мы с Киреевым не удержались и прибежали... — захлебываясь, видимо, от обиды, доказывал Степанов.
— Хорошо, что пришли, — буркнул я, как бы извиняясь за свои окрики. — На кухнях что-либо варилось?
— Во всех, товарищ комбат, варилось. Борисов сам с четырьмя повозками задержался с получением продуктов и боеприпасов...
Итак, батальон разорван на три части. Такая неразбериха ничего хорошего не предвещала.
Слышу команды, движение строящихся, потом тяжелые мерные шаги. Рота Попова ушла. А я все продолжаю стоять у аптеки. Никак не могу отделаться от смутного дурного предчувствия.
— Киреев, вы здесь? — спрашиваю я, как бы очнувшись, заметив во тьме грузную фигуру фельдшера нашего батальона.
— Так точно! — отвечает он. Тогда, кроме Киреева, никто в батальоне не отвечал «так точно!» или «никак нет!»: в те времена такие ответы Красная Армия отвергала как наследие старой армии. А Киреев — старый солдат — никак не мог примириться, по его мнению, «с фамильярностью» красноармейцев с начальством. Он, пожалуй, не возражал бы, как служака старой армии, добавить к «так точно» и «вашбродие»... Он был опытным службистом.
— Этот дом — бывшая аптека здешнего ветеринарного пункта племхоза, — сказал я Кирееву. — Организуйте здесь медпункт нашего батальона.
— Слушаюсь! — откозырнул фельдшер.
— Степанов, где мы стоим? — спросил я, позабыв, что сам недавно, перед принятием решения, сориентировался и определил точку нашей стоянки.
— Рабочий поселок фабрики имени Ленина, дом племхоза.
— А что эта фабрика делает?
— Одеяла-покрывала...
— А, говоришь, одеяла-покрывала…
— Да, товарищ комбат...
— Ты знаешь, батальон наш был подобен короткому одеялу, которое потянешь на голову — ноги остаются открытыми, потянешь на ноги — голова остается открытой, а теперь он подобен одеялу, разорванному на три куска. Вот стою и не знаю, как сшить эти куски.
— Ничего, товарищ комбат...
— Нет, брат, раньше батальон в руках держал, сегодня худо — рассыпал и собрать не могу. Ты иди и позови обратно, приведи сюда Борисова и санитарку.
— Есть, товарищ комбат.
Степанов ушел.
Я остался один.
* * *
Филимонов не идет, Попов оторвался — чего же я жду во тьме рассвета? Пошел к бойцам роты Краева — боевая, поредевшая вторая рота нашего батальона. Она еще под Новлянском первой контратакой гнала немцев, не принявших вызова на рукопашный бой.
Бойцы сидели по гребешкам кювета, спиной к ветру. Ко мне подошел Краев.
— Промок?
— Так же, как и вы, товарищ комбат.
— Твои не распустят нюни?
— Нет. Потерпим, товарищ комбат...
Разговаривая так, мы с Краевым пошли мимо бойцов по дороге.
— Закуривай! — скомандовал я.
Бойцы жадно затянулись самокрутками, пряча их в рукава.
Мы с Краевым еще раз молча прошлись.
— Да, товарищ комбат, только до своих добрались...
— К теще на блины, думал, — с иронией прервал я Краева. — Нет, брат, на войне тому не бывать.
— А как дальше, товарищ...
Вдруг где-то вдалеке, куда ушла рота Попова, раздались звуки одиночных выстрелов. Потом застрекотал пулемет.
— Чей это пулемет залаял, Краев?
— Не наш, товарищ комбат...
— Может быть, наш?
— Нет, товарищ комбат, не наш. Чую по повадкам, Наши приучены вести прицельный огонь короткими очередями, а немцы палят почем зря — по белому свету. Ох, до чего же они любят шуметь...
Как бы в подтверждение слов Краева, снова застрекотал пулемет предлиннющими очередями.
— Слышите, товарищ комбат: станковый бьет. Он выпустил пол-ленты — и без толку. Только пужать мастера. Как я заметил, товарищ комбат, немцы ночью неладно делают.
— Как?
— Ракетами освещают небо, потом устраивают пальбу. Конечно, они при свете ихней ракеты никого не видят и палят куда придется. Но он, подлец, умеет страшить людей.
— Подымай-ка людей и идите по своему азимуту, а то вы здесь засиделись. Филимонова ждать не будем.
И Краев со своей ротой ушел.
— Рахимов, вы знаете, что бестолковщина, потемки, неизвестность играют с нами шутки?
— Да, товарищ комбат, — грустно вздохнул Хабибулла. — Бозжанов будто сгинул. Ни от Филимонова, ни от Попова никаких вестей.
— Вы оставайтесь здесь, Хаби. Дождитесь Филимонова и, как только он прибудет, направьте его по маршруту. Потом дождитесь Степанова. Когда он вернется, организуйте связь... Я пойду к Попову, Краеву.
— Что вы, товарищ комбат! В такую тьмищу идти одному?
— Все равно, Хаби, играем втемную. — Сказав это, я направился к выходу.
Рахимов крикнул:
— Маршал! Идите с комбатом.
Меня догнал лейтенант Тимошенко, которого, все, кроме меня, звали просто Сеней. Этот розовощекий юноша был однофамильцем и тезкой маршала Семена Константиновича Тимошенко, поэтому мы иногда звали его в шутку «Маршалом».
— Ну, пойдем и посмотрим, что там впереди делается...
Мы пошли по лужам, по месиву, спотыкались, скользили, шлепались. Вошли в ложбину — стало ещё темнее... Перед нами бушевала река. Я знал ее по карте, где она была обозначена тонкой голубой волосинкой с громкой надписью «р. Лама». Я усмехнулся тогда и подумал: «Что за привычка у русских сопку называть горою, а ручей — рекою». В сухую погоду эту Ламу, наверное, можно перейти, не зачерпнув голенищами. А сейчас она вздулась и беснуется от притока дождевой воды.
— Что, товарищ комбат, поплывем? — спросил Тимошенко, когда мы остановились на берегу.
— Зачем плыть, перейдем вброд. Ведь Попов и Краев перешли же.
— Тогда разрешите мне идти первым, товарищ комбат.
— Валяйте.
Тимошенко, сделав два шага, бултыхнулся в воду и исчез. Я отпрянул назад. Слева раздался голос:
— Здесь очень глуб... — захлебнулся и умолк.
Я побежал по берегу налево. Лама бурлила, пенилась, во тьме играла волнистая грива. Я бежал, окликая:
— Тимошенко! Сеня! Тимошенко!
Слева, рядом со мною, из бурного потока раздался возглас:
— Ауп!
Я бросился в воду. Холодная волна сильно ударила в лицо. Потянуло вниз, потом повернуло и понесло, закружило. Глотнув раза два густую, грязную воду, я начал барахтаться. Потянуло опять вниз, повернуло, стукнуло обо что-то твердое. Я снова хлебнул воды, уцепился за что-то, поднял голову: надо мной, как сказочный гигант, нависали перила моста. Выкарабкался на берег. Меня затошнило.
— Тимошенко!.. Сеня! — опять позвал я, но ответа не было.
Я прошел небольшое расстояние по берегу в надежде найти Тимошенко, но тщетно. Сев на какой-то бугорок, разделся, стал выжимать одежду. Сначала меня обдало холодным воздухом, затряслись колени и руки. Начал работать быстрее — мне показалось, что я согрелся.
Поднявшись на гору, я наткнулся на глубокую колею, продавленную в грязи. Стрелка светящегося компаса и направление колеи образовали угол азимута на Тимково, У нас в батальоне было единственное орудие на твердых колесах (остальные — на резиновом шасси), которым командовал сержант Аалы Джиенышбаев. Он мне запомнился еще по Талгару со своим настоятельным требованием дать ему самых лучших артиллерийских лошадей, так как его орудие на жестких колесах. Я тогда удовлетворил его просьбу и про себя подумал: «Дельный сержант».
— Это, значит, следы джиенышбаевского орудия, — произнес я вслух. — Колея приведет меня к Попову.
Все Тимковское плато оказалось пахотным полем. Оно так сильно впитало дождевую воду, что превратилось в вязкую грязь.
Когда я прошагал с трудом, как муха по меду, метров около двухсот-трехсот, колея пушки слилась с дорогой, обыкновенной проселочной. Дорога пошла вниз. По колеям бежала вода. Я пошел по твердым целинным обочинам.
В небе завиднелись ракеты. Это немцы освещают местность. Затем застрекотал пулемет длинными очередями. Судя по траектории трассирующих пуль, пулеметчик вел огонь с рассеиванием по фронту и в глубину, Вдруг мимо меня просвистело несколько пуль. Я шлепнулся наземь. Затем стало тихо. Вблизи никаких признаков боя. Внизу затявкала собака. Минут через десять в воздух опять взвились ракеты, опять очереди трассирующих пуль пунктирами прорезали темное небо. Значит, немцы в Тимкове. А где же Попов?
* * *
Я послал Бозжанова и Синченко к Филимонову, Рахимова оставил в племхозе, Тимошенко потерял в пути, шел по следам Попова, который должен был завязать бой в Тимкове. Никого нет. Я впервые оказался в одиночестве. Это не делает мне, как командиру, чести. Если бы одна из шальных пуль, что недавно просвистели мимо, задела меня, убила бы или ранила, или еще хуже — я попал бы в руки немцам, что тогда?
«Ночью с 27 на 28 октября в боях под Тимковом батальон потерпел поражение. Командир батальона пропал без вести...» — в лучшем случае так напишут в донесении о нас.
Эти ужасные мысли вырвали меня из оцепенения.
«Батальон не должен погибнуть, а комбат не должен пропасть без вести».
Сказав это сам себе, я вскочил и зашагал.
«Не Попова, так Краева найду, они где-то тут, невдалеке», — думалось мне, и я подался наискосок влево.
Вдруг я оказался у одиночной стрелковой ячейки — окопчика, вырытого с колена. В окопе, по грудь в воде, сидел немец в пилотке, с откинутой на задний бруствер головой.
Я сначала вздрогнул, мороз пробежал по всему телу. Потом осмотрелся. Около трупа на земле никакого оружия не оказалось.
Видимо, я бродил по позициям боевого охранения немцев. Значит, они прибыли сюда еще до сумерек, раз успели вырыть одиночные окопы неполного профиля. «Немец убит, значит, здесь побывали наши, выбили боевое охранение», — рассуждал я, подаваясь еще наискось назад, влево. Теперь я шел по немецкому косогору. Вдали показался человек. Мы, видимо, заметили друг друга одновременно. Остановился он, остановился и я, вынул пистолет из кобуры, снял с предохранителя. «Если окликнет по-немецки, нажму на курок, расстояние каких-нибудь двадцать пять шагов». Видимо, мы оба боялись открыть себя. И почти одновременно каждый из нас подался на свою левую сторону. Так и разминулись. Я побрел дальше. Позади, в высоте — источающие далекий свет немецкие ракеты, стрекотня пулеметных очередей. Когда обернулся, над Тимковом взвились три красные ракеты. Это немцы из Тимкова кому-то дают сигнал. Может быть, эти три ракеты означают: «Тимкову угрожает противник», или просто: «Вошел в соприкосновение с противником»...
Предо мною вырисовывается темный силуэт большого стога сена. Прислушиваюсь. Фыркают лошади. Русский говор. Наши! Иду смело. Не дождавшись оклика, спрашиваю:
— Что здесь за курортники расположились?
— Ми, товарищ комбат, — вытягивается передо мной стройная фигура, — сержант Джиенышбаев, — представляется киргиз.
Признаюсь, читатель, когда я услышал его «ми», слезы радости выступили у меня на глазах. Стараясь быть строгим, я спросил:
— Почему вы здесь?! — Не помню дальше, какими резкими упреками я наградил сержанта, но помню, что потом опустился на сено, приказал дать мне закурить и молча слушал доклад сержанта на киргизском языке вперемежку с русскими словами.
Слушая сержанта и жадно затягиваясь самокруткой, я осмотрелся вокруг: у стога журавлем торчало дуло орудия; поодаль, за лафетом, сундуком темнел зарядный ящик: четыре коня в упряжи то с хрустом ели сено, то, мотая головами, звенели разнузданными удилами. На разостланном сене сидело около двадцати наших бойцов. Глядя на них, я думал: «Вот мои бойцы, мое орудие, мои кони... Значит, комбат пока еще не пропал без вести». При этих мыслях меня опять охватывал приступ гнева и того беспредельного недовольства собой, когда во всем винишь и себя, и своих начальников.
Я жадно вдыхал едкий дым самокрутки. Гнев таял.
Сделалось легче.
* * *
Из рассказа Аалы я выяснил: Попов со своей ротой, преодолевая трудности переправы, крутой подъем на гору, липкую грязь пахотного поля, шел по заданному азимуту. Дошел до Тимкова, наткнулся на боевое охранение противника, атаковал, выбил его, ворвался в Тимково, но тут же, попав под осветительные ракеты и перекрестный огонь заранее подготовленных огневых точек, вынужден был отойти. Видимо, он ждал подмоги: справа — от Филимонова, слева — от Краева, а с тыла — поддержки комбата. Увы!.. Это был всего лишь замысел командира батальона, его мечта. А боевая жизнь показала странную разницу между замыслом и практикой, между мечтой и конкретной обстановкой. Комбат получил необдуманное приказание свыше, а сам принял необоснованное, не соответствующее конкретной боевой обстановке решение, без учета условий местности, времени, погоды, состояния людей. Это ему удавалось и «сходило» на «отлично» на учебном полигоне перед картонным «противником» и «условными данными», а под Волоколамском ему всерьез сказали: «В бою не шутят!» Конечно, эти строки пишутся теперь, а тогда? Тогда я думал совсем иначе.
Давайте вернемся к тогдашней обстановке.
— Где же рота? Где командир? Где политрук? — прервал я сержанта.
— Мой расчет и еще два отделения пехоты, товарищ комбат, волокли орудие и зарядный ящик буквально на плечах, на каждом шагу вязли, а лошади выбивались из сил. Впереди завязался бой. Немец начал освещать, поливать из пулеметов, швырять мины. Трескотня — не знаем, где свои, где чужие, товарищ комбат. Ко мне прибежал посыльный от командира роты и говорит: «Лейтенант приказал вести огонь!» Я думаю: куда стрелять, ничего не вижу...
— Ну и ответил бы ему: «Не вижу — не стреляю», — перебил я сержанта.
— Как же, товарищ комбат, бой идет, немецкие минометчики тоже не видят. Ну, я и решил тоже подать свой голос. Подряд выпалил, чередуя, десять осколочных и десять бронебойных.
— А бронебойные зачем?
— Они ведь трассируют, товарищ комбат.
— Значит, на психику?..
— Как же, и они палили, и мы палили, ориентируясь лишь по направлениям.
— Кишкарт (покороче)! — приказал я на киргизском языке сержанту.
— Ляпбай (слушаюсь)! Затем наши шли назад. Кто-то сказал, что политрук роты тяжело ранен. Немец все освещал, стрелял из пулеметов, минометов. Мы тоже пошли назад. Лошади не тянут, люди выбились из сил. Тут стог сена. Мы больше часа здесь, товарищ комбат.
В это время вдали опять раздались звуки пулеметных очередей. С воем пролетело и, шлепнувшись в грязь почти рядом со стогом, разорвалось несколько мин.
Я встал с места. В воздухе выли мины, шелестели снаряды. Огненными фонтанами вздымались частые разрывы.
— Значит, красные ракеты — это вызов огня по Тимковским горам, — говорю я Аалы. — Немец ведет огонь, подготовив данные по карте, по площадям.
«Неплохая у них организация, — думаю про себя, — налет мощный».
Неожиданно слышу крепкое русское ругательство.
— Ложись!
— Эй! Краев! Бегом ко мне! — ору во все горло, узнав Краева по голосу.
— Ложись!
— Эй, Краев! Галопом ко мне.
— Бегу!
— Где ты до сих пор болтался?
— По-честному говоря, товарищ комбат, заблудился, только теперь, кажись, вышел на свое направление, — признался Краев. — Долго искали переправу, вброд идти было рискованно. Боялся, как бы не потопить пулеметы.
— А теперь даже к шапочному разбору опоздал. Попов увел свою роту; видимо, решил не блуждать во тьме.
— Куда же он ее увел, товарищ комбат?
— Наверное, в Волоколамск.
Я стал Краеву все рассказывать.
— По всему видно, что перед самым наступлением темноты немцы были уже в Тимкове. Думаю, что это их ГПЗ или разведотряд. Дождь и темнота заставили немцев остановиться в Тимкове, и они выставили охранение.
В это время позади нас шлепнулась и разорвалась с глухим треском мина, а затем в поле там и сям возникли красные вспышки нескольких разрывов.
— Противник думает, что мы подкрадываемся прикрываясь темнотой, — продолжал я прерванный разговор. — По всем признакам, в деревне не так уж много немцев, не больше одной роты. Враг боится, поэтому освещает, обстреливает, сигнализирует своим о том, что встретился и столкнулся с нами, просит помощи, вызывает подкрепление.
— Давайте вышибем, товарищ комбат, — говорит Краев.
— Попов ушел, ты опоздал, Филимонова еще нет. Мы упустили момент, потеряли много времени. Взвод за взводом, роту за ротой терять в такой тьмище... Нет, Краев, атаковать не будем.
— А если он пойдет?
— Нет, не пойдет.
Я приказал Краеву послать связного за Рахимовым, развернуть роту в боевой порядок, занять оборону и открыть огонь из пулеметов. Джиенышбаева послал за полутора взводами, оставшимися от роты Попова.
* * *
Пришел Рахимов и доложил, что Филимонов еще не подошел, Попов не отыскался, взвод связи с хозвзводом не пришли, есть ли у нас соседи — еще не установлено...
Потом он сообщил, что у Краева станковые и ручные пулеметы не могут вести огонь, так как во время движения — перебежек по лужам, по месиву раскисшего пахотного поля — все механизмы забились грязью.
Это сообщение Рахимова огорошило меня. Я молчал, не зная, что и сказать. Я понимал, что без полного разбора, чистки и смазки пулеметов устранить задержку невозможно.
«У нас нет ни связи, ни питания, ни порядка, и к тому же грязь, по существу, обезоружила нас. С самого вечера я бегаю от командира к командиру. Бегаю без толку»...
— Что дальше делать прикажете, товарищ комбат? — прерывает мои грустные размышления Рахимов.
— Выставить боевое охранение; людей отвести в укрытие — где-то под горой есть сараи. Все пулеметы вынести с поля, идти с ними в племхоз, вычистить, смазать и вернуться. Когда подойдет Филимонов, его людей расположить в племхозе на отдых.
— Как доложить штадиву, если прибудет связной?
— Доложите, что в захвате Тимкова противник на три-четыре часа упредил нас. Попытка атаковать одной ротой не увенчалась успехом. Решил занять оборону на Тимковской высоте одной ротой...
Точный, исполнительный Рахимов ушел.
* * *
Джиенышбаев привел остаток роты Попова. Командир взвода лейтенант Терещенко был тяжело ранен в правое плечо. На рану была наскоро наложена повязка. Лейтенанта трясла лихорадка. Стуча зубами, Терещенко доложил: их рота атаковала сначала боевое охранение, затем подошла к Тимкову. Во время движения, перебежек и атаки пулемет за пулеметом отказывали. Как выразился Терещенко, в руках он держал не винтовку как огнестрельное оружие, а тяжелую дубину с примкнутым штыком. Попов приказал отойти...
Соорудив из плащ-палатки носилки, мы укрыли лейтенанта сеном и отправили его в племхоз, наказав Рахимову эвакуировать его дальше.
Бойцам я приказал расположиться, вернее, — вкопаться в стог сена, сам забрался на самую вершину стога: немцы изредка освещали местность и выбрасывали мины.
Джиенышбаев принес сухие портянки и белье и, несмотря на мои протесты, стянул с меня сапоги, говоря:
— Вас же давно трясет озноб, товарищ комбат, смените белье и переобуйтесь.
Я разделся.
— У-у-у! — вырвалось у меня, ошпаренного холодным воздухом.
Сержант своей сильной рукой начал безжалостно мять мои мышцы, как сыромятину, и шлепать по голому телу, потом протер меня грубым солдатским полотенцем... После такого массажа, в сухом белье я, зарывшись в сено, забылся.
— Товарищ комбат! Товарищ комбат! — тормошил меня Аалы. — Уже рассвет.
Я поднялся. Киргиз смотрел на меня так радостно, как радуется человек, откачавший утопленника. Он подал мне мое тяжелое походное снаряжение. Туго затянув ремень, я сел.
— Сколько времени я спал, Аалы?
— Часа три, товарищ комбат.
— Кто-нибудь приходил сюда?
— Приезжал политрук Бозжанов с вашим коноводом.
— Где они?
— Покормили коней и уехали обратно.
— Что они сказали?
— В домах, при свете коптилок, всю ночь на разостланных плащ-палатках разбирают и чистят оружие.
— Попов нашелся?
— Нет пока.
— Хозвзвод прибыл?
— Сказывали, пока нет.
— Самый лучший окоп и лучшее прикрытие здесь — этот стог. Вы отсюда не уходите. Будите людей. Тех, кто дежурил, положите спать. И до самого начала боя не будите. А я пойду.
День
...Дождь перестал, а ветер полютел. Утренняя муть незаметно посветлела. По полю снуют бойцы, видимо, связные. Поеживаясь от острого ветра, иду по вспаханному полю. За ночь подморозило. Под сапогами — тонкие корки льда. Под ледяной корочкой грязь не затвердела. Сапоги становятся тяжелыми, их на каждом шагу присасывает липкая грязь, будто хочет снять. Иду к бойцам, проведшим всю ночь под проливным дождем и пронизывающим ветром.
Подойдя к позиции стрелкового отделения, я не поверил своим глазам: почти рядом друг с другом, в окопах, вырытых для стрельбы, на соломенных подстилках, укутав ноги сеном или соломой, спали бойцы. Около каждого верхней антабкой на бруствере лежали винтовки, у самого приклада малые саперные лопаты. У некоторых сбоку валялись противогазные сумки, тощие вещевые мешки; у иных можно было видеть патронные подсумки, в брезентовых сумках — две ручные гранаты.
Один из бойцов лежит скорчившись, надвинув ушанку на лицо, спрятав руки за пазуху; другой, рядом с ним, в ушанке, весь ушел в поднятый воротник шинели; третий свернулся ракушкой, обняв колени, уткнувшись головой в живот.
«Это спит казах», — подумал я.
Так располагались и другие отделения, другие взводы. Когда я подходил еще к одной позиции, передо мной вырос лейтенант. Приложив руку к правому виску, четко, простуженным голосом доложил:
— Товарищ старший лейтенант, вторая стрелковая рота занимает оборону. Дежурный по роте лейтенант Брудный.
— Где командир роты?
— Внизу, там, товарищ комбат. Всю ночь и до сих пор с пулеметами маются.
Лицо Брудного было синее, как у утопленника. Зубы стиснуты, видимо, он сдерживал трясуху озноба. Отношения у нас с ним были натянутыми с тех пор, как неделю назад за самовольный отход с позиции боевого охранения я отстранил его от должности и выгнал из батальона.
При каждой нашей встрече у меня в памяти вспыхивали этот случай и деликатный, но тяжелый выговор генерала Панфилова.
Видимо, и Брудный не забывал об этом. Он не юркал, как прежде, своими блестящими, черными глазами, не напрашивался на похвалу, а проделывал четко строевые приемы и, грустно смотря на меня, кратко докладывал. Раньше я был для него не только командиром, но и старшим братом, а теперь он видел во мне только командира, которому он, в порядке выполнения долга, должен подчиняться с достоинством.
«Я вам рекомендую реабилитировать Брудного перед товарищами», — сказал генерал, а Толстунов предложил представить его к награде. Я пока не сделал ни того, ни другого. Он без дела находился при штабе.
— Кто вас назначил дежурным по роте?
— Лейтенант Рахимов, — растерянно ответил Брудный, и в его глазах промелькнули искорки обиды: «До сих пор не прощает. До сих пор не доверяет».
Я не выдержал его взгляда. Мы оба молчали.
— Вот что, Брудный, — сказал я, подняв глаза, — там, у того стога, полтора взвода третьей роты. Иди туда и принимай командование над ними. Организуй оборону по такому образцу, как вот здесь.
— Есть, товарищ комбат.
— А я здесь за тебя останусь, подежурю, пока придет Краев.
— Разрешите идти?
— Иди.
Он пошел широкими шагами, порывисто размахивая руками; потом замедлил шаг, ссутулился, опустил голову, и было видно, как он вытирал глаза.
— Брудный! — крикнул я. Лейтенант живо повернулся.
Я погрозил в его сторону кулаком и крикнул:
— Не сметь плакать!
— Есть не плакать! — ответил он и бросился бежать в сторону стога. Мне почему-то показалось, что в его голосе я уловил нотку радости, Я смотрел ему вслед. Он туманился в глазах, как в мираже. Смахнув слезу, я пошел на позицию следующего взвода.
* * *
И здесь бойцы лежали в неглубоких окопах, на умятых охапках сена. Я оглядел спящих и направился к другому флангу роты, где копошилось несколько бойцов. Навстречу мне торопливо шел боец. Я узнал Блоху — наводчика одного из «максимов». Он еще издали прикладывает руку к ушанке. Лицо у него бледновато-синее. Я прерываю его рапорт и спрашиваю:
— Что вы здесь делаете, Блоха?
— Строим, товарищ комбат, пулеметную ячейку. Действительно, был вырыт пулеметный окоп, который бойцы тщательно обкладывали соломой.
— Хорошо выложили вы, товарищи, свой окоп, — вырывается у меня. — Это не окоп, а настоящее гнездо получается.
— Это мы, товарищ комбат, вторую ячейку так заканчиваем, — вытягиваясь в струнку, гордый от похвалы, докладывает Блоха.
— Хорошо. А где же пулеметы?
— Всю ночь, товарищ комбат, мучились с пулеметами. Никак не ладится у нас с ними. Особенно эти новые дегтяревские, никак наладить не можем. Теперь командир роты и политрук Бозжанов сами взялись...
— Значит, для отдыха хорошее гнездо роете?
— Нет, нет, товарищ комбат, два «максима» обязательно будут работать.
— Вот, несут! — вскрикнул боец.
Все оглянулись. Действительно, из-под горы показалось несколько бойцов, которые на плечах и на руках несли какие-то вещи, завернутые в плащ-палатки. Они шли медленно, тяжело, подавшись вперед.
Командир взвода лейтенант Беляков, тоже досрочный выпускник Ташкентского пехотного училища, доложив мне о своем прибытии, приказал бойцам развернуть плащ-палатки и установить пулемет на позицию. Расчет бросился выполнять приказание командира.
— Измучились, товарищ комбат, — говорил, тяжело дыша, лейтенант.
В дальнейшем, даже при смене позиции, пулемет решили переносить с места на место только в завернутом виде...
— Готово! Пулемет установлен! — зычно доложил Блоха.
На площадке около окопа стоял наш станковый пулемет, блестя вороненой сталью.
— Заряжай! — скомандовал я.
В приемник нырнул и вынырнул медный наконечник ленты, щелкнул замок. Второй номер поправил ленту, набитую патронами.
Блоха вцепился руками в рукоятку и прильнул к прицелу:
— Разряжай!
По этой команде быстро и исправно заработали и расчет и пулемет.
— Заряжай! — снова скомандовал я. Когда пулемет был заряжен, сказал: — А теперь, Блоха, дайте по белому свету две короткие очереди.
Блоха не без злости нажал на спуск. «Тра-та-та, тра-та-та», — заговорил пулемет.
— Еще, товарищ комбат? — не оборачиваясь, спросил Блоха.
— Дайте одну длинную очередь.
Блоха, нажав на спуск, крепко держал рукоятку. Пулемет и наводчик задрожали, как в лихорадке.
— Стой!
Захлебнувшись, пулемет замолк.
Первые стрекотания нашего пулемета с новой боевой позиции возвестили, что «мы здесь», «мы не ушли», «мы будем драться». Пусть об этом знают немцы, пусть об этом знают и наши.
Так началось для нашего батальона боевое утро 27 октября 1941 года.
Приказав Белякову подготовить еще четыре позиции для станковых пулеметов, я собрался было уходить. Он спросил:
— Что нам делать, товарищ комбат, если начнется бой?
— Бой не скоро начнется.
— Почему вы так думаете?
— И наши и немцы пока ни в чем не разобрались. Часика три-четыре можно поработать. Сейчас я пришлю сюда Краева.
— Значит, товарищ комбат, нам работать?
— Вам лично, лейтенант Беляков, не работать, а немедленно же лечь и спать до начала настоящего боя. Выставьте боевое охранение и отдохните.
— Я не могу.
— Что значит «не могу», если приказано?
— А вы сами, товарищ комбат, — вырвалось у юноши.
— Я всю ночь спал... Проспал ваши пулеметы... Проспал Попова... Проспал весь ночной бой нашего батальона, поэтому-то у нас нескладно получается, товарищ Беляков.
Далее я ему рассказал то, что уже известно читателю. Беляков проводил меня до самого оврага.
Я скользил по крутому берегу этой маленькой речушки. Однажды чуть не угодил в ее грязную воду. Я горный казах: с самого детства научен взбираться и спускаться по горам в тысячи раз круче и опаснее, чем подъем и спуск Тимковской «горы». Но у наших гор почва другая — там не земля, а россыпь гранита. А здесь под ногами все ползет. Какая досадная ошибка природы и судьбы затеять на этой самой грязи войну! Я вспомнил поговорку наших дедов: «Жау жагадан алганда ит етектен» — когда враг хватает тебя за шиворот, а собаки тянут за подол, — как же воину выйти из затруднительного положения?
Штаб наш находился в помещении племхоза. У входа стояло несколько бойцов. Увидев меня, они вытянулись.
Я приветствовал их и прошел в помещение.
В передней комнате на плащ-палатке лежали части разобранного пулемета. Сборкой вычищенных и смазанных частей перед окном занимался Бозжанов, а рядом стоял Семен Краев. Они были в одних гимнастерках и без шапок. На их руках грязно-желтым цветом лоснилось ружейное масло. На полу валялась грязная вата, пакля, тряпки.
— Плохо обучали людей, теперь сами кряхтите. При этих словах они заметили меня и оба выпрямились, держа в руках части пулемета.
— Товарищ комбат, всю ночь... — мигая глазами, прервал меня Краев.
— Кто ротой будет командовать? Лейтенант Краев или ефрейтор Блоха?
Услышав мой голос, из другой комнаты вышел Рахимов и сказал:
— Товарищ комбат, надо срочно доложить обстановку.
* * *
Перед Рахимовым лежали отработанная карта и схема.
— Как видите, товарищ комбат, наш правый сосед-левофланговый батальон полка Шехтмана. Разрыв между нами — около двух километров. Наш сосед слева — батальон Н-ского полка, разрыв между нами — полтора километра. Мы на широком фронте. Как же мы обеспечим свои фланги, товарищ комбат? — закончил свой доклад Рахимов.
— Огнем пулеметов, орудий и маневром роты Филимонова.
— Значит, первую роту мы по обстановке бросим на какой-нибудь из флангов?
— Бросим только на левый фланг, правый пусть обеспечивают люди Шехтмана. Впрочем, так нельзя принимать решение. Пойдем на рекогносцировку.
* * *
Повторяю, Тимковская гора господствовала над окружающей местностью, и город был хорошо виден. Мы стояли у стога сена, где ночью я спал три часа вместе с бойцами Джиенышбаева. Вдруг со стороны Рюховского и Спас-Рюховского на горизонте показались самолеты. Сначала шли бомбардировщики, эскадрилья за эскадрильей, над ними высоко в воздухе шныряли истребители.
Они шли явно на Волоколамск, по улицам которого мы вчера утром и сегодня ночью проходили походным маршем.
...В облаках, навстречу самолетам, вспыхнули взрывы снарядов наших зениток. Немцы развернулись, пошли звеньями в пике и начали бомбить окраину города, станцию. Черными фонтанами подымались взрывы тяжелых авиационных бомб над домами... Вслед за бомбардировщиками, почти на бреющем полете, пронеслись штурмовики, обстреливая из пулеметов и разбрасывая мелкие бомбы. Затем, как бы подхватывая замирающий гул самолетов и уханье бомб, задребезжал воздух, послышался далекий протяжный, раскатистый гром... Началась артиллерийская канонада. На город посыпались снаряды. Дым окутал дома, деревья, безжалостно полыхал огонь.
— Значит, товарищ комбат, он наносит главный удар по нашему левому соседу и по Капрову, — прервал молчание Рахимов.
— Танки! — крикнул Бозжанов. — Вот собаки, нашим опомниться не дадут! А!
Действительно, шли танки, за ними — мотопехота. А артиллерия все долбила и долбила сосредоточенным огнем.
Вскоре немцы ворвались в город...
Наша рекогносцировочная группа была на большом расстоянии от места жарких боев и не знала, что делать: содержание боя определяется замыслом старшего командира, а поведение подчиненных — задачей, поставленной перед ними.
И замысел старшего командира мне неизвестен, и задача толком перед нами еще не поставлена. Связи до сих пор нет.
— Теперь завязали уличные бои. Это продлится, быть может, до самого вечера, — сказал Рахимов.
...Спустя час на полк Шехтмана и на наш батальон пошли в наступление небольшие части противника.
— Теперь на нас пошли, товарищ комбат.
— Он же должен этими отрядами прикрывать левый фланг своей главной группировки, — ответил за меня Рахимов.
— Идите по своим местам, — приказал я. — Приготовиться к бою. Слава богу, хоть мы отвлечем на себя часть сил противника.
Когда враг уже занял Волоколамск и его отдельные подразделения по обеспечению фланга начали обходить нас, Филимонов со всеми нашими пушками и станковыми пулеметами занял позицию, загибая наш левый фланг. Немцы, увидев этот маневр, приостановились. Обе стороны пока молчали.
Я приказал Брудному и Краеву начать отход повзводно, короткими перебежками, к роще, что позади нас километрах в полутора.
Неожиданно пришли командир полка Шехтман и комиссар полка Корсаков. Как старшему командиру, я доложил майору Шехтману обстановку и свое решение: сначала под прикрытием роты Филимонова вывести из боя Брудного и Краева, потом под прикрытием их огня, с новой позиции, с мыса, что впереди рощи, вывести из боя Филимонова.
Шехман осмотрелся и сказал:
— Да, пожалуй, вы правы.
— Сумеете ли вы так сделать? — спросил Корсаков.
— Ну что спрашиваешь? — обратился Шехтман к комиссару. — Он уже принял решение.
— Надо же нам, как соседям, разобраться в обстановке, — запротестовал комиссар.
— Все ясно. Пойдем отсюда. Наши же ждут.
Когда они отошли, начался артиллерийско-минометный обстрел. Огонь был жиденьким — видимо, стреляло не более двух-трех батарей. Я послал Рахимова к Брудному и Краеву с приказанием немедленно начать отход.
Немец обстреливал. Я с группой людей стоял у каменного сарая, а со склона Тимковской горы спускалась рота, расчленившись повзводно и по отделениям. Перейдя ручей, бойцы попали в зону огня противника и залегли.
Побежали посыльные с приказанием не ложиться, броском перейти шоссе и занимать новые позиции. Заминка минуты две-три. Вдруг все поднялись как бы в атаку, ускоренными шагами пошли, обтекая с обеих сторон каменный сарай. Какое-то отделение, около которого вздыбились два разрыва мин, бросилось было бежать.
— Эй! Не бежать! — крикнул я. — Не бежать и не ложиться!
— Почему бы... — услышал я рядом голос Бозжанова.
— Чтобы люди Филимонова и немцы не подумали, будто наши бегут, — ответил Рахимов.
— Хаби, вы идите с ними и там организуйте оборону. И отойду вместе с Филимоновым.
Рахимов догнал Краева, и они под обстрелом пошли вместе.
— Разрешите мне остаться с вами, товарищ комбат? — обратился Бозжанов.
— Оставайтесь.
Немцы пошли в наступление. Филимонов открыл по ним огонь из всех видов оружия. Начался настоящий бой.
— Немцы залегли! — радостно крикнул Бозжанов.
— Идите к Филимонову и передайте ему: держать так до тех пор, пока наши не откроют огонь.
Бозжанов побежал, раза два споткнулся, упал, поднялся... С немецкой стороны на нашу отступающую группу посыпался рой трассирующих пуль. Наша пушка зачастила выстрелами — беглым огнем. Немецкий пулемет замолчал.
— Молодцы! — вырвалось у меня. Отступающие дошли до лога. Отставшие подбирали раненых.
Немецкая артиллерия и минометы начали обстреливать позиции роты Филимонова. Опять огонь жиденький. Судя по звукам боя, идут жаркие схватки на главном направлении — Волоколамском, и вся артиллерия немцев сосредоточена там.
Прибежал Бозжанов.
— Филимонов просит разрешения на отход.
— Позови его самого сюда.
Из-за угла сарая Бозжанов подает сигналы (видимо, они договорились друг за другом наблюдать): он по-разному машет руками, наверное, то отрицая, то подтверждая, что понял.
Филимонов, согнувшись, помчался к нам. Его рота продолжала вести частый огонь.
Добежав до нас, Филимонов, шумно отдуваясь, произнес: — По ваш...му приказанию....
— Отдышитесь, Ефим Ефимович. Как будто все по порядку идет, — говорю ему.
В это время затрещали ружейно-пулеметные выстрелы с бугорка и заохало несколько пушек с новых позиций Краева, Брудного, Кухаренко.
— Как бы по своим не попали, — забеспокоился Бозжанов.
Синченко подводит из укрытия сарая коней и, кажется, глазами говорит: «Раз там заговорили, пора вам туда ехать».
— Скачи к Рахимову и передай ему: мы сейчас начнем отход, — приказываю бойцу в ответ. — Лысанку тоже забери. Она мне не нужна.
— Ну, Ефим Ефимович, идите к себе и организуйте отход. Только повзводно, перекатами, а орудия отправьте в первую очередь. Пусть они пойдут без всякой остановки. Пока первый взвод не займет новые позиции и не откроет огонь, второму не отходить, все время вести огонь. Вы сами отойдите с первым взводом, а мы с Бозжановым будем стоять здесь и отойдем после вас. Ясно?
— Ясно, товарищ комбат. Разрешите идти?
Опять суматоха ближнего боя, отхода, прикрытия, взаимной огневой поддержки.
Взводы роты Филимонова проходили мимо каменного сарая, где мы стояли с Бозжановым, и, увидев нас, замедляли шаги.
— Быстрее идите! Чего озираетесь! — кричал я. Последним пересек шоссе Филимонов. Я сказал Бозжанову по-казахски:
— Ну, Жолтай, теперь, кажется, наш черед идти.
С бугра усилился огонь наших по немцам.
Мы с Бозжановым шли замыкающими нашего батальона.
* * *
Никто нас не преследовал. Батальон сосредоточился в лесу. Когда мы подходили к новым позициям, Бозжанов спросил:
— К вам можно обратиться?
— Пожалуйста, Жолтай.
— Ругать не будете?
— Сейчас нет, а после обязательно.
— Обещайте и после не ругать.
— Нет. Не обещаю.
— Тогда не скажу вам ничего.
— Ты хочешь рассказать мне что-то неприятное?
— Только для вас неприятное.
— Тогда выкладывай.
— Вы знаете о том, что я участник финской войны, Я кое-что видел в ней больше вашего. Вы меня простите, мы тогда много командиров потеряли. Вы сегодня, мне кажется, неуместно бравировали. Понимаю, когда вы с Краевым и Брудным сами не пошли, но быть замыкающим роты Филимонова не было никакой необходимости. Вы же командир батальона. Конечно, боец всегда думает, что где командир, там менее опасно, но зря рисковать не нужно. Это я знаю по опыту. Вы меня простите за откровенность. Вот они сидят и ждут вас. Они ждут от вас не ласки, а требовательности, хотят знать, как дальше быть, доверяя вам свою судьбу. Если бы мы с вами не дошли, а остались там, кое-кто здесь бы не сидел.
Я задумался над словами Бозжанова, но в ответ ему ничего не сказал, а подумал: «Пожалуй, ты прав, политрук».
Мы сидели на боевом привале. Немец занял рабочий поселок фабрики имени Ленина. Нас он не стал преследовать — видимо, выдохся. По звукам артиллерийской канонады было ясно, что Волоколамск пал, а теперь идут жаркие бои на его окраинах.
Никаких распоряжений от своего начальства я не получал. Рахимов доложил мне, что левофланговый батальон полка Шехтмана организованно, под нашим прикрытием, отошел к лесу, что правее нас. Посланный туда связной доложил, что батальон приводит себя в порядок и собирается обедать. Комбат сказал, что задачи от штаба полка он еще не получил.
— Значит, они отошли в район расположения своего тыла, — заключил Рахимов.
Обычно солдаты на привалах курят, а на больших привалах обедают. У нас не было ни курева, ни еды. Люди сидели, прислонившись к стволам деревьев.
— Что будем делать, товарищ комбат? — спросил Рахимов.
— Будем добираться снова до своих, Хаби.
— Что будем делать с ранеными?
— Те, кого мы накануне отхода эвакуировали в Волоколамск, по всей вероятности, не успели проскочить и попали в руки к немцам, — грустно сказал Киреев, — потому что сопровождавшие их санитары не вернулись.
— Немедленно эвакуируйте раненых в Быки, в этом районе должен быть тыл полка Шехтмана.
Киреев ушел. Его слова огорчили нас всех. Мы молчали. Каждый по-своему переживал трагедию наших раненых товарищей, по-видимому, попавших в плен.
— А может быть, проскочили, а? — сказал Бозжанов, ни к кому не обращаясь. — Лейтенант Беляков и сержант Аалы Джиенышбаев были тяжелы ранены, — добавил он, обращаясь уже к нам.
— Может быть, проскочили, — сказал Рахимов, не глядя на нас.
Снова все замолчали.
Синченко принес пачку «Беломора» и несколько сухариков и протянул их мне.
Принимая их, я спросил его:
— Последние?
Он кивнул головой. Я повертел их в руках. Хотелось есть и курить. Глотнув слюну, я размахнулся и швырнул папиросы и сухари. Они лежали на пожелтевшей траве поляны, все смотрели туда жадными глазами, но никто не тронулся с места.
— Строиться! — приказал я.
Когда все построились, я скомандовал «шагом марш» и, не оборачиваясь, сам пошел во главе колонны.
Минут через пять меня догнал Бозжанов и радостно сказал:
— Товарищ комбат, никто не взял.
— О чем ты говоришь?
— Никто не взял ни папирос, ни сухарей, все прошли мимо, товарищ комбат.
— А ты что, специально оставался караулить?
— Нет. Я шел сбоку колонны и одним глазком...
Это сообщение Бозжанова очень меня обрадовало. Я вспомнил слова Панфилова: «В нашей Красной Армии сила сознательной железной воинской дисциплины должна побеждать холод, голод и все трудности походной боевой жизни. Человек никогда не привыкает ни к холоду, ни к голоду, ни к опасностям боя, ни к трудности похода, а лишь приспосабливается к ним в силу дисциплины. Я вам говорю это как старый красноармеец».
За последние дни мы пережили все невзгоды походно-боевой жизни, а батальон в целом остался батальоном в силу сознательной воинской дисциплины. Это меня радовало, я почувствовал прилив сил, зашагал увереннее.
Я никогда не имел привычки ехать верхом во главе батальона и пользовался конем лишь по срочным делам: для обгона колонны, поездки по вызову начальства. В походе же всегда шел пешком. Эту привычку я сохранил до конца войны, будучи командиром стрелкового полка и командиром стрелковой дивизии.
Говорю об этом не для бахвальства, а видимо, вспоминаю свою молодость, когда у меня было так много сил, здоровья, когда и не думалось о всяких недугах.
* * *
Перед самым вечером, когда мы уже выходили из леса, нас встретили двое верховых. Помощник начальника штаба полка Шехтмана — среднего роста, сухощавый лейтенант Блинов передал приказание начальника штаба нашей дивизии о том, что я переподчинен Шехтману и в дальнейшем должен буду выполнять боевые задания в составе этого полка. Далее, он по карте доложил поставленную мне задачу. Рахимов нанес задачу на свою карту.
Блинов толком не знал обстановки.
— Передайте командиру полка, — попросил я Блинова на прощание, — что задача нам ясна: удерживать дороги в направлении Волоколамск — Быки, Ченцы — Софьино. Следовательно, мы будем занимать оборону по этим голым возвышенностям, а своих вы прячете в лес. Но мы и сегодня прикрывали ваш левый фланг.
— Ну, товарищ комбат, при чем тут я?
— Ваше дело было передать мне приказание, вы его передали, а теперь ваше дело передать вашему командиру полка мои слова, — резко прервал я Блинова. — Батальон с двадцать третьего не спал, а сегодня двадцать седьмое. Последние сутки мы не ели, не пили, не курили. Боеприпасы у нас почти на исходе. Доложите ему, что мы нуждаемся в срочной помощи вашего полкового тыла.
— Есть, товарищ старший лейтенант, все доложу. Блинов со своим коноводом поскакал. Мы пошли к рубежу обороны. Перед самым закатом солнца провели рекогносцировку. Местность была открытая. Ее прорезала неглубокая ложбина, на дне которой протекал ручей, поросший мелким кустарником. Левая сторона ложбины, обращенная к противнику, возвышалась над правой, образуя высоту. На полях было несколько стогов сена. Справа был лес, откуда мы только что пришли.
Роты пошли занимать свои участки обороны. На правом фланге, по обеим сторонам моста, заняли позиции два наших противотанковых орудия под командованием лейтенанта Терпакова. Поддерживающий нас артиллерийский дивизион ушел занимать огневую позицию в районе Быков. Штаб наш расположился у мыса, на излучине оврага.
Рахимов аккуратно начертил схему-донесение с указанием боевого порядка батальона, с заголовком: «Командиру Н-ского стрелкового полка товарищу Шехтману. Согласно вашему приказанию, батальон занял оборону в районе... Боевой порядок указан на схеме».
Я подписал это донесение.
Ночь была лунная. Мы с Рахимовым пошли проверять передний край. Бойцы рыли окоп.
— Люди из сил выбились, товарищ комбат. Очень медленно работается, — сказал Краев, подойдя ко мне.
— На голой земле лежать не будем. Ройте потихоньку. Скоро, может быть, на ужин чего-либо подбросят, — ответил за меня Рахимов.
Дав командирам рот некоторые распоряжения на ночь об охране боевого порядка, мы с Рахимовым возвращались в штаб. В эту печальную ночь луна плыла на небе Подмосковья неровно, а порою, ныряя в облаках, скрывалась совершенно.
К нашему приходу люди под руководством Степанова соорудили шалаш, накрыв его толстым слоем сена. На полу тоже был подстелен толстый слой сена, по углам валялись наши нехитрые пожитки.
Меня одолевала усталость. Войдя в шалаш, я лег, подложив под голову противогаз. За шалашом стояли наши расседланные кони и жевали сено: хруп-хруп...
Я прислушивался к фырканью лошадей, к тому, как они жевали сено. В детстве я, несмотря на запрет, любил ходить в нашу конюшню, подбрасывал в кормушки сухой клевер, а сам, притаившись в углу, слушал, с каким равномерным, хрустом жевали его лошади.
— Время-то, товарищ комбат, одиннадцатый час, а пока ничего не подбросили. Опять люди без ужина, — с болью в голосе сказал Рахимов.
— Знаете, Хаби, что казахи говорят, когда нечего есть: голод утоляют сном или интересной сказкой о хорошей еде.
— Знаю, товарищ комбат.
— Есть татарское блюдо биляши. Я впервые ел это вкусное блюдо, когда мне было девятнадцать лет.
— Что, разве у вас биляшей не готовят?
— Нет, не готовят. У нас, бесбармак, супы, баурсаки.
— Степанов! Вы не заснули?
— Нет еще.
— Спите. Мы с комбатом биляши будем есть. Как наедимся, так вас разбудим подежурить.
— Есть, спать.
— Ну, рассказывайте, товарищ комбат.
— История давнишняя. Рассказ длинный. Он кончается биляшами. Может быть, не стоит начинать?
— Нет, расскажите. Все равно часика полтора-два нам придется подежурить, товарищ комбат.
— Когда вы приказали командирам рот прийти с докладом?
— К часу ночи они должны прийти сюда, доложить о готовности обороны, товарищ комбат.
— Раз они не спят, давайте мы тоже не будем.
— Рассказывайте, товарищ комбат.
— Работал я тогда секретарем исполкома у нас в районе, — начал я не спеша. — Районным ветеринарным врачом был пожилой, рыхлый толстяк Леонтьев Тимофей Васильевич. Вот наш Киреев очень похож на Леонтьева. Если бы их поставить рядышком, это по внешнему сходству и характеру — родные братья.
Однажды в базарный день ко мне приходит отец и велит мне быть через час на ветеринарном пункте: «У доктора переводчиком будешь». Сказав это, он ушел.
Я пришел на ветпункт. Там было много казахов. Кто привел больного коня, кто корову, кто верблюда. А двор у Леонтьева был большой. Он в халате стоит посредине двора и принимает по очереди животных. Что-то объясняет казаху жестами, а его помощник, тоже не знающий казахского языка, выдает лекарство и тут же смазывает животному рану. С одним казахом доктор никак не мог толком объясниться и только беспомощно разводил руками. Тут я не выдержал и взялся переводить.
В это время отец привел во двор нашего гнедого мерина. Этот конь был любимцем отца — сухопарый, тонконогий, с длинной шеей, маленькой головой. Казахи, ожидавшие очереди, расступились перед отцом, почитая его преклонный возраст. Ветеринару, видимо, не понравилась эта внеочередность. Конь хромал на заднюю левую ногу. Почему-то стянулись, как я заметил, сухожилия. Доктор осмотрел коня, махнул рукой: «Твой конь пропал». Отец стал упрашивать доктора еще раз внимательно осмотреть коня и полез в карман за деньгами. Ветеринар рассердился и, обращаясь ко мне, сказал: «Скажи этому ахмаку3, чтобы он своего коня на махан4 пустил». Отец смутился и, не проронив ни слова, увел коня. Я так растерялся, что опомнился только тогда, когда отец был уже на той стороне улицы.
Прошло два месяца. Опять в базарный день зашел ко мне один из наших аульных джигитов и передал мне просьбу отца быть на ветеринарном пункте. Сгорая от стыда за прошлый конфликт, я пошел на ветпункт. Опять было много народу с животными.
Вдруг во двор на полном галопе въехал на гневом отец, прогарцевал вокруг Леонтьева, дал свечу. Леонтьев остановил прием. Все засмотрелись. Отец взглядом нашел меня. Он снова прогарцевал перед носом доктора, резко осадил коня и, указывая концом плетки на Леонтьева крикнул:
— Эй, переводчик, скажи этому дураку, что его самого надо пускать на махан.
Потом повернул коня, перескочил через коновязь — и ускакал. Я ушел на службу.
Часа через два ко мне зашел Леонтьев.
— Где ваш отец? — спросил он меня и смущенно добавил: — Я перед ним виноват, хочу перед стариком извиниться. Помогите, пожалуйста.
Отца нашли на базаре. Он сидел в чайхане в компании стариков. Отец не хотел принять извинительное приглашение доктора на чашку чая, но сверстники уговорили его и притащили к доктору. Леонтьев принес извинения по всем правилам. На террасе был накрыт стол, шипел самовар. Я сидел за столом в качестве переводчика и впервые в моей жизни ел вкусные биляши.
— Да, интересно. Старик был принципиальный, и доктор тоже хороший человек, — сказал Рахимов. — А биляши еще лучше, — рассмеялся он.
...Меня тормошил Рахимов:
— Товарищ комбат! Товарищ комбат! Из штаба полка пришли.
Я проснулся, сел. Передо мной стояли Блинов и пожилой располневший капитан. На нем все было рыхлое: шинель не заправлена, ремень косил от тяжести пистолета, ушанка сползла до самых бровей. «Штатский. Какой-то бухгалтер в военной форме», — подумалось мне. Видимо, капитана задело, что я не вскочил и не представился навытяжку. Он нахмурился, исподлобья посмотрел на меня, спросил:
— Кто здесь командир батальона?
— Я.
— Почему у вас, товарищ старший лейтенант, безобразие?
— Какое безобразие?
— Почему ваши люди спят? Где вы находитесь? На войне же!
— Не на курорте, товарищ капитан!
При этих моих словах стоявший позади капитана Блинов прыснул. Капитан зло посмотрел на него.
— Доложите обстановку!
— Нет, извольте сначала вы доложить, кто вы такой и зачем пожаловали сюда?
— Я начальник химслужбы полка, капитан Булатов, — смутившись, представился он. — Мы приехали проверить ваш батальон.
— Что вы думаете, от вашей проверки положение батальона изменится? Вот вчера этот ПНШ тоже приезжал проверять, обещал златые горы, а батальон до сих пор голодный и боеприпасы на исходе. Вы нечестный человек, ПНШ! — обрушился я на Блинова.
— Я доложил, товарищ комбат, кому следует, — смущенно оправдывался Блинов.
— Вы, товарищ старший лейтенант, слишком вольно ведете себя, — вспыхнул Булатов и начал было меня ругать.
— Мне ни ваши окрики, ни ваши нравоучения не нужны. Я нуждаюсь, мы нуждаемся в питании и боеприпасах, товарищ капитан. Бросили батальон на голое место, толком не поставили задачу, не ввели меня в обстановку, нисколько не заботитесь о людях, потом изволите проверять, изволите приезжать. По-моему, вы оба от безделья приехали...
Все это я выпалил залпом.
Капитан потемнел, нахмурился, что-то пробурчал себе под нос, исподлобья посмотрел на Блинова. Наконец сказал:
— Ну, что мне передать командиру полка?
— Передайте все мои слова. Несмотря на то, что вам, видимо, наплевать на судьбу чужого батальона, мы выполним поставленную перед нами задачу.
Булатов грузно поднялся и, обращаясь к Блинову, сказал:
— Ну, все, кажется, ясно. Поехали, ПНШ.
Позже я узнал Булатова поближе. Он оказался простым и очень добродушным русским человеком. Впоследствии он часто вспоминал нашу первую встречу и смеялся.
Когда топот коней возвестил об отъезде посланцев Шехтмана, я успокоился, лег, хотел заснуть, но не смог. Поднялся и пошел на передний край.
Утренний рассвет. На голой высоте наши одиночные окопы темнели разбросанными валунами. Люди спали на сырой земле. Дежурные командиры и постовые ежились от предутренней прохлады. Я шел из одного взвода в другой, из роты в роту, вспоминал свою резкость к Булатову, человеку старшему по возрасту и по званию, В оправдание мне нечего было сказать. В мучительном затруднении остановился и огляделся. «Вот мое оправдание», — подумал я, увидев снова черные холмики наших одиночных окопов, на дне которых скорчившись спали голодные, усталые бойцы нашего батальона.
Так я встретил утро 28 октября 1941 года.
Старшина
Когда я подходил к нашему шалашу, со стороны Быков показалась повозка. На ней сидели двое. Они ехали тихо, что-то поддерживали. Я подождал их.
Соскочивший с повозки старшина доложил, что он из полка Шехтмана. По личному приказанию комиссара полка Корсакова привез нам кое-что. «Значит, Булатов доложил комиссару», — промелькнуло у меня. Это «кое-что» оказалось несколькими ящиками патронов и... двумя ведрами вареного мяса.
— За патроны спасибо, а этих двух ведер мне самому не хватит на завтрак, — сказал я старшине.
— Кушайте на здоровье, товарищ старший лейтенант, — расплываясь в добродушной улыбке, ответил старшина.
— Нас пятьсот голодных ртов! Почему хлеба не привезли?
— Я привез то, что мне дали, товарищ старший лейтенант, — опешив, ответил старшина.
— Рахимов! Что будем делать с этими ведрами?
— Будем делить поровну на всех, как делят конфеты, товарищ комбат, — ответил он.
— Тогда вызывайте старшин и политруков рот.
...Пришли люди. Пустили в ход перочинные ножи — принялись делить мясо.
— Передайте, старшина, подробно о том, что вы здесь у нас видели, — сказал я старшине на прощание, прожевывая свою порцию величиной со спичечную коробку.
* * *
День 28 октября 1941 года выдался ясным. Солнце щедро обогревало Подмосковье. Осенний солнечный день в России отличается от наших, южных. Иней на полях и лесных массивах тает по-своему, медленно, испаряется тоже медленно, этаким легким туманцем, пока солнце не поднимется от горизонта на две пики. Потом хмарь не спеша рассеивается, как облака. Все становится мягко, светло. Солнце не слепит, а как, бы успокаивающе ласкает, не жжет, а греет.
Ну, довольно лирики! Война цинично относится к явлениям природы: стоит ясная погода — видимость хорошая, наблюдение обеспечено, — значит, самолеты и артиллерия будут бомбить все живое и мертвое.
В десять часов утра мы услышали гул канонады за Волоколамском, издали увидели силуэты самолетов. Рахимов, прислушиваясь к далекому, глухому гулу боев, раскрыл свою карту, сориентировался, пальцами измерил расстояние и после долгого раздумья сказал:
— Товарищ комбат, верно, начался жаркий бой за станцию Волоколамск. Это по расстоянию чувствуется. Видимо, вчера немцам не удалось захватить станцию. А как вы думаете?
— Если верно то, что вы говорите, значит, Капрон вчера крепко держался. Обозленный немец сегодня с утра начал его дубасить, а в нашем полку чуть ли не перемирие с фашистами. Перед нами противника не видать.
— А если нам послать вперед разведку?
— Вы, конечно, правы, Хаби. Но кто из нас толком ноги тащит? Давайте лучше наши скудненькие силенки к сырой земле приложим, будем углублять окопы. А немцы к нам и без нашего приглашения пожалуют.
В это время со стороны Быков во всю прыть мчался верховой. Он осадил коня, спрыгнул, упал, встал. Я узнал старшину, который утром привез два ведра вареного мяса. Он вытянулся, широко улыбнулся и, еще не отдышавшись, начал:
— Товарищ... ком...бат! Все доложил комиссару... Вот, привез вам сто пачек махорки... газеты… десять коробок спичек...
— Как ваша фамилия, старшина?
— Иванов.
— А как величать будем?
— Просто Ваня Иванов... Иван Иванович в документе пишется.
— Неужели ваши попы не могли хоть кому-нибудь из вас дать другое имя? — нарочито возмутился Рахимов.
— Они со мной не советовались, товарищ лейтенант, — ответил старшина. — Деда звали Иван, отца… Иван, ну и меня назвали Иваном. И фамилия наша — Иванов.
Мы еще немного пошутили с Иваном Ивановичем.
— Ну, товарищ Иванов, большое тебе спасибо от всех нас за курево. Езжай.
Когда Иванов поскакал обратно, Рахимов, глядя ему вслед, сказал:
— Хороший русский паренек. Как наш Степанов.
— Раздать махорку и газеты!
* * *
Я обходил передний край. Бойцы углубляли окопы. Провожая меня, Краев пошутил:
— Завтракать дали, махру дали, — может быть, скоро и выпить дадут.
— С закуской или без закуски?
— Какое же, товарищ комбат, питье без закуски? Раз пить, значит, надо как следует и закусить.
— Ну ладно. Пошутил — и хватит. Займись своим делом.
...Одиннадцать... Двенадцать... Никаких признаков жизни со стороны противника.
— Эх, скучища же! На голодный желудок сидеть без дела! Был бы я большим командиром, пошел бы напрямик в Волоколамск, атаковал бы, уцепился бы за окраину города, по крайней мере, а дальше разобрались бы что к чему, — тараторил неугомонный Бозжанов.
— Бозжанов, ко мне!
— Я слушаю вас, товарищ комбат.
— Чего вы здесь слоняетесь?
— Пришел за махоркой, ну, немножко задержался.
— Идите сейчас же к себе в роту.
— Есть, идти.
Вскоре приехал к нам комиссар полка Корсаков. Я представился ему и доложил по всей форме.
— Ну, пойдемте к вашим людям, — сказал он, выслушав мой доклад. — Посмотрим на местность.
Мы пошли. По дороге комиссар ввел меня в общую обстановку.
— Капрову и Елину и сегодня очень трудно приходится, навалился на них немец. Крепко дрались бойцы. Вот слышите, их колошматят. Тяжелые там идут бои.
Мы шли по переднему краю. Комиссар молча слушал мои объяснения.
На прощание Корсаков немного призадумался и сказал:
— С народом вы, наверное, сами поговорили. Что же мне еще было сказать им на голодный желудок? Что я мог сделать для вас? Утром реквизировал все мясо со всех кухонь штабных подразделений. Мясо послал вам, а бульон оставил им. Вторые сутки у нас перебой со снабжением.
Комиссар попрощался с нами и поехал в соседний батальон.
— В этом полку, товарищ комбат, трое сочувствующих нашей печальной судьбе: капитан Булатов, старшина Иванов и комиссар Корсаков, — пошутил Рахимов, глядя вслед комиссару.
Лейтенант Брудный
Приехал командир поддерживающего нас артиллерийского дивизиона Кухаренко. Он был плохим наездником, но, подражая мне, носил клинок. Он доложил об огневых позициях дивизиона, просил поставить ему огневую задачу. Мы втроем посоветовались, и Рахимов аккуратно нанес на карту задачу с вариантами возможных действий противника.
Кухаренко занял наблюдательный пункт на стоге сена и приступил к подготовке данных для стрельбы.
В два часа дня прибежал Синченко.
— Товарищ комбат! Немцы идут!
Я пошел на свой наблюдательный пункт, на самой вершине бугра. У меня не было телефонной связи. В окопчиках копошились связные бойцы. Да, действительно, идут немцы, идут походной колонной. Недоумеваю: неужели они хотят пройти через нас маршем?
— Ребята! — У меня впервые после школьной жизни вырвалось это слово. — Все бегом в ложбину, а оттуда к своим командирам! — говорю я связным. — Стрелять только тогда, когда немцы подойдут на двести пятьдесят — триста метров, а до этого не сметь открывать огонь. Ясно? Бегом марш!
Бойцы потопали.
Немцы от нас примерно в километре.
Вдруг над колонной противника появилось несколько кудрявых облачков. Это — разрывы шрапнелей, брызжущих, как из дробовика, снопами свинцовых пуль.
— Ах, черт! — закусываю палец. — Это Кухаренко преждевременно открыл огонь! — Досадую. — Синченко, беги к Рахимову: пусть он пойдет к Кухаренко и передаст, чтобы долбили вперемежку шрапнель с гранатой. Ты запомнишь эти слова?
— Вперемежку шрапнелью с гранатой, — повторяет Синченко.
— Беги быстрее!
Итак, мы преждевременно обнаружили себя перед немцами. Немцы-то шли без разведки, и мы их не наказали. Если бы была телефонная связь, этого не могло бы случиться.
Совсем недалеко от окопа, где я находился, разорвалась крупнокалиберная мина. Я поднялся. Немец долбил по бугорку из минометов, пушек. Всюду фонтаны разрывов, всюду оспины воронок.
Началась настоящая артиллерийско-минометная суматоха.
Мне хочется многое сказать командирам, мне хочется сказать многое бойцам, но у меня нет волшебства человеческого гения для разговора на расстоянии — телефона. А у немцев есть!
— Товарищ комбат! Ваше приказание выполнил!
— Товарищ комб...
— Товарищ... — слышу я доклады связных.
— Хорошо, садитесь, ложитесь, — ответил я им всем.
Далее дело шло своим чередом — не я управлял боем, он управлял мною. Вернее, я реагировал на суматоху боя. Впрочем, я неправильно выразился: не суматоха, а настоящий бой массы солдат с солдатами. Я знал, что в настоящем ближнем бою каждый солдат предоставлен самому себе. В ближнем и рукопашном бою никто не слушается команды. Меня не слушал мой батальон. Меня не слушал мой дивизион.
Каждый был занят своим личным боевым делом, каждый по-своему решал боевую задачу. Я был на положении того дирижера, который «завел оркестр», а далее оркестр уже не смотрел на его дирижерскую палочку.
Пришел Рахимов.
— Товарищ комбат, первая атака противника отбита!
— Хорошо, — безразлично ответил я. — Они больше в лоб не пойдут, обеспечьте фланги. Они попытаются обойти нас с какой-либо стороны.
— Перестроить боевой порядок?
— Нет. Пока не надо... Обедать бы... Люди не обедали?
— Какой обед?
— Раненых много? Всех своим ходом в Быки. Только тяжелых пусть Киреев отвезет.
— Что с вами, товарищ комбат? Вы сами ранены?
— Нет, я не ранен. Идите выполняйте.
Я осмотрелся кругом. Все на своих местах, наша позиция пока не сломлена. Это хорошо!
...Противник опять начал молотить. Его пальба застала меня в одиночном окопе у бойца. Свист пуль над брустверами, хлопанье мин, жужжание осколков прижали нас к стенам маленького окопа.
— Как начнется атака, — сказал боец, — я подымусь и буду стрелять по фашистам, а пока они долбят — пусть долбят, угодит в мой окоп — хорошо, не угодит — еще лучше.
Так говорил со мной совсем желторотый боец.
— У вас пистолет, товарищ комбат, он далече не берет. А у меня винтовка. Вы сидите. Я буду стрелять.
Началась атака.
— Товарищ комбат, — обратился он ко мне в самом разгаре боя, — хотите посмотреть, как человек камнем падает? Подымитесь-ка. Интересно получается.
Я поднялся. Немецкая цепь шла стройно и строго. Падали, поднимались. Трещали автоматами. Наши стрекотали из винтовок и пулеметов. Обе стороны упорствовали. Молодой солдат приложился к прикладу. Выстрел... Опять выстрел.
— Два раза попал в фашиста, — признался он грустно, — а в эти два раза промахнулся.
— Дай мне винтовку, — приказал я солдату.
Он отдал мне свое оружие. Я выстрелил. Один в цепи упал камнем.
— Вы в кого стреляли?
— В того.
— Не может быть!
— Стреляю в того, который бежит зигзагами. Следи!
— Это здорово! — восхищался юноша. — Дай заказ.
— Сами выбирайте.
— Тогда следи.
Я выпустил целую обойму. Передав винтовку бойцу, я сказал ему:
— Я, друг, снайпер. Ты убедился в этом?
— Да, вы настоящий снайпер, — наивно-восторженно ответил юнец.
Я действительно был снайпером. Об этом можно прочитать в рассказе «Помкомвзвода Николай Редин», но здесь я хотел сказать совсем о другом. Мое снайперство ничто по сравнению с зорким глазом советского воина, стоящего на переднем крае и достойно ведущего себя в самые критические моменты боя.
* * *
Итак, наш батальон отбил вторую попытку немцев с ходу смять нас. Осень 1941 года. Травы в подмосковных полях потеряли свой жухло-зеленый цвет. На травах осели пыль походов и копоть боев. Земля России изранена. Всюду чернеют воронки. В наспех сооруженных братских могилах плечом к плечу лежат верные сыны Родины: Иван Иванович Иванов, тунгус и казах, кавказец и киргиз, удмурт и узбек, татарин и таджик, молдаванин и украинец и... сын одного из малочисленных народов караим Султан-Мухмуд Шапшал.
Их могилы заросли бурьяном, но их дела цветут тюльпанами.
Такими были из нашей дивизии: украинец Тимошенко, русский Севрюков, киргиз Аалы Джиенышбаев, татарин Каюм, украинец Лысенко — командир батальона, капитан Манаенко — начальник штаба полка, еврей Аузбург — начальник штаба артиллерийского полка нашей дивизии, казах Мусаев — политрук и много-много других боевых товарищей.
Боевая биография каждого из них достойна повести или романа.
...Я как-то накричал на Рахимова и был несправедлив. Он мне сказал:
— Что вы, товарищ комбат, говорите... Простите... мне показалось, что вы какую-то несуразицу сказали.
— Значит, твой комбат, Хаби, давным-давно должен быть в психиатрической больнице?..
— Какое недоразумение, товарищ комбат!
— Хаби! Слушай меня! Мне очень нелегко с нашим батальоном. Ты понимаешь?
— Разрешите доложить, товарищ комбат: и нашему батальону нелегко с вами.
* * *
Опять угнетающая тишина. Не стреляют наши, не стреляют и немцы.
— Рахимов! Почему такая тишина?
— Вроде «перемирие», товарищ комбат.
— Мне не до шуток. Скажите, почему и наши и они замолчали?
— Я думаю, что немец решил теперь обойти нас. Ведь фланги-то у нас голенькие, товарищ комбат.
— Правильно он решил! Он, значит, обнаружил нашу ахиллесову пяту. Расставьте пулеметы на фланги, прикажите им косоприцельным огнем строчить и строчить. Кухаренко пусть тоже бросит два десятка гранат по флангам...
Рахимов ушел.
— Синченко, вызовите ко мне политрука Бозжанова.
Бозжанов пришел.
— Будешь младшим адъютантом батальона. Для дела в штабе людей не хватает. Беспартийному Краеву передай, что с сего числа он — и командир и политрук роты — единоначальник.
— Товарищ комбат, разрешите...
— Не разрешаю! Повторите приказание.
Бозжанов повторил приказание:
— Идите к Краеву. Немедленно вернитесь сюда же.
...Опять началась минометно-артиллерийская долбежка. Главным образом били по нашим флангам. Огонь был сосредоточенный, мощный.
Кто-то стремглав бежал. Бежал умеючи, низко пригнувшись, зигзагом, падал, подымался. Я узнал Брудного.
Добежав, он камнем упал рядом со мной.
— Брудный!
Он молчал. Я подполз к нему. На его смуглом лице блестел пот, глаза были закрыты. Он не дышал.
— Брудный! Родной мой! — обнял я его. — Зачем ты так быстро бежал? Что ты хотел мне доложить?
Немцы пошли в атаку. Пришел Бозжанов.
— Брудный! — воскликнул он.
— Не тревожь его, он спит.
— Какой вы жестокий человек, товарищ комбат. Он же мертв!
— Не я, а война убила его.
— Простите меня, аксакал.
— Идите по ротам. Степанова пошлите к Кухаренко. Приказываю всем мстить за Брудного. Приказываю отбить и эту атаку фашистов, а Брудный пусть пока будет рядом со мной.
Бозжанов помчался.
— Рахимова пришлите ко мне! — крикнул я ему вслед.
...Мы с Брудным лежали на нашем наблюдательном пункте на переднем крае. Поднялась немецкая цепь. Наши дали им огневую пощечину. Они залегли. Никто из фашистов не подымается, а наши трещат и трещат. Кухаренко вошел в азарт, лупит вперемежку то шрапнелью, то гранатами.
— Брудный, что ты хотел доложить?
Брудный молчит. Молчу и я.
...Пришел Рахимов.
— У наших соседей относительно спокойно, — неторопливо доложил он. — Не понимаю, почему нас так облюбовали фашисты?
— Не нас, а дороги, Хаби.
— Ну, обошли бы себе на здоровье, а то прут и прут почем зря.
— Видимо, командир у них такой же взбалмошный, как я, — плывет против течения.
— Вы, значит, и в бою не забываете мои упреки, товарищ комбат.
— Нет, Хаби, всю жизнь буду их помнить. Ты мне дал большой урок. Спасибо тебе, Хаби.
— Благодарю вас, товарищ комбат.
...Снова тишина, вернее, затишье.
— Хаби, приведите сюда несколько саперов. Пусть мой наблюдательный пункт будет могилой для нашего Брудного.
Пришли саперы.
— Ребята! — обратился я к ним. — Ройте как можно глубже. Гроба не можем сделать, завернем его в солдатскую плащ-палатку. Обмывать не будем: он был чистым и погиб чистым.
Саперные лопаты резали грунт холма. Бойцы работали усердно. Когда вырыли яму больше человеческого роста, снизу мне задали вопрос:
— Довольно или рыть еще глубже, товарищ комбат?
— Довольно! Как раз по его росту.
Рахимов с Бозжановым завернули Брудного в мою плащ-палатку и вопросительно посмотрели: как быть с пистолетом?
— Оставьте при нем все воинские доспехи, — ответил я.
Я подошел к Брудному, снял со своей петлицы два кубика, прикрепил Их к его петлицам, расчесал его пышную шевелюру и сказал:
— Старший лейтенант Брудный, прости и прощай! Грянул залп за залпом.
...На войне много смертей, немало безмогильных солдат. Много безыменных героев. В этот день гибло немало наших воинов, калечилось еще больше. Одни отдавали свою жизнь за Родину, другие орошали нашу священную землю своей кровью, третьи оставались в живых; в числе их, конечно, встречались и мелкие, как вьюны, люди, но о них я не хочу говорить. На солнце не видишь пятен.
У генерала Панфилова
Осень уступает свои права зиме. С запада дует ветер. Он обжигает лицо, иглами колет пальцы, насквозь пронизывает тело. Невольно дуешь на руки, потираешь лицо, топаешь на месте ногами — все для того, чтобы согреться.
Земля окаменела. Когда-то нежно журчавшие ручейки и речка застыли в ледяном безмолвии. Все вокруг окуталось снежным пухом. Зима круто вступила в свои права. С непривычки мы сильно продрогли. Поеживаясь, прячем руки в рукава. Спасаясь от пронизывающего ветра, жмемся к стенам домов. Но это продолжается недолго. Время не терпит. Война остается войной. Ее не перепоручишь другому. За всем должен сам уследить, все должен делать сам.
А стоит почувствовать себя немного свободным от всего, как отдаешься во власть воспоминаний, размышлений, мечтами и мыслями уносишься далеко от окружающего, в другой мир...
Я очнулся от своих глубоких грез и, окончательно придя в себя, заметил, что Лысанка шла рысью, цокая копытами по неровному, окаменевшему проселку.
— Остановись, подожди! — услышал я знакомый голос и, резко натянув поводья, оглянулся. Придерживая рукой кобуру и неуклюже спотыкаясь о мерзлую колею дороги, ко мне бежал Мухаметкул Исламкулов.
Мухаметкул Исламкулов был красивым джигитом о высоким открытым лбом, с бархатными карими глазами. В Чимкенте, когда я еще только оканчивал среднюю школу, он был одним из ответственных работников губернского аппарата. Последние годы до войны он работал литературным сотрудником газеты «Социалистик Казахстан». Он был старше меня лет на пять, очень выдержанный и уравновешенный, и мы все его чтили, как старшего брата.
Мы не встречались с самого начала боевых действий нашего полка. Я почувствовал, что сильно соскучился по нему. Бросив поводья Николаю, я соскочил с коня и побежал навстречу.
— Родной мой! — воскликнул Мухаметкул. — Ты все такой же, не загордился. — Тяжело дыша после бега, он крепко обнял меня и прижал к своей груди. — Слава твоему отцу, воин, слышали про ваши дела, гордимся и славим. Куда спешишь? Почему не заедешь к нам? Ведь принято: к живым — с поклоном, погибших — добрым словом вспоминать. Да, совсем было забыл, как там Джалмухаммет, Хабибулла, Семен Краев? Живы?.. Такое уж время: вчера не похоже на сегодня, и не знаешь, что будет завтра. Ну, как там у вас? Кто жив, кто... — и он засыпал меня вопросами, не давая вымолвить слова.
— Мухаметкул, не обижайся, но я через полчаса должен быть у генерала.
— Ну, если такое дело, не задерживайся, садись живо на коня! — И он подсадил меня в седло.
— Я вернусь, наверное, часа через полтора. Если не занят, пройди ко мне в штаб, поговори с ребятами и обязательно дождись меня.
— Хорошо, хорошо. Поторопись!
Почувствовав шпоры, Лысанка, закусив удила, бросилась вперед. Едем рысью по лесной дороге. Ветви устремленных ввысь елей запорошены уже отяжелевшим снегом. Вся природа словно покрыта гигантской белой пуховой шалью. В воздухе с воем пронеслась мина, шлепнулась где-то справа, метрах в ста пятидесяти, и в немом молчании леса отдалось эхо резкого взрыва-выхлопа. От воздушных волн вздрогнули, словно в испуге, ветки, и на нас посыпался снег. Над нами назойливыми мухами прожужжало несколько осколков, не причинив зла. А когда два-три из них просвистели совсем рядом, мы невольно пригнулись...
— Я заметил, что у немца вот уже два дня стало привычкой через каждые пятнадцать-двадцать минут бросать на эту дорогу парочку-другую мин, — сказал мой коновод.
— А что же, по-твоему, он должен обстреливать пустой лес? — пояснил ему адъютант. — Он обстреливает дорогу, чтобы запугать нас, затруднить наше передвижение по ней.
— Ты прав, — вымолвил я, и снова все замолчали.
Едем... Путь нам преградила глубокая свежая воронка от крупнокалиберного снаряда. По обе стороны дороги стояли с ободранной корой огромные ели.
— Какое зрелище! — сказал Николай по-казахски. — Метеор, и тот, наверное, не так разворачивает землю.
«Как хорошо Синченко знает казахский язык», — подумал я.
Когда мы перескочили через лежащую поперек дороги сосну, он продолжал по-казахски:
— Видели, с корнем выворотило?
Я промолчал. Заметив, что я не собираюсь говорить, он натянул поводья, попридержал своего гнедого и занял свое место рядом с адъютантом.
Деревня Шишкино, куда мы ехали, показалась, как только кончился лес. Терроризировать не только войска, но и население любыми средствами было у немцев привычным приемом. Они обстреливали населенные пункты, расположенные глубоко в тылу, из дальнобойных орудий, в пределах их досягаемости. Потому этой участи не избежало и Шишкино.
Перед нами, на окраине деревни, дымились, догорая, два дома, разрушенные и подожженные прямым попаданием тяжелых снарядов. Один из красноармейцев, перебегающих от дома к дому, делал нам какие-то знаки.
— В воздухе не видно самолетов, чего он нам машет руками? — не смолчал Синченко.
Перед домиком, к которому, словно паутина, были протянуты телефонные провода, мы спешились. Не успел я спросить часового, стоявшего на углу дома: «Генерал у себя?», как услышал знакомый, чуть хрипловатый голос генерала:
— Почему задерживается Момыш-улы?
— Я здесь, товарищ генерал. — И, увидев в дверях седеющую голову генерала, я отдал ему честь.
— Никогда бы не подумал, что вы можете опаздывать, — упрекнул он, но тут же приветливо добавил: — Ничего, ничего, как раз вовремя прибыли. Проходите сюда, ко мне.
У окна на большом столе, будто вышитая скатерть, лежала развернутая военная топографическая карта. После приветствий генерал подошел к столу и, опершись на него руками, молча, сдвинув брови, впился глазами в карту. Затем черным карандашом сделал в двух-трех местах жирные пометки.
— Вы не голодны? — спросил он, обернувшись ко мне.
— Спасибо. Я сыт. Поел перед выездом к вам, товарищ генерал.
— И все-таки выпейте чайку. На дворе очень уж морозно. Там, в углу, накрыт стол. Не помешает выпить стопочку водки... Я тут еще, оказывается, не во всем разобрался... Погодите малость... — Не поднимая глаз от карты, он продолжал сам с собой, делая пометки на карте: — Да... так, так... пожалуй, так будет вернее... Да, да... отсюда он едва ли пойдет... или надумает?.. Надо преградить ему дорогу здесь... Стойкому условия местности — верный помощник...
Я сидел в углу за маленьким столиком и молча пил чай.
— Напились, товарищ Момыш-улы? Подойдите-ка сюда, потолкуем и посоветуемся...
— Едва ли я гожусь в советчики вам, товарищ генерал.
Он выпрямился и, глядя на меня, произнес дружелюбно:
— На деле иногда у вас неплохо получается, наверное, можете кое-что посоветовать. — Он снова склонился над картой и неожиданно спросил: — А как, по-вашему, когда немцы начнут наступление?
— Я не полностью знаком с обстановкой, товарищ генерал, надо бы ознакомиться, подумать.
— Верно, надо ознакомиться, подумать. Командир всегда должен знать обстановку, думать, рассуждать, предполагать, разгадывать мысли противника, который старается держать их за семью замками. Ну, что ж, посмотрите карту, изучите обстановку, подумайте... Теперь мой черед чаевать, — закончил он улыбаясь.
Затем генерал удобно устроился за столом и принялся пить чай, посасывая мелкие кусочки сахара, который он сам тут же колол щипцами.
Я склонился над картой и приступил к изучению обстановки. С западной стороны деревень Строково, Ченцы, Мыканино, Ядрово, Дубосеково и других проходила, плотно примыкая к лесу, красная полоса линии нашей обороны. На карте отчетливо выделялись расположение наших полков и узлы пересечения дорог в Горюны, Матренино, к высоте «151,0». Эти районы были обведены карандашом. Я пригляделся еще внимательнее и прочел написанное рукой генерала: «Батальон Момыш-улы». Теперь я понял, зачем вызывал меня генерал. Мне показалось немного обидным, что он хочет переместить нас с передовой в тыл. Параллельно нашей красной полосе проходила синяя линия — передний край противника с указанием районов расположения частей и соединений. Я впервые видел на карте такие относительно полные данные о противнике. По этим данным, силы противника превосходили наши в три, а то и в четыре раза. Теперь понятно, почему немцы месяц не двигались с места: накапливали силы. Такой напрашивался вывод.
Генерал точно прочел мои мысли и заговорил, вставая из-за стола:
— Подробнее знакомьтесь с силами противника. Нужно знать, с кем предстоит встретиться... А как вы думаете? — спросил он, бросив при этом беглый взгляд на карту. — Когда он на нас пойдет?
— С картой ознакомился. Но не могу сказать, что подробно изучил, во всем разобрался. Едва ли одолею ее без вашей помощи, товарищ генерал, — признался я и добавил: — Разобрался лишь в одном: куда вы решили послать меня.
Генерал громко рассмеялся.
— Это-то мне и нужно было. Значит, поняли, куда и зачем пойдете? — спросил он. — По имеющимся у нас данным, противник собрался с силами, закончил подготовку и в ближайшие дни пойдет в наступление. Я думаю, он сосредоточит свои основные силы на Волоколамском шоссе, чтобы кратчайшим путем прорваться к Истре, а оттуда к западным районам Москвы. По тому, как долго и тщательно враг накапливал силы, надо предполагать, что он рассчитывает уже не задерживаться до самой Москвы. Смотрите! Если верить вот этим данным, на нашу дивизию пойдут три-четыре вражеские дивизии. Я думаю, что на этом направлении на нашу долю будет не меньше, если не больше. Разумеется, и у немцев есть данные о нас. Надо ожидать, что враг начнет наступление с полной уверенностью в осуществлении своего замысла, плана. Говорят, что немцы получили приказ ставки любой ценой прорваться к Москве. Если это в действительности так, то предстоят очень тяжелые бои. Нам приказано упорно обороняться. Прежде всего, нам нужно использовать все выгодные условия местности, прилегающей к шоссе. Упорной обороной мы обязаны выиграть время, не дать противнику возможности овладеть шоссе, навязывать бои, отвлекать его силы от шоссе, снижать темпы его продвижения вперед. Но сделать это не легко. Мы добьемся этого, если будем действовать стойко, с умом, умело и ловко...
Генерал еще некоторое время знакомил меня со своими выводами из оценки обстановки, давал советы, разъяснял.
— Если обстановка неожиданно изменится, у меня нет резерва. Своими превосходящими силами враг вынудит передних отступить. А привести в порядок отступающих, сами знаете, нелегкое дело. Я веду все это к тому, — продолжал он, — чтобы вы поняли, что мы должны помешать противнику овладеть дорогами. Если мы будем держать шоссе в своих руках, то его танкам нелегко будет продвигаться через лес, по бездорожью. Итак, ваш батальон должен до двадцатого числа продержаться здесь, на стыке трех дорог, даже в случае окружения противником. — И генерал показал мне на карте свои пометки, пояснил их еще раз.
— Товарищ генерал, разрешите?
Панфилов кивнул головой.
— Признаться, товарищ генерал, меня смущает вопрос: как это можно с одним батальоном удержать линию фронта протяженностью в пять-шесть километров?
— А я вам этого не говорил. На эту высоту поставите одну роту, сюда, на станцию, — вторую, а в Горюны — третью, — пояснил он, указывая карандашом на карте, и, глядя на меня, спросил: — Где тут пять-шесть километров, о каких пяти-шести километрах вы говорите?
— Но ведь между этими опорными пунктами промежутки по три-четыре километра, я должен их охранять и контролировать. Роты разбросаны далеко друг от друга, как же я буду управлять ими?
— Руководить, управлять — это значит самому уяснить задачу, оценить обстановку, выработать и принять правильное решение, довести это решение до сознания каждого. Командир не может — и ему вовсе это не нужно — быть всегда при солдате, у него много командирских дел. Обдумать, приказать, разъяснить, контролировать, управлять, вмешиваться и требовать от всех выполнения приказа! Вспомните наш опыт. Разве я был с вами, когда вы четыре раза оказывались в тылу противника и относительно благополучно выходили? Разве я лично руководил тогда всеми вашими действиями? Нет! Но зато до этого мы с вами вместе обдумали и договорились, в каких случаях как следует поступать. И впредь я не могу быть рядом с вами. Потому и вызвал, чтобы обговорить все подробно. Если есть сомнения, высказывайте, товарищ Момыш-улы.
— Сомневаться не в чем, товарищ генерал, я понял вас, — и, немного подумав, я добавил: — Если немцы начнут наступление шестнадцатого, наши на переднем крае продержатся до семнадцатого, я же должен действовать восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого и, оставшись даже в тылу врага, не должен покидать шоссе... И пока отступающие наши полки приведут себя в порядок, сосредоточат силы и смогут занять боевые рубежи, я должен оставаться на месте, чем бы это ни кончилось. Все ясно, товарищ генерал.
— Вот и хорошо. Вы поняли меня. Так и предполагается, что наступление начнется не позднее шестнадцатого-семнадцатого...
— Разрешите мне идти, товарищ, генерал? Генерал проводил меня до самых дверей и, положив руку на плечо, произнес ласково:
— Как говорится, ни пуха ни пера! Предстоят трудные дни. Держаться надо вам до двадцатого.
— Понимаю, товарищ генерал. Благодарю вас за доверие.
* * *
Наш штаб был расположен в деревне Рождественское. Вернувшись от генерала, я застал там Мухаметкула. Дав указания командирам, пояснив на карте, кто куда должен направиться, я обратился к Мухаметкулу, все это время молча слушавшему наши разговоры:
— Ну, Мухаметкул, будьте гостем. Пока роты будут готовиться, мы сможем поговорить с вами часок. Рассказывайте о себе. О нас, вижу по глазам, вам уже разболтал Джалмухаммет.
Джалмухаммет смутился и, как бы оправдываясь, сказал:
— Я, товарищ комбат, все рассказал, как на самом деле было. Ей-богу, ничего не прибавил и ничего не убавил.
— Значит, ты выдал военную тайну? — нарочито строго упрекнул я Бозжанова.
Исламкулов расхохотался.
— Да, Жолтай действительно до твоего приезда не дал мне и рта раскрыть, выдавая все твои «военные тайны».
Его раскатистый смех был широк, как простор степей. Для непривычного слуха этот смех показался бы диким. Я заметил, что рассерженный Бозжанов мгновенно преобразился — он смущенно улыбался, смотрел на Исламкулова и, должно быть, вспоминал вот такой же смех деда, отца и дяди — старых степняков.
У нас, казахов, был развит «культ старшинства» («не перечь нравам старших» и «старшие всегда правы»), соблюдение дисциплины и уважение к старшим прививались с детских лет, и это на войне очень помогало.
Я извинился перед Исламкуловым, а Бозжанов — передо мной.
Мое извинение Мухаметкул принял не без удовольствия и, как старший, с достоинством начал:
— Да, кто знает, встретимся ли еще. Как говорится по-русски, «неровен час», или, как у нас говорят, «прокладываем путь по лезвию бритвы». В войне трудно предвидеть и предсказать. Сколько прекрасных жизней уже унесла эта прожорливая война!.. Подвиги одних стали достоянием народа, а сколько погибло славных, но безыменных героев. От смерти не посторонишься. Страхов много, смерть одна. Я не верю, что человек привыкает к опасностям, к смерти и делается безразличным. Нет, не верю! Новый приказ генерала, как я понял, — это новое и большое испытание: или вы погибнете, выполняя приказ, или вернетесь, овеянные славой... И то, что старик не скрыл от вас всей предстоящей опасности, — хорошо. Генерал, видимо, понимает, что вера и гору с места сдвинет. Оправдайте, ребята, его доверие.
— Спасибо, Мухаметкул, за доброе слово. Спасибо. А теперь расскажите, как жили это время? — перебил его Бозжанов, не сумев скрыть лукавой довольной улыбки и озорного блеска в глазах. — Хочется и о вас узнать, а то минут через пять комбат погонит всех нас отсюда.
— Роты двинулись по назначенному направлению, товарищ комбат, — доложил вошедший Рахимов.
— Придется, Мухаметкул, продолжить разговор в пути, — прервал я беседу, и мы вышли из штаба...
Рекогносцировка
Вот уже два часа мы изучаем высоту «151,0», знакомимся с окружающей местностью, оцениваем ее с точки зрения предстоящего боя. Я и Семен Краев стоим у моста на перекрестке двух дорог.
— Итак, Краев, — говорю я, — надо полагать, что враг пойдет по одной из этих дорог. Ему будет очень удобно воспользоваться густым лесом и подойти вплотную. Но ты не воюй в лесу. Нет никакой надобности, имея восемьдесят человек, играть с противником в прятки. Ты отступи, выйди из леса вот сюда, на прогалину. На открытой местности удобнее встретить врага прицельным огнем.
— Но ведь и ему, товарищ комбат, будет легко, прикрываясь лесом, открыть огонь по нашим людям. Он может использовать условия местности в свою пользу, — заговорил Краев с тревогой.
— Эх ты, голова! — оборвал я его, повысив голос. — Разве я тебе говорю, чтобы ты вышел на опушку и подставил грудь под пули? Как ты не можешь понять мое «встретить»! Надо подождать, пока немцы метров на сто пятьдесят — двести выйдут из леса, и тогда открыть огонь в упор.
— Теперь понял, товарищ комбат! — воскликнул он, еле удерживая улыбку.
— Вот и прекрасно. Враг тоже не дурак, и его нелегко будет заманить в ловушку. Для начала он вышлет разведку... Как ты поступишь с ней? — спросил я неожиданно.
Краев постоял, подумал и вместо ответа спросил:
— И то правда, что же мне с ней делать, товарищ комбат?
— Подпусти разведку как можно ближе к себе и уничтожь ее до последнего, чтобы ни один солдат не вернулся.
— А тех, кто сзади, в лесу?..
— Подожди, выслушай до конца. Едва ли их будет больше батальона. Надо полагать, что основные силы противника на шоссе. Он некоторое время будет обстреливать холм, где вы расположитесь. А ты не отзывайся, лежи молча... Как только немцы окажутся на открытой поляне, подпусти их ближе и бей в упор из пулеметов, винтовок — прими их в огневые объятия... Посмотрите, что выйдет. К чему дальняя перебранка? Чем ближе, тем вернее. В таких случаях выигрывает тот, кто не боится ближнего боя. Итак, надо решиться твердо, без колебаний.
— Пусть будет так, — согласился он.
— Ты еще обдумай все сам, Краев, чтобы не допустить оплошностей.
— Вы правы, товарищ комбат, тут еще подумать надо, — сказал он. — Ничего не пожалеем, отстоим, — и, немного помявшись, спросил: — А какая от вас будет помощь? Что делать, если обстановка осложнится?
— Ты хочешь знать правду? — спросил я его.
— Конечно, товарищ комбат, а как же...
— Не жди с моря погоды. Если связь по телефону не будет нарушена, я смогу помочь...
Но Краев не дал мне высказаться до конца и прервал торопливо:
— Постараемся держать линию связи в исправности.
— В критический момент я поддержу тебя окриком, а может, бранью, — пошутил я.
Краев улыбнулся.
— Другой помощи, товарищ комбат, не будет?
— Другой помощи не будет, Семен. Ничего у меня нет... Наоборот, если положение наших в Матренине и Горюнах ухудшится, то я заберу у тебя человек тридцать-сорок. И об этом помни. Ты все-таки сравнительно в стороне. Здесь будет значительно легче, чем на шоссе.
— Но вы нас не забывайте, товарищ комбат, — попросил Краев, слегка побледнев. — Ваш голос в трудные минуты всегда поддерживал меня, — добавил он менее уверенно.
— Ты что, прощаешься со мной? — прикрикнул я на него.
— Нет, что вы, товарищ комбат, — улыбнулся Краев. — Без вашего приказа мы не отойдем, будем держать эту высоту, — твердо заверил он.
* * *
По дороге в деревню Матренино я встретился с командиром первой роты Филимоновым, поговорил с ним и лишь с наступлением темноты добрался до лежащих у шоссе Горюнов.
Когда целый день пробудешь на морозе и войдешь в теплую комнату, щеки и губы начинают до боли гореть, всего тебя одолевает усталость, ты не в силах поднять отяжелевших век, клонит ко сну. Но обстановка требует бодрости, собранности, бдительности. Какой может быть сон, когда на душе неспокойно?!
— Только что прибыла третья рота. Танкову разъяснил, где и как располагаться, — доложил Рахимов, входя в комнату.
Я подробно сообщил ему о положении дел в первой и второй ротах, показав на карте их позиции, затем дал указания, как держать с ними связь, а также по другим вопросам, и вышел с Бозжановым на улицу.
Тишина. Темная ночь. Все вокруг покрыто снегом. Лес погружен в безмолвие. Лента дороги тянется, словно новая тесьма на ткацком станке: прямая, без изгибов. По сторонам дороги темнеют избы. Ни звука. Подошел лейтенант Танков. Втроем обошли деревню дважды. Утомленные бойцы, постелив в окопах солому, лежат, тесно прижавшись друг к другу; некоторые крепко спят. Лишь дежурные стоят на своих постах, пританцовывая от мороза.
— Я разрешил ребятам малость передохнуть, — доложил мне Танков.
— Это хорошо, пусть вздремнут. Вы успели засветло ознакомиться с местностью, продумали, как организовать оборону? — спросил я лейтенанта.
Танков начал подробно докладывать, кто, где и как должен обороняться. Я выслушал его молча. Что я мог увидеть в непроглядной тьме ночи, что мог исправить.
— Хорошо, утром будет видно. Занимайтесь своими делами, — отпустил я Танкова, и мы вернулись в штаб.
Аккуратный Рахимов уже подготовил всю необходимую документацию.
— Для связи со второй ротой, кроме телефона, выделил двух конных и двух пеших связных. А с первой наладить такую связь или же штаб разместится в Матренине? — спросил меня старший адъютант.
— Штаб останется здесь. Хотя Матренино находится в центре нашей обороны, по-моему, в данной обстановке будет вернее расположиться нам здесь.
— Да, аксакал, самое интересное развернется здесь, на шоссе, — вставил неугомонный Джалмухаммет.
— Ты прав, и потому два «максима», и пушки оставьте здесь, — ответил я, просматривая бумаги.
— Разрешите? — ворвался кто-то.
Я пытался разглядеть вошедшего при тусклом свете свечи. Это был рыжий, курносый коротыш, большеротый, толстогубый, с крупными зубами и маленькими юркими глазами. Он был в поношенной стеганой телогрейке, туго перетянутой широким желтым ремнем.
— Товарищ старший лейтенант, команда истребителей танков в двадцать пять человек прибыла в ваше распоряжение. Лейтенант Угрюмов! — отчеканил он, представляясь по уставу.
Мы невольно улыбнулись, глядя на этого расторопного командира.
— Присаживайся, — указал я на стул перед собой. — Ну, батыр, докладывай, какое у тебя противотанковое вооружение.
Угрюмов сразу притих, даже вспотел от смущения.
— Гранаты... с десяток бутылок...
Все присутствующие засмеялись.
— И это все? Жидковато для танков-то!
— В общем, нас послали к вам... Мы справимся о танками и с пехотой... Посылайте нас по обстановке, — заговорил он гордо, защищая уязвленное самолюбие. — Мои ребята — исправные бойцы, не подведут. Я верю в них, товарищ комбат.
— Это хорошо. Если и солдаты верят в своего командира, что может быть лучше! Вера в человека — самое дорогое, самое ценное...
— И они мне верят, товарищ комбат, спросите вот у политрука, — прервал меня Угрюмов.
Стоявший в углу молодой парень улыбнулся, словно говоря: «Разумеется», и с любовью посмотрел на лейтенанта. Встретившись со мной глазами, он спохватился и, козырнув, представился:
— Политрук Георгиев.
— Хорошо. Подождите немного, мне нужно посмотреть эти бумаги, а потом поговорим.
Угрюмов попросил разрешения покурить, и тут же крепкий дым самосада ударил в нос. Частыми глубокими затяжками Угрюмов жадно курил наспех свернутую из газет самокрутку в палец толщиной. Из больших ноздрей валил густой, едкий дым.
— Ты, случайно, не знаменитый разведчик Угрюмов? — спросил я его.
— Да, был когда-то разведчиком, но меня выгнали из разведки, — ответил он, смутившись.
— За что же это?
— Если можно, я расскажу с самого начала, как было. Вы, наверное, не слышали? — начал он не торопясь. — Пошли мы однажды в разведку. В деревне, куда мы пришли, немцев еще не было. Один колхозник сообщил нам, что они в соседней деревне. Переодевшись в деревенскую одежду, я оставил здесь двадцать своих бойцов и пошел к немцам. Видно, я долго гулял там, и когда вернулся туда, где оставил ребят, немцы уже хозяйничали там. Ищу своих, а их и след простыл. Смылись вовремя. Побродил по деревне, закурил у встречного немецкого солдата и лишь к вечеру добрался до нашего штаба. Доложил все, как было, что видел. Командир долго ругал меня, а потом отстранил от должности. «Солдаты даются командиру, чтобы он руководил ими, использовал их для выполнения боевых задач, а ты пошел сам, а солдат бросил», — сказал он мне на прощание отпустил...
— А теперь, надеюсь, не покинешь своих людей, не будешь баловаться? Разместите по домам бойцов, отдохните. Что вам делать, узнаете утром, — прервал я его.
С воющим свистом упали посреди деревни два снаряда и с грохотом взорвались один за другим. Воздушной волной выбило оконные стекла. Свеча на столе вздрогнула, замигала, но не погасла.
— Судя по звуку, не менее 105 миллиметров, — заметил спокойно Рахимов, направляясь к двери. — Пойду посмотрю место взрывов, товарищ комбат, узнаю, есть ли жертвы.
— Вот, черти, выбили окна, застудили комнату! — возмущался Бозжанов, завешивая окно плащ-палаткой.
До самого утра, через каждые десять — пятнадцать минут, немец бросал на нас два-три снаряда.
Утром, часов в десять, на западе разразилась артиллерийская канонада. Все вышли на улицу. Прислушиваемся к залпам. Чуть было притихли раскаты грома, но тут же возобновились с новой силой. Кругом заухала, застонала земля. Особенно сильно обстреливали наших левее Ядрова. В воздухе кружилось около двух десятков вражеских самолетов. Время от времени они сбрасывали над лесом мелкие бомбы, пикируя, поливали наших свинцовым дождем. А высоко над нами, словно коршуны над добычей, висели в небе, наблюдая происходящее на земле, изучая местность, два стрекозообразных горбатых самолета.
— Любопытно, куда направят основной удар? — произнес Бозжанов, подходя ко мне.
Я рукой показал влево...
Позвонил генерал.
— Враг направил первые удары на Капрова. Дважды были отбиты атаки. Но сбить напористость не удается. Теперь, мне думается, он пойдет на Ядрово. Приготовьтесь, — спокойно предупредил генерал. — Да, вот еще что: вчера в ваше распоряжение была послана команда истребителей танков. Где они сейчас?
— Они здесь, товарищ генерал.
— Отправьте их немедленно в Ядрово. У Елина очень мало людей, пригодятся залатать какую-нибудь дыру, — приказал Панфилов.
Я вызвал Угрюмова и сообщил ему новый приказ.
— Товарищ старший лейтенант, нам давно хотелось повоевать вместе с вашими бойцами, но никак не удается, — улыбаясь, сказал он на прощание.
— Счастливого пути, ребята! Надеюсь, еще встретимся.
* * *
Стоим на улице. Земля вокруг гудит, содрогается от взрывов. Впереди идут жаркие бои. В воздухе кружат самолеты. Завидев внизу жертву, они пикируют, сбрасывают бомбы и, выровнявшись, снова устремляются ввысь.
Все гремит, грохочет, гудит... С каждым часом нарастает сила боя; грохот и гул усиливаются. Над лесом застыли столбы черного дыма. Бои идут в районе Ядрова и Дубосекова. Впереди вступили в жаркую схватку с врагом полки нашей дивизии. Дерутся не на жизнь, а на смерть. Мы стоим на своих позициях. Нас генерал держит в стороне, мы во втором эшелоне. Бойцы роют окопы, готовятся к бою. Постоят, прислушаются, что происходит впереди, и с новой силой, с большим рвением вонзают лопаты в землю.
Я иду на окраину села. Проходя мимо бойца лет тридцати, который замер с лопатой в руках, вслушиваясь в звуки боя, я окликнул его:
— Курбатов, ты что уставился?
Он вздрогнул от неожиданности и, улыбнувшись, ответил:
— Товарищ комбат, когда сам участвуешь в бою, многого не слышишь, не замечаешь, а вот глядишь со стороны — жутковато получается.
— Ты что-то глупости начинаешь говорить. Если тебе, бывалому орлу, жутковато, то каково же другим, — заметил шутливо Бозжанов, шедший позади меня.
— Что вы, товарищ политрук, — возразил смущенно Курбатов. — Если я орел, то вас можно назвать львом.
— Довольно, ребята, а то получается: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку»... Сегодня-завтра и мы начнем. Дело покажет, кто орел, а кто лев.
Поднялись на вершину холмика. Наблюдаем. Бой не утихает, — наоборот, становится все жарче. Не прошло я нескольких минут, как беспокойный Бозжанов взволнованно заговорил:
— Товарищ комбат, а чего мы здесь стоим?
— Разговариваем с передними, — ответил я.
— Вы хотите изучить обстановку? — не унимался Бозжанов.
— Замолчи же! — прикрикнул я, не глядя на него.
— Хорошо, не буду перебивать ваши мысли, — произнес он обиженным голосом.
Рахимов не обмолвился ни единым словом. Я посмотрел в его сторону — он, кажется, думал о чем-то своем.
— Вон, видели? Теперь он замахивается на нас, — заметил Бозжанов, уже забыв о своей обиде.
— Хабибулла, пойди узнай по телефону, что там происходит! — послал я Рахимова в штаб.
Он резко повернулся и пошел было, но я задержал:
— Если наступление началось, приступай к подготовке наших.
— Есть, товарищ комбат! А как сообщить вам?
— Мы не задержимся здесь долго...
На переднем крае
По дороге к деревне Мыканино шагало семнадцать бойцов. Во главе шел лейтенант Петя Угрюмов. Он шел, не оглядываясь по сторонам, широким шагом, как бы отмеряя расстояние.
Тонкий, бледный юноша быстрыми шагами догоняет строй. Это политрук Григорий Георгиев...
Кругом грохочут, вздымаясь огненно-черными фонтанами, взрывы артиллерийских снарядов и авиационных бомб, воют мины, свистят пули, горят дома. Впереди мелькают перебегающие из ячейки в ячейку бойцы. С наблюдательных пунктов внимательно смотрят вдаль командиры. На серых полях, прорезанных траншеями, идут жаркие бои.
Их семнадцать, истребителей танков. Они заняли позицию у деревни Мыканино.
...К мосту у деревни Строково подходит группа бойцов с тяжелыми ношами. По команде «По двое, по трое» они поспешно рассыпаются, волоча по снегу квадратные ящики. Кто поднимается на мост, кто карабкается под мостом, взбирается по толстым быкам на нижние перила опоры моста. Они чего-то ищут, что-то приспосабливают, прикрепляют, рубят топорами стучат молотками, вбивают гвозди, что-то пригоняют, примеряют, что-то привязывают... Кажется, что они старательно чинят, ремонтируют...
Но нет! Саперы минируют мост. Им приказано с подходом вражеских танков взорвать его.
Их одиннадцать.
А тот, который перебегает из группы в группу, часто жестикулирует руками, как бы говоря: все не ладно, и покрикивает на людей, требуя делать точно, как он хочет, — это и есть их командир, лейтенант Иван Березин...
Тот, который, пулей вылетев из траншеи, бежит назад и шагов через десять падает камнем, снова поднимается, бежит и снова падает — и так до самого леса, — это наш старый знакомый, лейтенант Мухаметкул Исламкулов. Его вызывают в штаб полка...
...В гуще леса стоят повозки, покрытые брезентом. Привязанные к ним лошади пощипывают остатки разбросанного по снегу сена, а поодаль, под громадными елями, метрах в двадцати-тридцати друг от друга, дымятся походные кухни. Около каждой кухни — повар в замызганном, когда-то белом, халате поверх полушубка, с черпаком в руке, несколько бойцов: кто рубит дрова, кто подкладывает поленца в топку, кто чистит мерзлую картошку. Это пищеблок батальона, где готовится обед. А люди, что находятся здесь — это ездовые, повара и рабочие по кухне, выделенные по наряду. Их двадцать человек.
...На опушке леса, позади Дубосекова, буханкой лежит запорошенная снегом сопка. К ней тянутся телефонные провода. Это — наблюдательный пункт командира полка. Врытый в сопку узкий бревенчатый блиндаж. В срубе оконце. На треногах рогатая артиллерийская стереотруба, на дощатых скамейках несколько полевых телефонных аппаратов в желтых кожаных чехлах и радиостанций с короткой антенной. Посередине блиндажа на столике горят две восковые свечи.
Прильнув к окуляру стереотрубы, стоит небольшого роста, худощавый, с вытянутым лицом, узкими квадратными усиками полковник. Если бы не светлые прищуренные глаза, его по цвету кожи можно было бы принять за туркмена из знойных Кара-Кумов. Это Капров — самый старший по возрасту и по выслуге лет командир полка в дивизии.
Полковник наблюдал за полем боя и, не оборачиваясь, отдавал распоряжения и приказания.
— Немедленно дать сосредоточенный огонь двух дивизионов по северной окраине Дубосекова... Опять там показалась пехота с танками!.. Немедленно!.. Так, так, хорошо. Сообщите капитану Молчанову, что огонь артиллерии — на станцию, там показались танки и пехота, пусть он теперь рассчитывает на свои силы и средства... Прикажите артиллеристам засечь позиции дивизиона, который ведет огонь по высоте номер... и подавить его. Ни в коем случае не трогаться с места, встречать огнем. Контратаковать — значит, оголить позицию... Немедленно подвезти противотанковые гранаты и раздать бойцам...
В блиндаж наблюдательного пункта входит генерал Панфилов в сопровождении сухого, щупленького, но с гордой осанкой артиллерийского подполковника. Если бы на нем не было аккуратной, со вкусом подогнанной военной формы, он напоминал бы скульптурный портрет Вольтера, усмехающегося с философской холодностью: все в этом грешном мире преходяще, и перемен никому не избежать... Подполковник — командир артиллерийского полка дивизии Георгий Федорович Курганов.
— Товарищ генерал-майор, вверенный мне полк...
— Здравствуйте, Илья Васильевич. Здравствуйте, — прерывает Капрова генерал, подавая ему руку. — Садитесь, пожалуйста, садитесь, Илья Васильевич, — предлагает Панфилов Капрову.
Потом, не спеша расстегивая крючки на полушубке, говорит:
— Вот что, Илья Васильевич…
— Я, товарищ генерал...
— Вы товарищ полковник, а, по совести говоря, у нас с вами, Илья Васильевич, на деле не выходит ни по-генеральски, ни по-полковничьему, а? Как вы изволите думать, сударь мой?
— Товарищ генерал...
— Я генерал с 1938 года, — повысив голос, прервал его Панфилов. — Что толку от этого, Илья Васильевич? От рубежа Рузы отошел, Волоколамск сдал, а ваш левый фланг... Вы сегодня сдали противнику станцию...
— Я не сдавал, товарищ генерал, у меня отобрали.
При этих словах Капрова Курганов громко хохочет.
Панфилов тоже смеется.
— Значит, вы говорите, у вас отобрали? — спрашивает он.
— Так точно, товарищ генерал! Ведь в нашем боевом уставе предусмотрен и отход. Мы, под натиском превосходящих сил противника, отошли организованно, как это полагается...
— Значит, по уставу?
— Так точно, товарищ генерал!
— Значит, так точно, по уставу, товарищ полковник?
— А вы знаете, что наш устав запрещает отход войск без приказа старшего командира?
— Н-да, товарищ генерал...
— Знаете, Илья Васильевич, у Петра Первого есть такое изречение: «Не держаться устава, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет». Вы, Илья Васильевич, не оправдывайтесь статьями устава, тем более они не в вашу пользу, а лучше обоснуйте ваши решения при оценке конкретно сложившейся обстановки боя.
— Он же сказал, товарищ генерал, что не сдал, а у него отобрали. По-моему, это честно и конкретно, — смеясь, говорит Курганов.
— Ну, довольно нам философствовать, и, как говорил Чапаев, «на все сказанное здесь наплевать и забыть!» Давайте-ка лучше разберемся, что у вас тут происходит. Ведь я с товарищем Кургановым не от хорошей жизни к вам пожаловал. Доложите-ка толком, как тут у вас дела?
— Дела, товарищ генерал, по-честному говоря, неважные, даже скверные. Вот посмотрите, товарищ генерал, на карту...
— Зачем карту? Мы же находимся на переднем крае. Лучше покажите на местности. Небось карту я умею читать...
Через час они возвращаются на наблюдательный пункт. Все трое суровы и сосредоточены.
— Ну, что же, Илья Васильевич, показали вы все как следует быть. Немец вас очень уж облюбовал! Обнял он вас по-любовному и никак рук своих разнять не может. Вы жалуетесь, что плохи дела, а я доволен. Держите его так до вечера, а ночью он перегруппируется и утром снова начнет вас молотить.
— Не знаю, товарищ генерал, если он еще нажмет — выдержим ли?
— Что значит — выдержим ли?! — строго перебивает его Панфилов. — Вам приказано держаться!
— Есть, держаться!
— Если вы не растеряетесь, он сегодня серьезную атаку не предпримет — до того он завяз и втянулся в. бой. Дождитесь вечера, перегруппируйтесь и встречайте его огневой пощечиной завтра утром, когда он снова пойдет в атаку. Для нас опасны его танки. Поставьте всю артиллерию на открытую огневую позицию.
— Товарищ генерал, и моих? — встревоженно спрашивает Курганов.
— Да, и ваших.
— А как же тогда с НЗО, ПЗО, СО, ДОН5?
— Пусть стреляют прямой наводкой по танкам противника.
— Тогда мы за один день можем потерять всю артиллерию.
— Потерять, разумеется, кое-что потеряем, но не все. Итак, всю артиллерию на прямую наводку, до единого орудия, за исключением моего резерва!
— Слушаюсь, товарищ генерал!
— Самое главное для нас — завтра дать ему бой, заставить его ввести два полка, что стоят в районе Ивановского и западнее Волоколамска. Пока у него поблизости других резервов нет. Надо сбить ему холку здесь, на этом рубеже, а дальше посмотрим, как он будет ковылять за нами. Вы меня поняли?
— Понял, товарищ генерал.
— Вы здесь оставайтесь, — обратился генерал к Курганову, — а я поеду к Елину и Шехтману. Их полкам тоже не сладко приходится, особенно Елину. Сегодня немец весь день артиллерией и авиацией гвоздит и гвоздит по Ядрову, Мыканину, Ченцам, все к шоссе рвется, неугомонный...
* * *
Серое, туманное утро. Как и вчера, громовая артиллерийская канонада... Как и вчера, идут жаркие бои... К полудню туман рассеялся, выглянуло солнце. В воздухе появились самолеты. Они кружатся, просматривают цели, делают заход, пикируют, бомбят...
Лейтенант Березин перебегает из окопа в окоп. Перед мостом, так же как и в Осташове, в кюветах валяются, задрав вверх колеса, несколько мотоциклов, там и сям лежат трупы в мышино-серых шинелях. Немецкие цепи...
— Ведите огонь перебегая из ячейки в ячейку! Два-три выстрела и — марш в другую ячейку, а то он вас укокошит! Живо! Иванов, ты что в белый свет стреляешь? Целься хорошенько. Я тебе дам — пули за молоком пускать....
Так он бежит от бойца к бойцу, от ячейки к ячейке...
На позицию саперов обрушивается беглый огонь крупнокалиберного артиллерийского дивизиона — словно завыл хор сотен ведьм, потом загрохотал сказочно громадный барабан, затем вздымаются ввысь десятки огромных черно-огненных столбов... Со скрежетом, рокотом, гигантскими черепахами поползли танки...
— Приготовить запалы, проверить шнуры! — приказывает лейтенант Березин. — Следить за мной!
Вот головной танк подошел к мосту, остановился, трижды изрыгнул из орудия огненную струю, затрещал пулеметом и уверенно пополз по мосту. За ним последовали еще три танка... Наши саперы побежали под мост. По мосту танки ползут медленно, ползут осторожно. Головной вот-вот «перешагнет» мост и начнет мять гусеницами шоссе. Но в это время лейтенант Березин с окровавленной головой приподымается из окопа. Лицо его измазано грязью, глаза злые, губы стиснуты. Он резко опускает поднятую правую руку. И в это же мгновение вспыхивает ослепительный свет, огромные серые клубы дыма, как бы распирая ложбину, с оглушительным грохотом обволакивают мост... Казалось, выросла над землей гора из облаков самой причудливой формы. Не видно ни моста, ни танков, ни лейтенанта Березина.
...Лейтенант Угрюмов и политрук Георгиев стоят рядом, прислонившись к стене траншеи. Угрюмов подымается на носки, вытягивает шею и спрашивает Георгиева:
— Что вы там видите, товарищ политрук?
— Что? Все прет и прет. Жмут, Петя, жмут, подлецы, пачками падают и снова пачками подымаются... Вон, танки показались...
— Не по мне, не по моему росту вырыли эту проклятую траншею, — с досадой говорит Угрюмов, нагибаясь, и подкладывая себе под ноги два пустых патронных ящика. И, взобравшись на них, добавляет: — Со вчерашнего дня их за собой таскаю. Эх, мать моя, и зачем ты меня таким малорослым родила?! — с этими словами он становится рядом с Георгиевым.
— Не горюй, Петя. Рост — дело наживное. Ты у нас маленький, да удаленький.
— Ха-ха! Вот это здорово! Рост — дело наживное, вот так сказанул!
— Я правду говорю. Петя, попомни мои слова, — смущенно бормочет Георгиев, поняв, что сказал нечто несуразное. — Через годика два ты, по крайней мере, вершка на два подрастешь. Ты же еще совсем молодой парень — тебе еще расти да расти...
В это время рой пуль со свистом проносится на головами, и бойцы невольно пригибаются.
— Знаете, товарищ политрук, что я думаю?
— Не знаю. Но ты же командир! Принимай решение.
— Я думаю, что нам надо геройство проявить.
— Как?
— Вот видите, штук двадцать танков прямо на наши окопы прут? У нас у каждого по связке противотанковых гранат. Они очень тяжелые: их дальше пяти-шести метров не бросишь. А мы подождем немного, и как только танки начнут гусеницами лапать брустверы, швырнем связки под самое их брюхо. Это уж наверняка будет, товарищ политрук, ей-богу, распотрошим!
— Давай, Петя! Ты справа, а я слева командовать и пример подавать.
— Давайте, товарищ политрук!
...Танки идут развернутым строем. Бойцы, притаившись в окопах, вставляют в гранаты крючковатые, толщиной с папиросную гильзу взрыватели. Вот первый танк с лязгом подполз к траншее — боец поднялся и бросил связку гранат. Под танком сверкнул взрыв. Танк перекатился через траншею, завертелся, остановился и запылал...
И так за несколько минут — двадцать костров над траншеями. С флангов строчат и строчат наши пулеметы, прижимая к земле немецкую пехоту, идущую за танками...
На дне траншеи с запрокинутой головой, с детской улыбкой на лице лежит Петр Угрюмов.
...Лейтенант Исламкулов, возвращаясь из штаба полка, по пути задержался в пищеблоке батальона, что стоит в лесу. Он сидит на ящике из-под продуктов и из котелка, принесенного поваром, ест щи.
— Товарищ лейтенант! Немцы за поляной, — докладывает подбежавший боец.
— В ружье! — дает команду Исламкулов, отставляя котелок.
И когда бойцы разбирают винтовки, он выстраивает их и ведет к опушке леса. Действительно, с противоположной опушки к поляне идут немецкие цепи в маскхалатах. Исламкулов расставляет людей в пяти-шести метрах друг от друга, за толстыми стволами деревьев, сам становится в центре, прислонившись к стволу ели. Когда немцы подходят к середине поляны, он командует:
— Огонь!
По этой команде гремит залп двадцати винтовок.
— Огонь!
Снова и снова залп...
Просочившиеся в тыл автоматчики противника частью уничтожены, частью рассеяны по лесу. Внезапный удар из тыла предотвращен.
...Впереди — лента железнодорожной насыпи. Она правильной дугой возвышается над горизонтом. Торчит несколько домов из красного кирпича, под черепичными крышами. По сторонам этих домов вытянули свои шеи полосатые журавли шлагбаумов. У подъезда к железнодорожному полотну на столбиках висит прямоугольный жестяной лист, изрешеченный пулями и осколками: «Берегись поезда».
Это разъезд Дубосеково.
Траншеи, стрелковые ячейки запорошены снегом. В ячейках — бойцы в полушубках. Опираясь винтовками на бруствер окопа, они прицеливаются, стреляют; перезаряжая винтовки, дыханием согревают пальцы, обожженные холодным металлом затвора, и снова прицеливаются, и снова нажимают спуск. Выстрел, выстрел... Позади раздается гул орудийных залпов. Впереди, в самой гуще немецкой цепи, вздымаются фонтаны взрывов, кто-то падает и больше не встает, кто-то бежит назад; в воздух летят каски, летят рукава, сапоги, штанины, нелепые полы шинелей...
Несколько танков, идущих впереди пехоты, завертелись волчком, обволакиваемые густым черным дымом, и, изуродованные, неподвижно застыли на месте...
— Вот это здорово! — восклицает высокий, красивый брюнет стремя кубиками на петлицах. Он в расстегнутом полушубке, ушанка съехала назад, черные курчавые волосы развеваются на ветру, бинокль на тонких ремешках болтается на груди. — Молодцы наши артиллеристы! Молодцы! — кричит он. — Прямо как пить дать накрыли фашистов!
Он хлопает по плечу бойца, дергает его за воротник и радостно говорит ему:
— Видал-миндал, как наша работает, а? И ты, братец, тоже не зевай! Видишь, как наша берет?!
Это политрук четвертой роты полка Капрова Василий Клочков. Под сильным огнем противника он пробрался во взвод, оборонявшийся у Дубосекова.
Их было двадцать восемь.
Вдруг загрохотали, подобно раскатистому грому, залпы сотен орудий. То со свистом, то с воркующим шелестом полетели снаряды, с воем — мины. У огневых позиций нашей артиллерии забарабанили сотни взрывов. Глухие, от фугасных снарядов, они, выворачивая землю, вздымались густым черным вихрем ввысь: резкие, с треском — осколочные. Сверкнув в воздухе огненно-красной струей, рвались шрапнельные снаряды, со свистом брызгая пулями, оставляя в воздухе облачные барашки серого дыма...
Зловеще-жуткая симфония выстрелов, свиста, воя и взрывов канонады, оглушая все и вся, продолжалась минут двадцать. Все обрушивалось на опушку леса, откуда прямой наводкой вела огонь по танкам наша артиллерия. Черный туман все более густел, обволакивая опушку.
— Смотрите, товарищи, что там делается! — кричит Клочков. — Смотрите, как он обрушился на наших артиллеристов! Он хочет подавить нашу артиллерию, чтобы очистить путь своим танкам...
Увидев над лесом нелепо крутящиеся в воздухе орудийные колеса и бревна от сруба наблюдательного пункта, разбитого крупнокалиберной фугаской, Клочков со злобой, как бы самому себе говорит:
— Да-а-а! Им пока неплохо удается давить наших. Эх проклятые!
— Товарищ политрук! — окликает его боец. — Самолеты!
Действительно, на горизонте, как стая стервятников-грифов, тройками, пятерками идут самолеты.
— По местам! Командиры, ко мне! — призывает Клочков.
По его команде бойцы занимают свои места в траншеях. Подбежавшим командирам Клочков кратко чеканит:
— Сейчас он закончил свой артиллерийский налет, начнет бомбить и обстреливать с самолетов, потом пустит танки. Всем приготовить гранаты и горючку. Ни шагу назад!
...Штурмовики звено за звеном пикируют, бомбят, обстреливают. Впереди слышен рев моторов. Развернутым строем, ведя огонь с коротких остановок, идут танки., Позади раздаются отдельные выстрелы наших уцелевших орудий. Один снаряд попадает прямо в башню головного танка. Делая зигзаги, танк продвигается еще на несколько метров и останавливается.
— Оживаете, милые! — радостно кричит Клочков, оборачиваясь назад...
Затем еще несколько метких выстрелов. Но танков много, они идут, идут...
— Выходит, жидковато стало у нас с артиллерией, — бурчит с досадой Клочков. Затем, поправив съехавшую ушанку, кричит: — Ребята! Приготовить гранаты! На каждого брата приходится по два.
Политрук идет по траншее, и, подойдя к бойцу, повторяет:
— На каждого по два. Это уж не так много. Только ты подпусти его поближе...
— Ничего товарищ политрук, — отвечает боец с напряженной улыбкой, — одного вот этой связкой, а другого горючкой постараюсь.
— Так и будет! — крепко жмет ему руку Клочков...
Разгорелся неравный бой пехоты с танками. Пока танки ползут в восьмидесяти-ста метрах от траншеи, бойцы ведут огонь по смотровым щелям. Несколько танков останавливается. Видимо, брызгами шлепающихся о броню пуль поражен водитель или наводчик. Другие, скрежеща гусеницами, идут прямо к траншеям. Кажется, уже вот-вот перекатятся через траншеи... И вдруг — несколько одновременных взрывов под танками, и у самого бруствера задымили, потом запылали передние танки. Но вот одному танку удается перекатиться через траншею, подмяв под себя бойца... Его сосед, выскочив из траншеи, метнул вдогонку бутылку с горючей смесью. Танк запылал, а боец, сраженный пулей, пошатнулся а упал в траншею...
Клочков грузно прислонился к стене окопа и на мгновение опустил голову.
— Товарищ политрук, вы ранены? — с тревогой спрашивает подбежавший боец. — Идите в медпункт.
— Да, что-то сильно обожгло здесь. Ничего, заживет... Вот еще ползут! — Встрепенувшись от сильной боли, бледный, он обращается к бойцам: — Велика Россия, но отступать некуда — за нами Москва!
Со связкой гранат он бросается на надвигающийся танк. Примеру Крючкова следуют оставшиеся в живых бойцы.
У разъезда Дубосеково на израненном воронками снарядов и авиационных бомб поле замерли, объятые дымом и пламенем, вражеские танки....
Горюны
Горюны. Эта деревушка из двух-трех десятков домов расположена по обеим сторонам Волоколамского шоссе. Дома деревянные, одноэтажные, с нехитрыми заборами, надворными постройками — одна из рядовых деревень Подмосковья.
Первые жители Горюнов выкорчевали лес, отвоевывая у цепких корней метр за метром пахотную землю, и с каждым годом лес отодвигался на десятки метров, местами на полкилометра, местами на километр. Одним словом, Горюны теперь образуют центр неправильного эллипса, окруженного густым лесом.
Если смотреть на карту, то Горюны лежат на ней маленьким черным паучком, от которого паутиной расходятся во все стороны тонкие линии дорог.
Главный опорный пункт и штаб нашего батальона здесь, в Горюнах. Рахимов докладывает, что как сообщили из штаба дивизии, нашему батальону из резерва комдива придаются четыре противотанковых орудия, и спрашивает, где им занять огневые позиции.
— Давайте, товарищ комбат, поставим их на окраине деревни, — советует Бозжанов, наших два и этих четыре. Вот если шесть орудий замаскируем как следует под домами или в сараях, — ей-богу, ни один танк по шоссе не пройдет.
Рахимов неодобрительно, исподлобья смотрит на Бозжанова и что-то наносит на карту. Зная, что у Рахимова есть свои предложения, но он, как всегда, соблюдая такт, не выскажет их, пока его не спросят, я жестом руки останавливаю Бозжанова и обращаюсь к Рахимову:
— А как по-твоему, Хабибулла?
— Тогда разрешите, товарищ комбат, — спокойно начинает Рахимов, пододвигая ко мне свою карту. — Я думаю, что как бы хорошо мы ни замаскировали орудия под домами или сараями, они все равно выдадут себя после первого же выстрела. Достаточно одного прямого попадания немецкого снаряда или бомбы в дом, как он обвалится или загорится...
— А если... — попытался было Бозжанов прервать рассуждения Рахимова.
— Жолтай, слушать надо, когда разговаривают старшие! — оборвал я его.
Бозжанов краснеет, а Рахимов, как бы извиняясь за мой грубый, неуместный окрик, примирительно говорит ему:
— Когда ты говорил, Джалмухаммет, я же не перебивал тебя.
При этих словах Рахимова лицо Бозжанова делается багровым, и он выдавливает из себя:
— Слушаюсь, товарищ комбат! — и растерянно добавляет: — Разрешите присутствовать?
— Я тебя не гоню. Слушай себе на здоровье.
— Я думаю, товарищ комбат, — продолжает Рахимов, — что нам не следует рисковать. По-моему, надо поставить орудия не в самой деревне, а на опушке леса, вот здесь.
Далее Рахимов докладывает свои предположения по схеме, расставляя шесть противотанковых орудий на опушке леса, что окружает деревню.
Объясняя свою схему, Рахимов продолжал:
— Я думаю, товарищ комбат, нам будет выгодней так расставить орудия, чем прятать их в сарае. Во-первых, лес — все-таки лес, каждый куст маскирует; во-вторых, наши орудия не привязаны к колу, а могут свободно маневрировать; в-третьих, наши орудия эшелонированы в глубину по условиям местности; в-четвертых, наши орудия могут взаимно поддерживать друг друга и держать под огнем шоссе от выхода из леса до самых Горюнов... Я, товарищ комбат, побывал во всех тех местах, где наметил огневые позиции орудиям — секторы обстрела позволяют им взаимодействовать, как указано на схеме.
— А как на это артиллеристы смотрят?
— Я им высказал свои предположения. Думаю, если вы примете такое решение, они не будут возражать.
Я посмотрел еще раз на рахимовскую схему и сказал:
— Ты меня убедил, Хабибулла. Раз так обдумал, иди сам расставляй и поставь задачу артиллеристам.
— Слушаю, товарищ комбат. Разрешите идти? Когда Рахимов ушел, Бозжанов смущенно посмотрел на рахимовскую схему.
— Вот как, — сказал я ему. — А ты хотел после первого выстрела похоронить наши орудия в домах и сараях.
— Да, товарищ комбат, — со вздохом ответил он, — выходит, так... Умен наш Хабибулла, умен, товарищ комбат...
— Иди-ка лучше догони Рахимова, и на местности вместе с ним подумайте, как использовать три станковых пулемета из твоей роты. Потом придете и доложите.
* * *
Я остался один.
Тревожная мысль не давала мне покоя: «Зачем я привязал к заборам домов роту лейтенанта Танкова?..» Бойцы уже двое суток, выполняя мой приказ, выворачивают мерзлую землю, роют окопы под домами и сараями... «Одно прямое попадание — и дом или обвалится, или загорится», — сказал Рахимов... »Ты хотел похоронить наши орудия! — обвинял я Бозжанова, а сам заранее хороню целую роту!...»
— Разрешите, товарищ комбат?
Я вздрогнул. Передо мной стоял лейтенант Танков.
Он пришел в наш батальон недавно, вместо выбывшего из строя командира роты лейтенанта Попова. Сергей Танков был среднего роста, стройный шатен, с широким лбом, строгими темно-синими глазами, чуть сплюснутым носом и выдвинутым вперед волевым подбородком. Внешность его как-то невольно запоминалась.
Меня всегда смущала его не по-фронтовому интеллигентская аккуратность и не по-военному подчеркнутая вежливость. И он относился ко мне настороженно. Мне казалось, что он меня изучает. Я его про себя называл «столичный лейтенант». С ним я почему-то всегда говорил на ходу и только на «вы». Он не успел утвердиться в семье нашего батальона, между нами еще не было тон фронтовой, строгой, грубоватой простоты, как с Семеном Краевым, Джалмухамметом Бозжановым и другими подчиненными и одновременно равными боевыми товарищами-друзьями.
Нас, видимо, обоих мучили сомнения, как начать разговор.
— А, Сергей, это ты? — растерянно и фамильярно произнес я это «ты». — Ты хочешь мне что-то сказать.
Его «доложить» меня окончательно сбило с толку.
— Да, военные не «сказывают», а «докладывают», — поправил я себя, — Ну, что? Докладывай!
Почувствовав мою растерянность, Танков запнулся, но, подавив смущение, доложил:
— Бозжанов, товарищ комбат, свои пулеметы в лес потащил, новые позиции выбирает, здесь же пулеметные гнезда вырыты и замаскированы, как вы приказали. Как же, товарищ комбат, нам без пулеметов?..
— Пулеметы будут у вас. И вы пойдете в лес. Я решил деревню не занимать.
— А окопы, что мы вырыли? — вырвалось у Танкова.
— Они вроде запасной позиции будут, на всякий случай...
Я познакомил Танкова со схемой Рахимова и приказал:
— Идите в лес, присмотритесь к местности, наметьте позиции взводам. Будем сообща держать в огневых клещах подступы к Горюнам.
Танков ушел. Я стал наносить на карту свое окончательное решение и писать легенды.
Вспомнились слова генерала: «Нелегко командиру принимать решение. Никогда не пренебрегайте советами людей...»
* * *
К полудню в Горюны приехал на вороном коне начальник артиллерии нашей дивизии подполковник Виталий Иванович Марков. Низкорослый, с прямым носом, прищуренными серыми глазами, на вид — не больше сорока. Слезая с лошади и здороваясь со мной за руку, он сказал:
— Меня к вам послал генерал. Его самого вызвали в штаб армии.
Когда мы вошли в избу, все встали, приветствуя подполковника. Поздоровавшись со всеми за руку, Марков не спеша разделся, сел и, поглаживая светлые волосы, сказал в тоне не приказа, а как бы просьбы:
— Вы, ребята, идите погуляйте, мне нужно с комбатом поговорить.
Офицеры и солдаты безмолвно вышли. Марков развернул свою карту на столе и, разглаживая ее, сказал:
— Трудно приходится, но люди, по совести говоря, дерутся хорошо. Уже вторые сутки держим противника.
Много потеряли людей и техники, но пока деремся. Сегодня наша авиация неплохо работала, и это нам очень помогло...
Далее Марков по карте подробно сориентировал меня в обстановке, показал, на каких рубежах какой полк ведет бой, где и когда вклинился в нашу оборону противник. На его рабочей карте, которую он вел с артиллерийской педантичностью, линия фронта располагалась глубокими зигзагами, напоминая русло извилистой реки.
Он с тревогой говорил о том, что к исходу дня противник может ввести в бой свои вторые эшелоны, которые, видимо, выдержали бомбежку нашей авиации и приготовились к бою. Марков опасался, что наши не выдержат до вечера. Говорил, что генерал поехал к командующему просить подмоги или разрешения отвести полки под покровом ночи на следующий рубеж...
— Пойдемте посмотрим, как все это выглядит на местности!
Вернувшись в штаб, Марков аккуратно нанес на свою карту положение батальона, огневые позиции и, свертывая карту, сказал:
— В основном, полагаю, вы приняли правильное решение. Думаю, что генерал одобрит его. Я ему доложу. Только у вас не продумано, как вы будете пропускать войска через свои боевые порядки, если наши сегодня начнут отход. Давайте вместе обдумаем.
Мы исчертили несколько листов бумаги, обдумывая ряд возможных вариантов.
Прощаясь со мной, Марков сказал:
— Ну, остается пожелать вам удачи. О том, что с вами решили, подробно доложу генералу.
Я его поблагодарил за советы.
«Мария Ивановна»
Как рокот морского прибоя при сильном шторме, доносились издали непрекращающиеся грозные раскаты боев. Над Горюнами эскадрилья за эскадрильей шли наши самолеты. Шли низко, почти прижимаясь к лесу. Выше их, словно буревестники, носились в небе наши маленькие истребители, прикрывая боевые действия штурмовиков. Мы волновались, от души приветствовали наших воздушных бойцов...
— Ну и достанется теперь немчуре, товарищ комбат, — как ребенок, прыгал от радости Бозжанов. — Смотрите, пикирует, а отсюда еще идут, еще.
Меня вызвали к телефону.
— Товарищ Момыш-улы?
— Я вас слушаю, товарищ генерал.
— Где так долго были?
— Обходил позиции, товарищ генерал. Надо было кое-что уточнить.
— Хорошо, уточняйте. Я только что вернулся от хозяина. Он обещал кое-чем помочь нам. Пока он помогает птицами...
— Да, товарищ генерал, они пролетают над нами, — перебил я генерала.
— Хорошо, что вы видите их. Вот мне Виталий Иванович все о вас рассказывает. Я согласен с вами, но почему вы все сосредоточили только на юге? А если он вас обойдет и пожалует к вам с севера, со стороны Покровского, что тогда будете делать? Тыл-то у вас совсем голенький, выходит.
— Тянул, тянул, товарищ генерал, но никак не растягивается.
— Ишь вы какой! — послышался тихий смех в микрофон. — Говорите, «не растягивается?».
— Да, товарищ генерал.
— Вот что, вы не тяните, оставьте все так, как у вас расставлено, но готовьте запасные позиции и по другую сторону Горюнов.
— Есть, товарищ генерал, сейчас пойду...
— Нет, вы сами не ходите. Вы мне будете нужны. Растолкуйте и пошлите людей. К вам скоро красавица в гости приедет, примите ее как хороший хозяин.
— Какая красавица, товарищ...
— Хе-хе, — рассмеялся генерал. — Когда приедет — увидите. Как только она приедет, позвоните мне.
Я вызвал Рахимова, Бозжанова, Танкова. Иллюстрируя схемой, высказал им свои соображения. Если раньше наш огневой щит изо всех видов оружия был направлен на юг, в сторону Ядрова, откуда мы ждем противника, то теперь он должен быть готовым в нужный момент направиться на север, на Покровское, на случай, если противник ударит с тыла...
Когда я высказал товарищам недоумение по поводу приезда к нам какой-то красавицы, которую генерал приказал мне хорошо встретить, Танков неожиданно для всех расхохотался. Я хотел было на него прикрикнуть, но он так непосредственно смеялся, что я невольно сдержался. Его ранее строгие глаза теперь искрились. Лицо преобразилось в юношеском задоре.
— Да это же, товарищ комбат, «катюша»! — сказал он сквозь смех.
— Какая «катюша»? — строго спросил Рахимов.
— Это новый миномет с реактивными снарядами — PC. Почему-то его прозвали «катюшей».
Когда Танков рассказал об этом новом, ранее нам неизвестном миномете, мы тоже смеялись над своей наивностью.
Через час после звонка генерала ко мне вошел высокий капитан с квадратной курчавой черной бородой. Он был в новом полушубке с белым воротником. На голове кубанка из серого каракуля с бордовым суконным верхом. Обут он был в лохматые черные бурки, отделанные, светло-коричневой кожей. Я был изумлен резкой контрастностью во внешнем облике этого человека и не сразу встал. И лишь когда он недовольным голосом пробасил: «Кто тут командир батальона?», я вскочил и представился:
Капитан нахмурил густые брови, без приглашения опустился на табурет и, в свою очередь, как бы нехотя представился:
— Командир дивизиона гвардейских минометов капитан Кирсанов.
«Значит, не так его встретил», — промелькнуло у меня, и чтобы выйти из этого положения, я спросил его:
— Как ваше имя, отчество, товарищ капитан?
— Я вам, кажется, ясно сказал, что я — капитан Кирсанов, — рявкнул он на меня.
— Меня зовут Баурджаном.
— Нечего тут бурлыбуржунчикать! — оборвал он меня, — Давайте лучше делом займемся.
— Есть, товарищ капитан. Давайте займемся. Но я должен сначала доложить генералу о вашем прибытии.
— Докладывайте, — небрежно бросил он.
Я по телефону доложил генералу. Когда генерал приказал мне передать трубку «Марии Ивановне», я еле удержался от хохота, передавая трубку бородачу.
— Капитан Кирсанов у телефона, товарищ генерал... Здравствуйте... Порядок, товарищ генерал... Прибыл в ваше распоряжение... В этом районе, куда приказано прибыть... Двадцать пять. Пока связи нет, но через час наладим... Есть!.. Есть!.. Понял вас, товарищ генерал... Да, да... Сейчас... — Все это он говорил на два тона ниже, чем только что со мной. — Как прикажете... Слушаюсь.
Кирсанов передал трубку мне.
— Товарищ Момыш-улы, с «Марией Ивановной» я буду держать связь через вас. Дайте ему двух командиров. Людей, если можете, накормите. Связь со мной держите в исправности. Все делать только по моей команде. Я отсюда буду махать палочкой...
После того как я положил трубку, капитан, облокотясь на стол и подаваясь вперед, спросил:
— Ты что, старший лейтенант, у своего генерала вроде личного уполномоченного здесь сидишь?
— А что, товарищ капитан?
— Больно уж он о тебе уважительно говорил.
— Он у нас не грубиян, товарищ капитан.
— М-да-а, ты, вижу, парень из злопамятного десятка.
— Впрочем, я знаю ваше имя и отчество, товарищ капитан, — улыбаясь от удовольствия, что удачно съязвил, сказал я.
— Откуда знаешь?
— Генерал вас величал Марией Ивановной.
Кирсанов раскатисто засмеялся. В это время вошли Рахимов с Бозжановым. Отвечая на их приветствия, Кирсанов сказал, улыбаясь:
— Техника наша новая, специальная. Как только нас ни кличут: и «катюшей», и «Марией Ивановной», иные просто «рамой». А меня, коль хочешь знать, зовут Сергеем Ивановичем...
С Сергеем Ивановичем мы решили ряд неотложных дел: одного его наблюдателя отправили с нашим офицером к полковнику Капрову, другого — в район Ядрова, к майору Елину, командиру нашего полка, В комнату втащили радиостанцию Кирсанова. Рахимов пошел распорядиться насчет установления телефонной связи между нашим командным пунктом и позицией дивизиона PC, что стоял в лесу, севернее железнодорожной будки. Наш штаб превратился в узел не только проволочной, но и радиосвязи.
Кирсанов разделся, развернул свою карту и не торопясь вынул из планшета хорда-угломер, транспортир, целлулоидный артиллерийский круг, угольник, циркуль-измеритель, коробку остро отточенных цветных карандашей. Все это он расставил на столе по порядку, посмотрел и сказал:
— Кажется, мое рабочее место готово. Теперь можно приступить к подготовке данных для стрельбы хотя бы по карте. Как ты думаешь, — обратился он ко мне, — по какому району в первую очередь потребуется? У меня всего двадцать пять залпов. Ваш генерал приказал экономить.
Я пододвинулся к его карте, высказал свои соображения и указал ряд участков на переднем крае, где шли бои. Кирсанов внимательно выслушал меня, нанес на карту позицию дивизиона, пометил карандашом те участки, которые я указал, взял в руки угольник, измеритель и, склоняясь над картой, задумчиво сказал:
— А теперь, как говорят хохлы, треба трохи пидрахувати, — и начал производить расчеты.
Бозжанов, все это время безмолвно стоявший в стороне и следивший с явным любопытством за капитаном, незаметно вышел. Он вернулся на цыпочках, держа, к моему удивлению, в одной руке тарелку с закуской, а в другой — бутылку водки. Указывая глазами на сосредоточенного Кирсанова, он подмигивал мне, как бы объясняя: «Нужно попотчевать гостя». Я одобрительно кивнул. Джалмухаммет осторожно поставил тарелку на край стола и налил полстакана водки.
Кирсанов посмотрел исподлобья и, не отрываясь от работы, сказал:
— Полный!
Бозжанов хитро улыбнулся и налил полный стакан, а бутылку поставил рядом с ним.
Кирсанов отмеривал расстояние на карте, чертил множество треугольников, то транспортиром, то целлулоидным кругом измерял углы, записывал данные на полях карты, снова измерял, снова рассчитывал, проверяя свои записи, — он решал множество тригонометрических задач.
Я, как и час назад Бозжанов, с нескрываемым любопытством следил, как сосредоточенно и аккуратно работал капитан. Без ложной скромности скажу, что я, неплохой чертежник и артиллерист, Кирсанову завидовал: он работал вдумчиво и красиво.
Вдруг раздался зуммер полевого телефона. Я поднял трубку.
— Товарищ Момыш-улы?
— Слушаю вас, товарищ генерал.
— Как у вас там, с «Марией Ивановной» все улажено? Как со связью?
— Готово, товарищ генерал...
— Летуны сообщили, что на станции скопление войск, — видимо, это его второй эшелон по Капрову стукнуть собирается, дайте туда для начала два залпа.
Кирсанов, быстро проверив свои расчеты, взял трубку другого телефона.
— Огневая, цель номер... угломер... уровень... прицел... пока пристрелочный. Готовность доложить!
Затем он подошел к радиостанции, надел наушники и, держа в руке микрофон, начал:
— «Буря», я «Молния». Прием!.. Цель номер... Пристрелочные. Прием!.. Хорошо... Следите... Доложите... Я на приеме.
Отдав наушники и микрофон радисту, он сел на табурет и спросил телефониста:
— Огневая готова?
— Цель номер... угломер... уровень... прицел... готово! — повторил доклад огневой телефонист.
— Огонь! — приказал Кирсанов.
— Огонь! — повторил телефонист.
— Выстрел!
— Вправо ноль-ноль... ближе... — сказал радист. Кирсанов быстро произвел корректуру своих расчетов и, обращаясь к телефонисту, сказал:
— Левее ноль-ноль... уровень... прицел... Телефонист повторил команду капитана в микрофон.
— Готово!
— Огонь!
— Выстрел!
— В цель! — радостно кричит радист.
— Веер! — командует Кирсанов.
— Веер! — передает телефонист...
— Два залпа, дивизионом, огонь!
До нас доносятся один за другим два раската грома.
— В цель! — передает радист доклад наблюдателя.
— Огонь! — повторяет Кирсанов. Опять раздаются два громовых залпа.
— В цель! — говорит радист.
— Товарищ капитан, ведь генерал приказал два залпа, а вы четыре дали, — взволнованно говорю я.
— Да, малость ошибку дал, — отвечает Кирсанов и, как бы обозлившись на себя, орет телефонисту: — Стой! Цель номер... Записать установки! — Тот передает эту команду на огневую.
— Знаешь что, — виновато обращается ко мне Сергей Иванович, — если генерал сам не догадается, ты не говори ему, что дали четыре залпа. Он же приказал мне экономить...
— Как говорится, товарищ капитан, «кашу маслом не испортишь»: раз в цель, значит, на головы фашистов...
— Ай да молодец ты! — вскакивает он и со всей силой хлопает меня по плечу. Я чуть не приземлился, а он хохочет. — С тобой, я вижу, можно работать... Как тебя зовут-то? Что-то я не запомнил.
— Это неважно, товарищ капитан.
— Нет, ты мне скажи. Я же тебе сказал.
— Ба-ур-джан, — произнес я по слогам.
Капитан повторил мое имя и хлопнул меня по другому плечу. И опять я чуть не присел от его сильного удара.
Меня вызвал к телефону генерал и сказал:
— Летуны сообщают: «Мария Ивановна» удачно угодила по немчуре и наделала там переполоха. Пока не успели опомниться, повторите еще разик.
Пока я разговаривал с генералом, капитан, подобно провинившемуся шалуну, подмигивал мне, как бы напоминая о своей просьбе умолчать о тех двух залпах, данных в артиллерийском азарте.
Я передал ему приказание генерала. Он, серьезно задумавшись, сказал:
— А как же быть с теми двумя залпами, что мы дали без приказа генерала?
— Ничего, товарищ капитан, раз такое удачное попадание, уж не будем экономить немцев. Приказано повторить — надо повторить.
— А что, если генерал записывает все залпы? — спросил он с тревогой.
— Ну что же, тогда признаемся, что вместо двух дали четыре.
— Огонь! — скомандовал он.
— В цель! — доложил радист…
От генерала не было звонка в течение полутора часов... В ожидании звонка мы с капитаном просидели все это время в напряженном молчании. Вдруг раздался долгожданный зуммер. Телефонист протянул мне трубку. На сей раз генерал говорил, что Елин оставил Ядрово, а из Возмища вытягивается колонна, и приказал дать по обоим этим пунктам по два залпа дивизионом.
Опять расчеты, команды, доклады, пристрелки, как это было по станции, и наконец повелительное: «Огонь!»
Радист растерянно хлопает глазами и робко произносит: «Недолет».
Капитан вскакивает с места и с яростью обрушивается на радиста:
— Что-о-о? Что ты сказал?
Бедный юноша виновато пятится назад. Резко повернувшись к телефонисту, капитан вырывает у него трубку и кричит во все горло:
— Огневая!... Немедленно старшего на огневой!
Услышав голос старшего офицера, он багровеет, большие черные глаза наливаются кровью, он выпаливает:
— Почему недолет?.. Доложить установки!.. И какой только дурак выпустил тебя из артиллерийского училища?.. Уровень-то не тот. Ты еще оправдываешься?.. Эх, жаль, что ты не при мне... — а сам вцепился рукой в гущу своих курчавых волос. Мне казалось, что он вот-вот вырвет их вместе с кожей. Я подумал: «Этот человек в гневе может растерзать льва».
— Подойдя к нему, я сказал:
— Товарищ капитан, когда же будет огонь? Как бы опомнившись, он сочно выразился и продолжал в микрофон:
— Поправьте уровень! Огонь! — И, швырнув трубку, которую успел на лету поймать телефонист, он сел на табурет, обеими руками вцепился в свои волосы и в лихорадке все еще неугасшего гнева процедил сквозь стиснутые зубы: — Из-за таких вот недоучек сотни снарядов в белый свет пустишь... Э-э-эх! — стукнул он своим кулаком по столу! — Я тебе еще покажу!
Мне казалось, что он вот-вот разрыдается.
— В цель! — бодро крикнул радист.
— Что-о?! — недоуменно поворачивается капитан к радисту.
— В цель, товарищ капитан! — повторил радист.
— Огонь! Огонь! Огонь! Загрохотал залп за залпом.
Капитан, словно дирижер, отбивает кулаком по столу, захваченный ритмом залпов.
— В цель! В цель! В цель! — слышен голос радиста.
— Передать на огневую: трижды подлецы, трижды молодцы! Стой! Записать установки!
Весь обмякший, капитан грузным мешком опустился на табурет.
— Ну, что вы, товарищ капитан, стоит ли так сильно переживать один неудачный залп? — пытался я успокоить его...
Последующие залпы дивизиона по заявкам генерала прошли сравнительно удачно, без всяких стычек между капитаном и огневой.
...Небо затянула густая мгла. Хлопьями повалил снег... Позвонил Марков.
— Иван Васильевич поехал к Шехтману, — спокойно сказал он, — приказал ждать его сигналов. Пусть Кирсанов готовит расчеты по Строкову и Быкам. Немец свои усилия переносит туда. Хозяин хотел еще помочь ястребами, но, вы сами видите, как пухом сверху сыплется. Ах, какая досада!..
Мы ждали сигнала. Кирсанов потребовал поздний обед. Обедал он очень аппетитно и, насаживая на вилку кусок за куском мясо, со спокойной улыбкой рассказывал анекдоты с грубоватым украинским юмором. Бозжанов несколько раз выходил и возвращался с какой-нибудь едой.
Я смотрел на этих двух необыкновенных наших людей: один наслаждался едой и балагурил, а другой наслаждался тем, что обслуживал, и, видно, как заботливая мать, радовался, что «ее Сережа сегодня весел и хорошо поел».
Позвонил Марков. Приказал дать огонь по Строкову, по Быкам...
...Вечерело. Позвонил генерал.
— Я от Шехтмана говорю. Как у вас там?
— Раза три и нам досталось, товарищ генерал.
— Ничего, пока он вслепую бьет...
— Да, но кое-какие из его шальных задели...
— Как «Мария Ивановна»? Сколько у нее рублей осталось?
— Кажется, четыре или шесть.
— Говорите четыре! — крикнул мне Кирсанов. — Два мне нужны для самообороны...
— Что там, кто мешает?
— Никто не мешает, товарищ генерал. Просто уточняем. Оказывается, у «Марии Ивановны» не шесть, а четыре рубля.
— Четыре? Всего четыре? — недовольно повторил генерал — Елин оставил Рождественское и пошел на Шишкине Дайте по Рож... — голос генерала оборвался...
— Да, неважные у вас дела, — сказал Кирсанов. — Выходит, отовсюду вас жмут. Не совсем ладно получается. А я, дурак, по своей глупости три залпа без плана бабахнул...
— Давайте по Рождественскому, товарищ капитан...
...Звонил Марков. Он говорил, что генерал сожалеет о том, что между нами оборвалась связь. Он не смог поблагодарить лично Кирсанова и его людей за помощь. Кирсанову разрешается теперь уехать. Я передал все это Кирсанову.
— Значит, вы здесь остаетесь? — нахмурив брови, сказал он. — Генерал-то у вас, видно, человек старой закалки... Сам знаешь, техника у нас новая, пока секретная. Нам больше здесь нельзя оставаться. Я бы остался с вами и пошел бы в штыки, но приказ, как ты сам понимаешь, есть приказ... Вели всех твоих раненых ко мне нести — хоть их отвезу в госпиталь...
Кирсанов тепло и грубовато-просто попрощался со всеми нами, сел в свою машину и уехал. Бозжанов долго провожал его глазами и потом произнес немного с грустью:
— Хоть и медведь он, а хорош капитан! Побольше бы таких артиллеристов...
Когда стемнело, звуки боя несколько утихли. Приехал подполковник Марков. Он сориентировал меня в обстановке к исходу минувшего дня, разъяснил некоторые детали в полосе обороны нашей дивизии. По словам Маркова, соседи нашей дивизии тоже вели ожесточенные бои, и, благодаря их стойкости, противнику не удалось обойти оборону нашей дивизии с флангов. Со второй половины дня командующий сосредоточил основные усилия авиации и артиллерии на полосе обороны дивизии и вступил в бой частью сил из своего резерва. Дальнейшее продвижение вклинившихся частей противника было приостановлено. Нанесены удары авиацией и дальнобойной артиллерией по его резервам и тем самым предотвращен своевременный ввод их в бой для наращивания силы удара в глубину нашей обороны на главном направлении.
Таким образом, общими усилиями, во взаимодействии с соседями, авиацией и артиллерией, прорыв был предотвращен, хотя противнику местами удалось глубоко вклиниться в нашу оборону.
— Генерал считает, — говорил Марков, — исходя из оценки обстановки, что противник за два дня втянул в бой почти все свои силы и средства, и полагает, что без соответствующей перегруппировки он, по крайней мере сегодня ночью, каких-либо серьезных действий не предпримет. Поэтому генерал Панфилов решил воспользоваться этим, вывести за ночь полки из боя и к утру занять новый рубеж. Если командующий утвердит это решение, то полки немедленно начнут отход, — заключил Марков.
Далее он приказал мне установить связь с полковником Капровым, быть в боевой готовности, выставить вперед надежных людей, которые организованно и по безопасным местам провели бы отходящие группы через наши боевые порядки, а сам уехал на правый фланг дивизии, к полковнику Шехтману.
Оставшись один, я старался вновь понять то, что мне рассказал Марков, предупредив меня своим непременным «строго между нами», так как ранее мне ни разу не приходилось размышлять в таком масштабе, как это делал Марков. Признаюсь, единственное, что я тогда понял из всей этой сложной обстановки, — это то, что всем приходится трудно, включая и командующего. Полки собираются отводить не от хорошей жизни. Если уж один из первых помощников генерала — подполковник Марков за день дважды приезжал ко мне, значит, на нас возлагается ответственная боевая задача...
Вдруг меня охватило чувство тревоги, я бы сказал, даже чувство боязни. В растерянности, как бы в оправдание, я вспомнил вычитанные мною когда-то слова Дюма: «Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением».
Именно такое состояние было сейчас у меня.
Мне мерещилось, что из полутемного угла высовывается голова генерала в ушанке, и он сердито смотрит на меня, как бы говоря: «А я-то вам доверял»...
Я вызвал командиров и отдал распоряжения. Бозжанов поехал к Краеву, Рахимов — к Филимонову. Танков пошел выполнять задания в районе Горюнов.
* * *
В сопровождении адъютанта вошел полковник Кап-ров. На нем был испачканный грязью полушубок, один валенок был в двух местах прорван осколками — из дыры виднелся край белой портянки. И без того худой, он еще больше осунулся и оброс, предложил ему табурет, но он, качаясь, пошел в угол, сел на пол, расстегнул пояс и, сказав: «Прямо ноги не держат», со вздохом повалился на спину. Стоявший рядом связист ловко подложил ему под голову свой противогаз.
— Спасибо, брат! — еле слышным от усталости голосом поблагодарил полковник бойца.
— Вы ранены, товарищ полковник? — спросил я его.
— Нет, дорогой, просто чертовски устал, — ответил он. — Минут через пять доложите генералу, что я здесь, у вас...
Мой ординарец Николай Синченко принес матрац, подушку, одеяло и, невзирая на протесты полковника, устроил ему постель, подал чаю.
Один за другим приходили запорошенные гарью боев офицеры штаба полка. Кратко доложив, получали указания и уходили. Вошел комиссар полка Ахметжан Мухамедьяров в испачканном кровью полушубке.
— Что с тобой? — с тревогой воскликнул Капров.
— Ничего, Илья Васильевич, гнедого убили, а я под ним минуты три барахтался...
Меня вызвали к телефону. Генерал приказал передать трубку Капрову.
— Я вас слушаю, това... Так, как было приказано... Да, да, прикрытие оставили... Тоже минируют... Завалы тоже... Сейчас, спрошу Мухамедьярова...
Закончив разговор с генералом, Капров сказал комиссару:
— Генерал посылает еще шесть машин за ранеными.
— А я у тебя, Баурджан, реквизировал пищу из трех кухонь для раненых, — дружески сказал Мухамедьяров.
— Как же они сами-то? — вырвалось у Капрова.
— И хорошо сделали, товарищ комиссар, — ответил я...
Капров развернул свою карту. Показал мне, где им оставлено прикрытие, где минировано, где устраиваются лесные завалы, и, подробно ознакомив меня с другими мерами по обеспечению отхода полка, передал мне приказание генерала — принять общее командование над подразделениями полка.
Ему же приказано с основными силами полка форсировать отход к правому берегу...
В темноте проходили через Горюны угрюмые ряды бойцов — рота за ротой, батальон за батальоном.
Я молча стоял рядом с Капровым и Мухамедьяровым и глазами провожал темные силуэты...
...Когда я пишу эти строки, мне вспоминаются слова Дениса Давыдова: «...отступление сие названо только славным... А сие прилагательное от частых употреблений обесславилось... Я помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом и кровью чести... Каждый штык ее горел лучом бессмертия!»
Подполковник Курганов
Они ушли, а мы остались.
Хаби Рахимов был очень заботливым начальником штаба. У Хаби были в батальоне свои любимцы и верные помощники. Один из них — командир взвода связи, радиотехник по образованию, младший лейтенант Леонид Степанов, с задумчивыми темными глазами и чуть вздернутым носом над пухлым юношеским ртом. Степанова все знали как самого тактичного и воспитанного в батальоне. Он держался и подчинялся с достоинством. Командир хозяйственного взвода младший лейтенант Василий Борисов, бывший заведующий складом потребсоюза, следивший за распределением солдатского пайка с аптекарской точностью, тоже пользовался у Рахимова доверием. Заметив, что у них с самого начала завязалась неподдельная деловая дружба, я никогда не вмешивался в дела взвода связи и хозяйственного взвода, целиком доверив их своему старшему адъютанту Рахимову...
Степанов и Борисов понимали Рахимова с полуслова и старательно выполняли все его приказания. Кроме своих прямых обязанностей они выполняли и другие поручения Рахимова: Степанов по его заданию перечерчивал вторые экземпляры схем, подшивал бумаги, склеивал и раздавал топографические карты, руководил оборудованием НП и КП, а Борисов был настоящим завхозом батальона...
Рахимов никогда не оставлял меня одного. Если со мной не было никого, то он часто посылал ко мне Степанова или Борисова, говоря им: «Пойдите к комбату, может быть, понадобитесь ему».
На этот раз около меня оказался Степанов.
Я вернулся в штаб и по телефону доложил генералу о том, что Капров с основными силами благополучно отбыл из Горюнов.
Генерал спросил, понял ли я, «как следует быть», и закончил так:
— Я вам капровцев переподчиняю лишь на время, пока они выполнят свою работу, а вы их, товарищ Момыш-улы, ни в коем случае не используйте на выполнении своих собственных задач. Давайте по-честному так и договоримся. Если вы задержите хоть одного бойца, я на вас обижусь всерьез.
— Как только люди сделают свое как полагается, обязательно всех до одного вышлю к Илье Васильевичу, товарищ генерал...
— Добре, товарищ Момыш-улы, так и быть. Значит, мы с вами договорились по-честному? Георгий Федорович к вам еще не приехал?
— Нет пока, а что вы хотели, това... — И опять разрыв связи!
Я с досадой швыряю телефонную трубку и в ярости обрушиваюсь на Степанова.
— Виноват, товарищ комбат! Видимо, какой-нибудь шальной осколок задел провод, ведь уж минут пять, как снова начался обстрел...
— Марш к Рахимову! Через пять минут связь должна быть восстановлена!
— Есть, товарищ комбат!..
Я опускаюсь на табурет. В висках стучит, кружится голова. Вдруг кто-то трогает меня за плечо. Я не оборачиваюсь.
— Слушайте, старший лейтенант, — слышу я за спиной грубоватый властный голос. — Так нельзя!
Я оборачиваюсь и вижу подполковника Курганова. Лицо его, изборожденное морщинами, потемнело от загара. Он впился в меня воспаленными глазами и еще строже повторил:
— Так нельзя, товарищ старший лейтенант, командовать! Нельзя давать волю своим нервишкам. Вы эти нервы извольте-ка попридержать, извольте-ка командовать спокойно, а не швыряться трубкой, не угрожать ни в чем не повинным людям. Надо командовать не гневом, а умом.
Видимо, у меня, стоявшего навытяжку перед подполковником, вид был до того глуп, что он смягчился и, улыбаясь, предложил мне сесть.
— Бой требует от командира хладнокровия, иначе он не сможет здраво оценить обстановку и принять правильное решение, — сказал он, обращаясь словно не ко мне, а к кому-то другому, и как бы между прочим добавил: — Вы правы, требуя от своих подчиненных обеспечения бесперебойной связи, в этом вы абсолютно правы! Но на войне пули не только рвут провода, а и человека убивают. Всякое бывает...
— Вас, товарищ подполковник, спрашивал генерал, — перебил я его, еще окончательно не придя в себя.
— И как раз в это время связь порвалась?
— Да, товарищ подполковник. Я хотел спросить генерала, что передать вам.
— Ничего, сейчас восстановят связь, я сам генералу доложу, а вы меня угостите чаем. Чертовски устал.
Я вышел, чтобы дать распоряжение насчет завтрака для подполковника. Когда вернулся, Курганов разговаривал с генералом:
— Да, как будто как полагается... Нет. Немцы пока не идут... Надо полагать, что они выдохлись... Да, по всей вероятности, перегруппировываются, но надо ожидать, что к полудню двинутся... Боеприпасы на исходе, поэтому я дал команду... Они сейчас в районе Момыш-улы... Занимают огневые позиции... Было бы очень хорошо, если бы подбросили сюда тысячу... Побольше гранат.. Марков знает каких... Хорошо, я ему кое-что посоветую. Нет, нет вмешиваться не стану. Он будет командовать... Приеду — доложу... Мы с ним посоветуемся и наметим участки... Есть, будет сделано.
Когда подполковник кончил разговор и вернул трубку дежурному телефонисту, Синченко принес завтрак — консервы с жареной картошкой. Степанов нес за ним чайник и полстакана водки. Подполковник с аппетитом принялся за еду, а от водки отказался: «Усталому человеку натощак нельзя пить, хотя перед обедом выпил бы стопочку с удовольствием...» Он позавтракал, выпил четыре стакана чаю с сахаром и, вытирая платком вспотевший лоб, поблагодарил Синченко и Степанова. Затем обратился ко мне:
— Теперь давайте займемся делом. Генерал приказал кое-чем поделиться с вами и кое о чем посоветоваться. Дайте-ка сюда вашу карту...
Развернув перед собой мою карту, Курганов пробежал ее глазами и, найдя некоторые неточности и неряшливо выведенные условные знаки, недовольно нахмурил брови. Затем, взяв аккуратно отточенные цветные карандаши, начал не спеша исправлять пометки на карте. Потом стал наносить на мою карту обстановку в полосе всей дивизии без всяких надписей. Я стоял и следил за ловкими движениями его рук. Постепенно на карте вырисовывалось графическое повествование о трехдневных напряженных боях частей нашей дивизии с численно превосходящими силами противника.
Отложив в сторону карандаш, подполковник еще раз пробежал глазами карту и, откинувшись назад, сказал:
— Как будто все, что положено вам знать.
Далее он описал положение наших войск, сказал о том, что полки дивизии выходят из боя и отводятся к следующему рубежу, что его артиллерийский полк прикрывает отход капровского полка, занимая огневые позиции перекатами, что боеприпасы у него на исходе. Генерал обещал подбросить к огневым позициям около тысячи снарядов. Два дивизиона, выведенные в район Горюнов, занимают теперь огневые позиции в лесу, севернее железнодорожной будки, и готовят данные для постановки НЗО и ПЗО по таким-то участкам. Нанеся на карту эти участки, подполковник спросил меня, где еще, по моему мнению, желательно было бы подготовить данные для постановки НЗО, ПЗО, СО. Я доложил некоторые свои соображения, и он согласился со мной.
— Основное направление главного удара немцев, — продолжал подполковник, — это, разумеется, шоссе Ядро-во — Горюны — Покровское. Наши саперы в этом направлении устроили заграждения и препятствия в несколько рядов, лесные завалы и дороги заминировали, но их надо охранять и прикрывать огнем, иначе противник преспокойно обезвредит их: разберет все эти препятствия, разминирует и пройдет. Прикрытие из полка Капрова и мой артиллерийский полк не уйдут отсюда до тех пор, пока противник не подойдет к линии заграждения минных полей. Мы будем работать на вас, а с выходом противника к последней линии заграждения и минных полей я отсалютую ему двумя-тремя залпами и под вашим прикрытием начну отход к основным силам дивизии. Так мне приказано. Генерал приказал мне не вмешиваться в ваши дела, — значит, мы с вами на первых порах наступления противника будем только взаимодействовать… Подполковник, еще кое-что посоветовав мне, ушел к огневым позициям.
Я вызвал Рахимова, Бозжанова, Танкова, Степанова, кратко изложил им обстановку и уяснил задачу, указал им по карте заграждения и минные поля и отдал необходимые распоряжения.
— Что, товарищ комбат, мы оставляем Горюны? — встревоженно спросил Танков.
— Нет, не оставляем. Сначала дадим бой противнику у заграждений и минных полей, а потом снова займем Горюны. Нас поддержат два кургановских дивизиона. Наши три взвода — считайте, это рота, капровцев почти две роты — вот вам, можно сказать, целый батальон. Впереди плотные заграждения и минные поля. Думаю, что до вечера можно будет повоевать. Я не принял бы такого решения, а сидел бы и ждал подхода противника к Горюнам, если бы не заручился твердым обещанием подполковника Курганова поддержать нас на первых порах огнем двух дивизионов, тем более, что генерал обещал подбросить около тысячи снарядов.
— Тогда другое дело, — сказал Бозжанов, — конечно можно повоевать!
— Ведите людей взводными колоннами от железнодорожной будки по шоссе.
— Но так мы обнаружим себя, товарищ комбат! — вырвалось у Танкова.
— Горбун-разведчик висит в воздухе. Он, конечно, видит наши окопы. Я хочу, чтобы немец знал, что мы здесь. Ведь не прятаться же мы здесь остались!
— Значит... — запнулся Бозжанов и недоуменно пожал плечами.
— Значит, — повторил я, — пусть он знает, что шоссе ему не зеленая улица.
— Дошло, товарищ комбат! — рассмеялся Бозжанов:
— Вы, Хаби, летите в Гусеново к генералу и доложите ему мое решение. А вы, товарищи, можете идти и действовать, если нет ко мне вопросов...
Рахимов не мог жить без схем, у него было развито графическое мышление. Другие командиры ушли выполнять приказание, а он сел чертить схему.
— Зачем вам схема? Берите карту и езжайте.
— Товарищ комбат, разрешите все-таки ваше решение отразить на схеме, хотя бы вчерне, — попросил он. — Признаться, до меня не все еще дошло, а я должен уяснить и понять, чтобы толком доложить генералу.
— Чертите, Хаби, уясняйте, коль вам не все еще ясно...
Спустя некоторое время Рахимов ознакомил меня со схемой.
— Вот так и докладывайте генералу, — сказал я. — Мне генерал приказал не задерживать капровцев. Когда он одобрит наше решение навязать бой противнику, прикрываясь заграждениями, скажите ему, что я решил задержать капровцев до наступления темноты.
— А если он прикажет немедленно снять капровцев, что тогда?
— Думаю, что генерал разрешит их оставить до вечера, если он одобрит мое решение.
Сложив бумаги в планшет, Хаби вышел.
Я остался один. Мне вспомнились слова подполковника. «С выходом противника к последней линии заграждения я отсалютую ему двумя-тремя залпами и под вашим прикрытием начну отход...» Я вспомнил эти слова и поддался тому чувству, которое охватывает каждого в боевой обстановке, когда ему говорят: «Мы уходим, а вы остаетесь». Но, к счастью, в это время вошел Борисов. Он немного постоял молча, затем робко спросил меня:
— Товарищ комбат, все уходят, а нам что делать?
— Как это все уходят?
— Танков уводит своих людей, Бозжанов поскакал в Матренино, Рахимов тоже помчался куда-то...
— Пусть уходят, а мы с вами здесь останемся. Здесь останется один взвод Танкова, почти половина взвода связи, медпункт да ваш взвод. Разве это, по-вашему, не войско? А? Это настоящий мощный гарнизон! Да и мы с вами, товарищ Борисов, самое главное начальство в батальоне!
Борисов добродушно улыбнулся и сказал:
— Да вот, мне показалось, что вы изменили свое первоначальное решение. Значит, мы...
— Мы отсюда не уйдем, Борисов. И люди наши от нас далеко не уйдут. Власть у меня, питание, одежда, боеприпасы и всякие надобности для всех — у вас, куда они пойдут! Они немножко повоюют, разомнутся, а потом все равно сюда придут...
— Как же людей кормить будем, товарищ комбат? — спросил Борисов, улыбаясь в ответ на мой шутливый тон.
— Это уж вы сами решайте со старшинами рот, но чтобы пункт боепитания, медпункт, пищеблок работали, как исправная машина. Проверьте сами лично. Да, в первую очередь накормите капровцев. Возьмите их старшин, обеспечьте их всем необходимым.
...Запищал зуммер полевого телефона.
— Что это вы, Момыш-улы, в день несколько решений принимаете?
— Не я, товарищ генерал, меняю свои решения, а обстановка. Ведь немец-то не пошел по пятам Капрова. Он рокируется, и мы временно.
— Это Георгий Федорович, наверное, натолкнул вас на такое решение?
— Да, товарищ генерал. Он кое-что посоветовал и подсказал мне.
— Если вы с Кургановым гарантируете мне сегодняшний день на этом направлении, я утверждаю ваше решение.
— Мы отвечаем за свои решения, товарищ генерал.
— Хорошо. Я вам кое-что подброшу и попрошу хозяина помочь летунами, но вы не слишком увлекайтесь.
Я вспомнил слова генерала на одном из совещаний командиров и комиссаров, где он говорил: «Командир несет личную ответственность за вверенное ему войско, поэтому-то ему предоставлено право говорить вместо «полк» — «я». Под командирским «я» мы подразумеваем подразделение, часть, соединение под его командованием. Когда войско — люди — совершают что-либо удачное, всегда находятся командиры-грудобои, которые выпячивают свое «я»: я, мол, сделал; а когда постигает неудача — тут уж, извините, оправдываются, сваливают на своих подчиненных или на соседей. Нет, извольте набраться мужества и при неудачах говорить не «полк оставил», а «я отдал»...».
Мне сейчас не хватало Федора Дмитриевича Толстунова, старшего политрука, инструктора нашего полка.
Он с первых боевых дней пребывал в нашем батальоне и был участником почти всех его боев. Толстунов открыто не вмешивался в дела батальона, как это делали иные политработники, а скромно бродил по переднему краю, беседовал с людьми, при случае становился рядом с бойцом в окопе и вел огонь по наступающим цепям противника или иногда по приказу командира шел в контратаку, увлекая группу красноармейцев.
Со мной он был на «ты». Информируя меня о каких-либо неполадках или недоразумениях, он не угрожал, как это делали другие, что доложит комиссару полка, и не требовал «немедленного устранения», а спокойно говорил: «Что бы такое предпринять, чтоб...», «Как ты думаешь, комбат?» — спрашивал он меня, и когда я принимал решение, а горячий Бозжанов выпаливал какую-нибудь реплику, он строго останавливал его словами: «Комбат же приказал! Какой же может быть разговор?! Наше дело — исполнить то, что приказано, и доложить!»
Тогда в батальоне не было комиссаров — Толстунов был нештатным моим комиссаром и другом.
Где он теперь?..
Вошел Рахимов.
Я обрадовался, вскочил, чуть не вытянулся перед ним и спросил:
— Ну, что привез, Хаби?
— Генерал же разговаривал с вами, товарищ комбат, — ответил он спокойно, раскрывая свой планшет.
— Ну, что он вам сказал, Хаби?
— Он ругал вас, — буркнул Рахимов, раскладывая кофту на столе. — Говорил, что вы оголили основную позицию и побежали вперед. Подполковник Курганов...
— Разве он там был?
— Он раньше меня приехал туда. Видимо, ему тоже здорово от генерала досталось. При мне генерал ему сказал: «Вы мне, Георгий Федорович, ответите за участь батальона». Меня от этих слов, товарищ комбат, передернуло, а комиссар дивизии, улыбаясь, говорит: «За участь батальона, Иван Васильевич, мы с вами ответим, а перед нами — командир батальона». Я не выдержал, спросил разрешения генерала и сказал: «Мы, товарищ генерал, умрем, но выполним задачу». Генерал в ответ: «Вы, батенька, не умирайте, а выполняйте задачу с меньшими потерями. Вы понимаете, что такое лишних два дня, лишних два часа для Москвы? Нам еще много предстоит боев, и нужно беречь и беречь силы, чтобы выиграть время. Главное — маневр: дал огневую пощечину немцу и, пока он опомнится, уходи на следующею позицию...» Потом генерал взял мою карту и схему и приказал доложить. Когда я кончил, по его лицу пробежали смешливые морщинки, и он сказал: «М-да, затея, видать, недурная... Заманчиво... Очень заманчиво. Но как она на деле получится?» Потом поднял трубку и говорил с вами. Одним словом, товарищ комбат, решение утверждено, и нам его надо выполнять, — закончил свой доклад Рахимов.
* * *
Деревянный домишко, в котором мы сидели, вдруг заходил ходуном, посыпалась штукатурка, зазвенели стекла, затрещали косяки.
— Что это такое, Хаби?
— Бомбят, товарищ комбат...
Мы вышли на улицу. Гудели немецкие самолеты. Они звеньями шли с запада, против солнца, разворачивались, пикировали. Падали черные грушевидные бомбы, вздымались смерчем взрывы над Горюнами. Вдруг над самым лесом, со стороны Шишкина, прорезая воздух, с шелестящим свистом пронеслись тройка за тройкой маленькие наши истребители.
— Вот и наши! — вырвалось у Рахимова.
— Ребята, товарищи! Наши идут, наши идут! — слышались из окопов возгласы бойцов.
Истребители, как бы вынырнув из гущи леса, задрав носы, с протяжным воем взвились вверх, описывая дугу, мигом очутились над эскадрильей бомбардировщиков, разворачивающихся под прикрытием косых солнечных лучей, зашли им в хвост и открыли огонь.
Бомбардировщики, не доходя до того места, откуда они обычно шли в пике, рассыпались в разные стороны, беспорядочно сбрасывая свой бомбовый груз над лесом. Наши не отставали от бомбардировщиков, преследуя их, словно ястреб стаю гусей.
Один из неуклюжих немецких бомбардировщиков сначала качнулся с крыла на крыло, потом завилял, заметался и, припадая на левое крыло, пошел вниз.
Он рухнул на поляне у железнодорожной будки и взорвался, а остальные, прижимаясь к лесу, преследуемые нашими истребителями, ушли в направлении на Волоколамск...
Не успели мы перевести дух и еще раз взглянуть друг на друга, как снова раздался гул. Мы вскинули головы, ища в небесном горизонте самолеты: «Опять немец, или наш?» На сей раз тройками, шестерками шли наши бомбардировщики в сопровождении истребителей. Они шли над Шишкином, над Горюнами, над Матренином. Самолеты развернулись над районом Рождественское — Ядрово — Дубосеково и, отбомбившись, ушли в юго-восточном направлении, а вслед за ними прошмыгнули наши штурмовики, поливая пулями и мелкими бомбами след наших бомбардировщиков.
— Видно, наши решили авиацией упредить наступление противника, — сказал Рахимов.
Прошло несколько часов в напряженном ожидании наступления противника.
— Ну теперь, товарищ старший лейтенант, кажется, наш черед приближается, — сказал подполковник Курганов, слезая с коня.
Как бы в подтверждение его слова, разразилась громовая канонада артиллерийских залпов. Противник начал артиллерийскую подготовку. Взрывы вздымались впереди, в лесу. В воздухе зашуршало, зашелестело, заворковало, засвистело — на нас неслись вражеские снаряды. Мы едва успели укрыться в узкой траншее. Один за другим три залпа обрушились на Горюны. Тяжело ухнули взрывы, качнулись, сверкнув молниями, черные столбы, земля посыпалась мерзлыми комьями на голову. Дым, пыль, огонь заволокли деревню.
— Да он, подлец, метко угодил, — сказал Курганов, отряхивая с себя землю. — Думаю, он ведет огонь пока по площадям, у него наблюдателей впереди нет. Мы оказались под шальными залпами.
«Нечего сказать, «шальные залпы!» Если раз пять так продолбит, и прятаться некому будет, не то что дорогу держать», — промелькнуло у меня в голове.
На окраине села горели два сарая и дом. На пожаре распоряжался Борисов.
— Раненых много? — спросил я его.
— Четверо, легко...
— Значит, наши траншейки пригодились? Как хорошо, что людей из деревни вывели! — сказал Рахимов.
— Я пойду на огневую, — сказал подполковник, — Если наши наблюдатели засекли какую-нибудь батареи противника, прикажу подавить ее.
...Противник пошел в атаку. Наши встретили его огнем. Лес ожил трескотней ружейных выстрелов и пулеметных очередей. Шли немецкие цепи. Наши, прижав их к земле, перебегали к следующим позициям. Рота танков обгоняла залегшую цепь пехоты и на коротких остановках прочесывала лес огнем из пулеметов; иногда танки изрыгали беглый огонь из своих пушек.
Передовые части противника натыкались на наши минные поля и лесные завалы. Два танка подорвались на противотанковых минах. Немцы насторожились, но шли.
За нами оставалась последняя линия заграждений, за ней — поляна, в середине которой расположены Горюны.
Я попросил подполковника Курганова держать дорогу под огнем, а Танкову и Бозжанову приказал немедленно отвести людей к Горюнам и Матренину, не задерживаясь на последней линии заграждений.
У самого выхода из леса были установлены два фугаса — кучей наваленная взрывчатка. Фугасы были обложены заряженными противотанковыми и противопехотными минами, в расчете на детонацию фугаса от их взрывов, так как другими средствами для взрыва мы не располагали. Набредет ли на мины солдат или — еще лучше — танк? Сдетонируют ли наши фугасы?
Когда я подъехал к Горюнам, к моему удивлению, на южной окраине деревни на огневых позициях стояло четыре длинноствольных зенитных орудия. Ко мне подошел высокий старший лейтенант и доложил, что он прибыл в мое распоряжение до наступления темноты и по указанию Рахимова занял огневую позицию. На мой вопрос, почему он занял огневую позицию в самой деревне, старший лейтенант ответил:
— Для стрельбы по воздушным целям нам нужна открытая площадка с круговым сектором обстрела.
— А если самолеты сюда не пожалуют, а танки вот-вот выйдут из леса...
— Мы, товарищ старший лейтенант, и по танкам можем вести огонь, — прервал он меня, — у нас есть и бронебойные.
В штабе я, к моей большой радости, увидел Толстунова. Вместе с Рахимовым они пили чай.
Через несколько минут после моего прихода меня вызвал к телефону генерал.
— Курганов мне доложил, что вы рокируетесь. Это правда?
— Правда...
— Вы сумеете всех вывести?
— Почти все здесь...
— А успеете занять позицию?
— Успеем. Впереди еще одна линия заграждения, да и Курганов нас хорошо поддерживает...
— Журавли прибыли?
— Они заняли...
— Толстунов у вас?
— Я с ним только...
— Вы не успели с ним еще поговорить? Он вам кое-что расскажет. Немедленно эвакуируйте раненых. Маш...
Связь оборвалась.
На этот раз генерал только задавал вопросы и, обрывая меня на полуслове, видимо, очень спешил.
* * *
Толстунов кратко рассказал обстановку. Из его рассказа я понял, что противник переносит свои основные усилия на участок левого соседа нашей дивизии...
Особенно трудно приходилось выводить из боя полк Елина. Противник, вклинившись в боевые порядки полка, напал на командный пункт; командир отбился, начальник штаба был тяжело ранен, управление было дезорганизовано. Полк был расчленен на две части. Комиссар полка Петр Васильевич Логвиненко взял бразды правления в свои руки. Лишь благодаря его решительным действиям удалось организовать заслон в бреши прорыва, потом, под вечер, контратакой прорваться к своим, под покровом темноты собрать людей и навести порядок.
— Люди до того измучились, прямо с ног валились... Шли медленно. Как только сделаем привал и присядем, то уж смотри в оба — половина людей тут же засыпает... Ты ведь знаешь Петра Васильевича, характер хлеще твоего. Он сначала нервничал, угрожал, но потом устал, успокоился, образумился, начал с нами советоваться, называть нас «хлопцами»... На одной поляне остановились на привал. Комиссар созвал всех командиров и политработников и приказал нам протереть лица снегом три-четыре раза. Когда мы это проделали, он говорит: «Вот так, хлопцы, всегда разгоняйте сон. Я с самого вечера пользуюсь этим сноразгонсином. Как бы ни ныли ноги, не садитесь, а то заснете. А теперь идите по своим подразделениям и охраняйте их сон, — пока мы здесь разговаривали, ведь бойцы-то заснули...» Мы с комиссаром прошли вдоль колонны несколько раз. Представить себе не можешь, какая жуткая картина: люди спали кто где сел, что-то вроде мертвого муравейника...
Я раньше знал, что голод превращает человека в зверя, но никогда не думал, что сон «мертвит» человека. Ужасающее было зрелище — хоть весь полк руками бери. Люди ни на что не реагировали. Усталые, они засыпали мгновенно.
Далее Толстунов передал мне приказание генерала: «Держаться сегодня и завтра за высоту «151,0» и за Магренино особенно не цепляться. Держать Горюны на шоссе...»
Вошел Рахимов и доложил, что рота Танкова и взвод Бурнаевского прибыли и заняли свои позиции. Спросил, куда поставить капровцев.
— Капровцев пошлите в распоряжение подполковника Курганова, пусть они там отдохнут и прикрывают артиллерийские позиции на случай, если немец нас быстро сомнет. А с наступлением темноты они уйдут вместе с артиллеристами.
— Генерал же приказал их немедленно вернуть! — вмешался Толстунов.
— Но противник находится так близко, что если рота автоматчиков просочится к нам в тыл, она перебьет артиллеристов.
— А, тогда да! — согласился Толстунов.
— Я их сам поведу туда, товарищ комбат, — в знак согласия отозвался Рахимов.
Позвонил Курганов:
— Вы капровцев всерьез переподчиняете мне?
— Да, всерьез, товарищ подполковник. В случае чего — с тыла мне более нечем прикрывать ваши огневые позиции.
— Спасибо, дружище! Я вас понимаю, дорогой... Мои наблюдатели пусть сидят с командирами рот и взводов и докладывают мне их заявки. Пусть не стесняются. Иван Васильевич еще подбросил «огурцов».
Подполковник Курганов был самым строгим, требовательным и властным из всех командиров полков. Мы, младшие офицеры, его побаивались, но уважали за справедливость. Признаться, для меня были приятны его «Спасибо, дружище! Я вас понимаю, дорогой!», и особенно меня обрадовало его «Пусть не стесняются»...
— Огурцы! Огурцы прибыли! Огурцы прибыли! — закричал я, отдавая трубку полевого телефона дежурному телефонисту.
Бозжанов и Толстунов смотрели на меня, как на помешанного.
— Какие такие огурцы? Ты что, комбат?
— Иван Васильевич прислал.
— Какой Иван Васильевич?
— Генерал Панфилов подбросил нам снарядов.
— Фу! К бесу тебя, комбат! Я думал, что ты тронулся, — радостно улыбаясь, замахал рукой Толстунов.
— Да, я тронулся, Федор Дмитриевич. Теперь малость поддадим жару немчуре. Знаешь что, теперь я перед Горюнами огневую завесу могу поставить. Пусть попробует сунуться.
— Да постой же, расскажи толком.
— Толком я расскажу не тебе, а немцам, они скорее поймут, чем ты.
— Ну, опять ты начинаешь, — огорченно развел руками Толстунов.
Бозжанову, стоявшему в недоумении, я приказал:
— Быстро ко мне Танкова, Рахимова, Степанова, Борисова!
Толстунов мало знал лейтенанта Танкова. Я кратко рассказал Толстунову о нем и о том, как мы сегодня впервые с ним по-настоящему познакомились на поле боя — в борьбе за полосу заграждения, куда были выброшены и два взвода из роты Танкова. Я рассказал Толстунову, с каким достоинством и выдержкой лейтенант Танков вел себя на поле боя. При этом я употребил выражение: «Он культурно воевал», и эти слова рассмешили Федора Дмитриевича.
...Пришли Рахимов, Танков, Степанов и скромный Борисов.
Бозжанов вошел последним и молча козырнул, как бы говоря: «Вот, я их привел».
— Степанов! Немедленно проверьте наличие средств связи у нас и у артиллеристов. Установить связь со всеми наблюдательными пунктами командиров рот и взводов.
— Слушаюсь, товарищ комбат!
— Идите выполнять! Борисов, сколько у вас повозок?
— Двадцать, товарищ комбат.
— Десять повозок с самыми лучшими конями поверх ящика нагрузить сеном или соломой и держать в готовности, чтобы на них эвакуировать раненых.
— Есть, товарищ комбат.
— Идите. Лейтенант Танков!
Танков, как и другие, вытянулся, чтобы выслушать приказ.
— Ваша рота составляет основной костяк горюновского гарнизона. За Горюны вам отвечать в первую очередь. Мы не будем мешать вам, мы уйдем отсюда к железнодорожной будке. Вы будете оборонять Горюны и охранять нас. Мой НП останется на месте. Уйдут отсюда только штаб и узел связи. Ко всем вашим наблюдательным пунктам прибудут артиллерийские наблюдатели. Через них без всякого стеснения давайте заявку на артиллерийский огонь подполковнику Курганову. У него хватит снарядов, по крайней мере, до наступления темноты. Противотанковые и зенитные орудия и саперов, что в районе Горюнов, полностью переподчиняю вам. Командуйте ими, как полновластный командир.
— Ясно, товарищ комбат, — задумчиво произнес Танков и, запнувшись, нерешительно добавил: — Только разрешите за советами к вам обращаться.
— Будьте уверены, в советах и в брани, товарищ лейтенант, отказа не будет, — смеясь, ответил за меня Толстунов.
Танков ушел. Бозжанов без разрешения юркнул за ним в дверь.
Заметив это, Толстунов, улыбаясь, сказал:
— Не выдержала душа поэта — пошел первый советник.
В это время Курганов начал бить изо всех своих пушек по немцам, а немцы — по Горюнам.
— Что это такое? — встревожился Толстунов.
— Обычная артиллерийская перебранка, — спокойно ответил Рахимов. — Значит, он уже на исходном ремни подтягивает...
В это время недалеко от нашего дома грохнуло несколько взрывов. Дом закачался, как при землетрясении, посыпалась штукатурка.
— Видать, не на шутку, — промолвил Толстунов, глядя в потолок.
Мы втроем наметили по карте НЗО и ПЗО, Рахимов пошел докладывать Курганову наши соображения и просьбы об артиллерийской поддержке.
Мы с Толстуновым вышли на улицу. Горело несколько домов. Борисов и горстка бойцов бегали, пытаясь потушить пожары.
— Борисов! — крикнул я. — Убирайтесь отсюда! Он остановился, указал рукой на горящие дома:
— А как же? Ведь добро... дома горят!
— Пусть горят! Немедленно все марш в лес! Они послушно побежали в лес.
Мы пошли на наблюдательный пункт.
— Хорошо, что заблаговременно эвакуировали местное население, а нам-то такая катавасия по штату положена, — сказал Толстунов.
Лейтенант артиллерии
Мы на наблюдательном пункте, на том холмике, что на краю села. Видимость на триста шестьдесят градусов прекрасная, как говорят, с круговым сектором наблюдения. В стороне от маленького блиндажа, в неглубоком окопчике сидит на корточках рослый детина, прильнув к основанию рогатки стереотрубы. Ушанка съехала на затылок, шинель вся испачкана грязью. Ему явно тесна эта недоконченная стрелковая ячейка. Рядом с ним, на дне усика ячейки, лежит, скорчившись, смуглый узкоглазый боец, не то киргиз, не то казах. Прижимая трубку полевого телефона к правому уху, он повторяет слова своего командира. В хаосе звуков боя я слышу лишь обрывки его голоса с нерусским акцентом:
— Огневая!.. Что... поправляй прицел... уровень... ноль-ноль, двенадцать... Что?.. Огонь... Зачем болтаешь, я тебе передаю приказ, команду дает лейтенант Андреев... Ну что, выполняй, пожалуйста...
Лейтенанта Андреева я знал по боям за Волоколамск. Он и тогда командовал шестой батареей кургановского артиллерийского полка и три дня огнем поддерживал наш батальон. Андреев был честным, грамотным и храбрым офицером. Нетрудно догадаться, почему подполковник Курганов послал его на НП: оказывается, он управляет огнем целого дивизиона и из этой тесной для него ямы вершит важные боевые дела... Стрельба шла гранатой.
— Андреев! — окликнул я его. — Шрапнель есть на огневой?
Андреев оторвался от окуляра стереотрубы и, удивленный нашим присутствием, нерешительно улыбнулся и ответил:
— Есть, товарищ старший лейтенант.
— Тогда прочесать лес шрапнелью, разогнать всю эту шпану, что скапливается в лесу.
— Есть, товарищ комбат!
Взяв телефонную трубку, Андреев начал командовать:
— Огневая! Стой, записать установки... Шрапнелью! Прицел... Уровень... Трубка... Огонь!
В воздухе высоко над лесом возник кудрявый барашек — взрыв шрапнели.
Андреев оттянул прицел, прибавил трубку — шрапнель разорвалась у самой земли.
— Низковато, — пробурчал Толстунов.
Андреев оттянул трубку — у самой вершины высокой сосны вспыхнула пышная дымчатая чалма.
— Опять низко! — с досадой вырвалось у Андреева.
— Нормально! Так держите! — приказал я ему. Закончив пристрелку, Андреев перешел на поражение беглым огнем батареи. Над вершинами деревьев вспыхивали одновременно десятки взрывов, поливая струей свинцового дождя гущу леса. Вдруг, словно раздутое чьим-то могучим дыханием, кумачом вспыхнуло зарево, и следом прокатилось эхо сокрушительного взрыва.
— Что это такое? — спросил Толстунов.
— Наш фугас сработал, — услышал я голос Степанова.
— Вы что здесь делаете, Степанов?
— Связь проверял, товарищ комбат, — как всегда скромно ответил он. — Штаб перевели в дом у будки. Подполковник и Рахимов с генералом разговаривали.
— А ты видал, что тут делается?
— Как же, я тут минут пятнадцать стою.
Внезапно наши прекратили огонь.
— Андреев, в чем дело?
— Подполковник приказал вести огонь только по заявкам.
— Хорошо...
— Передайте наше спасибо подполковнику и всем вашим, — перебил меня Толстунов.
Я отослал Степанова обратно в штаб — доложить подполковнику обстановку и передать Рахимову приказ немедленно выслать вперед разведку. Толстунов ушел к Танкову, сказав: «Ну, комбат, я пойду к ребятам, проверю, как у них там дух и самочувствие».
Впереди в лесу дым начал постепенно рассеиваться. Опушка была почти вырублена и изрыхлена воронками недавнего массированного артиллерийского налета.
Синченко принес два полных котелка перловой каши с мясом и полбуханки хлеба и, расстилая на дне траншеи «скатерть» из газеты, спросил:
— А где они?
— Кто это они?
— Да старший политрук и лейтенант Степанов. Я ведь им тоже принес.
— Они ушли. Они там поедят. Один котелок и побольше хлеба отдай связистам, а другой — нам с лейтенантом Андреевым.
— Что вы, товарищ старший лейтенант, обедайте уж сами, а нам скоро принесут, — отказывался Андреев.
— Садитесь, коль приглашают.
— Есть, садиться. — Андреев опустился на землю, стараясь сесть по-восточному, удобно подобрав ноги, как сидел я.
Он неуклюже приспосабливался и так и сяк, но у него ничего не выходило, и Синченко, подавая ему ложку, прыснул, на что Андреев не обиделся, а, расхохотавшись, сказал:
— У меня не получается, как у вас, товарищ старшин лейтенант.
Я подумал: если бы у этого великана с широким добрым лицом отнять образование, отпустить ему бороду, постричь под крестьянина прошлого века, одеть в красную рубаху, широкие шаровары и лапти — он был бы живым тургеневским Герасимом из рассказа «Муму».
— Извините уж, Андреев, что наша «столовая» для вас тесновата, садитесь как можно удобнее.
Синченко стоял за широкой спиной Андреева и, указывая на флягу, висевшую на его ремне, как бы спрашивал: «Налить стопочку?» Получив согласие, он вынул из кармана граненый стакан, подул в него, вытер концом полотенца и, налив из фляги полстакана, вопросительно посмотрел на меня: «Долить еще?» Я вслух ответил ему по-кирсановски: «Полный!» Наполнив стакан, Николай недовольно показал на дно фляги: мало осталось. Я сделал вид, что не заметил этого жеста.
Если случалось пить с кем-нибудь из одного стакана, я никогда не пил первым. Зная это, Николай подал стакан Андрееву. Тот чуть помялся и предложил его мне.
— Выпейте сначала вы, Андреев, там и для меня осталось.
— С вашего разрешения. За ваше здоровье, товарищ старший лейтенант! — С этими словами он опрокинул стакан, затем, возвращая его Николаю, громко крякнул и, набрав глубоким вздохом воздух, сказал: — Выпить всяк выпьет, а крякнуть не всякий может.
За нехитрой трапезой Андреев соблюдал известное правило: «Когда я ем, я глух и нем». Николай рассказывал, как и кого ранило во время недавнего артиллерийского налета противника, как им оказывал помощь наш фельдшер старик Киреев. Потом прибыли две машины из медсанбата и увезли всех раненых. Одна из них была не санитарная, а обыкновенная грузовая, на которую лейтенант Борисов не разрешил сажать людей, пока не подстелили толстый слой сена.
— А шофер какой-то задиристый попался. В новом комбинезоне, шапка набекрень, где-то надушился, подлец, как все равно на свадьбу приехал, и требует: давайте, мол, ваших раненых немедленно, некогда ждать. А лейтенант Борисов ему говорит: «Вы подождите. Ведь раненых надо перевязать, собрать их, некоторых нести, даже ходячие не могут примчаться бегом». А тот все на своем и угрожает уехать. Лейтенант ему говорит: «Я вам приказываю», а он: «У меня есть свой командир»... Задира и есть задира. Когда собрался народ, шофер сено не разрешает подстилать. Говорит, это «огнеопасно». Мы ему говорим: «Ты ведь раненных бойцов повезешь». А он: «Ну и что же?» Тут лейтенант не выдержал — как даст ему по уху...
— Борисов ударил шофера? — вырвалось у меня.
— Да, лейтенант Борисов ударил. Такого подлеца, как этот шофер, любой честный человек ударит.
— М-да, я его пристрелил бы на месте, — пробасил Андреев, дожевывая хлеб.
— А он — на лейтенанта, — продолжал Николай. — Подумать только, всерьез! Ну, мы с сержантом Курбатовым хвать его, скрутили мигом и давай дубасить. А Курбатов-то грузчиком работал, у него сила — будьте любезны. Он таких десять за раз может отлупить, как пить дать...
— Ну и что же дальше?
— Я-то его бил меньше, чем Курбатов. А он как даст мне вот сюда, в подбородок... Ну, я тут же все четыре копыта кверху...
Андреев хохотал до слез.
— Я вижу, ты парень честный.
— Как же, товарищ лейтенант? Что было, то было, а как же иначе-то сказать?
— Дальше! — сказал я.
— Дальше он бросился на Курбатова, а тот, недолго думая, раз его головой, по-уйгурски, и одновременно ногами в живот. Шофер брык — и потерял сознание. Фельдшер привел его в чувство. Когда он пришел в себя, раненые уже кто сидел, кто лежал в кузове на сене. Лейтенант Борисов взял у сержанта Курбатова винтовку, отдал ему свой наган, посадил его рядом с шофером и приказал ему: «Езжайте в этой машине. Этому подлецу доверять нельзя. Если он начнет дурить, пристрелите на месте. А когда приедете в медсанбат, ведите его к командиру и при нем доложите обо всем. Сами немедленно возвращайтесь». Потом он повел меня на кухню и отправил сюда к вам, — серьезно закончил свой рассказ Синченко.
Рассказ Синченко меня удивил. Я не думал, что робкий тихоня, немного инертный Борисов может кого-то ударить.
Я сидел в раздумье.
Собирая со стола, Синченко спросил:
— Ужин сюда принести или будете ужинать дома? (Синченко называл домом командный пункт, где мы собирались в часы затишья.).
— Дома. Иди и больше не смей драться.
— А ежели вроде этого...
— Марш отсюда! Синченко ушел.
— Конечно, товарищ старший лейтенант, нехорошо, когда свои дерутся, — нарушил молчание Андреев. — Но с этим шофером иначе как быть-то? — спросил он, разводя в стороны непомерно большие руки.
Я молчал.
— А наш подполковник сегодня раскошелился, — снова нарушил он молчание. — Что-то на него не похоже. Он нас, бывало, за каждый лишний снаряд гонял, а тут расщедрился. Ох, и строгий же он у нас! Но, главное, дело знает. От него ничего не утаишь, все на контроле, на учете держит...
Снова застонала земля. Противник обрушил на нас мощный артиллерийский огонь. Мы с Андреевым встали. Неподалеку от нас со скрежетом ухнул тяжелый снаряд. Раздался треск. В воздух полетела одна из наших зениток вместе со всем расчетом.
— Прямое попадание, — побледнев, выдавил из себя Андреев. — Фугасный, замедленного действия, большого калибра.
Немецкая артиллерия била без умолку минут пятнадцать-двадцать. Над Горюнами выросло огромное облако зловещего черного дыма и пыли. На горизонте появились самолеты, и началась бомбежка. Вокруг нашего наблюдательного пункта заквакало несколько разрывов мелких бомб. Мы присели на дно траншеи. Впереди взвились красные ракеты. Взрывы удалялись, раздавались уже далеко позади нас.
— Значит, он переносит свой огонь в глубину, — заметил Андреев и, все еще бледный, добавил: — Как бы, проклятый, не угодил по нашим огневым! — Когда отдаленные взрывы, как бы захлебываясь, зачастили, Андреев сел на пол и упавшим голосом сказал: — Перешел на поражение, значит — засек. Расколошматит, проклятый...
Тревога Андреева была до того заразительна, что я обернулся назад. За Горюнами, как говорится, дым стоял столбом.
— Андреев! Встаньте и посмотрите, что впереди делается, — приказал я ему, не отрывая глаз от дымящихся Горюнов. Из дыма выскакивали бойцы и бросались бегом от укрытия к укрытию. Видимо, это бежали с приказаниями связные. А иные шли ускоренными шагами, внезапно останавливаясь, камнем падали и, повозившись над чем-то, снова вставали и шли, не отрывая глаз от земли, как следопыты. Это связисты восстанавливали связь.
— Идут! — воскликнул Андреев.
Я обернулся. Да, немецкие танки действительно шли, ползли по снежному полю черными жуками, а за ними с опушки леса выходила цепь пехоты. Немцы пошли в атаку.
— Огневая! Немедленно «лев» и «тигр»!
— Огневая! Огневая! Немедленно «лев» и «тигр»!
— Огневая! Огневая! — кричал в трубку полевого телефона Андреев.
Огневая не отвечала.
Танки шли медленно, ведя огонь с коротких остановок, — видимо, им было приказано не отрываться от пехоты. Наши молчали.
— Э! — крепко выругался Андреев. — Именно когда нужно, и нет связи.
— Да, именно, когда нужно, — повторил я и, растерянный, посмотрел на идущих в атаку немцев. В голове у меня промелькнуло: «Что же я сижу в этой яме?»
Признаться, хотелось вскочить и побежать назад. Я обернулся. На окраину Горюнов выскочил всадник и на полном галопе осадил коня, а следовавший за ним другой всадник кувырком полетел с лошади, но быстро вскочил и побежал за своим конем. Конь первого всадника поплясал на месте, дал «свечу», снова поплясал. Всадник, окинув глазами то, что происходило впереди, круто повернул и поскакал назад. Это был подполковник Курганов — артиллерист времен гражданской войны, сотни раз лихо выезжавший во главе батареи на открытую огневую позицию на глазах противника.
Заговорили наши противотанковые орудия, поставленные на прямую наводку на опушке леса по обеим сторонам Горюнов. Я очень жалел, что утвердил решение командира батареи занять позиции на открытой площадке ради возможности кругового обстрела. Зенитки, занявшие позиции на окраине села без всякой маскировки, были разбиты.
...Танк за танком кружились от метких попаданий. Четыре танка уже дымились на поле боя... А мимо них шли новые... Заговорили наши станковые и ручные пулеметы. Немецкая пехота залегла. Как наши стреляли и как нас лупили, описывать не стану, а скажу лишь: завязался настоящий ближний бой.
...Зарычали наши «лев» и «тигр» — подвижной заградительный огонь по ранее намеченным участкам — по опушкам леса на обеих сторонах шоссе. Огонь, правда, был жиденьким, но позади немцев словно чья-то невидимая рука оттягивала серию разрывов все ближе и ближе к перебегающей за танками немецкой пехоте. Когда несколько багрово-черных столбов поднялось в середине боевого порядка немцев, огонь нашей артиллерии участился. Короткие, с треском взрывы следовали один за другим. Казалось, что поле дышало огнем и пылью, а земля стонала от ударов тяжелых молотов.
— Здорово накрыли! Видимо, сам подполковник где-то недалеко отсюда управляет огнем, — сказал Андреев. — Он любит хлестать огнем дивизиона, если противник попал ему на удочку.
— А нас с вами он, наверное, в расход списал.
— Может быть, — грустно ответил Андреев. — Может быть, коль связи так долго нет.
— А вот мы с вами живехоньки и здоровехоньки садим в этой яме и созерцаем.
— Ну что ж, товарищ старший лейтенант, не огорчайтесь, ведь мы с вами связь ждем, а потом — не из пистолета же по танкам стрелять?
Запищал зуммер полевого телефона. Я обрадованно бросился к аппарату.
— Товарищ комбат! Вы живы? — спрашивал взволнованно Степанов. — Лейтенанту Танкову...
— Товарищ старший лейтенант, — пробасил Андреев, — немцы, кажись, оглобли поворачивают.
Я поднялся с места. Действительно, немцы начали отход: несколько танков и самоходных установок (видимо, вновь подошедших) стояли на опушке леса, и вели огонь, прикрывая отход пехоты и танков...
— Товарищ комбат, разрешите контратаковать, — просил Танков по телефону.
— Ни в коем случае!..
— Ведь немцы-то побежали, товарищ комбат.
— Ни в коем случае не трогаться с места! Только огнем и огнем им в спину...
...Когда я пришел на наблюдательный пункт Танкова, там были Толстунов, несколько артиллерийских офицеров, связисты. В соседней траншее находились Бозжанов и Степанов, ютились связные бойцы. Наблюдательный пункт Танкова был позади нашего, батальонного. Видно было, что в часы самых жарких боев здесь был сосредоточен узел связи, пункт управления боем.
Моим приходом все почему-то были смущены, а Танков, с перевязанной головой, выскочил из траншеи и, отпечатав несколько метров строевым шагом, вытянулся передо мной.
— Товарищ комбат, вверенная мне рота... — начал было он рапортовать.
— Вверенная вам рота, лейтенант Танков, — перебил я, — во взаимодействии с артиллеристами и пулеметчиками отбила атаку немцев. Можете дальше не докладывать.
— Есть, не докладывать! — отчеканил Танков, не скрывая улыбки.
— А мы думали, ты нас будешь ругать, — рассмеялся Толстунов.
Когда мы с Танковым направились в траншею, просвистел рой пуль. Мы живо спрыгнули в окоп. Танков грузно свалился на руки Толстунову и застонал. Пытаясь встать, он отстранил руки Толстунова, но встать не мог.
— Положите меня на пол, товарищ старший политрук, — слабым голосом попросил лейтенант. — Кажется, ранение серьезное.
Когда санитары положили лейтенанта на носилки, он не стонал. Я подошел к нему и взял за руку. Рука была холодная. Пожимая эту холодную, ослабевшую руку, я сказал:
— Спасибо, Сергей, за службу.
Танков с трудом улыбнулся и тихо произнес:
— Как жаль, товарищ комбат, что лейтенант Сергей Танков мало воевал. Он смертельно ранен...
Он посмотрел на Толстунова, на меня и отпустил мою руку. Смерть лейтенанта Танкова потрясла нас всех. Толстунов стоял, низко опустив голову. Степанов растерянно поглядел из стороны в сторону. Бозжанов сидел на дне траншеи и ковырял ножом землю. Мне было особенно грустно сознавать, что я потерял командира, с которым мы только что начали понимать друг друга.
— Ну, довольно горевать, комбат, — прервал мои тяжелые размышления Толстунов. — В бою всех не убережешь. Пули, что угодили в Танкова, могли сразить и тебя. В следующий раз надо быть поумнее и поосторожней.
* * *
Матренино — обычная станция железной дороги со станционными постройками и прилегающими к ним колхозными домами деревни Матренино. Деревня, как и многие селения этого района, расположена на большой поляне. Железная дорога огибает деревню некрутой дугой.
Немцы в течение пяти часов изредка вели то минометный, то артиллерийский огонь по Матренину. Разведка врага неоднократно пыталась проникнуть, в деревню.
За последние часы противник совершил несколько коротких мощных налетов. После грохота обстрела внезапно наступила тишина. Вдруг — ружейно-пулеметная трескотня. Снова грохот — снова артиллерийский налет.
— Филимонов, что там у вас происходит?
— Лупит нас, товарищ комбат, — слышу в телефон зычный голос Филимонова, — артиллерией и минометами. Да вот полезли было несколько раз...
— С танками? Много ли пехоты?
— Нет, без танков. Пехоты два взвода, может быть — до роты, не больше. А в лесу, товарищ комбат, кажется, накапливаются.
— А что вы думаете делать?
— Думаю, как только он пойдет на нас, встретить огнем... Что ж более нам остается, товарищ комбат?
Лейтенант Филимонов был старше меня на пять-шесть лет. Он был кадровым командиром-кавалеристом. Года за два или три до войны его уволили из армии за несоответствие занимаемой должности. С уязвленным самолюбием, не имея другой специальности, он побывал на ряде должностей в «гражданке», где его неоднократно снимали, «как не справившегося со своими обязанностями». Он вернулся в армию в начале войны, травмированный неудачами на гражданской службе.
Он пришел к нам в батальон совершенно подавленный тем, что его, кадрового комэска (командира эскадрона), назначили наравне с некоторыми запасниками командиром стрелковой роты. Его самолюбие было уязвлено еще и тем, что над ним непосредственно начальствует молодой и по возрасту и по выслугам старший лейтенант. «Если бы меня тогда не уволили, был бы я теперь в звании не меньше капитана, а быть может, и майора...» Все эти свои переживания он выдавал ненавидящим взглядом своих серо-коричневых чуть навыкате глаз, небрежным повторением приказаний и вообще инертностью и безразличным отношением к службе. Возможно, Филимонов был хорошим наездником, рубакой, но вскоре я убедился, что он был малограмотным и недалеким офицером. Он плохо разбирался в топографических картах, не был подготовлен в тактических вопросах, к тому же отличался весьма задиристым и обидчивым характером. Временами мне казалось, что этот человек, ослепленный обидой, был весь проникнут неразумным протестом, хотя внешне старался казаться дисциплинированным, — соблюдал форму, не вкладывая в нее содержания. Как всякий малограмотный и слабый человек, он мнил себя всезнающим, заслуженным, но несправедливо обиженным. Я был уверен, что если бы ему предложили командовать полком, он дал бы свое согласие, не задумываясь, справится ли он с этой должностью.
Очень трудно самому преодолевать внутренний протест и убеждать себя в своей неправоте, а преодолевать протест другого и убедить его еще труднее.
С первой же нашей встречи между мной и Филимоновым завязалась, если можно так выразиться, психологическая борьба. Я был для него внутренне непризнанным начальником, а он — невоспринимаемым мной подчиненным. По-мирному у нас никак не ладилось, я был с ним более официальным, чем с другими командирами, и никогда не шутил, как это иногда позволял себе, например, с командиром третьей роты Севрюковым, бывшим бухгалтером. «Ну, Севрюков, баланс подвел?» — спрашивал я его вместо «сделано ли?», «выполнено ли?». Стоя навытяжку, широко улыбаясь, он часто отвечал: «Никак не балансируется, товарищ комбат». Или радостно докладывал: «Копейка в копейку, баланс подведен».
Севрюков часто употреблял бухгалтерские термины: «актив», «пассив», «дебет», «кредит», «предъявим счет», «спишем со счета» и так далее.
Ефим Филимонов был недоволен собой и недоволен другими. Мои мирные попытки сработаться с ним не увенчались успехом, и когда он начинал бросать реплики и вступать в пререкания, приходилось, чтобы не заразить этой инфекцией других подчиненных мне командиров и политработников, публично пресекать его выступления резкими словами, вроде: «Лейтенант Филимонов, потрудитесь молчать, когда я говорю!», «Лейтенант Филимонов, встаньте! С вами разговаривает начальник!», «Лейтенант Филимонов, не рассуждать! Повторите приказание!» Он багровел от гнева, но, соблюдая воинскую дисциплину, умолкая, стоял навытяжку, повторял приказание, однако не покорялся.
Я решил открыть ему глаза на его недостатки: приходил в его роту на занятия и присутствовал часами. Отозвав его в сторону, задавал ему вопросы: «Как это должно быть по уставу?» Поймав его на неверных трактовках, строго упрекал: «Вы не читаете и не изучаете уставы, поэтому не знаете их! Вы ведь людей калечите!»
На маршах я посылал его в ГПЗ далеко вперед по неизученному маршруту, со всякими изломами азимутов, начертив их на топографической карте или на схеме. Когда он уклонялся от заданного направления а сторону (что случалось часто), я на коне догонял его, останавливал, заставлял ориентироваться, сличать карту с местностью...
На тактических учениях предоставлял ему первому слово: уяснить задачу, оценить обстановку, принять решение. К моему удивлению, он не различал эти три понятия и всегда сразу принимал путаное и необоснованное, безо всякого замысла «решение», громко заявляя: «Я решил». Краев, Севрюков, Попов, Бозжанов и другие, лежа на земле, тихонько посмеивались над тактической безграмотностью Филимонова. Нелегко человеку стать солдатом и офицером. Армия предназначена для войны, для боя.
Для армии нужны не добрые «папаши», а строгие, требовательные командиры, которым отцы и матери доверяют своих «деток» с наказом: «Обучи, воспитай, взыщи, научи и веди в бой!» Не все люди одинаковы: одним достаточно сказать слово, другого надо убеждать, третьего не грешно и принуждать. Бозжанов, Краев, Рахимов, Севрюков, Степанов, Борисов, Танков и другие знакомые вам боевые товарищи мой упрек «Почему это не сделано?» переживали тяжелее, чем строгий выговор, а Ефим Ефимович Филимонов на одно «почему?» отвечал мне десятками «потому». Поэтому я никогда не задавал ему такого вопроса, а просто приказывал: «Сделать так... Доложить!»
Слухи об «издевательстве» над Филимоновым дошли до генеральских ушей. Как-то в окрестностях станицы Талгар я проводил батальонное учение. Вдруг неожиданно примчалась легковая машина. Приехал генерал в сопровождении комиссара полка. Генерал потребовал план учения. К счастью, мы с Рахимовым ночью не спали и, как умели, разработали план учения, приложив к нему аккуратно отработанную Хабибуллой карту. Генерал приостановил учение. Внимательно изучив наш план, он спросил:
— Кто разработал план?
— Я и лейтенант Рахимов, — ответил я.
— Почему этот план не утвержден командиром и комиссаром полка?
— По плану, товарищ генерал, командир полка через неделю проводит с нами учение на эту тему. Я решил предварительно потренировать батальон.
— Значит, не хотите лицом в грязь ударить перед командиром полка. Это хорошо! Мне это нравится. — Он лукаво улыбнулся и, обращаясь к комиссару полка, спросил: — Все ваши батальоны так готовятся к предстоящему учению?
— Я не в курсе, товарищ генерал, — неловко признался Логвиненко.
Генерал усмехнулся, но ничего не сказал.
— Отведите батальон на исходное положение, откуда начали учение, — приказал он мне. — Я хочу посмотреть сначала, как у вас получается.
Дали «отбой». Роты заняли исходное положение...
— Я, кажется, малость разобрался в вашем плане. Переставьте роты. Ну, сделайте рокировку первой роты со второй.
Пока роты рокировались, генерал взял карандаш и исчертил всю нашу схему, изменив направления и задачи.
— Пусть люди на месте покурят, — сказал он, передавая мне «искалеченную» схему. — Вы изучите эту обстановку, что я нанес. А мы с товарищем Логвиненко немножко побродим среди народа...
Генерал вернулся через час. Вызвал командиров и политруков рот и при них сам в роли командира полка принял решение и поставил нашему батальону «боевую» задачу. Затем приказал мне уяснить задачу, оценить обстановку и принять решение. Я очень волновался и выпалил, видимо, все скороговоркой и по шаблону. Он остановил меня и приказал говорить «по-человечески» и «с толком», «чтобы каждому смертному было понятно». Разумеется, я сконфузился. Потом взял себя в руки и начал докладывать.
— Так, так, — поддакивал мне генерал, как мать, одобряющая верные шаги своего ребенка. Это меня подбодрило, и я, окончательно осмелев, вошел в русло «человеческого, командирского языка»...
Генерал утвердил наше решение. Далее, заслушивали командиров рот. Филимонов засыпался, а Севрюкон и Краев отличились.
Начался «бой». Бойцы и командиры старались до предела. В ходе «боя» генерал не давал сложных «вводных», а придерживался плана.
Дали «отбой». Батальон собрался. Генерал сделал общий разбор перед бойцами, указал на отдельные недостатки и закончил свою речь так:
— Сегодня вы неплохо поработали. А завтра, думаю, будете работать и учиться лучше, послезавтра — еще лучше. Хорошая учеба, товарищи, — верный залог успеха в бою!
Сделать разбор с командирами и политруками генерал приказал мне. Когда я проводил его к машине, он посмотрел на Логвиненко и с укором сказал:
— Передайте командиру первой роты Филимонову — пусть он учится у командира батальона, а не жалуется.
Логвиненко захлопал глазами, как бы умоляя генерала «не выдавать тайны», но тайна была выдана.
Я отвлекся от того места рассказа, когда Филимонов позвонил мне из Матренина и сказал:
— Думаю, как только он пойдет на нас, встретить огнем... Что ж более нам остается, товарищ комбат?
— По-вашему, Ефим Ефимович, что немец замышляет? — спросил я его.
— Не зря же накапливаются в лесу, наверное, скоро пойдут в атаку.
— На часок оттянем его атаку.
— Как на часок, товарищ комбат?
— С ним Курганов будет разговаривать.
— А, понял, товарищ комбат...
Кончив разговор с Филимоновым, я послал Рахимова к подполковнику Курганову, а Бозжанова с Андреевым — в Матренино, к Филимонову.
Артиллеристы и на этот раз нам хорошо помогли. Скопившаяся на опушке леса, против деревни Матренино, пехота врага была рассеяна двумя артиллерийскими налетами. Подполковник Курганов передал через Рахимова, что у него осталось ограниченное количество боеприпасов.
Прошло около двух часов затишья. Оно показалось зловещим. Солнце стояло на две пики выше горизонта. На снежном поле, как шрамы от оспы, темнели следы не-давних боев.
Часто говорят, что в бою время проходит незаметно. С таким обобщением я лично не согласен. Предел человеческого напряжения и нетерпения проявляются именно в бою. Особенно изматываются нервы в оборонительных боях, когда инициатива в руках противника, когда ждешь и не знаешь, откуда, когда и как он тебя стукнет.
Нас мучило напряженное ожидание — мы ждали захода солнца, ждали темноты, а солнце не заходило, темнота не наступала.
В 1941 году и мы и немцы не умели воевать ночью, Так называемые «ночные действия» разрабатывались в штабах, докладывались по команде начальству, а в войсках толком не проводились. Немцы ночью не наступали, хотя имели на это приказ командования, а наши не контратаковали, хотя тоже имели приказ. Ночь использовалась в основном для перегруппировок. Часто ночь была передышкой для обеих сторон: ночью поешь спокойно, часа два, а то и три поспишь. Это знали все и ждали наступления темноты.
Вдруг — грохот обстрела. Я смотрю на часы и засекаю. Пять минут... Десять минут...
— Соединить с Филимоновым... Что у тебя? Ты жив, Ефимушка?
— Пока жив, товарищ комбат. Долбит, проклятый, слышите?
— Значит, он хочет ночевать в Матренине?
— А кто его знает...
— Посмотрим, кто из нас будет ночевать.
— Мы, товарищ комбат...
— Брось трепаться!
— Мы выдержим...
— Вот что, Филимонов, выслушай сначала.
— Слушаю.
— Как только он прекратит обстрел, сдать Матренино без боя.
— Как, как? — растерянно, не веря, переспросил Филимонов. — Сдать без боя?! Что вы говорите, товарищ комбат?
— Что? Думаешь, ослышался? Как только он прекратит обстрел, забирай раненых и — бежать в беспорядке к мосту! Остановиться у моста! Ни в коем случае «языка» не оставлять! Бежать всей ротой! Сдать Матренино!
— Слушай, комбат! — со всей силой ударил меня по плечу Толстунов. — Ты, по-моему, с ума сошел. Что ты делаешь? Объясни толком, почему ты без боя сдаешь Матренино? Ведь генерал приказал...
— Ну, пойми же, Федор Дмитриевич, как «просто» и как «весело» было бы, отбиваясь до последнего патрона, умереть с честью! Сколько людей мы потеряли сегодня? Ты говоришь: «Генерал приказал». Ведь генерал также приказал беречь людей.
— Но не бегством же!
— А я решил бежать! Немец хочет взять Матренино голыми руками.
— Ну, что же, сделаем так, как он хочет. Мы сдадим деревню без боя, а из леса будем угощать его огнем.
— А что если люди не остановятся у моста, как ты приказал, и немец пойдет за ними по пятам?! — в тревоге произнес Толстунов.
— Ты прав. Давай я сам поеду туда, а ты здесь за меня, за Танкова оставайся. Как говорится, «пан или пропал», решения отменять не стану...
Рахимов, Синченко и я мчались галопом к Матренину. Когда мы выскочили из леса, то увидели, как из деревни бежала в полном беспорядке рота. Андреев шел широкими шагами, не обращая внимания на бегущих.
Я ужаснулся: люди бежали в настоящей панике. Последними бежали Филимонов и Бозжанов. Озираясь, как испуганный теленок, Бозжанов спотыкался почти на каждом шагу и часто падал.
У моста мы слезли с коней.
Рахимов (он был спортсмен-альпинист) побежал навстречу роте с криком: «Стой! Остановись!», а Синченко увел наших коней под мост. Я нарочно прохаживался по мосту. И хотя казалось невозможным остановить это паническое бегство, бойцы, пробежав еще по инерции сотню шагов, остановились.
— Аксакал! Вы здесь? — спросил Бозжанов, тяжело дыша. Отчаяние было на его лице. Он с упреком прошептал: — Умереть легче, чем бежать!
— Марш под мост! Мальчишка! Может быть, ты хочешь принять командование батальоном?
— Что вы, товарищ старший лейтенант... Кудай сактасын (Боже упаси!)! — совсем опешив, воскликнул он по-казахски.
— Идите и помогайте Филимонову привести людей в порядок.
Бозжанов юркнул под мост. Подошел Андреев.
— Товарищ старший лейтенант, — недовольно пробасил Андреев, — как-то нескладно получается: немец не идет, а мы бежим. Как это так?
— Андреев! Ваше дело не рассуждать, а выполнять то, что приказано!
— Есть выполнять что приказано! — рявкнул Андреев на всем пределе внутренней ненависти ко мне. — Разрешите идти?
— Оставайтесь здесь, Андреев.
— Есть оставаться здесь.
...Немцы прекратили обстрел, выстроились в ротные колонны и пошли в сопровождении трех танков к Матренину. Шли они спокойно и гордо — почти победным маршем. «Раз рус побежал, все наше», — наверное, радовался их командир.
— Андреев, посчитайте, сколько их идет. Приложив к глазам бинокль, Андреев долго присматривался. Немцы приближались к деревне.
— Кажется, товарищ старший лейтенант, немчуры четыре колонны по шестьдесят-семьдесят человек, всего двести сорок-двести восемьдесят, а ежели считать Танкистов да что на автомашинах, — человек триста — четыреста...
— Значит, идет батальон, потрепанный предыдущими боями.
— Так точно... Можно было бы, товарищ старший лейтенант, не пускать их в деревню, — с грустным вздохом выдавил из себя Андреев.
«Да, можно было бы не пускать их в деревню», — согласился я про себя с упреком Андреева.
Немцы вошли в деревню и разбрелись по домам. Из танков вышли экипажи и, оставив люки открытыми, тоже вошли в дома. Несколько солдат ловили кур, гонялись за поросятами.
— До того обнаглели, что даже не поставили часовых, — пробурчал Андреев. — Как будто к теще в гости приехали...
Я позвал командиров. Мы лежали на железнодорожной насыпи.
— Видимо, немцы решили поужинать и отдохнуть, — сказал Рахимов.
— А почему бы им и не поужинать? — съязвил Филимонов.
Слова Бозжанова, Андреева, Рахимова, Филимонова коробили меня. Ведь все они внутренне не прощали мне, что я приказал сдать Матренино без боя. Но как выправить положение? Я думал над этим. Я был подавлен. Идти в лес, занять на опушке позицию и глазеть на отдыхающих немцев? Нет! Так не пойдет...
— Филимонов, сколько у вас людей? — спросил я.
— Сто двадцать, товарищ комбат.
— Людей разбить на три группы, по сорок человек. Атаковать Матренино одновременно с трех сторон. Выгнать немцев. Будем ужинать и ночевать в Матренине. Командирами групп назначаю вас, Бозжанова, Рахимова. Атаку возглавлять лично самим...
Охватывая деревню с трех сторон, шли цепи наших бойцов, держа винтовки наперевес. Шли молча, шли уверенно. Вдруг с высокой железнодорожной насыпи застрекотали станковые пулеметы. Бойцы бросились вперед с криками «ура», стреляя на ходу. Немцы выскочили из домов, впопыхах заметались и побежали... Расплата за беспечность была слишком велика: они бежали в беспорядке, в панике, не слушая своих офицеров. Наши ворвались в деревню и, вдохновленные успехом, увлеклись до того, что многие бойцы не остановились, а погнались за немцами до самого железнодорожного полотна...
— Здорово вышло, товарищ старший лейтенант! — радостно сказал Андреев. — Может быть, вдогонку им с полсотни снарядов послать?
Подполковник Курганов уважил нашу просьбу: Андреев прочесал лес, в котором скрылись немцы.
Я приказал Филимонову закрепиться, и мы выехали в Горюны.
Толстунов с широкой улыбкой вышел навстречу и пожал всем нам руки со словами: «Ну, орлы мои, молодчины вы у меня». Потом он рассказал, как генерал гневался на меня за то, что я сдал Матренино без боя. На заверения Толстунова о том, что решено контратаковать противника, он сказал: «Вы достаточно грамотны, чтобы знать: бежавшие с поля боя неспособны немедля контратаковать». А когда он доложил об удачном исходе, генерал сказал: «Это, к счастью, только лишь удавшаяся авантюра. Передайте командиру батальона, что эта удача не снимает с него вины, хотя он рисковал более чем жизнью — воинской честью командира...» Этот выговор генерала нас всех огорчил.
— Ну, хлопцы, товарищи, — заторопился Толстунов, — вот, ей-богу, зачем это я разболтал вам!
— Генерал прав. Могло случиться хуже, — сказал я. Толстунов хлопнул меня по плечу.
— Ты у меня сознательный парень, Баурджан. Ну, ничего, все позади, все пока благополучно, переживать особенно нечего. Давай лучше думать, как дальше быть?.. Смело принимай решение. Если твоей мало, можешь положить и мою голову...
— Первой или второй? — спросил Бозжанов.
Толстунов нарочито встревожился и сказал:
— Конечно, второй.
Все рассмеялись. Бозжанову я приказал вступить в должность командира третьей роты вместо выбывшего лейтенанта Танкова. Рахимов поехал на высоту «151,0», к Краеву. Борисова с повозкой я направил в Матренино — к Филимонову, за документами и трофеями.
Вошел подполковник Курганов. Мы все встали.
— Ну, что ж, ребята, — начал он, устало опускаясь на табурет. — У меня рабочий день подходит к концу, а впереди рабочая ночь. Не осудите меня, ребята, мне приказано отчалить от вашего берега. Я пришел попрощаться... — Подполковник запнулся. — Тьфу, черт, не то сказал — подосвиданькаться зашел...
Человек интеллигентный, Курганов заметил, что сочинил какое-то нелепое слово, и, рассмеявшись, повторил:
— Досвиданькаться! Здорово сказанул! Бедный русский язык, как только мы, русские, сами ни калечим его.
— Новое словообразование, товарищ подполковник, — пошутил я.
— Вот что, Момышка, — ласково сказал подполковник, — ты вижу, человек риска. Береги свою буйную голову, генерал мне об этом наказывал.
— Но я же, товарищ подполковник, не скакал на вороном коне под артиллерийским обстрелом...
— Ты мне не перечь, я старше тебя! А у нас, товарищ старший лейтенант, в Рабоче-Крестьянской Красной Армии старшие всегда правы!
— Слушаю, товарищ подполковник, — покорно ответил я.
Его обращение «ребята», «вот что, Момышка» — все это было по-свойски, по-родственному, по-нашему. Если бы в этот момент воскрес мой старик отец и услышал наш разговор, он гордился бы тем, что его сына Баурджана русский подполковник называет «Момышкой», и прошептал бы мне на ухо: «Сынок! Этот русский парень, правда, горячий человек, но хороший, честный джигит. Почитай его за старшего брата!»
Наш разговор прервал зуммер полевого телефона. Звонил Рахимов.
— Товарищ комбат, — кричал он в трубку, — я успел к шапочному разбору...
— Что такое?
— Да тут они кое-что сделали к моему приезду.
— Говорите толком.
— Разрешите доложить?
— Докладывайте.
— Короче говоря, Краев... Он тут трофеи и документы захватил, два танка, три машины, одна легковая, одна штабная...
— А противник?
— Видимо, сюда забрел штаб какого-то заблудившегося батальона.
— А где он, сам батальон?
— Где-то здесь, в лесу болтается.
— Заберите все документы. Танки и машины привести в негодность противотанковыми гранатами. С наступлением темноты со всем краевским хозяйством прибыть сюда.
— Ясно, товарищ комбат...
Когда я положил трубку, Толстунов прорычал:
— Ты что, опять без боя высоту оставляешь?
— Не без боя, а с боями, разве не слышал?
Передав краткое содержание нашего разговора с Рахимовым, я обратился к подполковнику и доложил ему, что гарнизон Горюнов за день напряженных боев понес потери не менее одной четверти личного состава, что для усиления гарнизона отзывается с высоты «151,0» роты Краева, о чем я и просил подполковника доложить генералу, когда он приедет в штаб дивизии.
Записка
Темная ночь. Наш штаб — в доме у железнодорожной будки. На полу чемоданы, портфели, планшеты, автоматы, парабеллумы, бинокль, компасы, телефонные аппараты и другие трофеи, привезенные Борисовым из Матренина и Рахимовым из района высоты «151,0».
В помещении, освещенном несколькими свечами, сидят дежурные телефонисты. Наш повар Файзиев в передней стряпает ужин. Синченко с Курбатовым сортируют трофеи. Командиры ушли выполнять отданные на ночь распоряжения.
Днем нас было много: рота капровцев, саперы, артиллеристы и мы. Авиация помогала нам. Горюны были мощным опорным пунктом на шоссе. За прошедший день боев это чувствовали мы сами, это испытал на себе и противник. Теперь мы одни. По существу, осталась лишь пехота с шестью маленькими противотанковыми пушками. Все остальные ушли к основным силам дивизии. Я писал боевое донесение. Меня раздражало, что оно получается длинным — целый отчет о боях за день. В конце донесения командир пишет о своем решении на дальнейшее, а в последнем пункте — свою просьбу к старшему командиру.
«Решил...» — начал я новую строку, но следующие слова не шли. Что я, собственно, решил, пока и сам толком не знал.
«Решил: продолжать упорно оборонять опорные пункты Горюны, Матренино, для чего высоту «151,0» оставить и высвободить вторую стрелковую роту. Гарнизон Горюнов усилить второй стрелковой ротой, первую стрелковую роту, оборонявшуюся в Матренине, усилить двумя станковыми пулеметами...»
— «Прошу вас...» — начал я новую строку...
Вошедшему Толстунову я прочел вслух текст донесения, делая ударение на словах предпоследнего пункта «упорно оборонять», «усилить». Видимо, в моем тоне, когда я произносил эти слова, звучала горькая ирония, которой не жалеют пессимисты или люди обреченные. Толстунов сказал:
— Ну что ж, правильно написано. Раз приказано упорно оборонять — какой может быть разговор?!
Я начал читать дальше:
— «Прошу вас...» — и запнулся.
— Ну, чего же ты просишь?
— Когда я начал писать «Прошу вас...», в это время ты вошел.
— Значит, я помешал тебе сформулировать просьбу?
— Просить-то нечего, Федор Дмитриевич, в этой обстановке.
— Правильно ты говоришь — ничего не проси. Ты думаешь, генералу легко нас одних здесь оставлять?..
...Пришли Хаби Рахимов, Бозжанов, Борисов, Степанов. Они доложили, что распоряжения на ночь выполнены.
— Смотрите, ребята, — строго, с тревогой произнес Толстунов, — как бы люди не заснули. Ведь они за день боев уморились.
— Все предусмотрено, товарищ старший политрук, как следует быть, — прервал его Бозжанов и, нарочито коверкая отдельные слова, добавил: — Например, у меня в роте каждый пять человек — один группа, знашит, один отвешает за пять, а пять отвешает за один. Один стоит смотрит кругом, другой сидит не смотрит кругом, он не спит, смотрит на того, кто стоит и смотрит кругом...
— Значит, бодрствует? — прервал я его.
— Да, бодрствует, — подтвердил он, — а спит часа два, потом два стоит, один сидит, два спит...
Мы расхохотались, удивленные актерскими способностями Джалмухаммета.
Рахимова не удовлетворила сортировка трофеев Синченко и Курбатовым. Он с присущей ему аккуратностью отобрал все документы, упаковал их.
Документы и трофеи были отправлены в штаб дивизии.
В полночь меня разбудил Рахимов:
— Вам записка от полковника Серебрякова.
На линованом листе, вырванном из ученической тетради, полковник Серебряков, начальник штаба нашей дивизии, своим ровным каллиграфическим почерком писал:
«Тов. Момыш-улы! Генерал и мы все довольны вашей работой...»
Я помню эти первые слова записки.
Далее полковник писал, где находится какой полк, и о том, что генерал поехал к командующему, просил его передать нам привет и пожелать успехов...
Когда я пишу эти строки, очень сожалею, что у меня нет под рукой этого теплого, человеческого документа, написанного рукой ныне покойного Ивана Ивановича — русского интеллигента, старого русского полковника, одного из моих учителей. Этот документ мне дорог до сих пор как первая награда за наши боевые дела. Он был написан просто и по-человечески задушевно. Там не было начальственного тона, вроде «за отличное выполнение боевого задания объявляю вам благодарность» или «представляю вас к награде». Это была простая записка товарища товарищу. Эту записку я хранил в моем удостоверении личности до конца 1942 года, пронес ее сквозь бои под Москвой, под Старой Руссой, под Холмом и вручил ее автору в день годовщины нашего Талгарского полка в деревне Васильеве, Холмского района, в торжественной обстановке, в нашем полковом «зеленом клубе».
Этот клуб имеет свою историю.
Линия нашей обороны проходила по реке Ловати. Тогда этот участок считался на фронте второстепенным. Нашим полковым инженером был архитектор, призванный из запаса. Этот человек мог часами ползать по переднему краю, чтобы по всем правилам военно-инженерного искусства учить бойцов оборудовать стрелковые ячейки со вкусом. Он был эстетом. «Как можно воевать в обороне без удобств!» — возмущался инженер нашей неряшливостью. Он был помешан на фортификационной красоте. В приступе откровенности он как-то сказал мне:
— На войне человек не только калечится, умирает, но он и живет обычной жизнью — страдает, радуется, ненавидит, любит, грустит, смеется, плачет, ссорится, шутит... Я хочу, товарищ майор (я был тогда в звании майора), чтобы человек красиво жил, а если надо, то и красиво умирал на поле боя...
Портрет инженера легко запоминался. Он был высокого роста, брюнет, с темно-синими глазами, с гордой осанкой и крупной головой на стройной шее. У него все было в крупном плане: лицо, лоб, расходящиеся, как крылья орла, брови. Каждый раз при встрече с ним мне почему-то думалось, что из него получится отличный командир батальона. Но ведь он — инженер. Наши втихомолку посмеивались над ним, острили, но всегда относились с уважением.
Как-то на одном совещании наш начальник штаба, обращаясь к инженеру, назвал его Петром Захаровичем. Он вспыхнул и бросил реплику: «Меня величают Пейсахом Залмовичем, а фамилия моя, как вам известно, Зильберштейн. Прошу уважать, любить и не искажать!»
Иван Данилович смутился и извинился перед ним.
Однажды приехал к нам в полк командующий армией генерал-полковник Галицкий. Он подробно ознакомился с инженерными и фортификационными сооружениями и одобрил их: «Грамотно, просто, удобно, и сделано со вкусом». Я доложил командующему о львиной доле труда в этом деле Пейсаха Залмовича.
«Солдат — человек бездомный. При нем нет ни отца, ни матери, ни жены. Он сам должен заботиться о себе. Если ему предоставлено два часа отдыха, он должен потратить, по крайней мере, тридцать минут на создание себе удобств для отдыха», — заключил командующий.
По проекту и под руководством Зильберштейна в лесу, недалеко от штаба полка, и был построен полковой клуб. Он был известен во всей дивизии под названием «зеленый клуб». Здесь проводились собрания партактива, широкие совещания, вручение наград, торжественные собрания и вечера самодеятельности.
«Зеленый клуб» выглядел естественным чудом природы. Там не было видно следов топора, не было прибито ни одного гвоздя. Это была громадная пещера из переплетающихся елей и сосен с нависшими «люстрами» из ветвей, с ковровым полом из хвойных лапок, с эстрадой и зеленой трибуной.
В этом клубе 31 июля 1942 года мы проводили торжественное собрание, посвященное первой годовщине нашего полка, которое я открыл кратким вступительным словом. Тогда я впервые и огласил записку полковника Серебрякова и тут же вручил ее ему. Иван Иванович был растроган. Впоследствии эта записка была подшита к делу оперативного отделения штаба дивизии.
Натиск противника
Ночь прошла спокойно. Генерал Панфилов сообщил из штаба армии, что в район Горюнов прибудет механизированная бригада и мне следует поступить во временное подчинение командиру этой бригады.
Через Горюны прошли два полноценных мотострелковых батальона, один танковый батальон с двенадцатью боевыми машинами, в числе которых был тяжелый танк «KB». Все они сосредоточились в лесу, между Горюнами и Матренином.
Когда я приехал в их расположение, меня удивило, что войска спокойно расположились на отдых.
Заместитель командира бригады, смуглый остроносый подполковник небольшого роста, не был знаком с обстановкой и не знал задачи бригады. Он не стал слушать меня, сказав, что командир бригады и начальник штаба поехали в штаб армии за получением задачи, а ему приказано прибыть сюда и сосредоточиться в этом районе.
— Приедет командир, примет решение: если нужно будет, он вас вызовет, а пока езжайте к себе, товарищ старший лейтенант, — закончил он.
Когда я приехал к себе в штаб, Рахимов доложил, что немцы вышли к нам в тыл и ведут бои с частями нашей дивизии. Связь с частями дивизии и со штабом установить не удалось.
По данным нашей разведки, во всех окружающих деревнях были немцы. Они заняли оставленные нашими войсками населенные пункты, подавив отдельные очаги сопротивления, вышли к рубежам, занятым основными силами наших войск, и теперь ведут бой далеко позади.
Противник обошел нас с обеих сторон. Бозжанов и Краев немедленно заняли новые позиции, фронтом на восток и северо-восток. Сейчас двенадцать часов дня, а нас, советских воинов, оставшихся в Горюнах, в лесу и Матренине, немец не удостаивает никаким вниманием.
Толстунов, как старший по званию и как офицер из штаба полка, был послан в штаб бригады и вернулся расстроенный: заместитель командира бригады все еще ждал прибытия командира и наотрез отказался самостоятельно принимать решение.
...К двум часам дня к нам пожаловали с востока немцы. Пришло несколько танков, почему-то обвязанных красным полотнищем вокруг башен. Я послал Рахимова к заместителю командира бригады. Толстунов ушел к Краеву. Я стоял на наблюдательном пункте Бозжанова. Немцев было не так уж много: пять-шесть танков и до двух рот пехоты. Наши артиллеристы подбили два головных танка. От меткого беглого огня пушки и пулемета немецкого танка погиб наш орудийный расчет. Наш пулеметно-ружейный огонь прижал к земле наступающую за танками пехоту противника.
Я ждал, что вот-вот подойдут боевые машины бригады с мотострелковым батальоном и короткой мощной контратакой сомнут или, по крайней мере, отгонят немцев.
Но прибежавший Рахимов, запыхавшись, доложил:
— Не ждите подмоги. Подполковник сказал, что он еще не принял решения.
Рахимов пошел к Краеву, а я к себе в штаб. Позвонил подполковнику. Он мне ответил теми же словами: «Я еще не принял решения, пока воюйте сами; потом посмотрим, как сложится обстановка».
Считал ли подполковник преждевременным вводить в бой бригаду, или же, растерявшись, вообще не знал, что делать, ждал приезда командира, не решаясь брать на себя ответственность, — во всяком случае, для меня был тогда, как говорят казахи, «ключ от чужого добра в небесах».
Не знаю, сколько прошло времени в раздумье. Вдруг Степанов, схватив наш штабной планшет, потащил меня к двери. Лязгая гусеницами и рокоча глухими оборотами мотора, возле штаба остановился тяжелый немецкий танк, загородив нам выход своим боком. Когда мы высунулись из двери, башенный стрелок поднял крышку башни, и из люка показалась голова в шлеме. Степанов выстрелил — немец нырнул в люк, а Курбатов бросил в не успевший захлопнуться люк ручную гранату. Забегая за угол дома, мы услышали глухой взрыв.
— Есть еще граната? — спросил я Курбатова.
— Есть еще одна.
— Бросай в башню!
Курбатов круто повернулся и, прижимаясь к стене дома, скрылся за углом, и тут же, когда он снова показался, раздался еще один взрыв. Из дома выбежали остававшиеся там наши дежурные связисты. Мы стремглав бросились к насыпи железнодорожного полотна. Там стояли Рахимов, Краев, Хасанов.
Этот немецкий танк, оказывается, пришел с другой стороны. Видимо, экипаж, привыкший шарить в пустых домах, не подозревал, что в доме, стоящем на отшибе, расположен командный пункт нашего батальона, и решил под прикрытием этого дома устранить какую-то неисправность. Если это не так, то ему стоило только прошить этот деревянный дом несколькими очередями из пулемета, чтобы убить нас, или выпустить два снаряда из своей пушки, чтобы разрушить этот дом. Танк не подавал признаков жизни, когда мы вернулись в дом, из которого минут двадцать-тридцать назад бежали в смертельном испуге. В доме сидел наш повар Джан Файзиев. Он мурлыкал себе под нос какую-то узбекскую мелодию и массивным бухарским ножом рубил мясо на мелкие куски. Степанов первым обнаружил его и воскликнул:
— Джан, вы здесь? Что вы здесь делаете?
Файзиев плохо владел русским языком. В фартуке, с ножом в руке, он вытянулся перед Степановым и начал докладывать:
— Я, товарищ командир, обед делает. Обед хороший, мостова6 буйдет.
— А как же вы здесь остались?
— Я сидит, работает. Вдруг стреляет. Все бежал. Я ножик забывал, обратно бежал. Надо ножик, мясо, рис возми. Я взял, бежал. Тут танка стоял. Большой взрыв получился. Я бежит назад, кароват лежит. Я все лежит, лежит, ничего нету. Вставал, пошел, танка стоит. Окно смотрит, все командир идет. Я садимся и работаем, обед мостова буйдет.
Видимо, Джану стоило больших трудов так долго говорить на русском языке, и, когда вошел Рахимов, он бросился на колени и, сложив руки на груди, воскликнул:
— Ва, акажан! Булар нема деп турыпты ю?7
— Санга ни бульды? Ишляй бар аухатларынды!8
— Хуп, акажан!9
Рахимов был кумиром Джана. Никто из нас не знал хорошо мягкого и благозвучного узбекского языка, а Рахимов им владел в совершенстве, знал обычаи и тонкости кулинарного искусства этого народа. С Джаном он разговаривал только на узбекском языке, давая ему указания, как перчить, как солить, как рубить мясо. Мы ели и хвалили приготовленную Джаном еду, а Рахимов всегда делал ему замечания на «кухонном» жаргоне. Джан оправдывался перед ним, ссылаясь на плохое качество продуктов, кухонной утвари, даже на недостаток дров и воды. В дни затишья Рахимов «висел» над котлом Джана, как старший повар. Иногда можно было видеть, как Рахимов, сидя перед открытой топкой печки, подкладывает поленца или вынимает дымящиеся головешки, а Джан вертится возле него, выполняя его указания.
Мы, казахи, никогда не вмешивались в кухонные дела нашего очага и считали это чисто женским делом. Однажды один из моих бывших школьных товарищей, не раз наносивший синяки своей покорной жене и живший девизом: «Работаю только силою, которую мне придает хорошая пища», пошел на кухню поторопить жену. Та его прогнала, гневно произнеся: «Кто из нас женщина — я или ты? Кто тебя приглашал сюда? Вон убирайся отсюда!» И этот деспот и обжора на этот раз так смутился, что не стукнул жену за ее строптивость, а тихонько вышел из кухни.
Наш веселый Бозжанов втихомолку посмеивался над Рахимовым, называя его «самой удачной женщиной-хозяйкой штаба нашего батальона». Он говорил: «Если бы меня моя мама родила девочкой, я никогда не взял бы себе в мужья нашего Хаби, а если бы Хаби был не Хаби, а Хабиба, — я отдал бы девяносто девять верблюдов в калым и женился бы на ней». И я своим смехом поддерживал эту остроту Бозжанова в адрес Рахимова. Теперь только начинаю понимать, что, может, и не совсем тактично было смеяться над боевым товарищем, который больше всех заботился о нас.
К двум часам дня немцы возобновили наступление на Горюны. Наступал батальон при поддержке артиллерии и танков. Бой продолжался часа три. Враг нас теснил и теснил. Толстунов вернулся из штаба бригады и передал мне слова подполковника: «Держись пока, дело к вечеру подходит, а вечером я приму решение».
Было ясно, что мы долго продержаться не сможем. Еще два натиска — и мы откатимся к Горюнам. Я поделился своими тягостными мыслями об этой неизбежности с Толстуновым и Рахимовым. Толстунов, встревоженно осмотревшись, сказал:
— Да, дело у нас становится очень неважным. Давайте-ка, товарищи, я еще раз к ним схожу.
— Иди и передай, что мы продержимся максимум полтора часа. Пусть он хоть прикроет свое собственное расположение.
Толстунов ушел. С бугра, на окраине деревни, в бинокль были видны на опушке леса немецкие танки и скапливающаяся пехота.
— Значит, он скоро вновь начнет атаку, коль приводит себя в порядок, — сказал Рахимов, опуская бинокль.
— Товарищ комбат, — обратился ко мне, шлепнувшись с разбегу, задыхающийся Бозжанов, — видите?
— Вижу.
— Что же нам делать?
— Пока молчать. Когда пойдет в атаку, вам справа, а Краеву слева «обнять» огнем.
Вдруг над полем пронеслись трассирующие пули, раздался грохот артиллерийской канонады, поднялись черные грибы разрывов. Немец начал гвоздить по Горюнам. Артиллерийский налет был коротким, но мощным. Как бы подхватывая еще не затихший грохот разрывов, ведя огонь с коротких остановок, пошли в атаку вдоль шоссе танки. Стальные черепахи ползли, изрыгая огонь из своих пушек, поливая все впереди себя свинцовым огнем из пулеметов. Они шли почти в линию, шли медленно, уверенно, как на учении. Наши два ПТО не успели и «рта раскрыть» — на них посыпались снаряды, и обе пушки были подавлены. На этот раз пехота не пошла за танками, она осталась в лесу.
— Значит, он решил сначала «проутюжить» нас танками.
— Резонно и правильно решил, — услышал я позади себя голос Толстунова. — А ты сам что решил? — спросил он строго, когда я обернулся к нему.
— Я решил оставить Горюны и отойти в лес.
— Что ж ты медлишь тогда?
— Рахимов, передайте Краеву и Бозжанову: отойти в лес и закрепиться там. Прикажите держать шоссе под ружейно-пулеметным огнем и не пускать пехоту в Горюны. А я пойду в эту бригаду...
Сказав это, я, не оглядываясь, пошел назад. Мы не бежали, а шли. Как сильное, молчаливое материнское горе придает женщине внешнее спокойствие, так и в бою командирское горе делает человека смелым и, кажется, равнодушным ко всему.
— Комбат! Да ты не переживай, — мягко и душевно сказал Толстунов. — Ведь ребята отдали все, что могли, чтобы выполнить приказ.
— Разве сегодня двадцатое?
— Нет, сегодня девятнадцатое. Но батальон выполнил приказ генерала. Почти двое суток держали шоссе.
...На окраину Горюнов выполз немецкий танк, остановился и послал несколько снарядов в лес, где располагалась бригада. От машины к машине бегал капитан и командовал: «Занять оборону!» Наш тяжелый танк «KB» рванулся вперед, ведя огонь на ходу. Немецкий танк, остановившийся на окраине Горюнов, сверкнул вспышкой пламени, обволокся черным дымом и запылал. «KB» помчался на предельной скорости к Горюнам, брызгая комьями снега и грязи, и быстро скрылся за крайними домами. Ни одна машина за «KB» не последовала.
— Товарищ капитан! Пошлите несколько машин поддержать «KB», — попросил Толстунов.
— Мне приказано обороняться, а не контратаковать! — закричал капитан. — Ах эта недисциплинированная сволочь!..
Танк показался из-за домов и помчался обратно. Немецкий снаряд ударил в основание башни «KB» и отрикошетировал.
Как после рассказывал Бозжанов, этот отважный поступок экипажа «KB» был неожиданным для немцев: «Он ворвался в Горюны и, прикрываясь углом одного дома, перещелкал четыре немецких танка и подался восвояси».
Когда мы пришли в штаб бригады, подполковник проводил совещание. Я обратил внимание на необычное для фронтовой обстановки щеголеватое обмундирование командиров. Я просил подполковника немедленно контратаковать и занять Горюны, пока наши две роты, расчлененные танками противника, вклинившимися в Горюны, держат из леса под ружейно-пулеметным огнем шоссе, отрезая пехоту от танков.
— Спешить с контратакой не будем, — ответил подполковник, склоняясь над развернутой перед ним картой, — я еще не принял решения...
Мы ушли. Солнце закатывалось. Шла перестрелка — из Горюнов в лес, из леса в Горюны. Мы все знали, что этой огневой перебранке скоро будет конец — наступит темнота, наступит тишина.
Через два часа пришел связной. Меня вызывали в штаб бригады. В лесной тьме, спотыкаясь, шло нас пятеро: я, Толстунов, Рахимов и два связных красноармейца. Когда мы вошли в штаб, нас ослепил яркий свет электрической лампочки от полевой батареи. Я представился. Подполковник встал, уперся руками о стол и, смотря на карту, деланно пробасил:
— Слушайте мой приказ! Все командиры встали.
— Садитесь и слушайте, — сказал подполковник, не отрываясь от карты.
Командиры сели. Подполковник продолжал:
— Я решил атаковать Горюны, овладеть ими с трех сторон и уничтожить противостоящего противника. Н-скому мотострелковому батальону, — при этих словах подполковника встал командир этого батальона, высокий худощавый майор в форме пограничника, — без машин перейти шоссе и на той стороне, в лесу, занять исходное положение для наступления; ровно в ноль-ноль часов ноль-ноль минут атаковать Горюны, овладеть вот этой четвертью деревни, — подполковник ткнул указательным пальцем в карту, а майор безразлично смотрел на него, — и дать сигнал тремя красными ракетами. Потом, по этому сигналу, пойдет сначала батальон 316 СД и займет эту четверть. — Я молча встал. — Он даст три белые ракеты. Потом пойдет танковый батальон и займет остальную часть деревни, а Н-ский мотострелковый батальон, — тут встал капитан, квадратный крепыш в полушубке, — во втором эшелоне, в моем резерве. После овладения Горюнами я приму дополнительное решение. Повторите приказ, командир Н-ского мотострелкового батальона.
Майор повторил слово в слово. Когда дошла очередь до меня, я встал и сказал:
— Я не понял вашего приказа, товарищ подполковник. Поэтому разрешите не повторять его, а доложить свои соображения.
— Докладывайте.
— Мой батальон основательно потрепан предыдущими боями. Две роты находятся на этой стороне, одна рота — на той стороне шоссе. Я не знаю, сколько бойцов осталось в живых. Я соберу людей лишь к утру. Прошу вас, товарищ подполковник, учесть это... Мне кажется, следовало бы первым ворваться в Горюны танковому батальону...
— Не рассуждать! — взорвался подполковник. — Я принял решение!
— Простите! — вмешался Толстунов. — Я говорю как представитель полка, меня послал сюда наш генерал. Батальон был двое суток в напряженном бою, достаточно потрепан. Что вы хотите еще от него? Вы, наоборот, хоть теперь помогите этому боевому батальону «залатать» его «Тришкин кафтан». Если вы не уважите нашу просьбу, я сейчас же ухожу отсюда, буду пробиваться к своим и обо всем доложу Военному Совету армии...
Я никогда не видел Толстунова таким решительным. Подполковник был смущен.
— Хорошо!.. Вы пойдете вместо батальона 316 СД, — сказал подполковник квадратному крепышу — капитану.
— Слушаюсь! — И капитан повторил приказание. К пяти часам утра я был снова вызван в штаб бригады.
— Этот пограничник подвел нас, — упавшим голосом произнес подполковник. — Он увел батальон. Мы в окружении. Я решил выходить из окружения мелкими группами, и вам, товарищ старший лейтенант, рекомендую тоже выбираться к своим.
«Выходить из окружения мелкими группами» было тогда очень заразительной эпидемией для некоторой части командного состава. Я не знаю, кем был узаконен этот термин и чем он оправдывался, но знаю случаи, когда отдельные безвольные и трусливые командиры и комиссары под видом «безвыходного положения» распускали целые полки и дивизии, приказывая «выходить из окружения мелкими группами», а по сути дела, бросая их на произвол судьбы и «на милость врага». Помню, нам читали приказ Верховного главнокомандующего о стрелковом полке командира Болтина, который организованно вышел из окружения, совершив нечто сверхвозможное. В этом приказе особо подчеркивалось, что выйти из окружения возможно даже целым полком. Галицкий, Доватор выводили дивизию организованно из глубокого тыла противника. Ни Болтин, ни Галицкий, ни Доватор не были волшебниками-чудотворцами, они были просто волевыми командирами, в любых условиях державшими вверенные им войска в своих руках.
Рахимов пошел собирать и сосредоточивать всех наших бойцов в районе Матренино. Мы с Толстуновым стояли на поляне и смотрели вокруг.
Полноценная, свежая бригада, оставив всю свою боевую технику, не дав боя противнику, в это печальное утро 20 ноября 1941 года, по приказу подполковника, на наших глазах рассыпалась, разбрелась «мелкими группами» по лесам.
Степанов, которого Рахимов прислал, чтобы он находился при мне для поручений, всхлипнул.
— Вы что, Степанов? — крикнул на него Толстунов. — Вы пришли сюда плакать? Вон убирайтесь отсюда!
— Больно... обидно... товарищ старший политрук... — произнес Степанов, вытирая слезы и задыхаясь от гнева.
...Мы пошли в Матренино. По дороге я вспомнил: в двадцатых числах октября наш батальон пробирался из тыла противника к своим. Мы стояли в лесу близ совхоза имени Советов. После тяжелого ночного марша и утреннего боя было решено: в гуще леса дать людям отдохнуть, накормить их, а потом — снова марш, снова в бой. Я вспомнил слова Панфилова:
«Солдата накорми досыта, одень, обуй, когда он устал, — дай ему часа два отдохнуть, потом бросай его в огонь и в воду — наш русский, советский солдат не сгорит, не утонет. Обеспечишь заботу о солдате — обеспечишь успех. Солдата надо уважать, любить, заботиться о нем и лишь тогда требовать, взыскивать с него, чтобы он свято выполнял свой долг».
Итак, мы стояли в лесу близ совхоза имени Советов на боевом привале. Ко мне прибежал Борисов и доложил, что из леса пришли люди во главе с каким-то генералом. Я пошел на пищеблок батальона. Там стояла группа бойцов, офицеров и с ними пожилой генерал в шинели и суконной пилотке, опиравшийся на толстую суковатую палку. Рядом с ним стояли молодой полковой комиссар, несколько офицеров и несколько гражданских бородачей в поношенной одежде. Когда я представился, генерал сказал:
— Моя фамилия Старков. Это комиссар дивизии, а они, — он показал на группу людей, — командиры штаба дивизии.
Я приказал Борисову накрыть на стол.
— Зачем накрывать на стол? Вы дайте нам на руки то, чем хотите угостить, и мы пойдем.
Пока Борисов распоряжался, генерал, узнав, что мы уже вторые сутки находимся в тылу врага, спросил:
— И вы думаете и дальше идти вместе со своим батальоном, с этими пушками, зарядными ящиками и повозками?
— Решено, товарищ генерал, выбираться всем вместе. При необходимости будем пробиваться с боями.
— Правильно делаете, — сказал полковой комиссар. — Мы распустили целую свежую дивизию и вот, как видите, идем жалкой группой.
Борисов роздал им по килограмму белого хлеба и по триста-четыреста граммов холодного мяса.
Я тогда недоумевал и не понимал слов полкового комиссара: «Мы распустили свежую дивизию» — и понял их смысл лишь теперь, утром, увидев, как на наших глазах распалась, разбрелась бригада лишь потому, что командир принял решение «выходить мелкими группами». Немало было разбитых частей и соединений, которые при твердом управлении выходили из боев организованно, отходили и снова под единым командованием командиров частей и соединений давали бой противнику. Они заслуживают глубокого уважения за достойное поведение на поле боя. Таких частей и соединений у нас тогда было много, они дрались до последнего своего солдата, преграждая путь врагу.
Были и такие части и соединения, которым под натиском превосходящих сил противника не удавалось организованно выйти, и они с честью погибали на поле боя. Как правило, их командиры погибали вместе с войсками. Победы над такими частями обходились противнику очень дорого: советские бойцы, отдавая свою жизнь, уносили с собой жизнь двух-трех, а часто и более вражеских солдат. Я вспомнил гневные слова генерала Панфилова, когда один майор представился ему такими словами: «Командир разбитого батальона майор такой-то». Выслушав его до конца, генерал сказал, что он не верит, чтобы в бою весь батальон погиб, а командир остался в живых. Ведь батальон — это подразделение ближнего боя. Майор доложил, что их полк, вся их дивизия были разбиты, и когда они попали в окружение, им было приказано выходить «мелкими группами». «Вот так и скажите: не разбили, а распустили. У всякой разбитой вещи бывают осколки. Где же остаток разбитой дивизии? Вашу дивизию, батенька мой, не разбили, а вы сами распустились мелкими группами...»
Так теперь было и с бригадой.
Снова к своим
Вторая рота нашего батальона, рота Краева, находилась по ту сторону шоссе, а роты Бозжанова и Филимонова — на этой стороне. Их разделял противник, к вечеру захвативший Горюны.
Когда мы пришли в Матренино, Рахимов доложил, что бозжановские бойцы собрались в лесу за железнодорожным мостом, филимоновские — в Матренине, Краев прислал очередного связного и ждет приказаний в лесу, северо-западнее железнодорожной будки. В борисовских кухнях варится завтрак, который будет готов к раздаче не раньше чем через час. «Если скоро начнем отходить, может быть, гасить очаги и вылить все из кухонь?» — закончил Рахимов.
Толстунов запротестовал:
— Что вы, что вы, Хаби! Как это можно выливать из кухни столько добра? Кто знает, когда еще удастся бойцам поесть горячего. Пусть доваривают. Как ты думаешь, комбат? — спохватившись, спросил он меня.
— Пусть доваривают, — подтвердил я приказание Толстунова. — Плотно позавтракаем, а потом пойдем.
Мы посоветовались, и было решено: Краеву самостоятельно идти в район Гусенова и в лесу, в координатах икс — игрек, ждать нас; Филимонов — его рота относительно свежая — пойдет головным, а Бозжанов — вторым, опекая обоз, орудия и раненых. Когда присоединится Краев, он займет свое место последним в батальонной колонне. Решение идти, вернее, — пробиваться к своим по левую сторону шоссе, обосновывалось в записке полковника Серебрякова, в которой он сообщал о положении полков нашей дивизии двое суток назад, когда все, кроме Капрова, занимали широкий фронт по левой от нас стороне шоссе. Мы полагали, что противник вбил клин в боевые порядки дивизии вдоль шоссе и основные силы дивизии ведут бои именно по левой стороне.
...Чтобы противник не сразу обнаружил уход бригады и наше тяжелое положение, я и Толстунов согласились с предложением Рахимова выставить на опушке леса один стрелковый взвод со станковым пулеметом и противотанковым орудием.
...Люди собрались в лесу. Борисов метался между кухнями и повозками, шепотом торопил, ругал поваров, кладовщиков, ездовых, санитаров, старшин рот, помкомвзводов — наводил порядок.
Рахимов пошел на опушку леса со взводом. Этот дисциплинированный офицер часто не доверял не только другим, но и самому себе. Он должен был всюду быть сам, проверить, растолковать и убедить прежде всего самого себя.
...Взвод за взводом под командой шли с котелками к трем нашим походным кухням. Повара вычерпывали из булькающего котла жидкую перловую кашицу и наливали полные котелки. Когда я был красноармейцем, мне никогда не наливали полного котелка супу (ведь в круглом котелке емкость почти два литра), а тем более такой добротной кашицы. На мой вопрос, почему каша вместо супа и почему котелки наливаются до самого края, добродушный толстяк повар ответил:
— Лейтенант Борисов приказал заложить всю крупу и все мясо. Тут, смотрите, товарищ комбат, — он малой поварешкой зачерпнул кашу, — мяса почти столько же, что и крупы. Не беспокойтесь, товарищ комбат, всем хватит, а некоторым обжорам можно будет с полчерпака добавки дать.
У других кухонь творилось то же самое. Я вызвал Борисова:
— Лейтенант Борисов, когда вы собираетесь умирать?
Борисов опешил.
— Что ты, комбат? — дернул меня за рукав Толстунов.
— Я вас спрашиваю: когда вы собираетесь умирать, Борисов?
Борисов замигал глазами и растерянно ответил:
— Когда убьют или когда сама смерть придет, товарищ комбат.
Толстунов рассмеялся и шутливо сказал:
— Никто из нас не умрет, пока смерть не придет.
— Тут не до шуток, Федор Дмитриевич, — оборвал я его и снова обрушился на Борисова: — Вы что это убухали в котлы весь запас крупы и мяса?! Думаете, к обеду батальона не будет и вам будет некого кормить?
— Да, вы здесь немного оплошали, Борисов, — вмешался Толстунов. — Теперь я понял гнев комбата. Зачем вы так сделали? Батальон будет жить...
— Мне приказал лейтенант Рахимов. Я же должен был выполнить его приказание. Ведь он мой начальник! — ответил Борисов обиженно.
— Ладно, идите, — сказал Толстунов. — Рахимов сам объяснится.
— Краев на той стороне сидит. Его долю не сметь трогать, — бросил я вслед уходящему Борисову.
— Ни за что ты честного парня отругал. Ты прав в одном: при нашем положении надо было класть в котел меньше нормы, чтобы побольше иметь в запасе. Но ты слишком не расходись. С Рахимовым разреши мне самому поговорить.
В это время раздались ружейно-пулеметная трескотня и три выстрела из противотанковой пушки...
Когда мы с Толстуновым сидели на валежнике и ели из одного котелка кашу, пришел Рахимов.
— Ну, что там, Хаби, вы с немцами «гутен моргеном» обменялись? — смеясь спросил Толстунов. — А мы вот наслаждаемся, как видишь, вкусной кашей. Ты предлагал вылить все из кухни, — громко рассмеялся он, — а я спас, так что этим вкусным завтраком вы все мне обязаны...
Рахимов устало опустился на пень и приказал моему коноводу принести ему поесть.
...Батальон по тылам противника пробирался к своим. Мы шли по проселкам, по лесным просекам, с боем перешли шоссе. Когда подходили к шоссе, по нему мчались немецкие машины. Теперь шоссе было открыто для них. Мы пропустили одну мотоколонну, подтянулись и залегли почти у самого кювета. Появилась вторая мотоколонна. В кузовах машин сидела пехота. Я приказал вести огонь по кузовам машин, в водителей не стрелять. Машины поравнялись с нами. По сигналу был открыт ружейно-пулеметный огонь. Ошеломленные неожиданным обстрелом, водители прибавили газу и промчались, увозя свой груз — убитых и раненых. Пуля угодила в водителя предпоследней машины. Машина остановилась, а идущая сзади натолкнулась на нее. Немецкие солдаты спрыгнули на шоссе, залегли в кюветы и открыли огонь.
— Вперед! — крикнул я.
Наши бойцы бросились вперед, смяли немцев. Мы пересекли шоссе коротким броском и спешно углубились в лес. Вышли на опушку леса в районе Гусенова. Краев доложил, что Гусеново занято немцами. Расставили непосредственное охранение, решили устроить двухчасовой привал, разведать окрестности.
Разведчики ушли выполнять задание. Люди расположились на отдых. Рота Краева завтракала, обедала. Рахимов был в плохом настроении. Видимо, Толстунов серьезно поговорил с ним. Рахимов спросил у меня разрешения «пойти и одним глазком посмотреть на шоссе». Он уехал со своим коноводом и не вернулся в батальон.
Опершись на ствол громадной сосны, я уснул. Вдруг затрещали автоматные очереди. Я проснулся и вскочил. В маскхалатах, треща автоматами, шел немецкий взвод. Наш батальон, который отважно дрался почти трое суток, бежал в панике. У пушек, повозок, походных кухонь стояли наши лошади. Они выглядели осиротевшими, беспомощными. «Значит, все пропало», — промелькнуло у меня в голове.
— Комбат остался, а вы бежите! Назад! — как сквозь сон донесся до меня голос Толстунова.
Участилась трескотня беспорядочной стрельбы, свистели пули, послышались команды, ругань, выкрики. Кто-то крикнул: «Ура!» Люди с разъяренными лицами повернули назад, держа винтовки наперевес. Я стоял как вкопанный. Помутилось в глазах, не слушались ни ноги, ни руки, омертвел язык. Все перемешалось, как в нелепом сне. Я тогда пережил и понял, что такое оцепенение. За десять минут я постарел на десять лет.
...Рахимов отлично ориентировался на местности как днем, так и ночью, но он уехал и не вернулся. Командир нашей головной роты Филимонов был не особенно силен в вопросах топографии, а наши взводные лейтенанты, досрочные выпускники Ташкентского и Алма-Атинского пехотных училищ были слишком молоды и малоопытны.
Во главе головного дозора стал я сам (всякий военный поймет, что значит командиру батальона идти во главе головного дозора). Шли осторожно, медленно. Я держал за пазухой топографическую карту и компас. На каждом повороте сличал карту с местностью, определял азимуты.
Наступила ночь. Тьма-тьмущая. Просека вывела нас к большаку. Для того чтобы попасть на следующую просеку, по другую сторону большака, надо было пройти километра два по большаку, занятому противником. По нему шли танки, мотопехота, — видимо, какое-то соединение спешно подтягивалось к линии фронта. Мы стояли в лесной чаще, смотрели, как проходят колонны. Приближался топот ног — шла пехота. Посланная разведка донесла, что другая пехотная колонна идет километрах в двух-трех от места нашей стоянки. Мы вышли на большак и пошли за первой немецкой колонной в пятистах — шестистах метрах.
Когда мы прошли километра полтора, мимо нашей колонны промчался мотоцикл с коляской, и офицер, сидевший в коляске, поравнявшись с головой колонны, выкрикнул:
— Der Oberst hat befohlen, keinen Marschalt bis zum Bestimmungsort!10
— Прибавить шаг, — шепотом передали мою команду по колонне.
Я шел по левой стороне большака, вплотную к кювету, чтобы не прозевать просеку.
Мы дошли до просеки и свернули влево.
Когда мы углубились в лес, немцы спохватились. Видимо, преследовать нас они не решились, а провокационно кричали:
— Товарищи! Не туда вы пошли! Вернитесь обратно!
Минут через десять взвилось несколько осветительных ракет, и немцы бросили несколько тяжелых мин в лес, в нашу сторону.
Утрата
К утру мы добрались до своих.
Деревня Колпаки. Настроение в штабе дивизии было мрачное. Меня довольно холодно принял новый командир дивизии — грузный человек, полковник Шелудков. Присутствовавшие при этом комиссар Егоров и начальник штаба полковник Серебряков были чем-то подавлены. Никто меня не спросил почти ни о чем. Полковник приказал вести батальон в наш полк...
Я вошел в оперативное отделение штаба дивизии. Капитан Гофман, взглянув на меня воспаленными от бессонных ночей глазами, вяло поздоровался и спросил безразличным тоном: «Ну как, пришли?» Затем, указав на топчан, сказал: «Вот ваш старший адъютант отдыхает». На топчане, действительно, спал Рахимов. Он, оказывается, приехал еще вчера вечером. Я разбудил его и приказал идти в батальон. На его вопрос: «Какие будут указания?», — я резко ответил: «Идите сейчас же!» Когда он вышел, Гофман спросил:
— Почему вы грубы с ним?
— Со своим коноводом выходить из тыла противника гораздо легче, чем с целым батальоном, — ответил за меня Толстунов.
Гофман вынул из полевого штабного планшета несколько листов бумаги и протянул их мне.
«...батальон вел упорные бои в районе станции Матренино, Горюны. Связь с батальоном нарушена, местоположение его неизвестно...» — прочел я в боевом донесении штаба дивизии штабу армии от двух часов ночи восемнадцатого ноября 1941 года, а в шесть часов утра этого же числа в боевом донесении писалось: «...батальон занимает прежнее положение: Горюны, ст. Матренино, отм. «151,0». В течение дня отразил несколько атак противника, подбил танк, захватил орудие ПТО, миномет, тягач с груженой автомашиной и другое оружие и имущество...»
— Ваши данные далеко не точны, — вырвалось у меня.
— У меня тогда под руками не было других данных, — холодно бросил Гофман.
В восемь часов вечера девятнадцатого ноября в боевом донесении писалось: «...батальон, занимая оборону в районе ст. Матренино, отм. «151,0», Горюны, вел бой в течение трех дней, несмотря на окружение. Противник потерял три танка, одно орудие, две автомашины, убито до ста человек, захвачено много орудий. 19 ноября 1941 года батальон попал в окружение...»
Когда я вернул документы, Гофман сказал:
— Мы принимали меры, чтобы связаться с вами. По приказанию генерала был послан взвод разведчиков. Генерал очень беспокоился и каждый час спрашивал, нет ли весточки от вас...
Меня пригласили в разведывательное отделение штаба дивизии и учинили целый «допрос». В смысле профессионального любопытства разведчики-штабники могут перещеголять любого корреспондента. От резкости меня удерживало присутствие одной девушки. Когда я вошел и представился майору Старикову, в углу комнаты сидела хрупкая светлая шатенка лет восемнадцати-девятнадцати. Среди огрубевших фронтовиков она показалась мне почти ребенком. Девушка была в гражданском платье. Простая гладкая прическа, чуть вытянутое лицо, наивные серые глаза, невысокая девичья грудь, длинные красивые пальцы. Все у нее было естественно, не было ничего нарочитого, «подкрашенного». Она скромно сияла утренней чистотой. Девушка была прислана в дивизию в качестве переводчицы. Звали ее Женей.
Меня позвал Толстунов, пришедший за мной из политотдела.
— Ну, комбат, пошли. Батальон, усталый и голодный, стоит в лесу при тридцатиградусном морозе и ожидает нас. Пошли, пошли, а то людей заморозим.
Мы шли в свой полк, который стоял в десяти километрах от штаба дивизии.
...Подойдя к деревне, где стоял штаб полка, мы увидели около роты выстроенных бойцов, командира и комиссара полка. Я остановил батальон и скомандовал: «Смирно! Равнение направо!» Салютуя клинком (который я носил по старой привычке до конца войны, даже будучи командиром дивизии), подошел строевым шагом к командиру и комиссару полка и громко отрапортовал:
— Товарищ командир, товарищ комиссар полка! — Хотя последнее по уставу не полагалось, я нарочно произнес эти слова громче, отдавая должное стараниям Логвиненко, организовавшего нам такую торжественную встречу, а он от удовольствия словно помолодел лет на десять и стоял, по-детски улыбаясь. — Первый батальон вверенного вам полка выполнил боевые задания генерала Панфилова и прибыл в ваше распоряжение...
Командир полка майор Елин, приняв рапорт, подал мне руку, а комиссар Логвиненко обнял меня, поцеловал и, обращаясь к встретившей нас сборной роте из подразделений штаба полка, своим чуть хрипловатым голосом выкрикнул:
— Нашим славным товарищам, достойно выполнившим боевое задание нашего отца — генерала Панфилова, гвардейское «ура», товарищи!
Рота громко крикнула «ура», а мой усталый батальон без всякой команды подхватил замирающее эхо, и троекратно, протяжно прокричал: «Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!»
Наш боевой друг и товарищ Федор Толстунов стоял на правом фланге батальона и вытирал платком глаза.
Логвиненко был взволнован. Он вышел на середину строя, снял шапку-ушанку. На морозе его белесый чуб нелепо торчал во все стороны. Комиссар полка начал свою речь:
— Товарищи! Орлы боевые! Хлопцы дорогие! — Тут он захлебнулся от волнения и закашлялся. — Я, как комиссар вашего полка, очень и очень рад вас видеть здесь. (Аплодисменты.) Я, хлопцы боевые, вас всех обнимаю и целую. Я вас, товарищи, от всего комиссарского моего сердца поздравляю с боевыми успехами. (Аплодисменты.) Вы, хлопцы, пережили много, но и мы пережили за эти дни немало. Мы тоже воевали, мы тоже не меньше вашего страдали. Вы, товарищи, с достоинством, по-гвардейски выполнили боевое задание генерала Панфилова. Не скрою от вас, хлопцы: мы считали вас погибшими. Но вы, товарищи, стоите здесь здоровехоньки. Как наши деды говорили, слава богу. (Аплодисменты.) Некоторые из ваших, из наших товарищей погибли в боях. Слава и честь им, героям, отдавшим жизнь за нашу Родину! Вы все снимите шапки (строй снимает шапки), молчите, хлопцы, и про себя произносите: «Вечная память и вечная слава павшим героям». (Минутное молчание.) Мне незачем говорить о долге советских воинов перед Родиной. Нам очень туго и трудно приходится. Но мы с вами — большевики, мы — красноармейцы. До Москвы осталось совсем и совсем недалеко. Неужели мы позволим, чтобы фашисты до Москвы дошли?! Нет! Нет! Нет! Неужели мы, товарищи, позволим, чтобы немец, как это делали французы в 1812 году, мочился у стен древнего Кремля?! (Строй молчит.)
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство наш командир дивизии генерал Иван Васильевич Панфилов, участник первой мировой войны, гражданской войны и этой, Великой Отечественной войны, награжден третьим боевым орденом Красного Знамени (аплодисменты) и наша дивизия преобразована из 316-й в 8-ю гвардейскую. В этом заслуга Панфилова как командира, а ваша, товарищи красноармейцы, как советских воинов. Спасибо за боевую службу, товарищи! («Служим Советскому Союзу!») Ура, товарищи! («Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!»)
Товарищи, наш славный командир генерал-майор Иван Васильевич Панфилов погиб смертью героя восемнадцатого ноября 1941 года в районе деревни Гусеново, Московской области. Весь личный состав нашей дивизии, состоящий из многих национальностей, звал его каждый по-своему: русские — отцом, украинцы — батькой, казахи и киргизы — аксакалом, узбеки и уйгуры — дадой... Такое почтительное имя не каждый генерал заслужил! Такой чести не каждый большевик удостоен...
Товарищи! Наш генерал погиб! Погиб, как воин! Наш генерал, уходя от нас, завещал нам свято хранить боевые традиции нашей славной Красной Армии, быть верными своему воинскому долгу, верить в нашу победу над врагом...
В упорных боях пролетело несколько напряженных дней. В эти дни мы читали газеты. В газетах писали о преобразовании 316-й стрелковой дивизии в 8-ю гвардейскую, о награждении дивизии орденом Красного Знамени. Печатались отклики на геройскую гибель Ивана Васильевича Панфилова: «...Светлая память об Иване Васильевиче, отдавшем свою жизнь за счастье и свободу советского народа и нашей Родины, будет вечно жить в наших сердцах, сердцах его соратников — бойцов, командиров и политработников дивизии, которая под его руководством заслужила звание гвардейской».
«...Имя Ивана Васильевича будут всегда помнить трудящиеся Советского Союза, как имя Героя Великой Отечественной войны против немецких захватчиков».
Нет, никогда гвардейцы не забудут Его дела и облик волевой. Он с нами, генерал Панфилов, всюду, Он и теперь ведет нас в жаркий бой, Он крепкий, как железо, и простой, На флангах, то на правом, то на левом, Своих полков выравнивает строй, —писал младший лейтенант артиллерийского полка дивизии Дмитрий Снегин.
Генерала Панфилова все вспоминали с уважением и любовью, и казалось, что он незримо присутствовал в наших рядах. Его смерть была тяжелым испытанием, постигшим большую боевую семью.
У меня до сих пор чередуются одни за другими воспоминания о нем. Вот некоторые из них.
Первые встречи
Я работал старшим инструктором военного комиссариата Казахской республики, когда началась Великая Отечественная война.
Однажды ко мне в кабинет вошел среднего роста генерал, сутуловатый, с задумчивым узким монгольским прищуром глаз, черными квадратными усиками, со смуглым загаром на чуть удлиненном лице. Я встал.
— Вы будете товарищ Момыш-улы? — спросил генерал хрипловатым голосом. Я ответил.
— Моя фамилия Панфилов, — представился генерал, — будем знакомы, товарищ старший лейтенант.
Генерал подал мне руку, затем познакомил с высоким сухощавым майором Стариковым, сопровождавшим его, предложил нам сесть и сам сел против меня. Снял фуражку, вытирая вспотевший лоб, сказал:
— Вы назначены командиром батальона. Я был у вашего военкома... Пока 316 стрелковая дивизия состоит из трех человек: меня, майора Старикова и вас, товарищ старший лейтенант... Мы с товарищем майором обосновались в Доме Красной Армии. Там в дальнейшем развернем наш штаб. Вам следует как можно скорее сдать свои дела и явиться к нам. Пока батальона нет, вы мне будете помогать.
— Когда прикажете явиться, товарищ генерал?
— Сдайте дела, потом побывайте дома. Приготовьте свои походные вещички. Послезавтра утречком приходите. — Генерал встал, подал руку на прощание и, заметив, что я поднялся, сказал: — Не провожайте нас, товарищ Момыш-улы. Занимайтесь своим делом.
Так состоялось мое первое знакомство с Иваном Васильевичем Панфиловым.
В эти дни в военкоматы и райкомы партии столицы Казахстана непрерывно шли рабочие, колхозники, служащие, ученые — люди всех возрастов и профессий. Шли коммунисты, комсомольцы и беспартийные.
Много было молодежи — вневойсковиков и призывников. Все они просили послать их на фронт. Этих добровольцев было великое множество. В райкомах и военкоматах массе посетителей разъясняли, что спешить не следует, придет время, и они будут призваны в армию. В первую очередь рассылались повестки вневойсковикам, запасникам и призывникам, которые по мобилизационному плану подлежали призыву, и 13 июля 1941 года, по решению Главной Ставки, в Алма-Ате и окрестностях началось формирование 316 стрелковой дивизии, командиром которой был назначен генерал-майор И. В. Панфилов.
Сформировать такое крупное войсковое соединение, и притом в весьма сжатый срок, — нелегкое дело. Сложная организационная работа по призыву, правильному распределению, расквартирование личного состава, комплектование частей и подразделений, расстановка командных кадров, обмундирование, вооружение требовали от Панфилова напряжения всех сил. При этом он опирался на помощь ЦК КПК, правительства республики, органов местного военного управления, партийной организации города и районов. Но всеми главными организационными вопросами Панфилов занимался лично сам. Решив вопрос в принципе, он расставлял затем нас, офицеров, на отдельные участки. Задание он давал на каждый день накануне, а к исходу дня мы приходили и докладывали ему о выполнении. Он умел выслушать наши доклады до конца, не перебивая нас, затем уточнял вопросами, записывал, советовался, отдавал распоряжения на следующий день. Он не упускал ни единой мелочи, не горячился, не журил, учил не гневом, а умом. Каждый день прибывали старшие офицеры, работать становилось легче.
Как-то я получил от генерала задание побывать в нескольких помещениях, выделенных по решению горсовета для размещения подразделений. Я в течение дня осмотрел отведенные помещения, а вечером доложил генералу. Выслушав меня, он нахмурил брови, встал, прошелся, заложив руки назад. Потом, повернувшись ко мне, сказал:
— Значит, я вчера вас плохо инструктировал, коль вы меня как следует не поняли, значит, всю вину мне придется брать на себя...
— Я побывал, товарищ генерал, во всех домах по указанным адресам, — запротестовал я.
— Мне, товарищ старший лейтенант, не адреса нужны. Адреса этих помещений у меня записаны. Знаю, что это за помещения; школа, детский сад, клуб и так далее. Меня интересует вместимость того или иного помещения. Какой двор? Можно ли там проводить занятия по строевой и физической подготовке? Обеспечивает ли потребности размещенных людей канализация и водопровод? Какие есть подсобные помещения для использования под пищеблок, под каптерки, под санитарный пункт? — Все это он говорил прохаживаясь, а я слушал, стоя навытяжку. — Вы садитесь, товарищ Момыш-улы, и записывайте, что я говорю. Если что непонятно, задавайте мне вопросы... С хозяевами обязательно поговорите и посоветуйтесь, что кому может понадобиться. Командир подразделения, занимающий помещение, должен принимать все по описи, а перед уходом сдать все в исправности. Описи должны быть составлены заранее вместе с хозяевами.
Я записывал все указания генерала.
В эту ночь я спал неспокойно, ожидая наступления утра. Выпив стакан чаю, побежал выполнять задание генерала.
Вернулся я поздним вечером.
— Что ж вы так задержались?
— Чертил планы, товарищ генерал,
— Ну-ка-с! Давайте-ка ваши планы.
Я развернул перед генералом несколько листов миллиметровки, на которых были вычерчены планы каждого дома с двором и надворными постройками, с указанием площади и другими краткими данными.
— Так, так! — одобрительно сказал генерал, рассматривая планы. — Теперь совсем другое дело. У вас неплохая графика. Здесь, на этом плане, есть все необходимые мне данные. Значит, в этом помещении можно разместить больше роты. И двор большой... Придется установить дополнительные умывальники, — так, рассуждая сам с собой, генерал просмотрел все шесть листов миллиметровки, а потом дал мне ряд дополнительных указаний.
Дня через три после этого вечера я находился в панфиловской приемной. Генерал, выйдя из кабинета, подхватил меня под руку, заторопился, увлекая за собой:
— Пойдемте быстрее. Мы опаздываем. Не полагается опаздывать к начальству. Адъютант где-то застрял. Я вас прошу заменить мне на время адъютанта.
Когда машина мчалась по широким и прямым улицам Алма-Аты, утопающим в зелени, благоухающим свежестью горного воздуха и ароматом яблоневых садов, генерал спросил меня:
— А вы знаете, куда мы едем?
— Точно не знаю, товарищ генерал. Но вы же сказали — к начальству.
— Мы с вами едем в ЦК. А вы знаете, зачем мы туда едем?
— Не знаю, товарищ генерал.
— Я вам по секрету скажу, - при этих словах у него промелькнула почти детская улыбка, омолодившая лицо. — Меня принимают секретари ЦК и председатель Совнаркома республики. Вы знаете, о чем я их хочу просить?
— Не знаю, товарищ генерал.
— Коль вы меня сопровождаете, должны знать, зачем мы с вами едем... Вот одна из моих просьб. К нам прибывает более полусотни женщин и девушек — врачей, фельдшеров и медсестер-добровольцев, и я хочу просить одеть этих патриоток по-военному и в то же время по-женски прилично. Дивизионный интендант полковник Дидишвили говорит: «Ну, что же, товарищ генерал, оденем их, как бойцов, на общих основаниях». А на «общих основаниях» он выдаст этим девушкам и женщинам мужские рубашки, кальсоны, гимнастерки, брюки и солдатские сапоги. Говорит, так положено по табелю... Нет, Дидишвили не прав. С прекрасным полом надо считаться. Как они выйдут на улицу? А? Человек должен в одежде испытывать удобство. Белье обязательно должно быть женское. Не брюки, а юбки, не портянки, а чулки. Конечно, гимнастерку, шинель и ремень пусть носят на общих основаниях.
— А как же быть с косами, товарищ генерал?
— Вы уместно напомнили об этом. Интересно, как все-таки быть с косами... — Панфилов почесал затылок. Не будем об этом думать. Пусть женщины сами решают и носят себе на здоровье любую прическу, какая удобна в полевых условиях.
Через час очень довольный и веселый генерал вышел из кабинета первого секретаря ЦК. Когда мы шли по длинному коридору Дома правительства, он снова взял меня под руку и тихо сообщил:
— Все вопросы мы с ним разрешили, все наши просьбы уважили.
Легкими, быстрыми шагами генерал прошел к выходу, молодцевато козырнув на приветствие постового милиционера.
И. В. Панфилов не любил созывать совещания. Он советовался и давал указания, если можно так выразиться, в рабочем порядке, на местах. По его требованию аппарат штаба и политотдела свой контроль и управление также осуществляли на местах. Панфилов категорически запрещал наскоки одного проверяющего на другого. «Ваша задача помочь командиру... Помогайте на местах со знанием дела, если не можете помочь — лучше не мешайте», — говорил он офицерам штаба.
Мне вспоминается, как, посещая наш полк, Панфилов не упускал случая поделиться с нами, молодыми командирами, своим большим армейским опытом и знаниями.
— Учебные походы требуют не меньше выдержки, выносливости и мужества, чем в бою, — говорил генерал. Или: — Люди только что сменили гражданскую одежду на армейскую, она им пока непривычна. Перво-наперво начинайте с правильной обмотки портянок и пригонки обмундирования и снаряжения. Ничто не должно бойцу мешать в походе. Тренируйте бойцов с полной выкладкой.
Исходя из этих установок, наши роты и батальоны совершали частые марши, постепенно втягивая бойцов в самые сложные условия военных походов.
Наш командир полка майор Елин, я и некоторые другие командиры подразделений в то время не состояли в рядах партии. Как-то к нам прибыл Панфилов. В сопровождении командира и комиссара полка он обошел расположение части, задержался в штабе нашего батальона, внимательно рассматривая расписание занятий и делая некоторые замечания и поправки. Комиссар полка, увидев, что генерал увлекся уточнением деталей планирования учебы, спросил у него разрешения идти.
— А что, вас разве не интересует этот вопрос, которым мы занимаемся? — спросил генерал, нахмурив брови.
— У меня есть дела, товарищ генерал...
— А это, по-вашему, не дело? Вы с командиром полка должны были рассмотреть и утвердить эти планы. У нас очень сжатые сроки. Полк должен заниматься по единому плану, а у вас, как я вижу, разнобой получается. То, что я сейчас делаю, давным-давно должны были сделать вы.
— У нас намечено к шести часам партийное собрание, — перебил генерала смущенный комиссар полка.
— Какая повестка дня?
— «Задачи коммунистов в боевой и политической подготовке».
— Когда учеба еще четко не спланирована, какая может быть речь о задачах? Кто докладчик?
— Инструктор полка.
— А почему не командир полка, не комиссар полка?
— Ведь вы же знаете, товарищ генерал, что командир...
— Беспартийный, — прервал генерал. — Об этом все знают. А вам готовиться, видимо, было некогда.
— Да, товарищ генерал, я был занят.
— Вот что, батенька: сначала вы сами толком разберитесь, спланируйте, потом доложите мне, а после моего утверждения спустите план до подразделений. Исходя из реальных возможностей, четко сформулируйте задачи. Пусть командир, будь он партийным или беспартийным товарищем, сам сделает доклад и поставит конкретные задачи, — и, упершись неотточенным концом карандаша в стол, добавил, обращаясь к Елину: — Вам, Григорий Ефимович, партия, советское правительство доверило полк, нет ничего зазорного беспартийному большевику — командиру — сделать доклад на открытом партийном собрании. Да, да, — уже обращаясь к комиссару, подчеркнул генерал, — надо проводить с такими повестками дня открытые, а не закрытые партийные собрания.
— Мы хотели провести после комсомольское собрание...
— Зачем собирать по одному и тому же вопросу отдельно коммунистов, комсомольцев, а потом всех вместе на красноармейское собрание? Задача ведь для всех одна и та же. То, что коммунисты и комсомольцы должны быть впереди, служить примером — это тоже ясно... Отмените сегодняшнее собрание, как неподготовленное. Я скажу комиссару дивизии, чтоб он дал вам за это нагоняй.
— За один и тот же проступок дважды не наказывают, товарищ генерал, — горько улыбнувшись, сказал комиссар.
— Значит, договорились? — рассмеялся Панфилов.
— Так точно, товарищ генерал.
— Обещаю вам все это скрыть от комиссара дивизии, — генерал хитро улыбнулся и, тепло попрощавшись, уехал.
* * *
Одна из ступеней подножия Талгарского ущелья составляет ровное, как скатерть, плато площадью в три- четыре гектара. Подъем к этому плато очень крут. На рассвете, оставив походные кухни и повозки на берегу речки Талгарки, я повел батальон на штурм. Научившись лазать по горам еще с детства, я пошел зигзагами, приказав командирам рот вести людей не гуськом по одному, а в строю по четыре. Высокие травы переплелись с мелким кустарником и цеплялись за ноги, идти было очень трудно. Особенно трудно было идти головным. Мы рвали густые заросли, мяли их ногами, продвигаясь медленно наискось гребня. Таким образом к плато была протоптана извилистая дорога с постепенными облегчающими подъемами. Впоследствии эту тропу называли «ирек жол» — извилистая дорога.
Плато было безукоризненно ровным, через триста метров оно утыкалось в горы. Зарослей кустарника здесь не было, под ветром колыхался густой, по пояс, ковыль.
Выстроив батальон повзводно, я сказал:
— Нас — семьсот пар ног. Мы проложили дорогу к этому плато. Мы протопали всего лишь два десятка метров. Видите? Мы должны протоптать триста метров. Это плато будет стрельбищем нашего батальона... Батальон, равняйсь! Смирно! Прямо перед собой до самых гор шагом марш!
Так я провел батальон туда и обратно три раза. Устали люди, устал и я сам. Было девять часов утра.
— Командирам рот вести людей на завтрак! — распорядился я и сам пошел вниз, к берегу Талгарки.
Позавтракав, я первым поднялся на плато. И что же я увидел? За какой-нибудь час живительная сила природы опять взяла свое: как ворсинки хорошо обработанного меха, ковыль поднялся, выпрямился... Ужас!
Роты возвращались. Снова выстроив батальон, пришлось туда и обратно промаршировать десять раз. А отдельные цепкие и живучие стебли мы вырывали с корнем руками.
Разметили ротные участки стрельбища, определили тренировочные поля, исходные и огневые рубежи. Расставили мишени на различных дистанциях для упражнений в стрельбе из винтовок, ручных и станковых пулеметов.
— Товарищ комбат, — окликнул меня лейтенант Рахимов, — генерал едет.
Разрядив винтовку, которую пристреливал, я быстро встал. Генерал ехал на моем коне, с моим коноводом Николаем Синченко. Я пошел навстречу. Генерал сошел с коня и, отдав поводья Синченко, поздоровался со мною за руку.
— Еду, слышу — стрельба. В долине кухни дымят, повозки стоят, а выстрелы где-то наверху. Смотрю — широкая тропа к вершинам зигзагом поднимается. Ну вот, на вашем коне прибыл посмотреть, чем вы тут занимаетесь.
Я доложил, что батальон прибыл сюда на рассвете, проложил тропу, протоптал стрельбище, позавтракал, теперь до самого вечера пробудет здесь, на учении.
— Вы раньше служили в горных частях?
— Служил, товарищ генерал.
— Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, вот вам и ваш опыт пригодился, иные бы не догадались подняться на такую высоту, — одобрительно сказал генерал. — А почему не на полковом стрельбище?
— На полковом стрельбище наш черед через три дня на четвертый. Не успеваем отрабатывать огневые задачи. Время уходит только на пристрелку оружия. Много людей приходится выделять на оцепление. Здесь мы изолированы от всего.
— А кто первый это место облюбовал?
— Лейтенант Хаби Рахимов, начальник штаба батальона. Он известен в Алма-Ате как альпинист. Он знает здесь все ущелья, все гребни.
— Хорошо. Пусть люди занимаются, как у вас намечено. Покажите мне, как вы тут организовали учебу.
Часа три мы обходили учебные группы. В некоторых из них генерал запросто беседовал с бойцами, а в одной группе он провел короткое занятие по взаимодействию частей станкового пулемета. В очередной смене он попросил пристрелянную винтовку, занял рядом с бойцом место на исходном рубеже и смущенному командиру взвода сказал:
— Командуйте, товарищ лейтенант.
— Смена! На огневой рубеж шагом марш! — скомандовал досрочный выпускник военного училища. Держа равнение с бойцами, Панфилов пошел, отчеканивая строевым шагом.
— Смена! Стой! — по этой команде генерал замер, держа винтовку к ноге. — Раздать патроны.
— Красноармеец Тастанов получил три боевых патрона.
— Красноармеец Володин получил три боевых патрона.
— Генерал Панфилов получил три боевых патрона.
Когда доложил десятый, последний, боец, лейтенант скомандовал:
— Лежа! Три патрона заряжай!
Все попадали камнем, защелкали затворы, раздались частые выстрелы.
— Встать! — скомандовал лейтенант. Все вскочили. — На плечо! Ружья к осмотру! — Смена держала винтовки с открытыми затворами в «положении на плечо». Закончив осмотр, лейтенант скомандовал: — К ноге! Положить оружие!
Как бы спрашивая, что делать дальше, лейтенант посмотрел в мою сторону. Я дал знак «к мишеням».
— Смена! Прямо перед собой к мишеням шагом марш!
Каждый стрелок стал против своей мишени. Мы с лейтенантом начали осмотр, отмечали красным карандашом пробоины. Когда дошли до генеральской мишени, Панфилов доложил:
— Генерал Панфилов — из тридцати возможных двадцать семь очков.
Лейтенант обвел красным карандашом восьмерку, девятку и десятку и пошел к следующей мишени, Панфилов сказал:
— Другим вы объявляете оценки, товарищ лейтенант, а мне почему-то ни слова не сказали.
— Вы, товарищ генерал, задачу выполнили на отлично, — отчеканил лейтенант.
Улыбаясь, Панфилов ответил:
— За старание боец должен быть поощрен теплыми словами командира.
С того момента, как генерал с ружьем встал в смене на исходном рубеже, весь батальон смотрел на него, не упуская ни одного его движения в роли рядового бойца- стрелка. Пример пожилого командира произвел большое поучительное впечатление на всех тех, кто в тот день присутствовал на нашем стрельбище.
Вскоре батальон строем спустился вниз, к берегу Талгарки, на обед.
Генерал отказался ехать верхом. Мы с ним шли замыкающими. По дороге он дал мне ряд указаний по вопросам организации учебы, оборудованию учебных полей и комплексного обучения бойцов.
— У вас, как вы сами знаете, очень сжатые сроки. Для обучения и сколачивания частей в мирное время отводились годы, теперь — война, время надо считать часами. Уплотняйте распорядок дня, комплексируйте боевую учебу. Спланируйте и организуйте так, чтобы каждое отделение за один день прошло всего понемножку: и строевую, и физическую, и огневую, и тактическую подготовку.
Когда мы подходили к биваку, люди, раздевшись по пояс, умывались в речке. Панфилов тоже разделся до пояса, аккуратно сложил китель и сорочку в тени кустарника, потом разулся и, разложив портянки и носки на горячем от солнца валуне, начал мыть ноги.
— Хорошо, конечно, солдату вымыться до пояса. Только почему же никто не разулся? Это плохо, — говорил он, шлепая босыми ногами по студеной воде. — Приучите бойцов мыть ноги и сушить портянки. Гигиена ног и подгонка обуви для пехоты очень и очень необходимы. Не экономьте на этом времени.
Замечание генерала было принято к исполнению. Примостившись на большом гладком камне, Панфилов вместе с нами пообедал из котелка. Приказал явиться к нему старшему повару и дежурному по пищеблоку с ведрами кожуры от очищенной картошки. Когда те прибыли, он рассыпал перед собой картофельную кожуру и, сидя на корточках, начал разбирать на тонкие и толстые очистки. Мы все недоуменно переглядывались. Закончив сортировку одного ведра, он встал и, обращаясь к старшему повару, с которого пот катился градом, сказал:
— От красноармейского пайка должен быть самый минимальный отход.
— Понятно, товарищ генерал.
— Можете идти, товарищи.
После их ухода генерал обратился ко мне:
— Побыл я у вас почти полдня. Начало у вас неплохое. Ваш батальон расквартирован в Талгарском сельхозтехникуме?
— Да, товарищ генерал.
— Почему бы вам не перебраться сюда? Здесь вода. Ваши учебные поля. Вы же лишних три-четыре часа тратите на ходьбу сюда и обратно! Так ведь?
— Так точно, товарищ генерал. Но у нас нет лагерных палаток.
— Лагерных палаток и не будет. Плащ-палатки у каждого бойца есть?
— Да, ими мы обеспечены полностью.
— Вот и разверните здесь лагерь. На фронт мы лагерные палатки не повезем. В полевых, так в полевых условиях. Здесь вполне можно отрабатывать все тактические задачи вплоть до взвода, а ротные и батальонные учения будете проводить в другом месте.
— Слушаюсь, товарищ генерал.
— Ну вот мы с вами и договорились. Доложите майору Елину и завтра же освободите помещение сельхозтехникума.
— Есть, товарищ генерал.
— Проводить совещание с вашими командирами я не стану, вы сами растолкуете им все, что я говорил, — генерал попрощался, сел в машину и уехал.
Каждое посещение генерала для нас было поучительным.
17 августа 1941 года был получен приказ Ставки Главного командования о выезде дивизии в действующую армию на Северо-Западный фронт.
В один день или в течение суток погрузить всю дивизию в вагоны, конечно, не представлялось возможным, так как для этого потребовалось бы подать восемнадцать-двадцать эшелонов по пятьдесят-шестьдесят вагонов в каждом. Торопились не спеша. Была установлена строгая очередность погрузки частей и подразделений, проводились с командным составом практические занятия по погрузке войск.
* * *
— Война требует, бой требует, — говорил генерал на разборе занятий по погрузке войск, — чтобы войска были готовы по первому сигналу к походу и длительным переходам в любое время года и суток. На фронте нас ждет активный маневр — на ногах и на колесах. Нас будут перебрасывать с одного участка на другой, с одного фланга на другой. Ничто для нас не должно быть неожиданным. Учите людей и требуйте от них постоянной боеготовности. Имейте в виду, что нас будут бить за нашу неорганизованность. Организованность и дисциплина — это самое главное в вопросах боеготовности частей и подразделений. Боец не должен скучать. Он должен быть всегда занят. Занят не вообще, а заинтересованно. Не знаю, сколько будем ехать в эшелоне до фронта, ведь наши железные дороги сейчас перегружены. Едва ли для нашей дивизии будет открыта «зеленая улица». Но людей в пути скука не должна одолевать. Это, товарищи политработники и командиры, очень важный вопрос. Продумайте и распределите по вагонам агитаторов, песенников, а также культимущество: гармошки, патефоны, книги, шахматы, домбры. Кроме того надо организовать боевую и политическую подготовку. Что в этом отношении можно сделать? Изучать уставы и наставления, материальную часть оружия, баллистику. Эти занятия надо организовать так, чтобы бойцу было интересно. Не стесняйтесь самим же бойцам поручать проводить беседы и занятия. Желательно, чтобы это было на добровольных началах. Я просил руководителей республики, они уважили мою просьбу: на узловых станциях наши эшелоны будут обеспечены газетами и журналами. Организуйте правильное распределение газет и журналов и их читку. Время на погрузку войск у нас очень сжатое. Много будет провожающих. Грузиться или прощаться? Надо то и другое. Слезы обязательно будут. Но боец не должен плакать! Своим нервишкам и чувствам воли не давать!.. Прощание — это первое испытание воина. Пусть попрощаются с достоинством, без слез. Родственные чувства людей при расставаниях надо беречь и уважать, но не распускать слюни. У кого есть родственники, надо разрешить короткие свидания, а некоторых, особенно молодоженов и у кого престарелые родители, как исключение, отпускать на побывку, но не дольше чем на сутки, и то, повторяю, как исключение.
Наш батальон грузился первым. День выдался ясный. На улицах, залитых ярким солнцем, стояли толпы провожающих. Оркестр шел в голове колонны. Батальон в строгом строю отчеканивал шаг под такт маршевой музыки. У обочин мостовой образовалось еще два «строя» — это шла детвора, подражая строю воинов.
На перроне вокзала генерал Панфилов стоял среди руководителей республики. Спросив разрешения у председателя Совнаркома, я доложил генералу о прибытии батальона.
— Командир первого батальона одного из наших полков, он же начальник эшелона, — представил меня генерал руководителям республики. Они поздоровались со мной за руку.
— Никто из нас вам мешать не будет. Приступайте к погрузке, как у вас намечено, — приказал генерал.
Когда погрузка подходила к концу, генерал с руководителями правительства обошел батальон, останавливаясь у каждого вагона.
Продолжительный гудок паровоза. Стук колес. Прощальные взмахи рук. Алма-Ата осталась позади.
...В сентябре наш батальон занимался оборонительной работой в районе села Старое Рахино. Приехал генерал и пешком прошел от правого до левого фланга, внимательно осматривая оборудуемые нами сооружения. Затем приказал мне собрать бойцов. Когда все были в сборе, он разрешил сесть и курить, а сам опустился на пень и спокойно начал:
— Я приехал к вам, товарищи, посмотреть, что вы тут делаете, и немного побеседовать с вами. Должен вам сказать, что работаете вы неплохо. Правда, среди вас, я заметил, есть люди, которые работают с ленцой. Я на них указывать пальцем не буду. Пусть их пожурят сами командиры отделений, их непосредственные начальники. Бойца от родного дома и семьи оторвала война. На войне крыша над его головой — это небо, дом для него в бою — окопы и траншеи, а семья — тот боевой коллектив, где он служит. Этот коллектив должен быть дружным, как хорошая семья. Мы готовимся к бою и подготовляем для себя боевые позиции. Каждый боец должен работать с прилежностью настоящего хозяина, строящего свой собственный дом. Надо оборудовать траншеи и ячейки так, чтобы можно было жить и воевать с удобствами. Воевать, товарищи, нам придется крепко! Главная задача наша — побить немца умело и с меньшими, как только можно, потерями для нас. Хорошо оборудованная позиция убережет бойца от пуль и осколков...
Чтобы боец сознательно выполнял свои задачи в общих интересах, он должен быть в курсе обстановки. Так как я получаю газеты раньше вас, слушаю радио и читаю другие бумаги, я хочу вам кратко рассказать, как у нас обстоят дела на фронте... На всех фронтах ведутся бои, и наши войска под натиском противника, собравшего большую силу, на некоторых направлениях отходят с боями, а наши резервы из глубины страны пока не успевают прибывать к линии фронта, чтобы помогать нашим товарищам, дерущимся с врагом. Но они скоро прибудут на фронт, как из далекой Алма-Аты прибыли сюда мы с вами. Нам с вами предстоит решить нелегкую боевую задачу. Мы обороняемся, а в обороне самое главное — остановить наступающего врага, удержать занимаемые рубежи и позиции. А как удержать? Для этого сперва надо их хорошо оборудовать, чтобы удобно было вести огонь. Когда немец пойдет на нас, надо истреблять огнем наступающие войска фашистов, уничтожать как можно больше. Много побьем фашистов — значит, вскоре враг вынужден будет остановиться...
Внимательно слушали все мы неторопливую речь генерала, и с каждым его словом в сердце людей крепла вера в победу нашего правого дела.
Помнится, в начале ноября 1941 года наш штаб размещался в деревне Софьино. Джан под руководством Рахимова собрался готовить обед. Он топил жир, а Рахимов, сидя на полу, резал морковь. Когда Джан опустил в кипящий жир нарезанное мелкими кусками мясо, в котле забурлило, зашипело, и комната наполнилась чадом. Наш хозяин, крепкий семидесятилетний старик с седой бородой и прокуренными усами, которого мы все звали «папашей», закашлял и, наспех накинув на себя полушубок, вышел из дому.
К нам приехал генерал. Снимая полушубок, он спросил Рахимова:
— Вкусно пахнет тут у вас. Что готовите на обед?
— Хотели, товарищ генерал, для разнообразия плов приготовить сегодня, — ответил Рахимов, не зная, куда девать немытые руки.
— А все у вас для этого есть?
— Все есть, товарищ генерал.
— Раз все есть, валяйте тогда, готовьте плов, — сказал Панфилов и, опускаясь на табурет, добавил: — Давно я не ел плова, соскучился по азиатским блюдам. Коль у вас плов, я у вас гость. Принимаете такого гостя, хозяева? — спросил он нас обоих.
— Как же, товарищ генерал!
Когда Рахимов уходил, генерал вдогонку сказал ему:
— Вы, товарищ Рахимов, из-за меня не спешите, приготовьте плов как полагается, по-настоящему, по-узбекски.
...Генерал выслушал меня, потом вынул из планшета карту, развернул, разгладил ее и кратко ввел меня в обстановку...
Когда вошел хозяин дома, генерал встал и поздоровался с ним за руку. Спросил:
— Ну как, Иван Тимофеевич, ваше здоровье?
— Спасибо, товарищ генерал, пока жив-здоров. А как ваше?
— Зовите меня просто Иваном Васильевичем, мы с вами тезки.
Я с разрешения генерала пошел по делам. Когда вернулся, Джан в передней накрывал котел крышкой, затем укутал его байковым одеялом, а сверху — своей стеганой курткой.
— Чтобы горячий дух не вышел, чтобы рис распарился и вобрал в себя жир, — объяснил он мне по-узбекски. — Так минут двадцать-тридцать буду держать, потом на стол подам, товарищ комбат.
Синченко топориком колол полено на мелкие щепки для разжигания самовара, а Рахимов делал салат из огурцов, лука и редьки.
— А ты что, Иван Тимофеевич, отсюда не уходишь? — спросил генерал. — Ненароком мина в дом угодить может...
— А куда я от своей избы уйду?— с грустью ответил старик хозяин. — Здесь я прожил всю жизнь. Тут, в этом доме, моя Матрена Михайловна, царство ей небесное, пятерых детей родила, тут я хочу и помереть. Все ушли кто куда: два сына в Красной Армии где-то воюют, младшая дочка прямо из института тоже на фронт врачом пошла. А старшие сын и дочь с внучатами ушли за Москву, как только немец Волоколамск взял. Я вот остался сторожить дом. Когда немца прогоните, может, семья снова соберется...
— А моя старшая не доучилась, тоже на фронте, — сказал генерал, — медсестрой...
— Так чего ты, отец родной, девушке даже не позволил учебу кончить и послал на фронт? Свое родное дитя под огонь посылаешь!
— А это она сама себя послала. Война-то у нас всенародная, отечественная война, Иван Тимофеевич.
— Да... Второй раз ты приезжаешь сюда... Слова плохого от тебя не слыхал. Все «это делать надо... », «пожалуйста» да «прошу вас»... Странный ты генерал... Больно задушевный у тебя приказ... А ведь, как вижу, все слушаются...
Джан внес дымящийся плов в большом хозяйском блюде и поставил его на середину стола, а Рахимов с Николаем принесли за ним тарелки, ложки и салат. Генерал встал, пошел мыть руки. Хозяин хотел было уйти, но генерал его не отпустил:
— Раз мы с тобой хорошо побеседовали, давай, Иван Тимофеевич, вместе и пообедаем.
Старик долго упорствовал, но после настоятельной просьбы генерала сел за стол.
Мы не дотрагивались до еды, соблюдая такт, ждали, когда начнет генерал.
— Кто же плов ест ложкой? — сказал он Рахимову, подавшему ложки. — Давайте из общего блюда руками, по-узбекски, есть. — И, обращаясь к хозяину, начал объяснять: — Это кушанье называется плов, Иван Тимофеевич. Едят его вот так, руками. — Генерал с края блюда аккуратно взял правой рукой горсть плова и, не уронив ни одной рисинки, поднес ко рту. — Когда руками ешь, совсем другой вкус получается, — добавил он с улыбкой.
Синченко стоял у двери и показывал Рахимову на флягу с водкой.
— Товарищ генерал, разрешите предложить «наркомовскую»? — нерешительно спросил Рахимов.
— А что же вы раньше не предложили, надо было начинать с этого! Давайте...
Синченко разлил водку. Генерал взял рюмку левой рукой и поднял тост за нашу победу.
— Дай бог, дай бог! — прошептал старик и, поставив рюмку на стол, мелко перекрестился и лишь после этого поднял ее: — Ваше здоровье, Иван Васильевич...
Обед завершился чаем.
Вечерело.
— Ну, выпить дали, вкусным пловом накормили, чаем напоили. Пора мне и честь знать. Спасибо вам, товарищи.
Генерал прощался тепло, за руку со всеми, особенно со стариком и Джаном. Он на узбекском языке похвалил плов и в шутливой форме напрашивался еще раз к Джану в гости, когда тот будет готовить узбекские блюда. Джан сиял и, позабыв, что он красноармеец, как хозяин, учтиво, по- восточному прикладывал руки к груди и говорил, что он всегда рад такому дорогому гостю.
Когда мы вышли на улицу, генерал еще раз попрощался с Рахимовым, а мне сказал:
— А вы меня проводите, товарищ Момыш-улы, мне надо с вами поговорить. Хоть вы и не любите ездить в санях, сядьте со мной рядом, а ваш коновод с моим адъютантом пусть следуют за нами.
Пока мы не въехали в лес, генерал молчал. В темной просеке были слышны лишь глухой цокот копыт пары гнедых и легкое трение полозьев кошевки о снег.
— Мне помнится, как-то еще в Алма-Ате вы говорили о том, что после третьего июля впервые почувствовали себя офицером, — тихо сказал генерал и спросил: — Помните?
— Да, помню, товарищ генерал.
— Я давно хотел вас спросить, товарищ Момыш-улы, но как-то не решался до сих пор, а теперь решил все-таки спросить.
— Спрашивайте, товарищ генерал.
— По какой причине вы до сих пор не вступили в партию?
Я был в полку единственным беспартийным комбатом, чем был особенно недоволен комиссар нашего полка Логвиненко, так что для меня этот вопрос генерала не был неожиданным. Я ответил не сразу.
— Я уверен в ваших искренних патриотических чувствах, я верю вам как командиру. Лично у меня нет никаких сомнений в отношении вас, товарищ Момыш-улы, но я хочу знать, что вас удерживает от вступления в партию? Ведь вы были с 1924 по 1936 год в рядах комсомола.
«Ого, и это ему известно», — промелькнуло у меня. Лошади, изредка фыркая, шли мелкой рысью, кошевка слегка покачивалась на неровной дороге, лес молчаливо стоял темной стеной. Адъютант генерала и Синченко трусили мелкой рысью позади кошевки, то догоняя нас, то отставая.
Я рассказал генералу о том, как в 1936 году в пути на Дальний Восток потерял комсомольский билет. Походная жизнь, переезды из одного уголка Дальнего Востока в другой и бесплодная переписка с организацией, где я раньше состоял на учете, были причинами моего механического выбытия из комсомола. Далее я сказал, что считаю себя недостаточно подготовленным для вступления в партию.
— Воевал я с 1916 года, в первой мировой, — начал Панфилов после недолгого раздумья. — В старой армии дослужился до фельдфебеля. Потом воевал в гражданскую, до 1929 года, вплоть до ликвидации басмачества в Средней Азии. В гражданскую войну почти на всех фронтах побывал. А вот теперь в Великой Отечественной участвую. С одной стороны, неплохо, что вы не торопитесь. В свое время я тоже не торопился — вступил в партию лишь после гражданской войны, в 1923 году. Но я, как и многие мои товарищи, вступил в партию вполне убежденным. Вы говорите, что вы не подготовлены. Война не завтра, не послезавтра кончится. Война сама подготовит вас. Как говорится, да сохранит вас судьба, и вы станете настоящим боевым командиром-коммунистом...
Генерал велел ездовому красноармейцу остановиться и, слезая с кошевки, сказал:
— Дальше меня не провожайте. И так я вас увез далеко.
Прощаясь со мной, он задержал мою руку в своей и добавил
— Большие нам предстоят испытания, товарищ Момыш-улы. Мы должны любой ценой отстоять завоевания Великого Октября.
...Я со своим коноводом Синченко возвращался в часть. Лысанка шла подо мной мерным широким шагом, иногда фыркая и бренча удилами.
Я думал о разговоре с генералом. Человек с такой большой боевой биографией, один из тех воинов, которые на собственных плечах пронесли всю тяжесть солдатской судьбы еще тогда, четверть века назад, отстаивая в боях завоевания революции, говорил со мной, как равный товарищ, не поучал, не наставлял, а советовал, подсказывал.
Мы ехали по темной аллее молча, не спеша, и про себя я повторял последние слова коммуниста Ивана Васильевича Панфилова: «Мы должны любой ценой отстоять завоевания Великого Октября».
...Однажды я рассказал генералу такой случай.
В районе совхоза имени Советов взвод немецких разведчиков попал под перекрестный огонь станковых и ручных пулеметов нашего батальона. Немцы заметались и бросились назад, но пулеметчики продолжали поливать их свинцом. Ни один немец не ушел. Живым оказался один тяжело раненный сержант. Его принесли на носилках в штаб батальона. Он был укутан теплым шерстяным одеялом, на руках — замшевые перчатки. Немца очень знобило, и он на все вопросы отвечал:
— «Darüber darf man nicht sprechen»11, «Ich meiß davon nichts»12.
Когда он попросил пить, я спросил нашего фельдшера, старика Киреева, оказавшего сержанту первую помощь, можно ли дать ему воды. Киреев ответил мне на ухо:
— У него позвонок перебит в нескольких местах и сквозные ранения в живот.
Немец выпил воду залпом, тяжело вздохнул и сказал:
— Danke. Ich dachte nicht, das die Bolschewiki so gut sind13.
Мы больше не задавали вопросов немецкому сержанту. Киреев не отходил от него. Немец застонал, попросил приподнять голову и сказал:
— Ich sterbe bald. Ich hoffe, daß man mich beerdigt14.
Скончался он на руках Киреева. Фельдшер закрыл ему глаза и осторожно положил его голову на подушку. Смерть вражеского воина произвела на всех присутствующих тяжелое впечатление.
Оказывается, когда немец жаловался, что ему холодно, его закутали одеялом, а когда он сказал, что у него мерзнут руки, командир роты лейтенант Василий Попов надел на его руки свои перчатки. Сержанта и его товарищей мы похоронили.
Выслушав мой рассказ, генерал задумчиво, прищурив глаза, сказал:
— Другое дело — на поле боя. Там свои законы. Но когда враг пленен и если тем более ранен, к нему должно быть проявлено гуманное отношение. Этого требует воинская этика.
Вспоминается прекрасная осенняя природа Ленинградской битвы. Нам пришлось совершать длительные марши и большие переходы, рыть окопы в прифронтовой полосе: в дремучих лесах, вязких, покрытых мхом болотах, на побережьях многочисленных маленьких зеркально чистых озер с причудливыми названиями, вроде Гверистяньки, Альбиноли, на берегу цвета хвойного раствора реки Мсты, в затерявшихся среди гущи лесов хуторах, в еловых, березовых, сосновых рощах.
— Мы, — говорил генерал, — южане, горно-степной народ. Нам нужно как можно быстрее научиться не только ходить, но и воевать в лесу, в болотах. Времени маловато, торопиться надо, привыкать.
Лесные просеки и поляны, заваленные валежником, многочисленные ручьи с вязкими берегами, топкие болота для нас, жителей горностепья, были труднопроходимыми. Наши повозки и артиллерийские упряжки часто вязли. По личному указанию генерала мы выделяли в состав головной походной заставы усиленный саперный взвод, который наряду с разведкой маршрутов в нужных местах расчищал дороги, ремонтировал существующие мосты, подготавливал переправы и броды, иногда строил легкие мосты из подручных материалов.
— Энергию людей, которую вы тратите на вытаскивание повозок и артиллерийской упряжи, потратьте на ремонт, очистку труднопроходимых участков дороги и строительство мостиков. Этим самым и время выиграете, сбережете силы людей, сбережете лошадей и материальную часть, повозки ломать, сбруи рвать не будете, — говорил генерал, проезжая по нашему маршруту.
Наряду с инженерным оборудованием оборонительных рубежей части подразделения дивизии по-прежнему занимались планомерной боевой подготовкой всего личного состава. Главное внимание обращалось на боевое взаимодействие мелких подразделений, как отделение, взвод, минометный и орудийный расчеты, в условиях лесисто-болотистой местности, на командирскую учебу и практику боевой стрельбы. Рабочий день был установлен продолжительностью в 14 часов, из них для работы по приведению в оборонительное состояние занимаемых рубежей — 8 часов, на боевую подготовку — 6 часов. Специальными приказами ставились конкретные задачи всем категориям военнослужащих и родам войск со строгим учетом их специфики. Тяжело было работать и учиться в сырости и грязи.
Однажды генерал посетил наш батальон. Моросил мелкий дождь, дороги так развезло, что были перебои с подвозом продуктов, но работа и занятия шли своим чередом.
При обходе расположения батальона генерал остановился у дневального, приветствовавшего его по-ефрейторски на караул, спросил:
— Как живешь, солдат? — и, заметив обидное смущение дневального при слове «солдат», добавил: — Солдат — великое слово, мы все солдаты... Ну, как живешь? Расскажи.
— Хорошо, товарищ генерал, — бойко ответил дневальный.
— Как живут? — обратился генерал ко мне.
— Плохо, товарищ генерал... — Генерал не дал мне договорить, подтвердил, обращаясь к дневальному:
— Правильно ваш командир говорит, плохо живем. Разве во время войны хорошо живут?
— Хорошо живем, товарищ генерал, — настаивал дневальный.
— Нет, плохо, — убеждал генерал, — плохо живем. Разве хорошо, когда третий день без соли? Разве хорошо, когда вторые сутки без свежего мяса? Разве хорошо, когда целую неделю махорки нет? Разве хорошо, когда ботинки каши просят? Разве хорошо, когда в супе крупинка крупинку подгоняет? (Дневальный засмеялся). Плохо, конечно, плохо. На войне, брат, хорошего мало, — на то война. Хорошо то, что мы, солдаты, как и наши предки, умеем переносить все трудности, побеждая тяготы и лишения боевой жизни, громим врагов. Бороться с холодом, голодом, лишениями — тоже война, тоже бой, требующий не меньше отваги, чем в рукопашном бою.
— Виноват, товарищ генерал, я просто не подумал, — сказал дневальный.
— Думать надо. С умом, сознательно преодолевать трудности.
Мы пошли дальше.
— Тяжела солдатская жизнь, — продолжал генерал, — слов нет, тяжела. Нужно солдату всегда правду говорить, а если он врет, то тут же его поправить, открыть ему глаза. Еще трудности впереди.
Принять бои под Ленинградом 316-й дивизии не пришлось. В связи с изменившейся обстановкой на фронте по приказу Ставки Главного командования дивизия была переброшена в распоряжение Западного фронта, на Волоколамское направление.
Летом 1941 года Красная Армия сорвала первую попытку гитлеровцев прорваться к Москве. Благодаря этому советский народ выиграл драгоценное время для более тщательной организации обороны Москвы и укрепления подступов к ней.
Провал авантюристической затеи с ходу прорваться к Москве несколько отрезвил гитлеровцев. Во всяком случае, они поняли, что для нового наступления на Москву потребуются значительные силы и тщательная подготовка. Верховное главнокомандование немецкой армии приступило к деятельной разработке плана операции по захвату Москвы, которая получила громкое название «Тайфун».
Для осуществления этого замысла противник стянул до 75 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизированных, до одной тысячи самолетов, из них половина бомбардировщиков. Таким образом к началу октября на московском направлении противником была сосредоточена почти половина всех сил и боевой техники, имевшихся у него на советско-германском фронте.
Наступление немецко-фашистских войск на Москву началось 30 сентября ударом по войскам Брянского и Западного фронтов. Главные удары наносились на узких участках фронта, вдоль основных коммуникаций, ведущих к Москве. В районе Вязьмы, в районе Брянска значительная часть войск оказалась в окружении, остальным войскам пришлось отступить с тяжелыми боями.
В результате окружения противником значительных сил Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы и части сил Брянского фронта южнее Брянска на подступах к Москве создалась крайне опасная обстановка.
Москва совершенно неожиданно оказалась под непосредственным ударом врага. К моменту прорыва немецких танковых соединений через вяземский рубеж на всем пространстве до можайской линии обороны не было ни промежуточных оборонительных рубежей, ни войск, способных задержать наступление рвавшихся к Москве танковых групп противника.
Решительными мероприятиями, принятыми Государственным Комитетом Обороны и Ставкой, за короткое время был создан новый фронт обороны с новой группировкой войск. Этот новый фронт именовался «Можайской линией обороны». К 10 октября войска Западного фронта занимали оборону на Волоколамском, Можайском, Малоярославецком и Калужском направлениях с задачей не допускать прорыва вражеских войск на восток.
Волоколамское направление, на которое была переброшена наша дивизия, оказалось одним из главных направлений на подступах к Москве. В полосе под этим названием находились две крупные магистрали, ведущие к столице, — Ленинградское и Волоколамское шоссе.
На весьма широком фронте плотность обороны была жиденькой, готовность оборонительных работ по сроку — нереальной: войска успели лишь выйти к своим направлениям. Командование рассчитывало сначала занять оборону наличными силами, а впоследствии уплотнить боевые порядки за счет сил отходящих частей и свежих подкреплений из тыла.
Расчет расчетом, а реальность держала Панфилова в постоянной тревоге. В архиве сохранились его указания только командирам и комиссарам полков: «... в случае невозможности сдержать наступление противника на занимаемых оборонительных рубежах частям дивизии отходить только по моему письменному приказу... »
Учитывая горький опыт тяжелых отступательных боев, генерал создал в дивизии заградительный отряд из лучших, надежных командиров и бойцов во главе с капитаном Лысенко.
Этот отряд одновременно считался резервом командира дивизии и предназначался для выполнения ряда вновь возникающих или непредвиденных задач в ходе боя.
* * *
Как-то наш батальон посетил генерал Панфилов. Он провел с бойцами беседу.
— Надо встретить противника сильным огнем, — говорил он. — Разумеется, враг на рожон не пойдет. Он сперва проколошматит наши позиции снарядами и минами. Вот посмотрите на свои траншеи, ячейки и блиндажи — насколько они надежны, посмотрите — удобно ли вести со своих мест огонь. Отсиживаться мы не собираемся. Надо продумать, как маневрировать во время боя, передвигаться с одной позиции на другую, с одного фланга на другой. Передвигаться, конечно, не во весь рост на глазах у противника, а скрытно, по ходам сообщения. Говорю вам, товарищи, как старый красноармеец, что бой никому, и никогда ничего не прощает. Всегда надо смотреть в оба... В бою кто кого побьет. Мы, конечно, хотим побить немца, потому что он враг. Он тоже нас хочет побить, потому что мы ему тоже не друзья. Кто кого? Побьет тот, кто себя хорошо подготовит к бою. Вот и готовьтесь, а как вы подготовитесь — первый бой покажет. Бой не знает пощады. Временные неудачи не должны поколебать волю к победе. Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг своей цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех возможностей для разгрома врага. Ни один командир, ни один красноармеец не должен бояться того, чтобы самому проявить инициативу в бою, действовать смело и умело. Разумеется, инициатива должна быть проявлена строго сообразно с обстановкой. Она не должна идти в разрез наилучшему выполнению общей боевой задачи. Но, товарищи, самое главное — это организованность и дисциплина. У каждого командира и бойца должно быть непримиримое отношение к недисциплинированности. Сам будь дисциплинированным и товарища удерживай от всяких необдуманных поступков. В этом основа нашей сплоченности.
Затем, отвечая на заданные ему вопросы, генерал продолжал:
— Война без жертв не бывает. На войне убивают человека, калечат его. Это каждый знает хорошо и потому идет в бой сознательно, чтобы выполнить свой священный долг перед родиной. В бою дорог каждый воин. Место выбывшего невосполнимо. Каждый солдат — боевая единица. Берегите друг друга активными и умелыми действиями против врага, как в обороне, так и в наступлении. Солдат идет в бой не умирать, а жить! Только активное и согласованное действие на поле боя сбережет тебя самого и твоих товарищей. Грудью в современном бою ничего не возьмешь, ничего не сбережешь. Только огнем и огнем отбивать атаки противника, только огнем и огнем можно сберечь бойца. Без хорошо оборудованной позиции, без исправного, безотказного оружия боец — это живая мишень. У каждого командира есть свое место в боевом порядке. Он не будет стрелять из твоей винтовки, сидеть в твоем окопе. То, что командир от тебя требует: держать в исправности оружие, добротно оборудовать окоп — делается для тебя, боец! Командир не хочет терять тебя в бою.
— И мы тоже не хотим терять командира в бою! — пробасил кто-то из задних рядов.
Генерал с улыбкой посмотрел на задние ряды, его морщины разгладились:
— Правильно говоришь, товарищ! Ну, с такими орлами и я орел!
Внешне кажется, что один бой похож на другой. Но внутреннее содержание боев определяется замыслом командира. Именно замысел командира предопределяет всю подготовку, организацию, планирование, управление боем. Замысел предопределяет стремление к достижению цели и способы действия, следовательно — и поведение людей в бою. Выработка замысла — творческая обязанность командира. Замысел должен быть всесторонне обдуманным и обоснованным в соответствии с конкретной обстановкой, с учетом всех реальных возможностей.
И замысел, как всякое творчество, требует поисков.
Выработке замысла, как правило, предшествует уяснение задачи, т. е. определение места и роли в выполнении общей задачи вышестоящего соединения, и оценка обстановки, куда входят возможные варианты действия противника, состояние своих войск и расчет соотношения сил.
К выработке замысла И. В. Панфилов относился весьма серьезно. Он требовал свежих и новых данных о противнике, точной информации от своих соседей, уточняя задачи у высшего штаба, давал задания начальникам войск и служб, внимательно, с карандашом в руках, выслушивал их доклады и предложения. Его рабочая карта всегда была исчерчена нанесенной на ней обстановкой, исписана всякими таблицами и расчетами. Он не терпел противоречивых данных:
— Конечно, о противнике трудно иметь достоверно точные данные, но для разгадки нужны обоснованные предположения, а для обоснования вашего предположения имеющиеся данные недостаточны, — говорил он как-то, — да, да, на основе этих данных я не могу принять решение. Добывайте новые, более точные данные. Уточните еще разок по всем каналам разведки. Поезжайте в штаб армии, поезжайте к соседям, пошлите людей в полки.
И. В. Панфилов часто говорил мне: «Я, батенька, командовать вашим батальоном или полком не собираюсь. Командуйте своим умом и умением. А посоветовать, если найду нужным, кое-что могу».
— Издать приказ — это полдела, — говорил Панфилов на одном совещании, — надобно проверить, дошел ли приказ до исполнителя? Если дошел, то правильно ли он уяснил свою задачу? Если он правильно уяснил свою задачу, правильно ли оценивает обстановку? Какое решение он принял? Насколько продуманно и обоснованно его решение? Приступил ли он к практическому осуществлению своего решения? Как он организовал обеспечение боя, взаимодействие у себя и с соседями? Все это требует тщательной проверки и контроля. Это не опека, а контроль, чтобы кто-нибудь и где-нибудь не сделал того, что противоречило бы общему замыслу старшего командира и не шло вразрез с выполнением общей задачи. Мы доверяем всем командирам, но доверие не исключает контроля.
При очередном посещении нашего батальона И. В. Панфилов не спеша, внимательно ознакомился с моим решением — планом действия на случай боя. На столе лежала вычерченная старшим адъютантом батальона Рахимовым схема.
— Мм-да! — произнес генерал, стуча тупым концом карандаша по столу. — Вроде все у вас на бумаге резонно получается: боевое охранение выставлено далеко впереди от переднего края.
— Это продиктовано условиями местности, товарищ, генерал.
— Вижу, вижу. Сумеют ли они вовремя отойти?
— В зависимости от силы противника. Он может с ходу смять.
— Смять, говорите? Да, действительно, когда взвод качнет отходить и пока пройдет эти три-четыре километра, враг, преследуя, всех положит огнем в затылок. Далековато получается.
— Самый выгодный рубеж на этом направлении.
— Это понятно. Рубеж-то выгодный, а воевать невыгодно. Вы заранее этот взвод обрекаете на верную гибель. Что маленькая кучка людей на таком большом отрыве от переднего края может сделать? Вы же им ничем отсюда не можете помочь.
— Да, товарищ генерал.
— Вот тут, в тылу позиции боевого охранения, уступом вырисовываются две сопочки. Почему бы вам туда не выдвинуть пару пушек, два станковых пулемета? Они бы своим огнем прикрыли отход боевого охранения. Как вы на это смотрите?
— Тянешь, тянешь, товарищ генерал, и никак не растягивается.
— Тянешь! — передразнил он меня. — Конечно, тянуть приходится, ведь мы растянулись всей дивизией в ниточку. Но оставлять без поддержки людей так далеко нельзя. — Он наклонился над картой и, циркулем измерив расстояние, продолжал: — Вот видите, оказывается, можно дать перекрестный огонь. Боевое охранение даст бой, а этим молчать, ни в коем случае не обнаруживать себя. Противник развернется. Ведь задача-то боевого охранения как раз и заключается в том, чтобы заставить противника преждевременно развернуться. Не так ли?
— Так, товарищ генерал.
— Боевому охранению не под силу уничтожить противника. Выполнив свою задачу, оно должно отойти. Не так ли?
— Так и предполагалось, товарищ генерал.
— Предполагалось-то одно, а как располагалось-то?.. Нет, займите эти две сопки. Открывать огонь оттуда можно тогда, когда боевое охранение начнет отходить. Под прикрытием перекрестного огня с этих двух сопок можно организовать отход уверенно, а дальше действовать по обстановке: пусть боевое охранение вот с этого рубежа, — генерал указал на карте место позади сопок, — в свою очередь огнем прикроет отход этих, — генерал указательным пальцем ткнул на обе сопки, — так, перекатом, взаимно прикрывая друг друга, люди могут прийти сюда, — генерал показал на ближние подступы к переднему краю. — Ну, потом вы уже сами можете поддержать их.
Далее генерал внес ряд обоснованных уточнений в наш план.
— Вы все время ходите с фланга на фланг только внутри своего батальонного района, — сказал, одеваясь, генерал. — Правда, у вас участок большой. Но не забывайте о своих соседях. Денек побудьте у правого, денек — у левого. Посмотрите, поучитесь у них хорошему, договоритесь по-товарищески между собой, как действовать сообща, как помогать друг другу. Ведь в бою беда соседа — это ваша беда.
Все указания генерала были приняты к исполнению. Они нам впоследствии в боях очень пригодились.
Помню, в начале октября я был вызван в штаб нашего полка в деревню Новощурино. Подъезжая к дому, где размещался командир полка, я увидел генеральскую «эмку». Около сельской школы стояла группа командиров и политработников. Кто-то из группы поманил меня рукой. Я пустил коня крупной рысью. В это время из дома вышла группа офицеров во главе с генералом Панфиловым. Я на ходу соскочил с коня, передавая поводья коноводу.
— Кроме вас, все в сборе, — пробурчал начальник штаба полка, — скорей. Видите, генерал уже идет.
Мы расселись за партами класса. Вместо учительского столика стоял большой стол, накрытый скатертью, и несколько табуреток.
— Товарищ генерал! Командно-политический состав полка по вашему приказанию собран, — доложил начальник штаба полка.
— Садитесь, товарищи командиры, — послышался хрипловатый голос Панфилова.
Панфилов сел за стол и жестом пригласил к себе командира и комиссара полка. Адъютант генерала развернул перед ним большую топографическую карту. Генерал, разгладив карту, положил перед собой карманные часы. Он был в кителе, без головного убора. В коротко остриженных волосах поблескивала иглистая седая щетинка.
— Наша дивизия, — начал он, склонившись над картой, — как вам известно, занимает оборону на весьма широком фронте. Собрать весь комначсостав одновременно не представляется возможным. Поэтому приходится мне подобные совещания комначсостава проводить по полкам. Вот сегодня приехал к вам. — Он поднял голову и, сощурив глаза, посмотрел на аудиторию так, словно кого-то искал. — То, что я вам сообщу, прошу не записывать... Противник прорвался в районе Вязьмы, Гжатска. Наши войска ведут сдерживающие бои... — очень кратко, минут пять-семь, генерал ввел нас в общую обстановку на фронте, затем, немного помолчав, заключил: — Как видите, товарищи, наши войска сражаются, и сражаются неплохо: сковывают большую и сильную группировку войск противника. Однако в скором времени, надо полагать, фронт приблизится к нашим рубежам.
Наша дивизия входит теперь в состав 16 армии Западного фронта. Командующий армией генерал-лейтенант товарищ Рокоссовский Константин Константинович. Член Военного Совета армии дивизионный комиссар товарищ Лобачев Алексей Андреевич. Начальник штаба армии генерал-майор товарищ Малинин. Я так перечисляю, чтобы вы знали наше начальство. Мы с комиссаром дивизии товарищем Егоровым были в штабе армии. Представились. Доложили, как у нас обстоят дела, а вы сами знаете, как у нас обстоят дела: фронт широкий, местность за это время мы с вами изучили, можно сказать, окопались, расставили мины — и вот ждем противника. Пока у нас чрезвычайных происшествий нет. Настроение у нашего народа бодрое. Люди хотят драться. Это самое главное, а остальное, как говорится, дело наживное. Вот так и доложили. В составе армии есть и другие соединения и части кроме нашей дивизии, но, как я понял, командующий отводит нам первостепенную роль и на нас возлагает большую надежду... — тут Панфилов запнулся и сделал паузу.
«Значит, другие на фронт еще не прибыли», — невольно подумал я.
— И на нашем рубеже бои могут начаться в ближайшие дни, — продолжал Панфилов. — Мы не должны сидеть сложа руки, чтобы противник застал нас врасплох. Каждый полк, каждый батальон должен знать, где находится противник. Довольно отсиживаться, товарищи, линия фронта с каждым днем все приближается и приближается. Если противник не идет — значит, дерущиеся впереди наши части его не пускают. Но имейте в виду, что местами сплошного фронта нет. По отдельным направлениям есть широкие разрывы между нашими частями, а некоторые полки и дивизии ведут бои в условиях окружения. Следовательно, мы ни на один день не гарантированы, что противник не появится перед нашим фронтом, и должны принять все меры, чтобы предотвратить внезапное нападение врага на наши позиции. Как это сделать? — поставил вопрос генерал.
Все сидящие посмотрели на него.
— А вот как мне сдается: если он не идет к вам, идите вы к нему. — Видимо, уловив чей-то удивленный взгляд, Панфилов, усмехнувшись, продолжал: — Да, да, идите к нему и узнайте, где он и когда собирается пожаловать к нам. Линия фронта отсюда местами километров двадцать, местами тридцать, на отдельных направлениях сорок-пятьдесят километров. Надо выделить группу разведчиков и послать их с заданием: идти вперед до тех пор, пока не встретится противник. Хорошо было бы, если бы эти разведчики не только узнали, где находится противник, а прихватили «языка». — Тут генерал внезапно остановился, как бы испугавшись собственных слов. — Пожалуй, эта палка о двух концах. Нет, нескладно выйдет, если мы, еще не вступив в бой, будем давать противнику своих «языков». Пусть разведчики, пользуясь неровностями местности и темнотой, наблюдают за противником, пусть хорошенько расспросят местное население. И этого пока достаточно. — Дальше генерал, учитывая боевой опыт, уже накопленный нами в войне с гитлеровской армией, давал тактические указания на возможные случаи и положения, — указания, которые впоследствии очень нам пригодились.
— На переднем крае все должно быть приведено в полную боевую готовность. Это не значит держать день и ночь всех на ногах. Надо дать людям и отдых, надо беречь силы бойца для боя. Это значит: всем быть готовыми к открытию огня по первому сигналу. Вы сами знаете, что идут дожди, почву развезло. Нам трудно приходится работать и передвигаться, но трудно будет и противнику. Противник, по всей вероятности, будет привязан чаще всего к дорогам, — обратите особое внимание — к дорогам и безлесным пространствам. Дороги и безлесные пространства» пожалуй, не следует занимать сплошными боевыми порядками, а перекрывать их плотным перекрестным огнем, эшелонируя огневые точки в глубину и таким образом создавая, если так можно выразиться, «огневые мешки» на отдельных наиболее важных направлениях. Надо все дороги взять на прицел.
В случае вклинения противника в боевые порядки сначала обложить его огнем, а потом выбить короткой контратакой. В случае прорыва и выхода противника во фланг — прикрыться огнем.
Обстановка может вынудить нас к отходу. Это не исключено. Без приказа старшего командира отход запрещен. Это вы все знаете. Отходите к следующему рубежу, организуя выход из боя основных сил под надежным прикрытием. Противник далеко в сторону от дороги не пойдет. Главные его силы будут стремиться прорваться по шоссейным дорогам, а вспомогательные — по проселочным. Повторяю, товарищи, что он будет привязан к дорогам, в лесах и болотах ему делать нечего.
Не исключена возможность, что некоторым нашим подразделениям придется вести бой в условиях окружения. Поэтому заранее надо в основных опорных пунктах подготовить круговую оборону.
Если кто-нибудь из вас останется в окружении, выходить из него надо организованно. Одиночек и мелкие группы противник будет ловить, как куропаток. Противник наступает, а мы обороняемся. Пока инициатива принадлежит противнику. Он нам, конечно, не скажет, когда и откуда он нас стукнет. Поэтому, товарищи, разведка, наблюдение, постоянная боевая готовность — это наша первейшая задача. Я вам здесь дал ряд своих указаний, а как реализовать эти указания на местах, претворить их в жизнь в бою, зависит от вас, непосредственных исполнителей. Знаю, что в бою не все и не всегда выходит как замышлялось, тем более, что машина нашей дивизии еще «не обкатана». Подумайте, поразмыслите, посоветуйтесь между собой. Я думаю, что противник не заставит нас долго ждать. Скоро начнутся бои. У кого есть ко мне вопросы?
Действительно, это было последнее совещание перед боями. Мы приступили к исполнению указаний генерала. Как это делалось, видно хотя бы из следующего эпизода.
В двадцати километрах впереди нас лежало село Середа. Судя по карте, это село было узлом дорог. Километрах в двух-трех от села была роща. Наши разведчики целый день провели в этой роще, наблюдая за селом. По рассказам наших разведчиков и жителей, уходящих от немцев, было выяснено, что Середа — это перевалочный пункт какой-то дивизии противника. Туда привозили продовольствие, боеприпасы и горючее. Там останавливались на ночлег или на большой привал проходящие части и подразделения противника. Движение в основном было рокадного порядка, то есть параллельно фронту... Когда все это доложили командованию полка, было приказано совершить ночной налет на Середу, поджечь склады, захватить пленных, заминировать дороги к подступам села. Особенно на этом горячо настаивал комиссар полка Петр Васильевич Логвиненко. Выполнение этой задачи возлагалось на наш батальон. Был сформирован отряд из 120 человек, командиром которого назначили старшего лейтенанта Хаби Рахимова, а политруком — участника финской войны Джалмухаммеда Бозжанова.
Командир и политрук отряда с группой конных разведчиков отправились на рекогносцировку. Вернувшись к полудню, они доложили, что все подтвердилось: в Середе действительно перевалочный пункт. По их мнению, охрана несерьезная. Было принято решение напасть на село в эту же ночь. Чтобы сохранить силы бойцов и выиграть время, мобилизовали все повозки батальона. С наступлением темноты отряд выступил.
Достигнув рощи, дальше пошли пешим порядком, оставив повозки и коней в лесу. Глухой ночью отряд с трех сторон ворвался в Середу. Застигнутые врасплох немцы не оказали серьезного сопротивления. Наши подожгли склады, заминировали дороги, захватили пленных и благополучно вернулись к рассвету.
Подобные вылазки проводились и в других полках, и это серьезно встревожило противника: по показанию местного населения и наших разведчиков, он усилил охрану. А показания захваченных нами пленных очень пригодились генералу Панфилову, подтвердили его предположение о том, что главный удар противник нанесет на левом фланге, вспомогательные — в центре и на правом фланге. Исходя из этого, основные силы дивизии были сосредоточены на левом фланге, там и были эшелонированы в глубину противотанковые узлы и оставлены резервы, правда, очень скудные — порядка одного батальона, — а сам Панфилов с оперативной группой штаба переехал на левый фланг.
Разведгруппа левофлангового полка под командованием лейтенанта Мендыгазина установила, что в ночь на пятнадцатое октября противник подтянул до ста танков, до сотни машин с мотопехотой и артиллерию. Получив такую информацию, Панфилов прибыл на командный пункт полка вместе с его командиром полковником Капровым, тщательно изучил обстановку, побывал на переднем крае, куда вероятнее всего был направлен главный удар противника, дал дополнительные указания и советы командирам, поговорил с бойцами.
— С танками надо вести борьбу всеми имеющимися средствами, — говорил генерал. — Передний край и весь четырехкилометровый противотанковый ров плотно прикройте противотанковыми минами.
— Расставлено более тысячи двухсот мин, — докладывал полковник Капров.
— Надо еще раз, Илья Васильевич, посмотреть, как расставлены противотанковые орудия и станковые пулеметы. Подготовьте им несколько запасных позиций как по фронту, так и в глубину — для маневра. Если они будут вести огонь только с одной, основной, позиции, противник после обнаружения перещелкает их, как орехи. Они не должны сидеть на одном месте. Пулеметы пусть отсекают пехоту от брони главным образом фланговым и перекрестным огнем.
— Так и замышляется, товарищ генерал.
— Еще раз проверьте, Иван Васильевич, — настаивал генерал. Отпустив полковника Капрова, генерал Панфилов обратился к сопровождавшему его помощнику начальника оперативного отдела лейтенанту Колокольникову, призванному из запаса известному в Казахстане художнику, спортсмену и альпинисту.
— Евгений Михайлович, пишите.
Колокольников приготовил для записи полевую книжку, а Панфилов, склонившись над развернутой топографической картой, диктовал:
— ...Для усиления стрелковой роты, обороняющей район Дьяково, Карачаево по реке Искони, дополнительно выбросить туда еще одну стрелковую роту, усилив ее противотанковыми орудиями и станковыми пулеметами... Кроме того еще одну усиленную стрелковую роту иметь в резерве, сосредоточить в районе Сославино, затем контратаковать в направлении совхозов Булычево и Карачаево. Отдельной танковой роте сосредоточиться в районе леса восточнее Шульгина, подготовить и занять для обороны район южнее окраины Зекино, Токарево. При прорыве танков противника уничтожить их огнем с места... Быть в готовности совместно с резервами батальона, контратаковать в направлении совхозов Булычево, Карачаево...15. Все, что я вам продиктовал, приведите в нормы русского языка и оформите как приказ. Пошлите с нарочным офицером штаба, и поручите ему, чтобы проверил выполнение этого приказа.
Генерал Панфилов, сев на коня, уехал к левому соседу дивизии для уточнения некоторых вопросов взаимодействия.
С утра 15 октября 1941 года на левом фланге дивизии начались бои. На позиции полка Капрова посыпались мины и снаряды. Артиллерийская подготовка противника длилась около часа. Затем — мертвая тишина. Гул, рев моторов — на горизонте показались танки, а за ними — пехота... Чтобы не отрываться от пехоты, танки шли на малых скоростях. Когда они приблизились к переднему краю, некоторые из них окутались густым черным дымом взрывов.
— Противотанковые мины сработали! — сказал Панфилов, наблюдая за полем боя в стереотрубу.
Ожил наш передний край, заговорили противотанковые пушки и станковые пулеметы. Танки противника начали вести огонь с места. Пехота, следовавшая за ними, залегла. Началась настоящая огневая перебранка. Кругом гудело и трещало, бурлило и взлетало черными столбами разрывов... Танки противника метались, скрежеща гусеницами, вдоль противотанкового рва, но, натыкаясь на мины, горели и вертелись волчком на одном месте. Немцы подымаются для броска вперед, но тут же залегают, прижатые к земле длинными очередями перекрестного огня пулеметов... Гул и треск постепенно начинают идти на убыль.
— По-моему, Илья Васильевич, — говорил Панфилов, все еще не отрываясь от стереотрубы, — первая атака противника захлебнулась.
— Но он же не отошел, товарищ, генерал, — замечает полковник Капров. — Видите, как он колошматит наш передний край...
— «Колошматит», — поддразнивает Панфилов. — А что ему делать? Что ему делать-то? Конечно, будет колошматить. Он часа два-три назад грозно ревел, угрожающе рычал, а теперь, побитый, злобно огрызается... Для начала это неплохо, Илья Васильевич, — Панфилов отрывается от стереотрубы, устало садится на скамеечку и, немного подумав, продолжает: — Участь сегодняшнего дня для противника предрешена. Первый эшелон его захлебнулся, его боевой порядок расстроен, на наших глазах и под нашим огнем он перегруппироваться не сможет, а свой второй эшелон при таком положении в бой не введет. Держите его так до самого вечера, Илья Васильевич, чтобы он не мог идти ни вперед, ни назад...
Обсудив с командиром полка дальнейшие возможные действия противника и наметив контрмеры, Панфилов переподчинил ему все свои резервы в этом районе и выехал на основной командный пункт дивизии.
— Немедленно организуйте эвакуацию раненых, похороны убитых, пополнение боеприпасов, — сказал он на прощание. — Ночь используйте на перегруппировку и на разведку. Завтра вашему полку предстоит жаркий день. Кое-что я вам подброшу, как мы с вами договорились. Ну, будьте живы, Илья Васильевич, желаю вам успехов!
По дороге Панфилов сделал часовую остановку у меня на командном пункте, аппетитно поужинал, ввел меня в обстановку, рассказал, как шли бои у Капрова.
* * *
Противник не изменил направления своего главного удара. Перегруппировав силы и средства, он все теснил и теснил полк Капрова в северо-западном направлении. Дальнейший ход боев нам был известен по информациям штаба и политотдела дивизии. Мы знали, что на левом фланге дивизии идут тяжелые бои, что генерал Панфилов с оперативной группой штаба снова вернулся на левый фланг и лично управляет боями. Офицеры рассказывали мне отдельные эпизоды боев. Некоторые из них я сейчас воспроизведу.
Под совхозом Булычево шестая стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Маслова и артиллерийский дивизион под командованием младшего лейтенанта Снегина в течение двух суток отбивали атаки двух батальонов пехоты противника, поддержанных танками. Боец Тлеукабылов противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью уничтожил три танка противника. Наводчик орудия Терехов подбил три танка противника и сам погиб. Комсорг полка Балтабек Джетписбаев, находясь на участке этой роты, гранатой подбил один танк противника... Рота и дивизион отошли на следующую позицию лишь по приказу, когда обороняемый ими опорный пункт был обойден противником с обеих сторон. Заняв новые позиции, они снова встали преградой перед наступающим противником.
Начальник штаба полка капитан Манаенко и командир батальона старший лейтенант Райкин вместе с группой красноармейцев попали в окружение, вели борьбу не только с пехотой, но и с танками, уничтожив гранатами несколько танков, бойцы погибли в горящем доме.
Мы знали, что резервы полка несколько раз удачно контратаковали прорвавшегося противника, отбрасывая его на исходные позиции.
Мы знали, что полк Капрова, приняв на себя удар огромной силы, оказался в очень сложном положении. Бывали случаи, когда противнику удавалось прорваться в нескольких направлениях, расчленить боевые порядки. Но разрозненные подразделения и группы вели самостоятельные бои, отходили вдоль дорог к следующему рубежу. На новом рубеже снова восстанавливалось нарушенное управление. Выходя из немецкого тыла, каждая группа, каждый воин разыскивали свою часть, пополняя боевые ряды на новом рубеже...
26—27 октября 1941 года разгорелись бои за Волоколамск. Противник ввел в бой до четырех пехотных дивизий и до ста танков. Действия своих войск противник обеспечивал и поддерживал мощными артиллерийскими и авиационными подготовками. Особенно тяжелые бои пришлось вести полкам Капрова и Елина, артиллерийскому полку Курганова.
Ныне здравствующий полковник Илья Васильевич Капров много мне рассказывал о боях этих дней. И он и Другие вспоминают, что генерал Панфилов с оперативной группой все время находился на главном направлении и влиял на ход боя: вмешивался в оценку сложившейся обстановки, уточнял то или другое решение командира в ходе боя, советовал, приказывал, подбрасывал подкрепления из своего резерва на более угрожающее направление, восстанавливал взаимодействие с соседями, докладывал обстановку командующему армией, мобилизовывал весь дивизионный тыл на бесперебойное снабжение продовольствием и боеприпасами, следил за своевременной эвакуацией раненых, принимал меры к обеспечению всех средств связи для непрерывного управления войсками... Панфилов всегда находился там, где он по обстановке был более всего нужен.
Расширяя прорыв по фронту и в глубину, противник упорно, шаг за шагом, развивал успех. Блокируя окруженные подразделения, он ввел в бои свои вторые эшелоны и резервы и прорвал фронт обороны на правом фланге и в центре дивизии. Особенно тяжелые бои завязались в районе Рюховского и Спасс-Рюховского против главной группировки противника, которая состояла из трех пехотных и двух танковых дивизий. В этих боях участвовали с нашей стороны полк Капрова, полк Елина, артполк Курганова, два дивизиона противотанкового артиллерийского полка из резерва командующего армией Рокоссовского, танковая рота из армейского резерва. Генерал Панфилов сам лично руководил боями, двое суток безотлучно находясь на самом переднем крае. Изрядно потрепав противника, по приказу командующего армией дивизия отошла в район Волоколамска.
«Под Волоколамском особенно отличились части 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор И. В. Панфилов, курсантский полк под командованием полковника С. И. Младенцева и артиллерийские противотанковые полки. В течение семи дней воины этих частей, отбивая непрерывные атаки трех пехотных и двух танковых дивизий противника, удерживали район Волоколамска. При этом они уничтожили до 80 танков и несколько батальонов пехоты».
(«История Великой Отечественной войны»).
Вспоминая эти дни, член Военного Совета армии генерал А. А. Лобачев в своей книге «Трудными дорогами» пишет: «Всего лишь неделю у нас воевала 316-я дивизия, но как воевала! Даже самые, казалось бы, непосильные задачи панфиловцы выполняли хладнокровно, без жалоб на трудности, без тени растерянности».
Однако брешь в центре боевого порядка дивизии оказалась непоправимой. «Противник силою до четырех пп (пехотных полков. — Б. М.-у. ) и до ста танков к исходу 27 октября овладел рубежом Ивановск, Волоколамск, Возминское, Жданово»16, — доносил Панфилов командующему армией.
Сдача Волоколамска очень тяжело переживалась Панфиловым. Правда, противник в боях на подступах к городу, а также за город понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Мы потушили его наступательный порыв, сорвали планы «завтракать в Волоколамске, ужинать в Москве», и он вынужден был остановиться на целый месяц, чтобы привести себя в порядок и подтянуть глубокие резервы.
Газета «Известия» 5 ноября писала: «Поистине героически дерутся бойцы и командиры Панфилова. При явном численном перевесе в дни самых жестоких атак немцы смогли продвинуться вперед только на полтора километра в сутки. Эти полтора километра дались им очень дорогой ценой — земля буквально сочилась кровью фашистских солдат».
И все же Волоколамск был сдан.
Генерал А. А. Лобачев вспоминает:
«Через два дня к нам прибыла комиссия из штаба Западного фронта. По заданию Ставки она расследовала причины сдачи Волоколамска. Комиссии предъявлены приказы Военного Совета армии, планы, оперативные документы, карты.
— Мы не приказывали сдавать Волоколамск, — говорил Рокоссовский.
— Но вы не создали для его защиты резервов ни в армии, ни в дивизиях, — заметил председатель комиссии.
— Откуда их взять?
— За счет кавалерийской группы.
— Это невозможно. В группе Доватора две дивизии по пятьсот сабель каждая и участок фронта протяжением в тридцать километров. Взять что-либо — значило оголить правый фланг армии.
— Но ведь противник там активности не проявлял?
— И все же мы не могли оставить рубеж Московского моря без защиты.
— Почему не оставили в резерве курсантский полк?
— У курсантского полка фронт в двадцать один километр, — ответил Рокоссовский. — Можно, конечно, было создать резерв за счет ослабления правого фланга. Я не имел права так поступить.
Приехал И. В. Панфилов. Комиссия пригласила его для объяснения. Мы заявили, что вся наша армия гордится этим соединением: генерал Панфилов большего сделать не мог.
— Я тверд в своем убеждении, — сказал Панфилов, — что сдача Волоколамска — это не утрата стойкости у бойцов. Люди стояли насмерть.
— И все же, — сказал председатель комиссии Панфилову,— вы имели категорическое указание Военного Совета армии удержать Волоколамск, а вы его сдали...
Это был тяжелый разговор, хотя все понимали, что Ставка не может спокойно смотреть, как войска отступают и сдают врагу на подступах к Москве город за городом. Ставка требовала стойкости. В результате упорной обороны, стойкости наших войск наступление противника было приостановлено на всем западном направлении. Выиграв время, высшее командование Красной Армии получило возможность подтянуть и сосредоточить глубокие резервы для последующих и решающих сражений на ближних подступах к Москве. В числе других войск на волоколамском направлении особо отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова.
Противник в предыдущих боях тоже изрядно потрепал и наши части. Пополнения или подкрепления пока еще не прибывали. Наши войска не смогли предпринять каких- либо серьезных контратак или наступления для восстановления утраченного положения в районе Волоколамска. Отбивая атаки противника, части дивизии заняли оборону и закрепились на фронте Ефремова, Ченцов, высоты «251,0», Нелидова, разъездов Дубосеково, Ширяево. На этом рубеже с 28 октября по 16 ноября 1941 года бои носили позиционный характер.
Генерал Панфилов, как и раньше, часто навещал полки и батальоны, иногда бывал в ротах и взводах, на основных и более вероятных направлениях наступления противника, осматривал оборонительные сооружения, беседовал с людьми, изучал условия местности, вносил коррективы в наши планы, уточнял, советовал.
Наш батальон закрепился в районе Ефремово в непосредственном соприкосновении с противником, прикрывая правый фланг полка Шехтмана. Узнав, что в полк прибыл генерал Панфилов, я поехал в Строково, где был расположен штаб полка.
— Почему вы приехали? Кто вам разрешил приехать сюда без моего разрешения? — обрушился на меня Шехтман.
— Командир батальона приехал ко мне, а не к вам, — прервал Шехтмана генерал Панфилов.
— Да, я приехал к вам, товарищ генерал, услышав, что вы здесь.
— Но как же? Бросили батальон... — не унимался Шехтман.
— Батальона он никогда не бросал, а вот вы...
— Товарищ генерал, он...
— Потрудитесь молчать, когда я говорю! — окончательно пресек Шехтмана генерал.
Я доложил генералу, что наш батальон был в полку на положении пасынка у плохого отчима. Мы терпели неоправданные трудности, командир же полка не оказывал нам никакой помощи, наоборот, приказывал выполнять невыполнимое. Несмотря на все это, батальон не пал духом и с честью выполнил свой боевой долг. Панфилов сосредоточенно смотрел на карту, слушал меня не перебивая. Когда я кончил доклад, генерал спросил у комиссара полка:
— Как, по-вашему, комиссар, командир батальона правильно доложил мне?
— Правильно доложил, товарищ генерал, — смутившись, подтвердил комиссар. — Но мы тогда не имели возможности...
— Вы были заняты самим собой,— прервал Панфилов и, посмотрев на Шехтмана, сказал: — Вы батальон довели до изнеможения, вы опять прикрыли им свой фланг. Я вам больше не доверяю этот батальон, я отбираю его у вас...
— Разрешите, товарищ генерал...
— Смените сегодня же этот батальон, — приказал генерал Шехтману, не разрешая ему говорить, и, обращаясь ко мне: — После смены приведите батальон в район Рождествено. Там встретит вас офицер из штаба дивизии.
Я никогда не видел генерала таким сердитым. Итак, наш батальон был выведен в район Рождествено и занял оборону на второй позиции. С этого дня батальон считался личным резервом командира дивизии, закрепляясь на занимаемых позициях, готовил контратаку в нескольких направлениях на случай прорыва противника. В связи с такой задачей мне приходилось бывать почти во всех полках и батальонах для изучения маршрута движения и согласования вопросов взаимодействия. Это дало мне возможность познакомиться с командирами и политработниками дивизии и быть более в курсе общей обстановки, чем другим командирам батальонов.
О результатах своих поездок я докладывал начальнику штаба дивизии полковнику Серебрякову Ивану Ивановичу, очень чуткому и выдержанному, или лично генералу Панфилову.
* * *
21 ноября 1941 года газета «Красная Звезда» писала:
«Смертью героя погиб генерал-майор Панфилов. Гвардейская дивизия потеряла своего славного командира. Красная Армия лишилась опытного и храброго военачальника. В боях с немецкими оккупантами его воинский талант и уменье сослужили немалую службу Отечеству.
Имя Панфилова неотделимо от боевой чести дивизии, которой он командовал. Она бесстрашно дралась с врагом, вписав блестящие страницы в еще не законченную летопись нашей Отечественной войны против гитлеровской Германии. Дивизия никогда не ожидала ударов врага. Она сама бросалась на неприятеля, закрывала своей могучей грудью путь фашистским ордам.
Всюду, где появлялась дивизия, она наводила ужас на немцев. Генерал Панфилов быстро изучил вражескую тактику и нашел меры противодействия ей. Он понимал всю ответственность перед Родиной и делал все, чтобы оказаться на высоте своего воинского долга. Он никогда не выпускал из рук управления своей частью, действовал смело, решительно и вел своих бойцов дорогой побед. И Красная Армия знает, что дивизия генерала Панфилова была одной из тех наших дивизий, которые с наибольшей мощью сорвали расчеты злобного врага на «молниеносную» войну против Советского Союза.
В груди Панфилова билось сердце стойкого русского человека, презирающего смерть во имя победы. Он отдал всего себя великой освободительной миссии Красной Армии, несущей гибель и разгром германскому фашизму.
Имя Панфилова известно не только нашей стране, но и ее врагам. Хваленые немецкие генералы произносили это имя со скрежетом зубовным. Их войска не раз бегали от дивизии Панфилова, теряя вооружение, амуницию и знамена. Родина знала: там, где стоит дивизия, враг не пройдет. Он был верным сыном партии и одним из самых мужественных воинов Красной Армии. Тремя орденами Красного Знамени наградила его страна.
Среди героев всенародной Отечественной войны генерал Панфилов займет одно из самых почетных мест. Действия его дивизии будут пристально изучаться военными, а сам он живет в воспоминаниях боевых соратников и никогда не умрет.
Четверть века в строю! Панфилов прошел путь от солдата царской службы до генерала Красной Армии. В его биографии две больших войны: одна — в начале военной работы, вторая — в конце, и обе — с немцами. Жизнь бросила Панфилова солдатом в окопы первой империалистической войны, ковала из него полководца. И выковала упорного, решительного воина, богатого на выдумку и щедрого на новизну в военном искусстве. Маневр и огонь были его родной стихией на поле боя.
Иван Васильевич Панфилов был отцом для бойцов. Они любили его той сильной и мужественной любовью, которая возникает в огне сражений, когда генерал делит опасность с красноармейцами, своим воинским умением добывает желанную победу. Они готовы были идти за ним в огонь и в воду. И шли повсюду — неустрашимые, отважные.
Погиб генерал гвардии Панфилов. Память о нем никогда не умрет в сердцах славных гвардейцев и всех воинов Красной Армии. Он воспитал красноармейцев и командиров своей дивизии, способных выполнять задачу разгрома немецких захватчиков. В суровых боях они жестоко отомстят врагу за смерть любимого генерала».
Этот некролог был подписан командованием Западного фронта, 16 Армии, командирами и комиссарами частей.
И далее газета писала:
«Все так же гремели орудия и, ударяясь о мерзлую землю, с треском рвались немецкие мины. В заснеженных окопах, в лощинах лежали бойцы, готовые в любую минуту ринуться на врага. На командном пункте дивизии, как и всегда, заунывно шумел зуммер. Но тот, кто на протяжении двух месяцев водил дивизию в бой, больше не поднимал телефонной трубки. Не, слышно было твердого и уверенного голоса генерал-майора Панфилова.
...Вчера в Москве, в зале Центрального Дома Красной Армии, на высоком постаменте был установлен гроб с телом генерал-майора Панфилова. На гроб возложены венки... Три знамени в крепе стояли у его изголовья. На алых подушках — ордена и медали... Звучит траурная музыка... В почетном карауле генералы, солдаты... Гроб выносят на улицу. Эскадрон кавалерии с шашками наголо, ровные ряды пехоты встречают тело генерала, павшего на своем боевом посту. Длинный траурный эскорт медленно движется по Москве.
...Уже смеркалось, когда тело героя было предано кремации. Склонив свои боевые знамена, Красная Армия прощалась с героем Отечественной войны, отважным генералом гвардии, отдавшим свою жизнь за Родину, честь и свободу Родины.
Сегодня гвардейцы Панфилова снова в бою. На их знаменах начертано: «Отстоять родную столицу, отомстить врагу за гибель своего генерала!..»
В своем соболезновании бойцам, командирам и политработникам 8-й гвардейской дивизии от имени Военного Совета Армии Рокоссовский и Лобачев писали:
«Дорогие друзья!
В дни тяжелых испытаний вы понесли большую утрату — смертью храбрых, на поле боя пал ваш командир.
Это тяжелая утрата, но враги просчитались: она не внесла в ваши ряды паники, а заставила еще крепче сплотиться на беспощадную борьбу с ненавистным врагом. За смерть командира немецкие банды должны будут заплатить тысячами своих жизней. Отомстим немецким захватчикам и убийцам, уничтожим ядовитую гадину!
Пусть светлая память вашего командира останется навсегда в ваших сердцах и будет служить источником еще большей ненависти к злобному врагу.
Смерть за смерть! Кровь за кровь!»
Военный Совет Западного фронта, представляя И. В. Панфилова к правительственной награде, писал:
«В борьбе с немецкими захватчиками на подступах к Москве дивизия вела ожесточенные бои с превосходящими в четыре раза силами противника. При самых трудных условиях боевой обстановки т. Панфилов всегда сохранял руководство и управление частями. Ведя беспрерывные бои на подступах к Москве в течение месяца, части дивизии не только удерживали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили 2 танковую, 29 моторизованную, 11 и 110 пехотные дивизии...»
Со всех концов страны в адрес командования дивизии и семьи И. В. Панфилова шли беспрерывным потоком как поздравительные письма и телеграммы, так и искренние соболезнования. Только на войне подвиг и смерть, радость и горе идут всегда рядом.
Да, боевой панфиловский дух остался с нами навсегда, как традиция упорства и стойкости в борьбе с врагом, как боевое наследие.
К чести Казахстана и Киргизии панфиловская дивизия своими боевыми делами заслуженно прославилась в боях под Москвой, как особо отличившееся соединение. Командир дивизии генерал Панфилов Иван Васильевич отдал свою жизнь за отечество и вошел в историю как народный герой. С его именем связаны ратные боевые дела, массовый героизм бойцов, командиров и политработников дивизии, с его именем связаны славные боевые традиции, которые приумножились в последующих сражениях достойными боевыми наследниками.
Наш советский народ всегда гордился и гордится своими славными военными традициями. Благодарная воинская традиция — это не мертвая реликвия прошлого, а боевое могучее оружие, выкованное и отточенное для великих битв настоящего и будущего.
«Слава и честь моей дивизии, моего полка — это моя сила, слава и честь», — такова вечно живая воинская традиция.
Нам понятны чувства людей, говорящих: «Я чапаевец», «Я таманец», «Я воевал под командой Котовского». Так говорили наши отцы и старшие братья — участники гражданской войны. «Я из группы Доватора», «Я из танковой бригады Катукова», — с сознанием своего достоинства говорили наши боевые соседи в те тяжелые дни битв под Москвой. «Я панфиловец», — отвечали наши бойцы и офицеры с гордостью. Слово «панфиловец» стало символом отваги и уважения и ко многому обязывало того, кто носил это имя.
Панфиловская традиция жила, панфиловская дивизия воевала.
Слушаем Москву
Помню, у нас был трофейный радиоприемник. Степанов держал его в исправности. Однажды, когда я вошел в комнату, Степанов, сидя на корточках, настраивал его. Здесь же сидели Бозжанов, Краев, Рахимов.
Сначала из эфира доносились бессвязные звуки, затем их сменили резкие, квакающие немецкие голоса. И вдруг — бурные аплодисменты, крики «ура».
Телефонист протянул мне трубку телефона, а Степанов по знаку Рахимова выключил радио.
— Товарищ Момыш-улы, — послышался голос генерала, — у вас есть радиоприемник?
— Есть, товарищ генерал.
— Тогда ловите Москву и слушайте, — приказал генерал.
Когда я велел Степанову настроиться на Москву, волнение охватило всех, и все, кто был в комнате, придвинулись к приемнику... Резкий треск, шум, снова бессвязные звуки, снова немецкие голоса...
— Какое сегодня число? — спросил Краев Бозжаноза.
— Шестое ноября... — ответил тот, просчитав по пальцам.
Резкий свист, и все умолкло.
Степанов что-то налаживал, крутил, настраивал... Наконец найдена верная волна. Знакомый всем голос, спокойный, неторопливый...
«...Враг захватил большую часть Украины, Белоруссию, Молдавию, Литву, Латвию, Эстонию, ряд других областей, забрался в Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом, угрожает нашей славной столице — Москве.
...Потоки вражеской крови пролили бойцы нашей армии и флота, защищая честь и свободу Родины, мужественно отбивая атаки озверелого врага, давая образцы отваги и геройства. Но враг не останавливается перед жертвами, он ни на йоту не дорожит кровью своих солдат, он бросает на фронт все новые и новые отряды на смену выбывшим из строя и напрягает все силы, чтобы захватить Ленинград и Москву до наступления зимы, ибо он знает, что зима не сулит ему ничего хорошего.
...Факты, однако, показали всю легкомысленность и беспочвенность «молниеносного» плана.
...Чем объяснить, что «молниеносная война», удавшаяся в Западной Европе, не удалась и провалилась на Востоке?»
Главнокомандующий говорил об упорных боях на подступах Москвы и Ленинграда, и каждый из нас чувствовал всем сердцем, что он говорит о панфиловцах, о тех, кто своей жизнью отстаивал столицу нашей Родины. Когда радио умолкло, мы взволнованные просидели молча минут пять.
— Идите, товарищи, в роты и расскажите людям то, что слышали.
...Тишина. Впереди — прорезанные окопами, траншеями подмосковные поля. Над землей дымки морозного зимнего утра.
Командиры и политработники пошли в роты. Я шел с Краевым на наш левый фланг.
— Товарищ комбат, разрешите сказать?
— Говори, Семен.
— Знаете... На Красной площади войска стоят... перед Мавзолеем торжественным маршем проходят... Как вы думаете... немец не накроет Красную площадь самолетами? Или там тоже туман, как тут у нас... То, что мы слушали, немец тоже слушал... Он же спокойно не будет сидеть... — тревожился Краев:
— Туман, Краев, не гарантия. Но думаю, что раз проводится парад, значит, московское небо прикрыто надежно...
На опушке леса сидели бойцы. Когда мы подошли, они встали. Я им разрешил сесть и курить, а Краеву велел провести беседу.
Он широкими шагами вышел на середину, взволнованно откашлялся, снял варежки, засунул их за пазуху, вытер рукой губы и начал:
— Товарищи, сегодня, вот сейчас, на Красной площади проводится парад войск московского гарнизона... Главнокомандующий произнес речь от имени Советского правительства и партии. Он нас приветствовал и поздравлял с двадцать четвертой годовщиной Великой Октябрьской революции, которую наша страна празднует в тяжелых условиях войны, когда враг захватил много советской земли и находится совсем недалеко от Ленинграда и Москвы.
Красная Армия геройски дерется с противником, армия и народ едины теперь, как никогда, в борьбе с врагом.
В 1918 году интервенты отобрали у нас гораздо больше земли, чем теперь захватили немцы, но тогда наши отцы, несмотря ни на что, ни на какие трудности, голодные, плохо одетые и невооруженные, разбили всех врагов. Разбили потому, что дрались честно, дрались геройски. А у нас что? У нас есть пища, одежда неплохая, оружие у каждого есть.
Мы знаем, что если воевать по-честному, геройски драться, немца дальше можно не пускать, как это мы сделали здесь, под Волоколамском. Москвы не видать фашистам как своих ушей! А если подмога придет, можно будет и погнать немца, и... он побежит назад. Немец неплохо воюет... — тут Краев запнулся и виновато посмотрел в сторону.
— Правильно вы говорите, Краев, — подтвердил я. — Мы это на себе испытали. Если бы немец плохо воевал, мы бы здесь не сидели.
— Но мы тоже воюем хорошо, — продолжал Краев. — Немцы испытали это на себе. Мы их побили и остановили. Они уж сколько дней сидят в Волоколамске! Мы будем бить их до тех пор, пока не разобьем, товарищи, пока не победим. То, что мы остановили врага, — это цветочки, а ягодки впереди. Когда подойдет подмога и будет у нас много танков, мы погоним немца, и он, как миленький, побежит назад...
На нас, товарищи, весь народ смотрит как на своих защитников. Поэтому мы должны честно и храбро драться...
...Краев проводил меня до своего правого фланга и пошел в другие взводы своей роты, чтобы провести там беседы.
Я шел пешком к себе в штаб под впечатлением его выступления. Если все командиры и политработники так перескажут содержание речи Главнокомандующего, как это сделал Краев, это будет неплохо.
Я вспомнил слова нашего генерала на одном совещании командиров и политработников. Панфилов говорил:
«...Мы сдали Волоколамск, но зато основательно потрепали четыре-пять полков противника. Он не достиг своей цели. Мы сорвали ему план, мы заставили его хотя временно, но отказаться от дальнейшего наступления. Теперь он не от хорошей жизни сидит в Волоколамске. Передайте это бойцам, а то они могут подумать, что мы без толку отступаем. Правда, мы отступаем тоже не от хорошей жизни, мы вынуждены отступать, но не без толку, а с толком. Немец остановился временно, он набирает силы, чтобы сделать еще один рывок и очутиться в Москве. Мы не позволим ему этого. Мы должны и впредь навязывать врагу затяжные бои, выигрывать время для подтягивания и сосредоточения наших резервов...»
Пощечина
К нам приехал начальник артиллерии дивизии подполковник Виталий Иванович Марков. Видно, он еще переживал гибель своего боевого друга и соратника — Ивана Васильевича Панфилова, нашего комдива. С коня медленно слез сгорбленный сорокалетний старик. Я очень удивился: никогда не думалось встретить Маркова таким! Этот моложавый, невысокого роста блондин раньше всегда производил на меня впечатление волевого, мужественного человека, офицера высокой культуры, большого природного такта и воинской этики — он умел с достоинством и подчиняться, и командовать.
От Маркова я ни разу не слышал ни грубого слова, ни окрика. Строгий, ровный и прилежный, он все делал по-человечески разумно и по-военному точно и правильно. Он не рисовался, никогда не злоупотреблял своей властью. Словом, это был достойный помощник Ивана Васильевича, а для нас — заслуженно уважаемый товарищ.
— Знаете, — с грустью сказал он мне, — нам приказано оставить занимаемые позиции и отойти на следующий рубеж. И приказано сжигать все на пути нашего отступления...
— А если не сжигать? — вырвалось у меня.
— Приказано. Мы с вами солдаты.
— Есть, приказано сжигать все! — машинально повторил я.
Ночью запылали дома: старые, построенные еще дедами, почерневшие от времени, и совсем новые, срубленные недавно, еще отдающие запахом смолы. Снег таял от пожаров. Люди, что не успели своевременно эвакуироваться, протестовали, метались по улицам, тащили свои пожитки.
К нам подошла пожилая русская женщина, еще сохранившая былую красоту и стройность; пуховая шаль висела на ее левом плече, голова с серебристо-гладкой прической была обнажена. Губы женщины сжаты грудь вздымалась от частого и тяжелого дыхания. Она не суетилась, нет — она была как комок возмущения И что возмущение пожилой красивой и стройной женщины было страшно.
— Что вы делаете? — строго спросила она Маркова.
— Война, мамаша, отечественная, — ляпнул я.
— А наши дома, по-твоему, не отечественные? Какой дурак назначил тебя командиром? — крикнула она и со всего размаха ударила меня по лицу. Я пошатнулся. Марков отвел меня в сторону...
Деревня горела. Мы уходили, озаренные пламенем пожара. Рядом со мной шел Марков. Мы долго молчали. Меня душила обида: меня бабушка не била, отец не бил, а тут...
Я взглянул на Маркова — он показался совсем маленьким. С опущенной головой, он, видимо, все еще искал ответа на свое горе.
Самое страшное горе то, которое молчит. Марков все время молчал. Позади нас слышался мерный звук приглушенных шагов. Батальон шел. Батальон молчал.
— Нет! — вдруг поднял голову Марков. — Она тебя правильно побила.
— Она должна была бить вас, товарищ подполковник, а не меня. Вы приказали...
— Ну, не пори горячку. Извини меня, если можешь. Больше этого не будет... Сам начальству доложу! — решительно сказал Марков.
Гибель генерала
Мы отступали. Днем воевали, ночью уходили от рубежа к рубежу.
Шли боевые дни, шли боевые ночи. Теперь ясно, что подчас враг преувеличивал наши способности к сопротивлению, а мы переоценивали его пробивную силу. В тактических звеньях иногда царила сплошная путаница в оценках действительной обстановки. По данным некоторых штабов, за день боев нами уничтожалось много сотен солдат и офицеров врага, а он на следующий день все равно наступал. Немецкие штабы тоже докладывали своему командованию о полном разгроме «таких-то полков и дивизий красных», а эти «разгромленные» полки и дивизии продолжали обороняться с такой силой, что немцы приходили в смятение.
Хочу привести пример из моей практики.
Фронт стабилизировался. Обе стороны перешли к обороне. Я командовал тогда уже дивизией. По точным данным разведки, перед одним из полков нашей дивизии стоял потрепанный предыдущими боями полк, насчитывавший в строю не более 1000 — 1200 человек. Конечно, и наш полк тоже далеко не дотягивал до полного штатного состава... Как обычно, командир каждого полка ежедневно подписывал боевое донесение, в котором указывалось количество уничтоженных солдат и офицеров врага. Штаб дивизии обобщал эти данные из полков и, в свою очередь, писал донесения в штаб корпуса. И вот как-то я поинтересовался боевыми донесениями полков за десять дней. Когда подсчитал количество уничтоженных вражеских солдат, у меня от удивления глаза полезли на лоб.
Вызвав командира того самого полка, которому противостоял немецкий полк численностью в 1000 — 1200 человек, я приказал ему немедленно перейти в наступление.
— А как быть с обеспечением? — недоумевал командир полка.
— По вашим данным, вы за десять дней истребили почти весь личный состав вражьего полка. Перед вами нет противника. Что же вы сидите? — и показал им же подписанные боевые донесения. Командир полка смутился.
Один пленный немецкий офицер не без юмора рассказывал, что нечто подобное имело место и у них в полку.
Но я отвлекся, забежал вперед.
Повторяю, Марков был ближайшим помощником и другом генерала Ивана Васильевича Панфилова. Как-то при встрече, выбрав удобный момент, я попросил подполковника рассказать, при каких обстоятельствах погиб генерал.
— Обстановка была тяжелая. Противник жал на нас со всех сторон, — начал свой рассказ Марков, склонившись над развернутой картой. Эта большая склейка топографических карт была его рабочей картой, которую он вел аккуратно. Я назвал бы ее графической повестью о наших боевых делах тех дней.
— Положение тогда складывалось так. На фронте панфиловцев сосредоточили свои основные усилия две пехотные и две танковые дивизии немцев. Своими превосходящими силами и умелым маневром противник упорно теснил и теснил боевые порядки наших полков. Немцы прорвались на трех участках. Они расширяли эти прорывы наращиванием ударов в сторону флангов, обходили наши опорные пункты, рвались в глубь обороны вдоль шоссе Волоколамск — Истра.
Генерал Панфилов, его штаб, командиры полков кое-как успевали отражать атаки противника, перебрасывать резервы на участки прорыва, выводить роты и батальоны из боя, организовывать оборону на новых рубежах. Все это было отражено на карте Маркова.
— Была получена шифрограмма, — продолжал Виталий Иванович, отодвинув карту. — В ней говорилось: «Поистине героически дерутся бойцы командира Панфилова. При явном численном перевесе, в дни самых жестоких своих атак немцы могли продвигаться вперед только на полтора километра в сутки». Таково было содержание сообщения Совинформбюро.
— Это о нас так пишут? — спросил генерал шифровальщика.
— О нас, товарищ генерал.
— Фронт-то большой. Может быть, есть другой командир Панфилов?.. Во всяком случае, до уточнения не спешите объявлять, а газету через день все прочтут, — распорядился Панфилов.
Затем была шифровка — приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР от 18 ноября 1941 года №339. Наша 316-я стрелковая дивизия переименовывалась о 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
А обстановка на фронте оставалась тяжелой и напряженной. Но у генерала было хорошее настроение. За недолгим ужином он шутил, называл нас не иначе как гвардейцами.
Началась ночь, относительно спокойная, если не считать тревожных докладов с линии фронта, телефонных звонков, поздравлений высшего начальства и соседей. С поздравляющими Иван Васильевич говорил в шутливом тоне, называл командиров и комиссаров соседних дивизий по имени и отчеству. «Как говорится, один в поле не воин... Благодаря соседской помощи мы удостоены этого звания. Нам надо оправдать награду, мне сдается, что звание и ордена нам дали авансом. Надеюсь, что в ближайшее время и я буду иметь честь поздравить вас..» И все в таком духе. Но с передним краем он говорил уверенно и решительно. «Все делать так, как мы с вами договорились. Ничего не менять! Нет! Я не могу за ночь принимать несколько решений... Да, я делаю так потому, что этого требуют общие интересы. Всем приходится трудно. На соседа не жалуйся, а сумей с ним рука об руку, в контакте работать. Дайте заявку, кое-чем поможем... Людей накормили? А как с эвакуацией раненых?»
Когда противник начал обстреливать дальнобойными Гусеново, генерал улыбнулся и сказал:
— Ну, теперь и немец решил нас поздравить.
На рассвете я зашел к генералу. Он заканчивал бриться.
— Гвардеец должен быть всегда чисто выбритым, — сказал он шутя. — Только вот морщины никак не разглаживаются. Раз бойцы — гвардейцы, и командир должен быть молодцеватым. Хочется выглядеть как свежий огурчик, но не получается... Вот уж и седина в висках поблескивает, — продолжал он с огорчением, рассматривая себя в зеркале, — Под глазами отеки, как у пьяницы, черт побери... Одним словом, выгляжу не как свежий, а как соленый огурец.
Тут генерал рассмеялся и отставил зеркало в сторону.
— Виталий Иванович, — тепло обратился он ко мне, — я вам должен рассказать один довольно интересный случай. Вы должны знать о нем.
— Я вас слушаю, Иван Васильевич.
— У Елина я забрел как-то на передний край. Идем. В окопе скучилось целое отделение. Подошли, поздоровались. Я предложил бойцам сесть. Сам тоже сел, спрашиваю: «Как настроение, товарищи?» Все почему-то потупились, молчат. Я повторяю... Тут сержант, их командир отделения, поковырял носком сапога землю, потом поднял голову, испытующе посмотрел на меня и говорит:
— Коль вас, товарищ генерал, интересует наше настроение, разрешите доложить по-честному.
— Вот именно, докладывайте по-честному, — говорю я.
— Настроение, товарищ генерал, неважное!
— Почему?
— Надоело сидеть в окопе и ждать, откуда и когда стукнет фашист.
— Надоело, товарищ генерал, — вставляет другой боец. — Надоело оставлять позиции за позициями, отходить!
Тут Елин хотел было вмешаться:
— Вы что генералу...
Я его остановил жестом руки.
— Правильно, честно вы говорите, товарищи. Продолжайте, пожалуйста!
— Продолжать-то нечего, товарищ генерал, — смущенно говорит сержант, — если чего не так сказали, извините нас.
И все. Разговор прервался. Признаться, я чувствовал себя неловко. Я не спросил фамилии ни у сержанта, ни у красноармейца.
— Почему, Иван Васильевич?
— Опасался, как бы они не подумали, что их накажут... Я, Виталий Иванович, неопытный генерал. В генеральском звании воюю впервые, но я опытный рядовой, ефрейтор, младший унтер-офицер, фельдфебель первой империалистической войны, я опытный взводный и ротный командир гражданской войны. Против кого я только ни воевал! Белополяки, Деникин, Врангель, Колчак, басмачи... Но я немного отвлекся, — признался генерал, — хотя иногда не мешает оглянуться и подытожить пройденный путь... Красноармейцы, младшие командиры, командиры взводов и рот — это, я бы сказал, настоящие «производственники», труженики на поле боя. Ведь именно они и творят по-рабочему, по-крестьянски победу в ближнем бою. Именно от их сознательности, патриотического чувства, воинской стойкости и боевой страсти зависит претворение в жизнь общего замысла боя или операции, разработанной высшим командованием. Наше с вами счастье, Виталий Иванович, что наши бойцы — это крепкие, идейно вооруженные советские люди... И вот мы, наверно, скоро перейдем в наступление. Значит, наступательный дух в нас сидит крепко. Наши неоднократные поражения не сломили этот дух! И это очень отрадно! Я хочу встретиться с тем сержантом и с тем красноармейцем в наступлении и спросить их: «Ну, теперь как, богатыри, себя чувствуете?»
Но тут генерал прервал свой рассказ, спохватился:
— Ох, чую, вот-вот должен начаться «гутен морген». Пойдем-ка на наблюдательный пункт.
Когда мы вышли на улицу и направились на НП, начался обстрел. Навстречу нам шла саперная рота. Командир ее, капитан, скомандовал: «Смирно! Равнение направо!». Генерал принял рапорт капитана, поздоровался с бойцами.
— Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Бойцы ответили дружно.
— А теперь, товарищ капитан, ведите роту в расчлененном строю. Одно прямое попадание может наделать много неприятностей, — спокойно приказал Панфилов.
Мы отошли от этого места около полутораста метров. Недалеко бухнулась тяжелая мина. Панфилов, сделал два-три неровных шага, качнулся и упал. Когда я приподнял его, он посмотрел на меня и сказал: «Буду жить!» Больше он не произнес ни одного слова. Маленький осколок пробил его сердце... Смерть генерала Панфилова была проста, как прост был он сам, этот простой русский человек, — громко сказал Марков. — Ну, а что было потом, вы знаете из газет.
Марков закончил свой рассказ.
Мы оба молчали.
Майор Елин
Командир нашего полка майор Григорий Ефимович Елин был беспартийным. Среднего роста, худой, с желтым оттенком лица, он всегда держался замкнуто. Преждевременная седина и грустные светло-карие глаза говорили о том, что этот человек давно страдает каким-то хроническим недугом.
Мой батальон обычно находился в резерве генерала Панфилова, и мне редко приходилось сталкиваться с Елиным в боевой обстановке. Поэтому в прежних моих записках он упоминается лишь мельком. С первого дня формирования нашего полка между нами сложились хорошие отношения.
Елин обращался со мной на «ты» и редко называл по фамилии. «Комбат один...» — произносил он, причем смотрел куда-то в сторону, как бы обращался к третьему лицу. Это означало, что Елин спорит сам с собой и еще не пришел к окончательному выводу о моей правоте или неправоте. «Комбат первый», — обычно говорил он, если одобрял мои действия. «Старший лейтенант первого батальона», — этим ограничивался его гнев или неодобрение.
Как известно, после выхода из боев в районе Горюнов я снова поступил в распоряжение Елина.
Наш батальон несколько дней вел бои в составе своего полка.
Однажды меня вызвали в штаб полка. Я взял с собой Бозжанова.
Елина я застал за ужином. Перед ним стояла большая алюминиевая миска, полная свежеотваренного мяса, тут же краюха хлеба, на газете горсть соли.
— А, комбат первый! — сказал Елин, когда я представился. — Руки я тебе не подам, — в правой руке он держал кость. — Садись ужинать, мясо свежее, телка сегодня забили.
Когда я сел, он, не отрываясь от еды, позвал адъютанта:
— Сулима, для комбата первого в нашей фляге что-нибудь осталось? Человек с мороза.
Адъютант подал мне четверть стакана водки.
После ужина. Елин не спеша, над развернутой картой, ввел меня в общую обстановку и поставил батальону боевую задачу: сдать к утру район обороны в деревне Пятница кавалерийскому полку, а самому, по выражению Елина, «перекантоваться» в промежуток между нашим полком и соседом слева, оседлать дорогу и надежно прикрыть направление Лопастино — Струсово — Соколово.
Елин спокойно давал мне указания и советы, как организовать смену, как занять новый район обороны. Потом спросил:
— А что будем делать с Василием Поповым?
— После ночи под Тимковом я с ним еще не встречался.
— Попов просился к тебе, но я ему сказал: «Момыш-улы тебе не простит». — Помедлив, Елин добавил: — Ведь решалась судьба человека, тут не нужна горячность. В бою легче всего наломать дров, испортить человеку жизнь. Но Попов и перед тобой и перед подчиненными уронил честь командира. Поэтому он не имел морального права вернуться в батальон, тем более — командовать ротой. Посоветовавшись с комиссаром, мы перевели Попова в другой батальон заместителем командира роты.
— Что ж вы меня тогда спрашиваете, что делать с Поповым?
— Как-то он говорил своим товарищам: «Момыш-улы строг, но справедлив»... Я говорю тебе все это к тому, что если встретишь Попова, то не стоит ворошить прошлое. Он тяжело все пережил, особенно свои ошибки. Теперь воюет, и воюет неплохо. Отнесись к нему по-товарищески.
— Есть, товарищ майор. Я вас понял.
— Ну вот и хорошо. Езжай.
Чтобы не натолкнуться на просочившиеся группы немцев, мы по совету Елина обратно отправились окольным путем. Ехали проселком в густом и темному лесу, ехали долго.
Моя Снегурочка — белоснежная, с точеными копытцами кобылица — шла широким шагом. Бозжанов сзади что-то тихо напевал себе под нос.
Человек с ружьем
— Жолтай! — окликнул я Бозжанова, который ехал сзади меня, рядом с Николаем. — Рассказал бы что-нибудь...
Бозжанов поравнялся.
— Не знаю, с чего начать, товарищ комбат.
— Ты же что-то мурлыкал?
— Просто, товарищ комбат, вспомнил абаевские строки, которые любила слушать моя мать.
— Ну, давай, давай!..
— Сейчас... Соберусь с памятью. — И Бозжанов с чувством и хорошей дикцией прочел стихотворение Абая «Я видел падение пышного, с кудрявой кроной кедра...».
Когда Бозжанов умолк, я сказал:
— А все-таки поэт не сказал, в чем смысл жизни.
— Да, товарищ комбат, он этого не сказал.
— А в чем, по-твоему, смысл жизни, Жолтай?
— Это очень серьезный вопрос, товарищ комбат. Надо очень серьезно подумать... Вот мы воюем — не во имя смерти, а во имя жизни. Как в самой жизни, так и в бою, товарищ комбат, мне сдается, самое главное — это сознание чувства ответственности перед людьми, перед всем народом. Когда совесть чиста — интересно живется и умирать не стыдно.
— Да, пожалуй, ты прав, политрук.
— Эти строки поэта почему-то очень нравились моей маме.
— Да, вкус у старухи своеобразный...
— У моей мамы?
— Да, у твоей мамы.
— Она знает множество лирических песен, сказок-небылиц, легенд. Она своим внукам весь вечер рассказывает сказки, и малыши слушают ее, затаив дыхание.
— Сколько вас, всех братьев и сестер?
— Сестер нет. Братьев шестеро. Пятеро ушли на войну. О каждом из них можно сказать, что он стал «человеком с ружьем».
— Правильно. «Человек с ружьем!» Солдат. Красноармеец. Воин — тоже не плохо. Но «Гражданин с ружьем»?.. «Человек с ружьем» — эти слова, мне думается, вполне выражают чувство гражданской ответственности.
— А у вас есть братья, товарищ комбат?
— Есть две сестры. Обе старше меня. Братьев нет.
— А дети у вас есть?
— Когда я уезжал на фронт, жена была в положении. Ребенок должен был родиться в октябре, а теперь конец ноября. А писем нет...
— Будем надеяться, товарищ комбат, что у вас дома все в полном порядке. Скоро получите письмо... Да, теперь я буду караулить нашего почтаря. Если придет письмо на ваше имя, я хочу лично вручить его вам. А вы, по нашему обычаю, за добрую весть подарите мне коня.
— Обязательно подарю, Жолтай.
— Нет. Этим вы не отделаетесь. Устроите банкет.
— Для банкета нужно много всякой всячины.
— Организационную сторону поручите мне.
— Уж не думаешь ли ты ограбить магазин или склад?!
— Нет. Дело обойдется без грабежа, — смеясь, ответил Бозжанов. — Слава богу, в нашем полку резвятся десятки жеребят. Ну вот, с вашего разрешения заколем одного из них, сварим бесбармак...
— Дай дожить до добрых вестей, тогда будет видно...
— Обязательно! Какой может быть разговор, товарищ комбат!
Потом Бозжанов рассказал о своих братьях, тетках и племянниках. Как я понял, он был младшим в большой, дружной и простой семье, и любимцем матери.
— Мне запомнились, — продолжал Бозжанов, — проводы нас в армию, на фронт. Мать собрала всю семью. После ужина она оставила за столом только нас, братьев, и сказала: «Я родила вас. Я воспитала вас. Но вот вы все выросли, самому младшему из вас исполнилось 25 лет, а я стала настоящей старушкой. Началась, дети мои, война. Никого из вас я не держу. Идите сражаться в рядах своих сверстников. Идите и знайте, что я день и ночь буду с тревогой ждать весточки от вас. Я ни с кем из вас не буду прощаться. Я не пойду никого провожать. Идите, и да сохранит вас судьба. Идите! Туго затяните ремни. Поднимите голову. Смело смотрите вперед! Идите!» Так провожала нас мать.
— Где ваши братья служат?
— Нас разбросало по всему фронту. Кроме меня, все рядовыми воюют.
— И ты человек ближнего боя, Жолтай?
— Да, мы все на переднем крае.
— Ты не женат?..
— Учеба, служба на действительной, финская война... Потом начал было приглядываться к девушкам — нагрянула Отечественная. Короче, некогда было, товарищ комбат.
— Ничего, Жолтай! Победим врага, вернемся домой, тогда ходить в женихах будет гораздо интереснее.
— Стой! — прервал нас грозный окрик.
Я назвал пароль. Из густой тени кустарников вышел боец с винтовкой.
— Это вы, товарищ комбат?
В темноте я не рассмотрел его лица. Мы проехали. Оглянулись назад, я увидел на фоне ночного звездного неба четкий силуэт и про себя повторил: «Человек с ружьем!»
Назначение
Противник прорвался в район Истры. Это было неожиданно. Рубеж реки. Истринское водохранилище, сам город Истра и пересеченная местность далее на юг давали возможность, используя выгодные условия для обороны, задержать противника на долгое время. Но надеждам этим не суждено было оправдаться. И не потому, что наши войска не проявили стойкости. Прорыв был результатом какой-то нелепой случайности — из-за отсутствия бдительности.
Всякая неожиданность, естественно, вызывает если не гнев, то, во всяком случае, огорчение и сопряжена с нервозностью, пока не будет выправлено положение. Однако попытки восстановить положение не увенчались успехом, и нервозность продолжалась. Брешь, пробитая противником, расширялась и углублялась. Как на фронте, так и на флангах наши войска вели сдерживающие бои. Мы вынуждены были отойти, чтобы не попасть в окружение.
Организация отхода или выхода из боя — самое трудное дело, это самый сложный маневр, и не всегда он завершается удачно, так как идущий по пятам противник на каждом шагу навязывает свою волю, заставляет перестраиваться. График, составленный штабом, в этих условиях лихорадочно пляшет, как ртутный столб в капризную погоду. Штаб сердится, жмет сверху. Войскам из-за этого тяжело вдвойне...
В суматохе отступательных боев, когда еще не остыл гнев нового комдива, полковник Капров и майор Елин были вдруг отстранены от командования. Ну, в бою, коль отстранен — пока помалкивай, разбираться некогда... Капрова сменил начальник разведывательного отдела дивизии майор Стариков, а сменить Елина было предложено мне.
Я отказался.
Отец всегда говорил мне: никогда не берись за дело, которого не знаешь, для которого не подготовлен, не дорос. Самое главное, учил он, знать свои способности и все время сознавать свою ответственность перед людьми.
Однако все мои попытки отказаться от высокой для меня чести принять командование нашим гвардейским стрелковым полком, отказаться дипломатическим путем, ссылаясь на свою неопытность, были встречены командованием дивизии неодобрительно. Более того, мне пришлось услыхать грубые окрики и угрозы. Я был уверен — мой покойный учитель Иван Васильевич хвалил меня как командира батальона. Не больше! Зная его серьезный подход к кадрам командного состава, я до сих пор не допускаю мысли, чтоб он когда-нибудь обмолвился о моей кандидатуре на должность командира полка, а тем более в такой сложной обстановке и вместо такого командира, как Елин.
Я продолжал упорствовать. Комдив сочно выругался, встал со своего места. И вдруг — сильный взрыв! С треском обвалился угол комнаты. Дым, гарь, пыль окутали нас.
— Вы живы? — спросил меня комдив.
— Жив!
— Выйдем отсюда.
На улице переполох. Авиация противника бомбит деревню, где разместился штаб нашей дивизии.
Комдив повез меня к командующему армией. Я и его адъютант сидели сзади. Комдив всю дорогу ругал меня и угрожал, что командующий снесет мне башку с плеч. Я молчал.
Ехали мы больше часа.
Оставив меня в машине, комдив с адъютантом ушли. В мучительном ожидании прошло около часа. В голове у меня сумбур. «Я же не отказываюсь воевать, но полк мне пока не по плечу!» Эта мысль в какой-то степени успокаивала меня и бодрила.
— Идемте! — грубо приказал мне высокий капитан, открыв дверцы машины. Я пошел. Грубость его встревожила меня. — Войдите сюда! — приказал все тем же тоном капитан, указывая мне на дверь.
Я вошел и... изумился. Это был просторный класс школы с расставленными для занятий партами. Ни одна парта не была сдвинута с места. На фоне большой черной доски, исчерченной мелом (там были всевозможные военные знаки), за учительским столом, сосредоточенно склонившись над топографической картой, сидел красивый, с продолговатым лицом генерал-лейтенант.
— Разрешите, товарищ командующий? — произнеся, хотя был уже в классе. Генерал медленно поднял голову, встал со своего места и пошел ко мне навстречу между партами. Он был высокий, стройный, молодой. Я приготовился было звякнуть шпорами и выпалить: «Товарищ командующий! Старший лейтенант Баурджан Момыш-улы прибыл по вашему приказанию!» Я уже вытянулся по всем правилам ефрейторского искусства, но генерал улыбнулся и протянул мне руки:
— Здравствуйте, товарищ Момыш-улы.
Видимо, я выглядел как провинившийся мальчишка. Генерал улыбался и не отпускал моей руки.
— Покойный Иван Васильевич говорил мне о вас... А теперь мы с вами познакомились лично. Не ручаюсь, что вы единственный старший лейтенант в Красной Армии, который будет командовать полком, но могу сказать, что вы единственный старший лейтенант в нашей армии, назначенный командиром полка. Поздравляю вас с новым назначением!
Признаться, я оторопел. Командующий отпустил мою руку, свои заложил за спину, прошелся два-три шага, как бы что-то продумывая, повернулся и внимательно посмотрел на меня своими темно-серыми глазами.
— Знаю, что придется вам нелегко. Но беритесь смело. Если нужно будет — обращайтесь. Поможем.
Я поблагодарил командующего за доверие.
— Ну, значит, договорились? — снова мягко улыбнувшись, спросил командующий. Он протянул мне руки на прощанье и сказал:
— Ни пуха, ни пера. Еще раз поздравляю. Вместе будем воевать.
Передавая свои обязанности, майор Елин тоже поздравил меня с новым назначением. На прощанье он сказал:
— Комбат первый, имей в виду, что полк — не батальон. Здесь к решению каждого вопроса надо подходить трижды серьезнее, чем в батальоне. И не всегда тебе будет сопутствовать удача — так что имей выдержку и не руби с плеча. А главное — считайся с мнениями людей, ведь именно они решают боевые задачи. Но не подчиняйся подчиненным. Продумай, организуй, обеспечь, приказывай и требуй выполнения приказа.
Я пошел проводить своего бывшего командира. Елин был природным пехотинцем, он избегал верховой езды, любил тарантас и кошевку. Садясь в кошевку, он чуть побледнел. Я понимал его. Он был первым командиром нашего полка, он формировал и обучал наш полк, и полк под его командованием провел более тридцати боев, удостоился гвардейского звания. Елину тяжело было расставаться с полком, тем более в такой трудной боевой обстановке. Он уловил мой взгляд, понял мои мысли и грустно улыбнулся. Однако голос его был тверд.
— Ну, комбат первый, а теперь комполка, я рад за тебя, дорогой. Только ты, пожалуйста, не зарывайся. Смотри, Баурджан! — он погрозил мне пальцем и, обращаясь к ездовому, сказал: — Трогай, Семен!
Пара гнедых галопом сорвалась с места. Несколько минут я смотрел вслед своему командиру.
Когда я вошел в штаб, комиссар Логвиненко говорил в трубку полевого телефона.
— Неужели, товарищ начальник?.. — увидев меня, он запнулся и, долго слушая, отвечал кратко: «Да», «Нет», «Раз вы так решили», «Мне же работать с ним»... — Потом сказал: — «Слушаюсь, товарищ начальник», — и передал трубку дежурному телефонисту.
Так я стал командиром полка.
* * *
— Кого мы назначим командиром первого батальона на ваше место? — спросил Логвиненко, прервав доклад начальника штаба майора Демидовича, сухого, как мумия, долговязого, с вдумчивыми карими глазами, офицера.
— Я уже назначил лейтенанта Исламкулова.
— Как же так?
— Он хороший командир. Думаю, справится с обязанностями командира батальона.
— Но он же беспартийный! И потом — у него с социальным происхождением не совсем ладно. Его отец был двадцать пять лет волостным управителем.
— Я тоже беспартийный. И не сам Исламкулов, а его отец был волостным управителем.
— Я возражаю против кандидатуры Исламкулова.
— Вы возражали и против моей.
— Я — комиссар! — вспыхнул Логвиненко. — Майор Демидович, выйдите!
Майор вышел.
— А я командир, — возразил я. — И простите, Петр Васильевич, но я командовал этим батальоном до сих пор, а теперь разрешите мне же решить вопрос, кому доверить мой батальон, коль я назначен командиром полка.
— Вы ответите!
— Вместе будем отвечать, товарищ комиссар... И вот что. Вы старше меня и по возрасту, и по званию, но давайте честно доложим командованию, что мы друг другу но понравились с первого взгляда.
— Вы меня поставили перед фактом...
— Больше этого не будет, Петр Васильевич. Простите. Дальше без вашего совета — ни шагу. Это я обещаю.
Логвиненко, так и не подавив обиды, согласился. Вошел Демидович.
— Товарищ командир, — обратился он ко мне, — наши батальоны разбросаны, между ними неприкрытое пространство около двух-трех километров.
Демидович показал на карте положение противника и наших подразделений.
— Штаб дивизии требует доложить ваше решение.
— Доложите, что пока обстановка без перемен.
— К нам прибыло четыреста пятьдесят человек пополнения. Они здесь. Как прикажете их распределить?
— Сколько людей в батальонах?
— В первом батальоне...
В это время совсем близко раздался треск пулеметов и автоматов. Демидович прекратил доклад и, спешно собрав бумаги, убрался. Мы с комиссаром вышли на улицу. Кругом стрельба. Что это? Нападение на штаб полка...
Я видел, как все четыреста пятьдесят человек пополнения кинулись врассыпную. Но старая гвардия — комендантский взвод, — укрывшись у заборов и стен домов, отстреливается. Я и комиссар догоняем беглецов, пытаемся остановить их. Безрезультатно. Мы забегаем вперед.
— Стой! — кричит комиссар.
— Стойте! — кричу я, подымая руки. Логвиненко выхватывает пистолет.
В конце концов нам удается остановить беглецов и организовать оборону у опушки леса, который большой продолговатой полудугой окаймлял прилегающее к деревне поле. Пополнение пришло к нам плохо вооруженным, а самое главное — не разбито на роты, взводы и отделения. Это была толпа в военной форме.
Вдруг издали я увидел долговязую фигуру Краева. Он держал ручной пулемет наперевес и, стреляя на ходу, поднял свою роту в контратаку во фланг противника, Эта контратака была неожиданна и для меня, и для немцев. Я стоял, а противник бежал обратно в Трусово. Смелое и внезапное действие роты Краева предотвратило катастрофу с новым, необстрелянным и пока еще неорганизованным пополнением.
Что касается штаба, то в бегстве он опередил всех. При мне оказался лишь единственный офицер штаба — высокий, стройный брюнет с открытым честным лицом, полковой капельмейстер Николай Попов. Он, оказывается, в этот день был дежурным по штабу и счел своим долгом даже при паническом бегстве штаба быть при командире полка. Эту трогательную верность своему долгу со стороны Николая Попова я всегда вспоминаю с благодарностью.
Попова я послал к Краеву с приказанием закрепиться, связаться с Исламкуловым и прикрывать наш отход...
Новое пополнение отвели в Соколово, дали ему опомниться, потом под прикрытием домов и сараев разбили на взводы и каждому взводу указали позицию вокруг Соколова.
Самым неприятным было то, что люди не знали меня, а я не знал людей. Но они верили, что я действительно их командир полка.
— Окапывайтесь, товарищи. Скоро вечер. Слышите, — впереди наши товарищи ведут бой. Они прикрыли наш отход. Они скоро сюда придут, и вы вольетесь в их ряды. А со старыми гвардейцами веселее будет, — говорил я, подходя к каждой группе.
— Подождем, товарищ командир, — отозвался пожилой красноармеец с простуженным голосом. — Спешить-то некуда, война ведь только началась. Воевать да воевать еще... А давеча немножко неладно получилось.
— Не беспокойтесь, товарищ командир, этого больше не будет... — заверяли бойцы.
— Наша группа не подведет, товарищ командир.
На южной окраине деревни стоял громадный стог, несколько необычный по цвету — багряно-белый. Подошли ближе: это были тюки ваты. «Тепло будет, и от шальных пуль и осколков преграда», — подумал я и приказал разобрать тюки, соорудить из них укрытие.
Когда я направился на другой фланг, начался сильный минометно-артиллерийский обстрел. Бойцы, лежавшие на голой мерзлой земле, кинулись бежать в избы и сараи. Я прислонился к углу одного из домов, чувствуя себя беспомощным. На глазах рушился боевой порядок, только что построенный с таким трудом. Если в этот предсумеречный час с какой-либо стороны, треща автоматами, наскочит группа неприятеля, люди кинутся в лес, разбредутся там, а ночью попробуй-ка найти и собрать их! И при мне никого нет. Попов еще не вернулся, а штаб как в воду канул. Да, это не то, что командовать батальоном! Прошло несколько часов, как меня назначили командиром полка, а я до сих пор не знаю, где полк, и полк не знает, где я. Так я стоял и думал, как командир маршевой роты под сильной бомбежкой.
Из противоположного дома выбежала маленькая женщина в очень широкой для нее шинели. Она стала перевязывать раненого бойца.
— Доктор! — кричу я.
— Я не доктор.
— Как вас зовут?
— Вера!
— Верочка, организуйте в этом доме пункт медпомощи. Я сейчас туда приду.
Потом на улице я встретил Попова, затем лейтенанта Сулиму — адъютанта, который вернулся, проводив Елина до штаба дивизии.
— Раненых, кто может идти, — в этот дом, а тяжелых нести туда... Бегите сейчас же. Организуйте охранение, — скороговоркой распорядился я и побежал на другой фланг. Тут мне встретился коновод Синченко, которого я потерял еще в Трусове.
— Скачи к Исламкулову. Пусть оставляет прикрытие и немедленно отойдет сюда!..
Так кончился первый день у вновь назначенного командира полка.
* * *
Усталый, вконец выбившийся из сил, я сидел в углу просторной комнаты. Невысокая, с толстыми рыжими косами до пояса, светлоглазая девушка — бывшая студентка авиатехнического института, а ныне санитарка Вера Гордова быстро перевязала раненых. Одних она укладывала на полу, сунув под голову противогаз, других сажала у стены.
— У вас же царапина! — возмутилась Вера, осмотрев дюжего бойца. — Чего вы стоите? Помогите-ка мае уложить раненого.
Боец, смутившись, стал помогать. Пришли Сулима и Попов.
— Как с тюками ваты?
— Начали разбирать, товарищ командир.
— Прикажите принести несколько тюков сюда!
— Зачем? Эта вата не стерильная! — воспротивилась Вера.
— Под головы будем подкладывать.
— А, тогда хорошо. Я не сообразила, — и она по-детски наивно улыбнулась.
Пришел Толстунов. У него из правой руки сочилась кровь.
— Что с тобой, Федор Дмитриевич?
— Со мной-то ничего, а вот с пулеметчиком Блохой... Когда мы прикрывали отход, ему пулей пробило горло и осколком ранило в голову.
— Жив?
— Жив. Хрипит.
— Верочка, перевяжите руку старшему политруку. Скоро будем отправлять раненых.
Появился Исламкулов.
— Кого оставили для прикрытия?
— Роту Краева. Два ПТО.
— Зачем ПТО?
— Два танка... Один подбили, а другой укрылся в лесу.
— Пополнение вливается в ваш батальон. Народ в основном неплохой. Распределите по ротам. Краева оставьте как боевое охранение, а здесь организуйте круговую оборону. Вату обязательно использовать в окопах.
В 23.00 нашелся штаб. В 24.00 вернулся комиссар из штаба дивизии. Телефонная связь была восстановлена. Распоряжения получены. Подполковник Курганов снова взялся поддерживать нас двумя артиллерийскими дивизионами. Люди разошлись по своим боевым местам.
Бой за Соколово
Соколово — большая деревня на высоком берегу маленькой речушки. Здесь проходит большак. Высота, за которой расположена деревня, как бы вклинивается полуостровком в лесной массив.
Курганов — лихой командир батареи в гражданскую войну, а ныне командир артиллерийского полка, не мог сидеть в штабе. Его можно было встретить на наблюдательных пунктах дивизионов, батарей, огневых позициях или скачущего на своем вороном коне из одного дивизиона в другой. Самому убедиться. Живое руководство.
Курганов пожаловал к нам на НП, когда начало светать. Кратко знакомя нас с общей обстановкой, он сказал:
— Немец не обойдет Соколово. Кругом — леса. Он пойдет прямо и ударит мощным кулаком.
— Где он занимает исходные позиции, это нам почти известно, — сказал Логвиненко и показал карту. — Вот данные нашей разведки.
— Что вы решили?
— Будем ждать, что он решит.
— Не ждать, а бить надо, коль точно известны его позиции.
— Чем бить-то? У нас немногим больше ста снарядов. Бережем к началу атаки, — сказал я.
— Контратаковать с одними винтовками рискованно, — вставил и комиссар. — Позицию оголим.
— Мм-да, — пробурчал Курганов, — вы, пожалуй, правы, товарищи. Но видеть, как противник перед самым носом скапливается, и сидеть сложа руки — как-то не-складно получается.
— Что мы, кулаком его бить будем?
— Вы, комиссар, не горячитесь, — прервал Курганов. — Давайте доложим, может быть, начальство поможет.
К телефону подошел начальник штаба нашей дивизии, старый кадровый полковник Серебряков. Я кратко доложил ему обстановку.
— Значит, по всем признакам, противник занимает исходное положение для наступления? — с тревогой спросил полковник.
— Думаю, что ночь он использовал на перегруппировку, а теперь ее заканчивает.
— Когда ожидается атака?
— С часу на час.
— Что решили предпринять?
— Все на своих местах. Ждем, когда он начнет... С вами Георгий Федорович хочет поговорить.
— Алло, Иван Иванович, — начал Курганов, когда я передал ему трубку. — Из резерва Маркова срочно подбросить бы пару сотен огурцов... Да. Да у него есть, я же знаю... Недалеко от вас. Мы тогда кое-что предприняли бы здесь... Разумеется, так и думаем... Если быстро подбросят, то упредим его... Есть. Каждая минута дорога, Иван Иванович! Только на машинах...
— Ну, командир и комиссар, — повеселев, обратился к нам Курганов, — просьбу уважили. Давайте теперь решать. Сто пятьдесят на позициях, двести подбросят. Сотни полторы, по-моему, можно будет бросить на голову фашистов.
— Вы предлагаете провести контрподготовку?
— Да.
— Сто пятьдесят снарядов маловато, товарищ подполковник.
— Знаю, знаю, дорогой, что маловато, но больше не могу. На поддержку боя остается столько же, а на самооборону всего полсотни, от силы — сотня.
Мы согласились с предложением подполковника. Вместе наметили участки огня, и Курганов приказал всем своим артиллерийским наблюдателям выдвинуться вперед, а батареям быть в готовности. Демидович пошел проверить связь и организовать дополнительную сеть связи с артиллеристами.
— Ну, тут вы сами уточняйте, — сказал Логвиненко, вставая из-за стола. — Я пойду, как там народ...
— Как бы противник нас не упредил. Ведь уже рассветает, — Курганов с тревогой посмотрел на часы.
Лихорадочная работа на узле связи. Разговор то со штабом дивизии, то с огневыми позициями, то с наблюдательными пунктами. Напряженное ожидание... Потом одиночные артиллерийские выстрелы — наши проводят пристрелку. Потом беглый огонь — пристрелка заканчивается. И наконец — мощные огневые налеты дивизионными залпами.
Краев на проводе.
— Здорово получается, товарищ комбат, — докладывает он радостно. — Извините, товарищ комполка, это я по старой привычке. — В трубке слышно, как он тихо смеется.
Я вижу в бинокль: за нашим передним краем в утренней мгле вспыхивает зарево, потом доносится глухой грохот гигантского барабана. Еще залп и затем — тишина.
— Эх, еще поддал бы, но... — Курганов встает, отряхивает снег с шинели.
— Если часа на два удалось оттянуть их атаку, значит, ваша работа не пропала даром, товарищ подполковник.
— Да ведь враг тоже не спит, — возразил Курганов, — наши огневые наверняка засек. Надо немедленно сменить позиции.
Курганов уехал. А мы ждем.
Десять... Десять утра. Противник молчит. Неужели он сменил направление удара?
— Наш налет был не так уж ощутительный. Чего бы ему так долго рокироваться. Видно, что-то уточняет, — говорит Логвиненко.
— Я вижу, вы заждались, Петр Васильевич?
— Боюсь, как бы он не обошел сторонкой. А мы здесь сидим и ждем.
— Все равно завернет сюда — ему нужен большак. Видимо, он хотел нас вытурить из Соколова малыми силами, передовым отрядом...
— А теперь решил нами заняться всерьез?
В 12.00 началась артиллерийская подготовка. Сначала разрывы относительно жидковаты, потом все гуще. Противник бил почему-то не по переднему краю, а по окраине деревни. Мы с комиссаром долго не могли сообразить, почему он облюбовал не передний край, а тыл. Но потом догадались. Наши тыловики за ночь растащили остатки тюков ваты, запасы сена и соломы, и каждая кухня, каждая повозка старалась построить себе «крепость» без всякой системы. Как менее дисциплинированные, они, по делу и без дела, на виду у противника болтались от «крепости» к «крепости», а передний край в напряженном ожидании был мертв. По этой нелепой причине противник принял истинный передний край за ложный, а расположение тыловиков — за истинный и долбил по нему. Жутко было смотреть на позиции наших тыловиков: снаряды сыпались градом, громовые раскаты разрывов не стихали, в воздухе висела завеса черно-багрового огня, дыма и пыли. Вверх летели колеса кухонь и повозок.
— Здорово бьет, подлец. Шабаш нашим тылам.
— Всех не убережешь, Петр Васильевич. Зато передний край пока целехонький.
Вдруг противник перенес свой огонь еще глубже. Над тылами начал рассеиваться дым.
— Чего это он? — удивился Логвиненко. — С ума спятил, что ли?
— По кургановским позициям теперь решил.
— Да они же недавно сменили...
— А вы передайте противнику, что дивизионы ушли на новые позиции.
Комиссар рассмеялся и хлопнул меня по плечу:
— Хорошо, что умеешь шутить в бою!
* * *
Передний край лежал безмолвно, подковой окружая окраины Соколова. Противник оттянул прицел и снова начал долбить наши тылы. Потом — внезапная тишина, и на опушке леса показались цепи. Немцы шли ускоренным шагом, уперев автоматы в животы, и строчили на ходу. Наши молчали. Мы с комиссаром тревожно переглянулись. Шли полтора, а то и два батальона пехоты. Шли уверенно, охватывая Соколово с трех сторон. Мы с опаской ждали появления танков. Но танков пока не было. Немцы, видимо, решили атаковать Соколово пехотой, а когда обороняющиеся побегут — пустить на преследование танки, чтобы не дать возможности привести себя в порядок, и закрепиться на следующем рубеже.
Своими предположениями я поделился с комиссаром. Он согласился.
Когда до наших позиций осталось метров 200 — 250, немецкая цепь бегом бросилась в атаку. Передний край затрещал пулеметными очередями, частыми винтовочными выстрелами. Открыли огонь кургановские дивизионы. Немцы заметались, и атака захлебнулась.
— Це добре! — воскликнул комиссар.
* * *
Я доложил полковнику Серебрякову обстановку. В свою очередь он информировал, что соседний с нами полк тоже отбил атаку. По данным авиации, в 20 — 25 километрах от нас замечено движение танковой колонны. Серебряков приказал усилить противотанковую оборону.
Едва я закончил разговор с Серебряковым, над нами звено за звеном пролетел целый полк краснозвездных штурмовиков. Над ними шныряли в воздухе истребители прикрытия.
— Полетели бомбить танковую колонну, — сказал комиссар, провожая глазами последнюю тройку штурмовиков. — Надо накормить людей и эвакуировать раненых, — и Логвиненко направился в район тыла.
Я вызвал командиров, выслушал их доклады, уточнил задачу на предстоящий бой. На переднем крае нужно было оставить лишь по одной усиленной роте от каждого батальона, остальным занять запасные позиции на другой окраине деревни.
— Как же так? — удивленно вырвалось у Исламкулова.
— Следующую артиллерийскую подготовку и бомбежку он проведет не по тылам нашим, как было в первый раз, а по переднему краю и по Соколову.
— Слушаюсь, товарищ командир, — ответил Исламкулов. — Теперь все ясно.
Командиры ушли, чтобы перестроить боевые порядки.
Я доложил Серебрякову свое решение. Он одобрил.
— Кургановцев у вас решено забрать. У нас на левом фланге туча сгущается. Перебросим их туда.
Вернулся комиссар, я сообщил ему эту нерадостную весть.
— Начальству виднее, — мрачно сказал Логвиненко. — Если забирают всю поддерживающую артиллерию перед самой грозой, значит, там приходится еще труднее.
— Да, Петр Васильевич, не от хорошей жизни оголяют большак.
— Значит — принимай решение на бой без поддерживающей артиллерии.
— Давайте, Петр Васильевич, ничего не будем менять.
— Нет, товарищ командир, — твердо возразил комиссар, — кое-что придется менять.
— Что вы предлагаете?
— Надо всю ПТО и полковую артиллерию поставить на прямую наводку. Иметь две роты в резерве.
— А вы правы, Петр Васильевич.
— Тогда намечай позиции орудиям и резерву.
Договорились, и Логвиненко пошел на один фланг, а я на другой.
* * *
На переднем крае шла редкая ружейно-пулеметная перестрелка, иногда в воздухе выли мины, шелестели снаряды и, падая на землю, с треском рвались. Противник держал нас под наблюдением и огнем с опушки леса. Если бы не ограниченность в силах и средствах, можно бы короткой контратакой отбросить его на другую опушку леса, погнать дальше. Но — увы!
В одном сарае сидела группа бойцов, они хлебали щи из котелков.
— Как, товарищи, обед?
— Жидковат, товарищ командир, — ответил пожилой боец. В нем я узнал новичка из пополнения, который говорил: «Спешить-то некуда, война ведь не так давно началась...» — Но зато горячий, в животе приятно.
— Как зваться будем, товарищ красноармеец?
— Гапоненко моя фамилия, товарищ командир.
— Величать как прикажете?
— Величать?.. Спиридон Остапович.
— Приходилось раньше воевать, Спиридон Остапович?
— Не приходилось, — ответил он виновато. — Как-то не приходилось, товарищ командир.
— Значит раньше не воевал, а сразу в гвардию попал, — пошутил другой боец.
— Мне авансом присвоили гвардейское звание, — ответил Гапоненко. — Раз верят, значит, знают, что оправдаю доверие.
— Правильно, Спиридон Остапович.
В другой группе перетаскивали тюки ваты, сооружая пулеметное гнездо. Бойцами руководил незнакомый мне сержант.
— Давно в нашем полку, товарищ сержант?
— Вчерась прибыл, товарищ командир.
— Беспартийный?
— Как, уж восьмой год состою! — вытянувшись, гордо ответил сержант.
На отшибе от деревни стояла клуня. Там тоже копошились люди. Когда я подошел, меня встретил рапортом старшина полковой батареи Буркут Алишеров, высокий, чуть сутуловатый, с тяжелым подбородком киргиз.
— А где командир орудия?
— Выбыл из строя. Назначили меня.
— Ждем, что теперь он с танками пойдет, поэтому вас и поставили на прямую.
— Будем биться, товарищ командир.
* * *
В 14.00 началась бомбежка. Эскадрилья за эскадрильей сбрасывали на Соколово крупные и мелкие бомбы. У, нас не было ни зенитных орудий, ни зенитных пулеметов. Мы были безоружны против воздушного противника.
Чуть отбомбилась авиация, еще не рассеялся дым от разрывов, загрохотала артиллерия. Налет был короткий, но мощный. На опушке леса показались танки. Они шли тройками, углом вперед, стреляя с коротких остановок.
Открыли огонь наши пушки.
— Как там у вас дела? — спросил по телефону Серебряков.
Я доложил.
— Под собственным прикрытием отходите к совхозу «Дедешино». Так приказано.
— Значит, где-то, язва, опять прорвался, — закусив губу, прошипел Логвиненко. — Ну, решай, командир!
Исламкулов загнул фланг. Были использованы запасы керосина, чтоб поджечь вату, разбросанную по всему переднему краю и деревне. Дым поднялся тучей. Вся артиллерия была выведена на левый фланг батальона Исламкулова, остальным приказано оставить свои позиции и сосредоточиться в лесу, в полутора километрах от Соколова. Офицеры штаба буквально измотались.
На левом фланге шел бой, а центр и правый фланг, отходили.
Неожиданно немецкие танки, направлявшиеся прямо на Соколове повернули назад и остановились, их люки и щиты прикрытия водителей были откинуты.
Оказывается, когда они вплотную подошли к нашему переднему краю, едкий дым ваты начал душить экипажи. Переползти через огонь танки не рискнули.
Исламкулов отошел самым последним, прикрыв свой отход той же дымовой завесой из тлеющей ваты.
В лесу
На противоположной стороне поляны стояла группа старших офицеров. За исключением майора Старикова, командира соседнего полка, я никого не знал. Логвиненко поздоровался со всеми за руку и представил меня.
Мы ждали, пока подтянутся отставшие, чтобы идти организованно. Зная инертность начальника штаба Демидовича, я пошел в расположение своих подразделений. Комиссар остался с группой офицеров.
В лесу наша колонна остановилась на привал. На кошевке, укутанный одеялами, сидел лейтенант Торопыгин, командир пулеметного взвода. Когда я подошел, у него затряслись губы.
— Что, ранило?
— В обе ноги, товарищ лейтенант, — дрожащим голосом ответил он и заплакал.
— Не плакать! — крикнул я. — Тоже мне, командир! В любую минуту любого из нас может не только ранить но и убить.
— Есть, не плакать, товарищ командир. Но не за ноги обидно, а за товарища. Вот лейтенант Б. Вместе училище кончали, дружили, а он бросил на поле боя.
Лейтенант Б., высокий, худой, с редкими оспинами на лице, стоял в стороне. Я посмотрел на него в упор, он вытянулся и не проронил ни слова.
— Лейтенант Б., сдать оружие! — приказал я.
Он быстро вынул из кобуры свой наган и протянул мне. Я взял и передал Сулиме.
И Торопыгин, и Б. были моими подчиненными со дня формирования нашего батальона. Они оба были досрочными выпускниками пехотного училища, неразлучными друзьями и хорошими, боевыми ребятами. В батальоне иногда их шутя называли «близнецами». Они выдержали вместе с батальоном более тридцати боев. И вот теперь один из них тяжело ранен, а другого я только что обезоружил. Тяжело было смотреть на них. Я пошел дальше.
Вот мой исполнительный и всегда разумно спокойный товарищ и помощник Хабибулла Рахимов. Я его не узнаю. Он весь обмяк, руки трясутся, глаза мутные, из ушей сочится кровь.
— Что с тобой, Хаби?
Он никак не реагирует, будто не видит и не слышит меня.
— Его, товарищ командир, здорово контузило, — отвечает Бозжанов.
— Посадите его рядом с Торопыгиным в кошевку. Мой коновод Николай Синченко виновато и робко докладывает:
— Товарищ командир, во время обстрела с самолетов убита Лысанка. Я снял с нее седло...
Приходит комиссар. Я ему рассказываю о недостойном поведении Б. Он опешил. Потом решительно говорит:
— Надо пресекать это безобразие!
— Благодарю вас, Петр Васильевич. Я тоже так думал.
— Тогда принимай решение!
— Решение принято.
Совет старших командиров предложил мне принять командование всей группой — своим полком, частью пол-ка Старикова, эскадроном и саперным батальоном.
К полуночи мы прибыли в район совхоза «Дедешино».
Крюковские эпизоды
Деревня и станция Крюково запомнились нам по затяжным и тяжелым боям. Но они памятны нам, панфиловцам, еще и тем, что с этого рубежа мы приняли участие в контрнаступлении советских войск зимой 1941 года под Москвой. Крюково было последним рубежом наших оборонительных боев на ближних подступах к столице.
Я хочу рассказать лишь несколько запомнившихся мне боевых эпизодов, связанных с Крюковом.
На подступах к Крюкову нашему полку долго удержаться не удалось. Противник занял Александровку, Каменку и все теснил и теснил нас. Лишь к вечеру мы организовали более или менее устойчивую оборону в самом Крюкове, на станции и на окраинах. Правее нас занимал оборону полк Шехтмана, левее — полк Капрова под командованием майора Старикова. За все время боевых действий от рубежа Рузы наши полки и батальоны впервые имели друг с другом «локтевые связи». По всему чувствовалось, что не только подразделения и части, но и сама дивизия расположена компактно, действует дружно. Но чувствовалось и то, что после затяжных боев наши ряды значительно поредели. Несмотря на малочисленность состава подразделений, мы сохраняли их номера, в надежде, что получим пополнение.
В приказе по дивизии тогда писалось: «Такому-то полку (далее перечислялись десятки номеров частей, которые придавались) упорно оборонять (указывались пункты на переднем крае и в тылу участка обороны) с задачей не допустить прорыва противника в направлении (указывалось два-три населенных пункта от переднего края в глубину нашей обороны). В архиве сохранились эти приказы. Теперь при чтении их может создаться впечатление, что полки тогда усиливались многими специальными частями и подразделениями. Но мне вспоминается случай, когда на наш НП явился высокий, стройный, с лучистыми синими глазами старший лейтенант и представился:
— Командир Н-ского отдельного танкового батальона. Прибыл в ваше распоряжение.
— Сколько в батальоне танков?
— Одна машина «Т-37», — ответил старший лейтенант.
«Т-37» — маленькая машина, предназначенная для заражения или дегазации местности химическими средствами. Выражаясь образно, она чуть-чуть больше муюнкумских черепах.
— Вооружение какое?
— Пулемет Дегтярева, — ответил старший лейтенант и, смутившись, добавил: — И то неисправный.
— Что вы хотите?
— Получить боевую задачу.
— Вы обедали сегодня?
— Нет.
— Идите в нашу штабную кухню и пообедайте. Других боевых задач я вам поставить не могу, товарищ старший лейтенант.
При этих словах Логвиненко расхохотался.
— Дальше как быть, товарищ командир?
— Дальше со своим «Т-37» поезжайте в ближайшую ремонтную мастерскую.
Помню, придавались тогда кавалерийские эскадроны... с десятью саблями, саперные батальоны с двадцатью саперами и тридцатью минами, отдельные артиллерийские дивизионы... с двумя орудиями.
Как-то я, не сдержавшись, крикнул:
— Мне не номера и не флажки частей нужны! Где же люди, где боевая техника? Их нет или их берегут?
— Наверное, берегут, — ответил комиссар. — Наверное, собирают, резервируют для большого дела. Ты не горячись. Дают — бери и латай себе свой тришкин кафтан этими лоскутками боевых частей и подразделений. Это — люди, закаленные в боях.
...Командный пункт нашего полка разместился в отдельном доме за железнодорожным полотном, в гуще соснового бора. Вечером я вернулся с НП и сразу же почувствовал странный запах. В углу стояли какие-то клетки, в них кто-то царапался, пищал.
— Что это такое?
— Этот дом, товарищ командир, — ответил Сулима, — принадлежит какому-то научно-исследовательскому институту. У них здесь кролики, морские свинки и еще какие-то мыши разводились.
— А где хозяйка?
— Хозяйка — старший научный сотрудник этого института — с двумя малышами после бомбежки сидит в подвале.
— Позовите ее сюда.
Вошла молодая женщина. Ее темно-серые большие глаза были полны грусти и тревоги.
— Не выбрасывайте, товарищ командир, морских свинок. Они нам очень нужны. Это очень ценные животные.
— Я и не собираюсь выбрасывать их. Но почему их раньше не вывезли отсюда?
— Я все время ждала машины. Вот третьи сутки с детьми мерзну в подвале.
Она не выдержала и разрыдалась.
— Вам больше не следует рисковать жизнью детей из-за морских свинок. Да и своей жизнью... Видите, здесь теперь проходит линия фронта.
— Помогите, товарищ командир, нам эвакуироваться. Подбросьте нас хотя бы до Химок. Там наша лаборатория была.
Я вызвал помощника начальника штаба по тылу Курганского и приказал эвакуировать женщину с детьми и морскими свинками.
— Товарищ командир, лучше бы вы мне поручили эвакуировать целое село, чем эту странную женщину, — улыбаясь, докладывал после полуночи Курганский. — Одним словом, укутали мы клетки сеном, соломой, детей — одеялами. Так она об этих свинках больше заботилась, чем о детях. «Укройте, говорит, свинок потеплее, чтоб они не замерзли, да сделайте отдушину, чтобы не задохнулись...» Все сама проверяет, разговаривает с этими зверьками, как с малышами. Ей-ей, странная особа.
— Профессиональная привязанность, Иван Данилович, — вставил комиссар. — Значит, она честный работник.
...Окраина Крюкова несколько раз за день переходила из рук в руки. И противник, и мы не решались вести огонь из артиллерии и минометов, так как наши боевые порядки стояли вплотную, дрались как бы схватившись за горло. Бою, завязавшемуся с самого рассвета, не видно было конца. Мы с комиссаром сначала сидели на НП, вмешивались короткими распоряжениями, посылали подмогу из резерва. Но это продолжалось недолго. Вскоре мы вынуждены были метаться с фланга на фланг, управляя боем лично. Нашей задачей было — во что бы то ни стало не пустить фашистов в Крюково, а они все лезли! И так — двенадцать часов непрерывного боя!
Запомнилось мне из этого боевого дня несколько случаев.
В одну из очередных наших контратак осколком мины ранило в руку бежавшего впереди меня бойца. Кисть его левой руки повисла на кусочке кожи. Боец приостановился, со злостью оторвал болтавшуюся кисть, швырнул в сторону и, держа пистолет в правой руке, побежал вперед с пронзительным криком «Уррр-aaa»! В бойце я узнал старшину батареи Алишерова.
Когда немец отбросил нас и завязался уличный бой, я перешел сначала одну улицу, затем другую, а перед третьей остановился, — она сильно простреливалась. Я стоял и ждал. Вдруг кто-то схватил меня сзади за шиворот и сильной рукой поволок назад, толкнул за угол дома, а сам бросился к ручному пулемету и открыл огонь. Боец стрелял короткими очередями. Кончив диск, он обернулся. Мы встретились глазами. Он виновато улыбнулся и сказал:
— Извините, товарищ командир, что я так с вами поступил. Но на той улице немцы.
В своем спасителе я узнал Спиридона Гапоненко.
...Лежал я на НП второй роты. Со мной был политрук Ахтан Хасанов. С переднего края прибежал молодой боец и, не ложась, под обстрелом, доложил:
— Товарищ политрук, ваше приказание выполнил! — Потом он запнулся и произнес: — Товарищ политрук... меня убили.
— Ты что, Ширван-Заде? — спросил молодого таджика политрук, но боец покачнулся и упал. Он был мертв. Его возглас «меня убили» я запомнил, как упрек молодости войне.
* * *
На следующее утро немцам удалось все-таки ворваться в Крюково. Завязались ожесточенные уличные бои. Дрались за каждый дом. С обеих сторон применялось в основном оружие ближнего боя: винтовки, автоматы, пулеметы, гранаты, а из артиллерии — противотанковые и полковые пушки на прямой наводке. Нашли свое применение минометы и дивизионная артиллерия — обстреливали с закрытых позиций тылы, подходящие резервы и штабы противника. Нашему тылу и штабам доставалось от дальнобойной артиллерии и авиации противника.
А декабрьский мороз все свирепел, ветер выл в разорванных проводах. Зима сковывала, сжимала в своих тисках. Восемнадцать часов непрерывного боя в лютую стужу!
Немцам все же удалось вытеснить нас из Крюкова. А вечером из Москвы прибыло 350 человек пополнения. Все среднего возраста, крепкие, здоровые. Никто из них не имел никакого воинского звания. Но в конце беседы, которую провел с ними комиссар, один боец сказал:
— Мы, товарищ командир и товарищ комиссар, коренные москвичи, мы — народ рабочий и все добровольцы. Мы считаем для себя за честь сражаться в гвардейской Панфиловской дивизии рядовыми. Ставьте нас на боевые позиции! Нас послала сюда московская партийная организация, и мы будем драться по-большевистски. Не посрамим гвардейского знамени!
Рабочий говорил глухим, чуть хрипловатым басом.
Пополнение распределили по батальонам.
Темной морозной ночью я пошел на правый фланг. Тихо, но то и дело гавкнет гаубица, пролетит снаряд, с шелестом прорезая воздух, или где-нибудь застрекочут пулеметы, и трассирующие пули, как светлячки, пунктиром разрежут тьму.
Обойдя передний край, поговорив с командирами, я вошел в будку на пригорке у железнодорожного полотна, в центре нашей обороны. Здесь мы условились встретиться с комиссаром. Логвиненко еще не было. Перед коптилкой из гильзы сидели двое связистов. Я присел на табурет у окна. Вдруг, будто крючком зацепив меня выше поясницы, что-то рывком дернуло в сторону. Я упал. Резь, острая боль... «Тра-та-та...» — доносилась до моего слуха пулеметная очередь. Я облокотился, чтобы встать, и увидел комиссара — он только что вошел.
— Что с тобой, Баурджан?
— Кажется, ранило...
Чувствую боль в спине, ломоту в пояснице. Онемели левая рука и ноги. Легкое головокружение...
Полковой врач Илья Васильевич Гречишкин, прорезав ткань, вынул пулю, сделал перевязку. Он уговаривал меня поехать в госпиталь. Я попросил к телефону комиссара, который остался на переднем крае.
— Петр Васильевич, ничего особенного. Пулю вынули...
— Здесь тоже пока порядок. Не беспокойся. Ты полежи и отдохни. В случае чего, я буду тебе сообщать. Не вздумай куда-нибудь идти, — предостерег комиссар.
Гречишкин развел руками:
— Но, товарищ командир, надо же обработать рану!
— Вы уже обработали. И давайте не будем спорить, Илья Васильевич.
...Когда я окончил очередной разговор с одним из батальонов, вошел наш фельдшер Киреев.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился он ко мне, — тяжело раненный боец Проценко настоятельно требует свидания с вами. Говорит: «Пока не увижусь с батькой, ни за что не помру».
Я пошел на полковой пункт медицинской помощи. По дороге вспомнил последнюю встречу с красноармейцем Григорием Проценко.
Недели две-три назад, пробираясь из тыла противника к своим, мы вынуждены были переходить шоссе с боями. После дружного залпа батальон рывком бросился в атаку. На средине дороги лежал убитый немецкий майор. Карманные клапаны его френча были открыты, а на руке остался только след от часов...
Мы добрались до своих. До штаба дивизии, который считал нас всех погибшими, предстояло прошагать еще километров пятнадцать, а люди устали и были голодны. После привала, выстроив батальон на лесной поляне, я произнес речь, как на митинге, поздравил батальон с отличным выполнением задания и благополучным выходом из окружения. Бойцы реагировали радостно.
Из строя вышел красивый голубоглазый украинец. Подняв руку, он обратился ко мне:
— Разрешите мне, товарищ старший лейтенант, несколько слов?
— Давай, Грицко, говори. Выходи сюда.
Проценко вышел и взволнованно, запинаясь почти на каждом слове, начал свою речь. Потом он приободрился, заговорил спокойно и просто, вспоминая пережитые нами боевые дни. В конце он обратился ко мне со словами:
— Вот что, вы — наш батько, а я эти часы снял с немецкого майора, которого убил, переходя шоссе. Вот его документы. Все это я вам вручаю перед всеми...
Приняв трофеи, я спросил командира первой роты:
— Ефим Ефимович, доложите, как воевал товарищ Проценко!
— Хорошо, товарищ комбат, хорошо, — ответил Филимонов. — Смелый парень.
— Тогда, Грицко, — обратился я к нему, — вот как. Документы я беру, а часы возьми себе. Пусть это тебе будет памятью о боях и об этом митинге нашего батальона.
Смутившись, он взял часы и, минутку подумав, под аплодисменты батальона протянул их мне.
— Нет, батько. Берите. Зачем мне часы, пусть это будет вам мой подарок.
— То, что ты хорошо воевал, — это уже больше, чем подарок. Молодец, спасибо, а часы носи. Вот так, — и я надел их на его руку. — А когда отгоним немцев, если часы тебе будут не нужны, подаришь своей девушке.
Батальон засмеялся, а Проценко смутился.
— У мэнэ дивчины немае... на шо воны мэни?..
И вот я теперь шел в полковой пункт медицинской помощи к Проценко.
— Батько, — произнес он с трудом. — Вы пришли? У меня к вам дело есть.
— Говори, Грицко, — ответил я и сел у его изголовья. — Говори, милый, говори...
Он снял с левой руки часы и сказал:
— Мою Нинульку все равно не найти, она у немцев. Берите, батько, часы и подарите девушке, только умной девушке. Скажите ей, что это подарок украинца Грицко Проценко. Я от вас...
Грицко скончался, не договорив своего завещания.
...Моим адъютантом был лейтенант Петр Сулима. Этот высокого роста, сухощавый, с задумчивыми темно-синими глазами и чуть вытянутым лицом юноша принадлежал к тому типу украинских красавцев, что часто встречаются на Полтавщине. Мне ничего не довелось узнать про родителей Сулимы, но, как говорят казахи, «по сыну узнают отца»; видимо, он был из хорошей, трудолюбивой, дружной и скромной семьи.
Сулима принес мне новую склейку крупномасштабных топографических карт. Я развернул и увидел на юго-восточных листах карты сплошную темную массу. Мне показалось — это был неровный, но четкий оттиск старинной громадной гербовой печати.... Прикрыв ее рукавом, я при свете керосиновой лампы стал наносить на карту обстановку.
Намечая запасные районы наших тылов, я снова наткнулся на край черной полуокружности. Развернул всю карту. «Москва», — прочел я надпись под пятном, вздрогнул и глянул на Сулиму. Он, бледный, упершись своими длинными сухими пальцами, молча смотрел на карту.
— Вы когда-нибудь бывали в Москве? — спросил я лейтенанта.
— Нет, не приходилось, если не считать того, что мы проезжали в эшелоне.
— Я тоже проскочил через «Москву-товарную». Перед нами лежала склейка топографической карты, оперативный документ, лежала карта Москвы. Я всмотрелся — на темном фоне бесчисленных квадратиков и крестов белой нитью проступали ломаные и кольцеобразные просветы московских улиц. Зелеными кудряшками были обозначены парки и скверы, узкой синей ленточкой извивались русла Москвы-реки, Яузы, Неглинки, как бы зубцами крепости выступали неправильные прямоугольники окраин столицы. В центре был обозначен Кремль.
Я взял циркуль-измеритель: расстояние от Крюкова до Москвы по прямой всего лишь тридцать километров.
По привычке прежних отступательных боев я поискал промежуточный рубеж от Крюкова до Москвы, где можно было бы зацепиться, и... этого рубежа не нашел. Я представил врага на улицах Москвы: разрушенные дома, торчащие дымоходы, сваленные трамваи и троллейбусы, разорванные провода, качающиеся на последнем гвозде вывески магазинов, блестки битого стекла на тротуарах, трупы на улицах, во дворах, в развалинах, трупы женщин, стариков, детей, красноармейцев и... строй гитлеровцев в парадной форме во главе с очкастым сухопарым генералом в белых перчатках и с легкой усмешкой победителя.
— Неужели шатия восторжествует, а?
— Что с вами, товарищ командир?
— Да ничего, Сулима... — я очнулся от дурной и нелепой, ужасно страшной мысли.
— Сулима, для чего нужна карта командиру?
— Как для чего? — недоуменно спросил он. Потом, немного подумав, начал, как на экзамене: — Карта нужна командиру для того, чтобы он всегда мог ориентироваться на местности, изучить и оценить условия местности для организации боя...
Я в это время отгибал половину склейки карты по самый обрез, где кончался тыловой район нашего полка, — это было в трех-четырех километрах позади Крюкова.
— Дайте мне перочинный нож, — прервал я Сулиму, Он вынул из своей полевой сумки раскрытый нож. Я аккуратно разрезал карту и протянул половину ее Сулиме. — Нате, сожгите. Нам больше не понадобится ориентироваться и изучать местность восточнее Крюкова.
Лейтенант скомкал плотную бумагу и бросил ее в топку маленькой печурки. Потом, выпрямившись и приложив руку к ушанке, произнес:
— Все ясно, товарищ командир!
...Мне доложили, что Филимонов Ефим Ефимович, командир первой роты, во время очередной контратаки, которую он лично возглавлял, тяжело ранен и эвакуирован. Мне доложили, что во время очередной бомбежки погиб славный боевой офицер, наш полковой капельмейстер Николай Попов. По своим боевым качествам он не уступал любому строевому командиру. Со временем я намеревался назначить его или командиром роты, или начальником штаба батальона. С соколовских дней он проходил «моральную стажировку» штабного офицера на глазах товарищей. Мне доложили, что командир шестой роты Василий Попов тяжело ранен. Это был тот Попов, о котором Елин мне говорил: «Он тяжело пережил и осознал свои ошибки, теперь воюет, и воюет неплохо. Отнесись к нему по-товарищески...» Вступив на должность командира полка, я назначил Попова командиром роты, но всегда обходил его роту, избегая с ним встреч...
Я не приказывал, я просил Сулиму организовать похороны Николая Попова с воинскими почестями. Просил передать Ефиму Ефимовичу, «князю Талгарскому» (так я однажды в шутку назвал Филимонова), мое большое товарищеское и командирское спасибо — он будет представлен к ордену Красного Знамени. Я просил передать Василию Попову, что простил ему тимковскую «ночь» и прошу по выздоровлении вернуться в полк.
Пришел Бозжанов. Кисть его левой руки сильно опухла. На мой вопрос, что у него с рукой, он ответил:
— Да ничего, товарищ командир, с «жучки» осколок застрял.
— Немедленно поезжайте в медсанбат!
— Разрешите не ехать, товарищ командир. В такой обстановке не хочется расставаться с товарищами.
Принципиально для всех нас — от рядового до комдива — Крюково было последним рубежом. Именно здесь давались последние и решительные бои. Или мы отбросим немцев, или умрем под Крюково! Это понимал каждый воин, каждый командир, каждый политработник. «Ни шагу назад!»
Надо признать, что после моего ранения основная тяжесть практического командования полком легла на плечи нашего комиссара Петра Васильевича Логвиненко. Этот горячий, смелый человек умел в нужный момент не жалеть и себя. Он буквально метался по переднему краю и в горниле боев уцелел чудом.
Приходил он на командный пункт поздней ночью, весь измазанный грязью, прокопченный гарью, торопливо раздевался и, умываясь холодной водой, справлялся об общей обстановке. Вытираясь жестким солдатским полотенцем, просил:
— Дайте чего-нибудь поесть, хлопцы.
Затем мы обменивались взаимной информацией: я ему рассказывал о положении соседей, об указаниях, полученных сверху, с кем и как договорился о взаимодействии, как будет обеспечен бой в материальном отношении; а комиссар рассказывал мне, что делалось и делается у нас на переднем крае. Затем мы вместе оценивали сложившуюся обстановку, уясняли полученную задачу и принимали решение о дальнейших действиях полка. Комиссар в эти дни был взволнованным, но сосредоточенно сдержанным.
Офицеры штаба были распределены по направлениям для надежной живой связи с командирами батальонов и приданных частей, так как связь часто рвалась. Артиллерийские наблюдатели сидели в стрелковых ячейках взводов на самом переднем крае, чтобы обеспечить надежную поддержку действий стрелковых подразделений.
Наши тылы получили приказ: как бы ни приближалась к ним линия переднего края — не отходить!
* * *
Шли напряженные бои. Наши ряды все редели. Гитлеровцы смяли правый фланг и заняли станцию...
Смерть в бою несложна... Война не считается с человеческими жизнями. В бою теряешь товарищей одного за другим. Мы с почестями хоронили павших героев. Вечный покой в подмосковной земле нашел один из основоположников нашей гвардейской боевой славы, отважный командир роты Краев, смелый воин и чуткий человек, мой адъютант Сулима, храбрый политрук Бозжанов, который за сутки до своей гибели отказался идти в госпиталь, говоря: «В такой обстановке не хочется расставаться с товарищами». Семен Краев, Джалмухаммед Бозжанов, Петр Сулима были близкими мне боевыми людьми. Тяжело описывать их гибель. Я до сих пор не верю, что их нет. Они для меня живы. Это не слова, это — мое неутешное молчаливое горе. Да, они для меня до сих пор живы!.. И я не хочу описывать их гибель.
Наши ряды становились все теснее и теснее. Плечом к плечу с соседями стойко сражался полк. Полк мужал.
Ширина фронта нашего полка была теперь сокращена почти в три раза. Соседи все теснее и теснее прижимались к нашим флангам, принимая от нас участок за участком. Когда я задавал вопрос Ивану Ивановичу Серебрякову, почему все сужается и сужается фронт, он отвечал:
— Ведь вы же сами все время жалуетесь, что у вас сил мало. Вот и сокращаем вам фронт обороны.
В то время я наивно принимал его ответ за чистую монету.
— Знаешь что, — как-то сказал Петр Васильевич, — ей-ей, начальство от нас что-то скрывает.
— Что же им от нас скрывать-то, Петр Васильевич?
— Не напрасно сужается фронт. Из пылинки на прежнем фронте теперь у нас с тобой на узком участке кулак получается. — Комиссар рассмеялся и взмахнул своим кулаком. — Аж воевать приятно становится.
— Чему вы радуетесь, Петр Васильевич?
— Чую, что скоро мы будем наступать.
— Наступать?..
— Да, скоро перейдем в наступление. Запомни мои слова и жди приказа — мы будем наступать!
* * *
Морозное утро 6 декабря 1941 года. Огненные вспышки озаряют горизонт, и слышится глубокий, грозный и протяжный вздох земли — гул артиллерийской канонады. Над Крюковом все трещит, грохочет, дымится. Сверкают огни за огнями, как частые удары грозовых молний.
Мы воюем уже шесть месяцев, но такую мощную и грозную канонаду слышим впервые. Артиллерия рвет, ломает, разрушает. На наших глазах все летит в воздух, С востока под аккомпанемент канонады медленно встает заря, затем на горизонте показывается громадный багровый диск солнца. А артиллерия, как бы играя торжественно-грозный встречный марш, все долбит и долбит!
Вот раскатами удаляющегося грома огонь переносится в глубь вражеской обороны. Взвивается несколько красных ракет — цепь пехоты подымается и с криком «Ура!» бросается в атаку. Боевой клич атакующих прокатился на фронт от Калинина до Тулы.
Наша Рабоче-Крестьянская Красная Армия перешла в контрнаступление.
...Разруха, дым, трупы в мышино-серых шинелях и пленные — унылые вражеские солдаты и офицеры... Вперед, только вперед! Без остановки! Вперед!
Разыгрался ветер. Он дует с востока, он гонит вихри снежной поземки, а красноармейцы гонят фашистов, Неотступно преследуют их, как говорят казахи, наступая им на каблуки.
Мне запомнился силуэт человека в метели. В редком, жидком тумане снежной пыли согбенно, вопросительным знаком бежит темная фигура; она не оглядывается, не смотрит под ноги, она часто спотыкается, падает, встает и снова бежит. Это бежит человек с нечистой совестью. Каждый куст цепляет его за ноги, каждый бугорок дает ему подножку. А за ним ускоренным шагом идет другой человек — он идет прямой, как знак торжества, ветер его подталкивает, но он, как бы тормозя порыв ветра, спешит с достоинством, он осанист и горд, — это наступающий, преследующий врага наш красноармеец!..
...За полдень нас обогнали кавалерийские эскадроны на взмыленных конях. Скрежеща гусеницами, как громадные резвые жуки, промчались танки. Это вводились в бой кавалерийская группа Доватора и танковая бригада Катукова. Они быстро прошли через наши боевые порядки. Они вырвались вперед, а мы отстали от них. Мы завидовали им. Все-таки «пеший конному не товарищ», — думал я, глядя им вслед.
Доваторцы и катуковцы умчались вперед. Смяв на своем пути противника, они стремились с ходу захватить Истру, где враг, используя выгодные естественные рубежи, мог организовать оборону и затормозить наше наступление. Нужно сказать, что враг цеплялся за каждую деревню и поселок, за каждый естественный выгодный рубеж и сопротивлялся, встречая нас огнем. Он огрызался, как затравленный зверь, а потом, под прикрытием небольших сил, уходил. Отходил он местами хитро и умело...
* * *
У самого шоссе, на косогоре, стоит большая каменная церковь, она стоит одиноко: вся деревня снесена с лица земли. На местах домов — пепелища, из сугробов кое-где торчат обломки дымоходов и огарки срубов.
Чтоб сориентироваться, я с группой командиров завернул в церковь. Там полно народу: женщины, старики, дети. Они сидели, прижавшись друг к другу, на своем домашнем скарбе, который удалось спасти от пожара. В углу на треножнике, над костром, кипел чайник. У огня ютились укутанные платками дети. Они протягивали свои застывшие ручонки к пламени слабого костра. На людскую скученность, на свалку узлов и мешков, на завернутых в одеяла детей со стен церкви грустно смотрели образа святых, когда-то старательно написанные умелой рукой художника-богомаза.
На нас, вошедших, никто не обратил внимания, каждый был занят самим собой. Видимо, не мы первые зашли сюда. Когда я свернул карту и собрался уходить, из алтаря раздался женский голос:
— Командир, постой.
Женщина, пробираясь между узлов и мешков, между уныло сидящих людей, протягивала в нашу сторону руку.
— Постой, сынок!
Мы остановились.
К нам подошла пожилая женщина в старом полушубке, в громадных старых, с двойными войлочными подметками, валенках.
— Это ты? — спросила она, взяв меня за рукав. — Это ты? Слава те, господи!
Она пристально глядела мне в лицо влажно блестевшими темно-карими миндалевидными глазами.
— Значит, жив?
— Пока жив, мамаша, — ответил я, ничего не понимая.
— Так ты меня не узнал?
— Нет, мамаша!
— А помнишь, как я тебя побила?
И тут я вспомнил печальную ночь, когда получил пощечину от пожилой красивой женщины. Я узнал ее.
— Ну как не помнить, мамаша!
— Ты меня прости, сынок, если можешь.
— Вы меня тоже простите, мамаша.
— Дома — это ничего, сынок, — говорила она. — Те, что ты тогда оставил, все равно потом немец спалил. Хорошо, что ты жив.
— Спасибо, мамаша... Как вас зовут?
— Просто тетя Вика...
— Нет, я так не могу, мамаша.
— Тогда зови Викторией Александровной. Мое имя Виктория.
Я протянул было ей на прощание руку, но она зала:
— Я тебя провожу, сынок. Она проводила меня до коня. — Ну, прощайте, тетя Вика!
— До свидания, сынок! Да сохранит тебя судьба! — благословила она.
* * *
Суровыми были те дни. Суровыми были люди тех дней. За честь и свободу нашей Родины, за великие завоевания Октября шла битва с сильным и коварным врагом. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Мы все сознавали: за нами — Москва.
История одной ночи
Февраль сорок второго года. Суровая русская зима. Глубокий снег. Мороз и остервенелый буран... Ветер, как одержимый, вздымает до серых туч белые смерчи, а небо, опрокинувшись на нас, метет и метет без устали. И так третий день.
Мы в походе. Мы должны дойти до указанной цели. Таков приказ.
Передо мной, еле различимая в снежной мгле, тянется колонна.
Снег забирается в рукава, за пазуху, забивает глаза, люди идут как-то боком, по косой, рассекая пространство плечом. Ветер хрустит обледенелыми полами шинелей, рвет их из стороны в сторону.
На мгновение ослабев, буран с новой силой набрасывается на идущих. И кажется, что всю колонну, как одного человека, относит в сторону. Люди берутся за руки, чтобы устоять против этого безумца. Идут дальше. Надо спешить.
Бедный конь подо мной то храпит, то мотает головой, пробивая стену бурана. Когда снежная пыль ослепляет его, он сбивается с дороги, проваливается и, барахтаясь, пытается выплыть из снежной волны.
Я слышу, нет, я скорей ощущаю стук копыт; кажется, будто я сам, собственной ногой, стал на твердую, промерзшую до звона землю. Ослабив поводья, подаюсь вперед. В середине колонны нагоняю верхового.
— Какой батальон? — стараюсь перекричать все ветры.
— Третий.... — уносит метель ответ.
Наконец вдали, сквозь сумеречную мглу, вырисовывается контур леса. К нему и тянемся мы с самого утра. Только там мы сможем найти приют на ночь. Спешим к нему, как к родному дому.
В лесу сумерки наступают раньше. Тень нагоняет тень, темной пеленой заволакивает лесную чащу.
Надо торопиться, как бы сумерки не опередили нас.
Вступаем в лес. Люди облегченно вздыхают, отряхивают снег. Слух, притуплённый воем метели, возвращается к нам. Кто-то окликает товарища. Лес оживает...
Столетние сосны и раскидистые ели защищают нас, и теперь только издалека, как замирающее эхо, доносится шум ветра.
В глубь, в чащу — там теплее...
Скорей бы разгрести снег, выстелить дно ямы ветками и, вповалку, прижавшись друг к другу, согреться и уснуть.
Не проходит и часу, как наступает мертвая-тишина. Невидимые сотни людей спят. Лишь окрик часового нарушает изредка эту тишину.
* * *
В лес заря приходит не торопясь, медленно, лениво. Лесная темень долго не уступает всепобеждающему свету, и лишь когда солнце подымется выше высоких сосен, — темень тает, и разорванная лесная тьма редеет.
За два часа до рассвета, в полной темноте: «Встава-а-ай! Подыма-а-а-йся!» — оторвало нас от теплых снежных постелей. «Шаго-о-ом марш!» — и под ногами снова хрустит снег.
Окутанные нежнейшей кисеей инея безмолвные лесные великаны, склонив белые головы, как бы желают нам счастливого пути.
Метель опять набрасывается на нас, как только мы вступаем в занесенные снегом поля. Снежные вихри заметают следы. Голова колонны исчезает в серой мгле, и я вижу только шагающих со мной рядом...
На четвертый день похода небо, освободившись от туч, наконец вздохнуло. Снег, залитый солнцем, слепит до боли. Мороз обжигает лицо. Кое у кого на щеках и на подбородке потемнела кожа.
Одетые в маскхалаты, мы скользим по снежной целине. Конь наш — лыжи, плетка — палка. Расчленившись поротно, гуськом, лыжники вычерчивают ленты на нетронутой глади снега. Белое — на белом...
Наши обозы движутся окольными дорогами, мы же перерезаем поля напрямик.
Фронт близок. Вступаем в полосу досягаемости дальнобойных орудий. Пронзая морозный воздух, шепелявя, летит нам навстречу снаряд. Вот он ударил позади, высоко подняв снежный гейзер. Доносится тяжелое уханье взрыва.
Вот еще один и еще...
Мы оглядываемся, невольно ускоряем шаг.
В вышине, посеребренные солнцем, показались «мессершмидты».
Кажется, не заметили... Но нет, заворачивают. Посыпались мелкие бомбы. Валимся с ходу в снег. Вздымаются десятки белых фонтанов, осыпая нас снежной пылью.
Так нас встречают. Таково на языке войны «Добро пожаловать».
* * *
Прошло несколько боевых дней... Неожиданно меня вызвал генерал.
У генерала Ивана Михайловича Чистякова я служил еще на Дальнем Востоке, и вот после смерти генерала Ивана Васильевича Панфилова он снова стал моим командиром.
Я вспомнил нашу встречу, когда мы вели бой за деревню Ново-Свинухово.
...Бой еще не затих. Горели дома, горели машины. Вражеские трупы валялись во дворах и на улицах, среди них белели маскхалаты наших погибших воинов. Разгоряченные боем, бойцы перескакивали с автоматами наперевес через изгороди, перебегали из дома в дом, прыгали из окопа в окоп.
В сутолоке боя слышались резкие команды и весомая русская ругань.
Группа бойцов бросилась преследовать отступающих в беспорядке немцев. Немцы бежали не оглядываясь. Одни из них падали и больше не вставали, другие подымали руки. Внезапно из соседней деревни начался минометный обстрел.
Бойцы рассыпались по окопам, укрылись в домах. Я стоял, прижавшись к стене дома, когда мой коновод Синченко с удивлением воскликнул:
— Товарищ командир, — генерал!..
Я обернулся.
По середине обстреливаемой улицы шел, спокойно оглядываясь по сторонам, плотный, среднего роста, в ушанке, в простой офицерской шинели и в больших рабочих сапогах человек лет сорока пяти. Это и был генерал Чистяков, наш комдив.
Я пошел ему навстречу и начал было докладывать.
— Товарищ генерал, вверенный мне полк...
— Вижу, вижу, — прервал меня генерал, — здравствуй!
Мы прошли дальше. Немного помолчав, он на ходу спросил:
— Какой результат?
— Полк овладел деревней Ново-Свинухово. В остальном пока не разобрались...
— Хорошо! Я в этой избе посижу, а вы доканчивайте эту трескотню.
Спустя короткое время, я доложил генералу о результатах боя и добавил, что и у нас есть потери. Генерал чуть нахмурился.
— Без жертв боя не бывает. Только есть жертвы оправданные и есть жертвы неоправданные, за которые командир должен нести ответ... Расскажите, как был организован и проведен бой.
Я доложил, что это был бой, в котором участвовали бойцы пополнения, фактически первый их бой. Это и заставило меня идти с головным батальоном капитана Гундиловича и лично участвовать от начала до конца в бою. Затем доложил, как запоздавшие минометы пришлось расставить на близком расстоянии и давать одновременно залпы по середине и окраинам деревни, и как этот залп поднял необстрелянных юнцов, доложил об их стремительном натиске и дальнейшем развороте боя...
Генерал упрекнул с досадой:
— Ваша ошибка в том, что упустили часть немцев, вытолкнули их!
Я начал было оправдываться, но генерал категорически остановил меня:
— Знаю! Знаю! По этим сугробам не так-то легко было вам добиться этого. Но всегда надо стараться не выпускать врага. Это самое главное в нашем деле...
Теперь я ехал к нему в только что занятую нашими частями деревню Васильево, что была километрах в пяти от деревни Соколово, где укрепились немцы.
Генерал находился в домишке на окраине.
Русские избы!.. Сколько мне пришлось перевидать вас, сколько вы согревали нас в боях под столицею Москвою! Полуразрушенные, с неизменной печью у входа, порой с уцелевшими стеклами, а иногда и цветком на окне, резными наличниками и пестрыми занавесками, покинутые хозяевами иль обитаемые, с детворой, жмущейся по углам, потемневшие от времени, но с добела выскобленными полами, приветливые, вы укрывали нас, далеких гостей из теплой Средней Азии...
Я застал генерала склоненным над картой. На плечи его была наброшена шинель; он опирался на руку, пальцами сжимая висок. Генерал так был поглощен своими мыслями, что я не знал, остаться мне и доложить о своем прибытии или уйти.
— Вот съежился, проклятый! — не замечая меня, проговорил генерал. — Прямо аппендицитом сидит, и ничем его не прошибешь! — он ударил кулаком по карте и выпрямился.
Я воспользовался нарушенным молчанием и доложил о своем прибытии.
— А-а-а! — заметил меня генерал. — Хорошо, что приехали. Он протянул мне руку и указал на табурет: — Садитесь...
За эти несколько дней, что я его не видел, он осунулся, лицо показалось мне бледным, помятым. Морщины, мелкие под глазами и глубокие на переносице, были особенно заметны. Припухшие веки говорили о долгих бессонных ночах.
Отодвинув карту на край стола, он крикнул адъютанту:
— Гончаров, вели завтрак подать! — и, устало откинувшись на спинку стула, сказал: — Сначала позавтракаем, а потом поговорим о делах. Вы тоже, наверное, голодны как волк! Мы же с вами на подножном корму. Где-то наши пайки болтаются...
Я кивнул головой, мы оба рассмеялись.
— Да, плохи наши дела! — вздохнул генерал. — Ну, ничего, как-нибудь разберемся, обязательно разберемся. Ведь мы же не лыком шиты.
За завтраком, то и дело забывая о еде, генерал кратко знакомил меня с общей обстановкой. Заметив, что я тоже не ем, он прерывал свои объяснения.
— А вы ешьте. Ешьте и слушайте... Черт возьми! Ешь, пьешь и с начала войны сам не замечаешь, что ж ты ешь. А есть все-таки приходится! — Он рассмеялся. — Ну, подвигайтесь поближе к карте. Вот это Кузьминск, а этот «коровий язык» — немецкая группировка. Место, где мы находимся, левый фланг, а Поспешново — правый. С этих флангов два наших фронта должны были нанести удар и окружить группировку немцев... — Генерал задумался и положил карандаш. — Такова обстановка, таков замысел командования. Это я вам говорю, чтобы вы были в курсе дела. Наши два фронта должны соединиться в районе Высоцка. — Он указал на карту. Я прочел: «Река Валоть, город Высоцк».
— Вот видите, сколько еще перед нами... — отмерив расстояние до Высоцка, сказал генерал. — Сто пятьдесят километров, да, не меньше... Восемьдесят-девяносто населенных пунктов придется отвоевывать. А кругом леса, болота... И все в снегу, как в лебяжьем пуху. И противник неслабый. Он нам не отдаст этих селений, все теплые места у него в руках. Он по деревням, по обжитым опорным пунктам сидит, с насиженного места его нелегко столкнуть! А мы с вами все по лесам да заснеженным полям. Наши солдаты уже месяц как под крышами не были, — с болью в голосе произнес он. — Мог ли кто знать, насколько вынослив наш советский человек! Боялся я, думал — всю дивизию заморожу. А ведь ни один еще не замерз? — оживившись, спросил генерал. — Правда?
— В походах и в огне боев, товарищ генерал, не замерзнешь! «Для воина седло — подушка, постелью служит лед, а одеялом — снег», — так у нас говорят, товарищ генерал.
— Хорошо сказал ваш народ. Так, значит, вытянем, капитан? Доконаем немчуру? Заставим их по морозцу побегать? Запомните: в лоб брать деревню — значит, иметь много потерь. Если же обойти деревню, создать угрозу окружения, то враг, испугавшись, сам побежит с теплого местечка. А когда он выйдет на голый снежок, тут-то, на равных условиях, и вступить с ним в бой... Но помните и о другом конце палки. Если вы, как в Ново-Свинухове, упустите часть немцев, они в следующей деревне удвоят гарнизон... Немцы, которых вы вытолкнули из Свинухова, теперь преспокойно воюют в Соколове.
— Я их не так уж много упустил, товарищ генерал.
— От вас ушло пятьдесят, от другого сотня, от третьего десятков шесть — вот больше двухсот набралось. Нам, командирам, четыре правила арифметики помнить положено. Все время в уме да с карандашом в руках подсчитывать приходится. Только не поймите меня превратно. Ведь тактика — не арифметика, в тактике не всегда дважды два — четыре и трижды три — девять, у тактики свой закон — закон искусства. Дайте вашу карту.
Я вынул из планшета свою стотысячную. Генерал положил ее перед собой, старательно разгладил.
— Повернуть хочу ваш полк, — помолчав и подумав, сказал он.
— Если нужно, товарищ генерал...
— Да, не хотел я этого делать, но приходится. Эх война, война! Не все получается так, как задумаешь. Противник на то и противник, чтобы подсунуть неожиданное. Если бы не эти прятки да догадки, разве война была бы войной?! Вот разгадать бы, о чем этот подлец думает, обшарить бы его нутро, уловить бы его мыслишки. — Он лукаво посмотрел в мою сторону. — Это и называется дальновидностью командира, вам это должно быть понятно, капитан.
— Да, товарищ генерал... Ясная мысль сопутствует цели.
— Правильно сказал... Хочу ваш полк на одно задание послать. Батальоны у вас подтянулись?
— Нет, товарищ генерал. Батальон капитана Клименко отстал, только через семь-восемь часов догонит.
— А пушкари — тоже отстали?
— Да, лошади по сугробам не тянут, товарищ генерал.
— Маловато у вас выходит... Полтора батальона?
— Нет, два батальона, товарищ генерал.
— А потери? Вы что, до сих пор без потерь воевали? — не без язвительности произнес генерал.
— Да, фактически, полтора батальона... — подтвердил я.
— И все-таки с такими силами вам придется выполнить задачу, которая будет поставлена. В моем распоряжении пока других сил нет. Обстановка требует немедленного решения боевой задачи. — Он взял карандаш и стал набрасывать схему...
Итак, один из полков дивизии третьи сутки ведет бои за Соколово, но пока безуспешно, другой полк, обойдя этот пункт слева, вырвался далеко вперед и таким образом оторвался. Противник держит Соколово неспроста, Соколово — плацдарм для нанесения контрударов по прорвавшимся главным силам нашего корпуса. Соколовская группа имеет задачу: во что бы то ни стало продержаться до подхода из глубины резервов. Противник получает подкрепление и снабжается из Старикова через деревню Трошково. Поэтому генерал считал, что соколовская группа противника в первую очередь должна быть лишена путей подвоза и отрезана от прибывающих подкреплений. Тогда Соколово неминуемо падет.
Генерал приказывает мне обойти Соколово, выйти в тыл врага в районе Трошкова и к утру следующего дня овладеть Трошковым.
Генерал набросал на листках схемы, иллюстрируя свою мысль. Потом он встал и так заключил сказанное:
— Таков вам приказ, капитан. Ключ к Соколову, сдается мне, находится в Трошкове.
— Есть, товарищ генерал, — ответил я.
С улыбкой он протянул мне на прощанье руку.
— Ну, ни пуха ни пера! — и, задержав на мгновение мои руки, он по-отечески взволнованно добавил: — Будь жив, Баурджан, желаю боевых успехов.
* * *
«Хочу повернуть ваш полк»... Мы повернули. По бездорожью, по снежной целине, описав правее Соколова полукруг километров в пятнадцать, мы направились к лесу северо-восточнее Трошкова. Близость противника требовала от нас особой осторожности. Любой шум, любой звук, дым от огня были равносильны сознательному предательству.
Как и в тот день, когда мы подходили к Ново-Свинухову, я всматривался в лица бойцов. Да, тогда эти мешковатые, с наивными, еще детскими лицами юноши, прибывшие накануне как пополнение, главным образом из Казахстана и Киргизии, вызывали у меня тревогу. При взгляде на них невольно мелькала мысль: «Эх, как бы с этими юнцами не хлебнуть горя. От отцовского дома, от классной парты они еще не отошли! Первый бой для них испытание. Побегут в первом бою — знай: никогда их больше в атаку не поднять. Правда, батыр не рождается от матери, не знающей страха. Только пройдя через лишения походов и невзгоды боев, он приобретает стойкость».
Так, шагая рядом с бойцами в колонне головного батальона, я думал, как пробудить уверенность в душах молодых воинов. Тогда, под Ново-Свинуховым, внезапный «фейерверк» — грохот разрывов наших мин по опорному пункту противника — поднял дух новобранцев. У меня до сих пор звенит в ушах наше «ура!», которое прокатилось в то морозное утро по всей окрестности и охватило село.
Да, это было хорошо! Ну, а сегодня что у них на душе? Я всматриваюсь в лица. Не страх, а скорее волнение, настороженность угадываю я в их взглядах. Как воин воина, я понимаю их и успокаиваюсь.
Вот мы в лесу. Лес должен быть нем... Никаких признаков нашего присутствия. Полк, замри! Холодно — терпи! Голодно — терпи! Курить не смей!..
Скоро начинает темнеть. До вечера остаются считанные часы. Надо немедленно отправиться с офицерами на рекогносцировку. Нужно хоть издали посмотреть на это неведомое Трошково. Что за местность впереди, которую нам предстоит пройти боевым шагом? Что за противник, с которым нам придется встретиться? Как он построил свой стан? Что подскажет нам вид вражеского гнезда? Все это надо выяснить засветло; идти вслепую ночью — наверняка заблудиться, наверняка — неудача.
* * *
Мы на рекогносцировке. Бесшумно залегаем на опушке леса. Да, мы не ошиблись. Перед нами Трошково. Но что за населенные пункты подковой окружают Трошково? Смотрим на карту: на ней находим только безымянные сараи и отдельные дома. Кроме Трошкова, никаких деревень не обозначено. А здесь вместо одного — шесть населенных пунктов, расположенных клещами вокруг Трошкова. Откуда они взялись? Особых укреплений не заметно, видимо, части недавно подошли и еще не успели их подготовить.
За деревнями, как серые нити паутины, поблескивают шесть расчищенных дорог. Они переплетаются между собой и завязываются в крепкий узел в одной из деревень, к которой сходятся все пути. Она будто держит на длинной привязи остальные пять дорог.
Мы перед Трошковым, но Трошково не одиноко, и дорога, которую приказано отрезать, оказывается разветвленной на пять.
На войне всякое случается. Много раз на своем боевом пути от реки Рузы до Подмосковья с этим встречались: за годы советской власти колхозные деревни, совхозы, рабочие и дачные поселки разрослись, опередив наши топографические карты. И нам часто приходилось сверять, несколько раз ориентироваться на местности, чтобы сличить карту с местностью, с нашим сегодняшним днем.
«Маловато у вас народу», — сказал генерал. Не маловато, а совсем мало. Немцев тут не менее тысячи, а у нас полтора батальона. На подмогу рассчитывать не приходится. Времени мало. Обстановка сложная.
Перед нами не только деревня Трошково, но и пять ее соседок.
«Противник держит Соколово неспроста. Это плацдарм для нанесения контратаки под корень прорвавшихся главных сил нашего корпуса...» Генерал прав, безусловно прав.
Передовая группа в Соколове — форпост, охрана тех сил, что будут сосредоточены здесь. Эти шесть дорог приведут сюда резервы для маневра. Шесть артерий, шесть путей — широкие возможности! Неспроста враг здесь пассивен. Он ждет, когда все наши силы втянутся в бой, ждет подходящего момента...
Мы посланы овладеть Трошковым, но Трошково лишь приманка в этой мышеловке. Возьмем его... а что тогда? Взяв Трошково, мы попадем в капкан. Из остальных деревень, что подковой окружают нашу цель, посыплются мины, нас будут хлестать пулеметные очереди. Не смея поднять головы, мы будем лежать, обороняться, и час за часом будут редеть наши ряды! Надолго ли нас хватит? Ну, хорошо, будем держаться, а дальше что? Выведем из строя одну дорогу. Чего мы достигнем? Вертясь волчком, как лошадь, запутавшаяся у привязи, какой серьезный вред мы нанесем противнику и какую пользу принесем частям, держащимся за Соколово? Формально выполнив приказ генерала «овладеть Трошковым», погубим полк, не достигнув цели, не повлияв на общую обстановку. Если так, то что делать? К какому выводу прийти? Какой завязать узел?
Я оглядываюсь по сторонам. Рядом со мной комиссар Мухаммедьяров. Он лежит, облокотившись на снег и уставясь в одну точку. Вот другой — комиссар батальона Трофимов, его брови тяжело нахмурены. За ним — капитан Гундилович. От его доброй улыбки нет и следа. За ними, в сугробах, другие командиры, скрытые за пнями и стволами сосен. Я чувствую, как все они насторожены, сосредоточены. Впереди, наискосок от меня, лежит начальник штаба Мамонов. Он смотрит сквозь ветки кустарника вдаль и то и дело бросает в мою сторону вопрошающий взгляд.
У них те же мысли, те же опасения, та же боль, что и у меня — командира.
— Товарищи командиры, — начал я. — Вам ясна обстановка? Мы здесь больше часу. Скоро стемнеет. Первое: основа опорного пункта, что перед нами, — это Бородино. Остальные деревни — лишь подпорки у главного столба. Второе: к этим шести деревням с разных сторон узлом сходятся пять дорог, пять путей подхода противника, пять каналов его снабжения. Третье: враг многочислен и силен. Превосходством над ним в силах и средствах мы не располагаем. Наши подразделения малочисленны и без артиллерии. У нас два пути. Первый из них близкий, но зато дальний — согласно приказу, овладеть только Трошковым, но этим цели мы не достигнем. Второй путь далекий, но близкий — овладеть всеми шестью деревнями, оседлать все дороги.
— Для этого нужны большие силы, которых мы не имеем, — вырвалось у кого-то.
Я посмотрел в сторону сказавшего и продолжал.
— Я решил выбрать дальний путь, как самый короткий для достижения цели. Итак, ровно в четыре часа ночи во время самого сладкого сна застигнуть противника врасплох, к рассвету овладеть этим узлом и закрепиться. Наличные силы разбить на шесть групп, по количеству объектов. Способ действий групп — внезапный налет. Начало действий всех групп одновременное. Конкретные задачи: группе, возглавляемой лейтенантом Соловьевым и политруком Габдуллиным, обойти деревни справа, выйти в тыл Бородина и овладеть им. После захвата Бородин на оседлать большак, идущий от Старикова, и закрепиться. Группе под командованием старшего политрука Трофимова обойти деревни слева, выйти в тыл Коншина и к рассвету овладеть им, закрепиться и организовать оборону во взаимодействии с группой Соловьева, фронтом на запад, имея локтевые связи с соседними группами... Третий батальон под командованием капитана Клименко скоро должен подойти — он в моем резерве. Боевая задача ему будет поставлена по обстановке дополнительно.
Так были распределены силы нашего полка. Командиров я предупредил, что основа успеха — внезапность, что даже один залаявший пулемет может разбудить и поднять врага на ноги. Поэтому должны быть приняты все меры к тому, чтобы сначала бесшумно снять вражеских постовых. Было приказано использовать оставшееся светлое время на изучение местности, маршрутов движения, на организацию взаимодействия. Решение было принято, приказ отдан.
* * *
В лесу темно, тихо. Крепчает мороз. Одетые снежным пухом, сосны не шелохнутся. Под каждым деревом, прислонясь к стволу, сидят солдаты.. Даже не слышно их перешептывания. Кони, всегда весело фыркающие и с шумным выдохом испускавшие на сильном морозе струя пара, понуря головы, стоят у привязей. Мы ждем назначенного часа, а он не идет, а ползет.
В импровизированном из веток шалаше — я, комиссар и начальник штаба.
— А Клименко все еще нет? — говорит молчавший до сих пор комиссар.
— Да, — отвечаю я. — Клименко еще не прибыл...
— Как же быть теперь товарищ капитан? — взволнованно спрашивает меня Мамонов. — Ведь у нас никакого резерва нет! Может быть, хотя бы взвод за счет какой-нибудь роты зарезервировать?
— Теперь поздно, капитан Мамонов, — отвечает ему комиссар. — Люди пошли, многие лежат на снегу и ждут сигнала.
— Без вторых эшелонов, без резерва придется вести бой, — говорю я, — это не совсем грамотно и неприятно…
— Нет, что ты, Баурджан, — встревоженно перебивает меня комиссар, — я считаю, что у нас по крайней мере два резерва: темная зимняя ночь и инициатива наших солдат, сержантов и офицеров.
— Да, ты прав, Мадьяр, я в наших глубоко верю.
— Пошли к нам. Надо нам управлять боем своим личным участием. — Не дожидаясь моего ответа, он бросает на ходу: — Я пошел к Трофимову...
— Да сбудутся ваши дороги, — говорю я им по-казахски.
— Да сбудется сказанное тобою. Да придет добро к нам, — отвечает по-народному Мухаммедьяров.
— До счастливой встречи, товарищ командир, — жмет мне крепко руку Мамонов, — разрешите я с Гундиловичем пойду.
— Будь жив, Мамонов.
Сделав два шага, они исчезли, растаяв в темноте.
Я остался один. Как описать то состояние, которое охватывает командира, когда приказ уже отдан, а замысел командира через час-другой становится личным и кровным делом каждого солдата...
Мой адъютант, посланный к начальнику штаба, еще не возвратился. Не дождавшись его, я пошел. Синченко ведет в поводу наших верховых лошадей. Мороз крепчает, снег хрустит под ногами. Да и лошади нет-нет да и фыркнут.
Я делаю знак Николаю, тот придерживает коней, замедляет шаг.
Тьма-тьмущая. Я иду, прислушиваясь к каждому шороху. Бесшумно осыпается с деревьев снежок, изредка хрустнет тонкая ветка.
Вдруг я замечаю, что потерял своего спутника. Видно, Николай отстал. Ругаю себя за то, что отпустил всех с боевыми группами. Командир полка один-одинешенек в дремучем лесу! Недоставало еще, чтобы из-за какого-нибудь куста выскочила парочка немцев!
Верно, что, кто боится — у того двоится! Я слишком насторожен. Я ловлю себя на том, что явно трушу. Я сержусь на себя. Иду в Трошково. У меня одно желание — встретить хотя бы одного из наших солдат. Но в темноте не отличишь, где свой, а где враг. Если по ошибке приму врага за друга, пойду к нему навстречу и он крикнет «хальт!», я выстрелю в ответ. Но тогда мой выстрел возвестит противнику, что мы здесь, что мы подкрадываемся к нему. Тревога — и он ощетинится. Эти мысли заставляют меня вложить пистолет в кобуру. Лучше приколоть или зарубить — решаю я и вынимаю из ножен клинок. Так, держа клинок наготове, я продвигаюсь вперед. Но как осторожно я ни ступаю, а все-таки снег то скрипнет, то пискнет, выдавая меня.
Наконец лес позади. Передо мной вырисовывается темный силуэт сарая, называемого в этих местах клунею. Обыкновенно клуни стоят на отшибе, в стороне от деревни. В большой печи, что посредине сарая, сушат снопы ржи и пшеницы, а потом здесь же обмолачивают их.
Я осторожно подхожу к клуне и, как летучая мышь, прилипаю к ее теневой стороне. Затаив дыхание, прислушиваюсь, есть ли кто-нибудь внутри? Тихо, ни звука, никаких признаков жизни. Чувствуется прелый запах соломы. Скольжу вдоль стены. Дверь. Снова прислушиваюсь. Опасение, что я стою у немецкого поста, рядом с прикорнувшими в соломе или у печки немецкими часовыми, прижимает меня к стене. Я злюсь на себя, на свое оцепенение. Преодолевая нерешительность, вхожу в сарай. Он, пуст. Не веря этому, шарю по углам — никого нет. Облегченно вдыхаю теплый запах соломы и, вспомнив только что пережитые минуты тревоги, смеюсь над собой.
Смотрю на светящийся циферблат часов. Скоро четыре. Наступает назначенный час. Будет ли он часом удачи? Минутная стрелка переходит белый пунктир за пунктиром. Две минуты пятого... три... четыре минуты. Кругом тихо. Стрелка переходит еще черту. Прошла еще минута.
Вдруг вдалеке одна за другой замигали и погасли две вспышки. Воздух прорезало резкое «так-так» и, словно задушенная, умолкла пулеметная очередь. Как будто это в районе Бородина. Я не успел еще разобраться, как уже в другом направлении раздался выстрел. «Наши снимают часовых». В Трошкове, как отдаленная дробь барабана, раздаются глухие выстрелы. Они то ритмично равны, то частят, то редеют. Выстрелы какие-то необычные, звук тупой, приглушенный, хрипловатый. Значит, и там начали. От трех групп я уже «получил донесение». Направляюсь в Трошково.
Подхожу к деревне. Вижу — вдалеке кто-то бежит. Одно ухо ушанки в одну сторону, другое — в другую, Наш! Выстрелы со всех сторон, на воздухе выстрел резкий, злой, а эти короткие, значит, в домах идет обработка. Где ж тот солдат? Вот он пересекает улицу, врывается в дом. Я бегу за ним. Не успел я переступить порог распахнутой двери, как из комнаты раздался выстрел.
Вбегаю. В комнате, на полу у самой кровати в нижнем белье лежит убитый немец. Я взглянул на солдата, за которым следовал. Это был юноша-казах из нового пополнения. Он посмотрел на меня и, не проронив ни слова, повернулся и вышел.
Большая лампа на высокой подставке, объедки от ужина на столе. Недопитая бутылка. Занавешенные окна. На стуле — офицерский китель со скрещенными костями под черепом на рукаве. На постели полуодетая женщина. В оцепенении, не мигая, она смотрит на меня. Глаза у нее от страха буквально вышли из орбит. Мне неприятен ее взгляд. Какое-то смешанное чувство возникает во мне: тут и ненависть, и презрение, и злоба. Она натягивает простыню до подбородка. Представить только: юноша в ушанке вдруг вбегает в ее дом (во сне это, иль наяву?), убивает лежащего рядом с ней и исчезает. Нет, видно, это кошмарный сон, который скоро кончится...
Я поворачиваюсь и, не оглядываясь, быстро захлопываю за собою дверь.
Уже в открытую идет стрельба. Доносятся крики убегающих немцев, возгласы наших бойцов то на русском, то на казахском языках.
— Джумажан, — слышу я, — как будет по-немецки «Руки вверх?».
— Хенде хох! — отвечаю я за Джумажана и невольно улыбаюсь.
Открываю дверь другого дома. На полу лежат три убитых немца. Переступаю через порог, вздрагиваю: прижавшись к печи, стоит дюжий немец. Встретившись со мной взглядом, он вытягивается. Мы стоим так близко, что я, потянувшись за пистолетом и на мгновение отведя взгляд, дал бы ему возможность вырваться из оцепенения. Длинное, почти лошадиное лицо, бесцветные глаза часто мигают светлыми ресницами. Передо мной унылый тупица.
— Хинлеген! — крикнул я. — Ложись!
Он камнем падает на пол.
Я приказываю ему не шевелиться. И уверенный, что этот вояка окончательно потерял способность не только к нападению, но и к сопротивлению, и что он будет ждать для себя «благополучного» пленения, выхожу из дома.
Молочная полоса уже легла на горизонте. Небо и воздух посерели. Быстро иду вдоль улицы. Выхожу на окраину деревни. Всюду, сколько может охватить глаз, мелькают ушанки наших бойцов.
* * *
Восемь часов утра. Четыре часа боя позади.
Белая полоса на горизонте стала серо-розовой. Холодный, зимний рассвет. Вижу — наши во всех пяти деревнях. Я направляюсь к высоте.
Я не любил раньше мороза. У меня, жителя южного Казахстана, мороз не вызывал восторгов, какие он вызывает у сибиряков, но в эту особенную минуту я вздохнул всей грудью, ощутил вкус, крепость и силу морозного воздуха.
Я на высоте. Кое-кто уже заметил меня. Спешат. Издали узнаю их. Вот Мухаммедьяров, комиссар. Лицо его озарено непосредственной, широкой улыбкой. Вот Трофимов, Гундилович, Ветков, Мамонов, Соловьев, Малик... Значит, все живы и все шесть деревень наши! Они подходят запыхавшиеся, докладывают: Бородино — занято, Трахово — занято, Баркловица, Коншино, Кашино — заняты!..
Я крепко жму руки, они поздравляют меня. Я еще сам не до конца верю, что моя мечта — замысел командира — стала действительностью. Будто снегом запорошило глаза. Сердце трепетно отстукивает: «Какое счастье, что все живы!»
Ушанки, ушанки — всюду наши ушанки...
Почему мы говорим, что это сделали мы?
Не говори — это сделал я, это сделали тысячи.
Не говори — это сделали тысячи, это сделали смелые.
Не говори — это сделали смелые, это сделал народ!
Если бы я не был из тысячи, а смелые — из народа, кто бы это совершил?
Веселые возгласы и смех доносятся отовсюду.
Почему такая самоуспокоенность? Она — враг чести и друг смерти. Деревни мы взяли, но их надо еще удержать. Контратаки будут, обязательно будут! Радоваться рано!
Отправляю командиров на места.
Пишу донесение:
«Начав действия в 4.00, к 8.00 полк выполнил поставленную задачу и овладел группою деревень в этом районе: Трошково. Трахово, Коншино, Баркловица, Кашино, Бородино... В прилагаемой схеме указано расположение дорог и сел. Полк оседлал их и приступил к закреплению твоих позиций. Гарнизон противника состоял из подразделений полка дивизии «СС». Ожидаю контратаки противника. Жду дальнейших ваших указаний».
Отправив донесение, направляюсь в Бородино.
* * *
Да, враг будет контратаковать. В этом сомнения нет. Не напрасно он расчистил эти просторные шесть дорог. Недаром он держал про запас эсесовский полк. Еще два полка этой дивизии где-то неподалеку. Эту дорогу нельзя оставлять без внимания. Самое опасное для нас — танки. Отставший батальон и артиллерия не прибыли, на расстоянии они нам не подмога. А что если враг начнет контратаку одновременно со всех сторон? Шесть путей приведет к нам шесть колонн, пусть по батальону — вот уже два полка. Как шесть пик, вонзятся они в наши бока. Надолго ли нас хватит? Надо как можно скорее закрепиться! Надо изгнать из наших сердец самоуспокоенность, беспечность, самодовольство, которые иногда приходят к победителям вместе с радостью. Покончить с сутолокой и суетней после боя, распределить наличные силы по направлениям, растолковать бойцам, что опасность еще впереди, пусть будут начеку.
Нас мало. Малая сила при таком большом поле действий подобна короткому одеялу: натянешь на голову — ноги остаются открытыми, натянешь на ноги — голову откроешь. А прикрывать надо и то и другое.
Я обхожу деревни, занятые нами, и не могу прийти ни к какому окончательному решению. По пути даю командирам короткие распоряжения: «Особое внимание обратите на это направление». «Удерживать эту дорогу во что бы то ни стало!». «Эту дорогу держать под косоприцельным огнем»...
Солдат хочет справедливой оценки своих действий, когда, не жалея себя, он идет в бой. Теплые слова командира, одобрения радуют солдата еще и потому, что редко он их от него слышит. Командир часто требует, упрекает. Солдат испытывает радость от чувства долга, он гордится своим оружием, своими товарищами, своим полком, под знаменем которого он идет в бой. Он любит тех, кто разделяет с ним солдатскую долю, кто сердцем и мыслями с ним. Он интуитивно ощущает и общую обстановку, и я часто ловил солдатские взгляды, которые явно говорили: «Только приказывай с толком, я выполню.
— Спасибо вам, товарищи, за ваши дела! — говорю я, проходя мимо солдат, роющих в снегу траншеи.
Они с достоинством улыбаются.
— Отобьете немчуру, молодцами будете! Готовьтесь.
Жаркие дела предстоят!
Лица солдат становятся серьезными, бойцы сердито вонзают в снег лопаты, работают быстрее, все более углубляясь в снежную толщу.
Вернувшись в штаб, я диктую Мамонову:
«Контратаки противника возможны в самое ближайшее время. Закрепление позиций закончить в кратчайший срок. Особо укрепить дороги, удерживать их во что бы то ни стало. Всем командирам и политработникам быть на передовой, лично управлять своими подразделениями при отражении контратак противника. К отходу путей нет, на подмогу и подкрепление — не надеяться, рассчитывать только на свои собственные силы. Довести это до сведения всех бойцов».
Серый, мокрый туман медленно ползет в нашу сторону. Солдаты со вчерашнего дня ничего не ели. Сейчас они сидят в глубоких траншеях, развязывают вещевые мешки, тянутся к замороженным продуктам. Откалывают куски от окаменевшей буханки черного хлеба, грызут их, и на зубах они хрустят, как сухари.
Вот один начинает внезапно колотить по спине своего товарища. Ничего не понимая, я подхожу ближе и, увидев избиваемого с вытянутой шеей, со слезами на глазах, догадываюсь, что бедняга подавился.
— Довольно, довольно! Уже прошло! — защищаясь, кричит пострадавший...
Все смеются.
— Э-э, от ломтика черного хлеба после боя человек чуть не погиб! — смеется колотивший своего соседа солдат.
— Ничего, этот камешек, наверное, уж растаял у меня в брюхе... — говорит пострадавший и сам смеется своей шутке.
* * *
Бессонные ночи меня утомили. Не успеваю прислониться к стене — охватывает дрема.
Не знаю, надолго ли я забылся... Вдруг засвистели пули, где-то застрекотали автоматы. Неужели наша охрана была застигнута врасплох? Вздрагиваю, просыпаюсь.
Сквозь туман в маскхалатах движутся цепи немцев. Они идут во весь рост, идут на нас, стреляя длинными очередями, не давая возможности поднять нам головы.
Ни один немец не падает. Цепь идет, брызжет свинцом.
Что случилось с нашими бойцами?! Где командиры?! Почему не стреляют?..
С каждой минутой расстояние от немцев до наших траншей становится меньше и меньше. Вот уже не более трехсот метров. Сейчас они бросятся в атаку, ворвутся в окопы. Неужели с утра мы рыли себе могилы в этих сугробах?
Рядом кто-то со стоном падает. Оглядываюсь. Это старший батальонный комиссар Гусев, недавно назначенный к нам заместителем начальника политотдела дивизии. Его рот в крови. Я хочу его поддержать, он, отстраняя меня, ослабевшим голосом говорит:
— Не надо, дорогой, после. Займись боем.
Под прикрытием стены сарая пробегает Малик Габдуллин.
— Малик! — кричу я.
Он остановился, оглядывается.
— Что там наши молчат? Бегите скорее. Подымайте живых. Встречайте огнем эту обнаглевшую цепь...
Он пригибается, рывком бросается вперед.
Немцы подошли уже на бросок.
Справа из-за сугроба подымается белая фигура в развевающемся маскхалате. Кажется, она не идет, а сказочно летит по полю; следом — еще пятеро, за ними — взвод, рота. На ходу, стреляя из автоматов, с криками «урра» люди бросаются на вражескую цепь. В рядах врага замешательство.
Еще миг — на немцев набрасываются автоматчики во главе с Маликом.
— Это Габдуллин! — восклицает, преодолевая боль, раненый Гусев и, прислонившись к стене, медленно сползает.
Я приподнимаю его голову.
— Молодцы... — бледный, с гримасой страдания шепчет Гусев.
И вот наши другие молчавшие траншеи тоже заговорили.
— Что там? — волнуется Гусев.
Я помогаю ему опереться на мое плечо. В прорезь сруба мы видим, как мечется встреченная в лицо огнем, схваченная клещами контратакующих, немецкая цепь.
— Слав...те! — вздыхает с трудом Гусев.
Немцы спешат повернуть назад. Их настигают наши пули, немцы падают спиной к нам, лицом зарываясь в снег.
— Хо-ро-шо... — окончательно обессилев, произносит Гусев и опускает голову.
— Что с вами? Куда вас ранило?
Он молчит. Подбегает Синченко, вдвоем мы осторожно укладываем раненого на солому в углу сарая. Он тяжело стонет. Я расстегиваю ворот его полушубка и замечаю на гимнастерке значок депутата Верховного Совета РСФСР. Пальцы у меня в крови, по-видимому, у него сквозное ранение. Подоспевший санитар делает перевязку. Гусев приходит в чувство.
— Выпейте, товарищ старший батальонный комиссар, — говорит Синченко, протягивая флягу. — Спирт.
Гусева положили на носилки. Мы с Мухаммедьяровым подошли к нему попрощаться.
— У меня просьба к вам, товарищи, — говорит он. — Не надо ругать командиров и бойцов, что растерялись вначале. Габдуллина — на Героя. Это мое мнение…
Мы отправляем комиссара на крестьянских санях, накрыв его теплым тулупом.
Представить на Героя… А жив ли наш политрук — Малик Габдуллин?
И кто был тот сокол, что первым, распрямив крылья, понесся на стаю вражеских коршунов? Кто был вожак этой пятерки, что первая налетела на противника? Жив ли он?
Я посылаю адъютанта выяснить все это, доложить мне о наших потерях.
Не успевает адъютант скрыться, как за поворотом траншеи мы замечаем медленно шагающего по деревенской улице Малика. Всегда по-юношески стремительный, он сейчас идет с трудом. На усталом, опаленном боем лице Малика знакомая застенчивая улыбка.
— Как же ты уцелел? — встречаю я его взволнованным голосом.
— Сам не знаю. — Смущенный, он только пожимает плечами.
— Кто те, что первые пошли на немцев?
— Наши, из нашей роты... — неопределенно отвечает он.
Мы хотим знать подробности. Малик отвечает, но в это время снова, теперь уже с другой стороны, доносится трескотня, начинается новая немецкая атака. Малик спешит к своей роте.
Атака за атакой. То с одной стороны, то с другой немцы упрямо пытаются пробиться к Соколову. Но наши бойцы теперь не теряются...
* * *
К концу одной из очередных атак приехал генерал.
Слезая с серого коня, он увидел, что противник отходит.
— Что же вы стоите? — встретил он меня гневным окриком, когда я пошел к нему навстречу. — Немедленно организуйте преследование!
— Товарищ генерал, я не могу оголить позицию... Это слишком опасно... — начал было я.
Генерал рассердился. Злой, не взглянув на меня, не произнеся ни слова, он направился на позиции. Мамонов бросился догонять генерала. Он провел его по всем местам боев. Генерал осмотрел результаты нашей «работы» и через час довольный вернулся в сопровождении группы офицеров.
С улыбкой он подошел ко мне и положил руку на плечо.
— Слушай, капитан, погорячился я немного. Так вот, в глупостях и отваге вам надо разобраться. Кого следует — представьте! Задачу вы выполнили. Тут я ничего не могу сказать. Хорошо, что надеялись на народ, и хорошо, что народ вас не подвел. Все это хорошо! Но плохо, что вы ни одного взвода не имели в резерве. Передайте от меня спасибо за боевую службу вашим бойцам и командирам. Я ими очень доволен. А теперь перед вами боевая задача — закрепить за собой завоеванное и удержать достигнутое. Думаю, что это не последняя контратака противника, и немец не скоро успокоится. Так что вам трудненько придется, подумайте об этом! — Генерал улыбнулся и сказал: — Грешным делом, я полагал, что ваше «самочувствие» лучше, чем у других, и задержал третий батальон, а пушкари ваши не скоро подойдут: мучаются, бедные, по этим сугробам, а лошади не тянут ни черта! Хотел ваш третий батальон к себе в резерв забрать, а теперь вижу, что этого делать нельзя, вам самим он нужен... Клименко подойдет через три-четыре часа. Вы его держите в лесу, — генерал указал на лес, где мы накануне производили рекогносцировку. — Спрячьте его от противника, дайте людям хорошенько отдохнуть; не уплотняйте им боевые порядки, а держите его в резерве, и когда будет необходимость, бросьте его в бой, чтобы немец не дурил больше со своей контратакой. Прежде чем ввести в бой этот батальон, обдумайте и взвесьте обстановку. Тут генерал вытянулся, развел руками и сказал: — Вся дивизия втянулась в бои, так что на меня не рассчитывайте. Я могу вам помочь лишь тем, что поругаю вас за неточное выполнение задачи. — Он расхохотался: — Ей богу, больше ничем не могу помочь, как говорится, я сам — «гол как сокол!».
Генерал попрощался со всеми за руку, вскочил на коня и уехал. Мы смотрели ему вслед, пока он и сопровождавшие его не скрылись в лесу.
— Вот какой у нас генерал! — нарушил молчание Трофимов. — Не думал, что он такой душевный человек!
— Да, не постеснялся извиниться перед капитаном, — задумчиво сказал Мухаммедьяров. — Настоящим человеком надо для этого быть...
— Ну как, здорово меня разносил генерал по дороге? — спросил я у Мамонова.
— Да, вначале побурчал, а я его прямо по тем местам, где побольше немцев лежало, повел... — Мамонов хитро улыбнулся, как бы говоря: «Смотрите, какой я молодец!» — Потом генерал шел и только спрашивал: «Еще что покажете мне?» Я его водил, водил, а потом снова, на старые места привел. Тут он мне: «Ты мне, брат, глаза не замазывай, — я этих видал»...
— Ну тогда все, товарищ генерал!
Мы посмеялись над наивной хитростью Мамонова, Ко мне подошел связной и передал записку от Малика.
На листке, вырванном из полевой книжки, было написано по-казахски: «Тобын бастаран батыр — Тулеген екен» или «Вожаком батыров оказался Тулеген». Далее из наспех написанного я разобрал, что фамилия рядового Тохтаров, что он комсомолец и родом из Усть-Каменогорска.
* * *
На опушке леса, где мы вчера перед заходом солнца производили рекогносцировку, показалась группа людей.
— Вот и Клименко явился! — воскликнул Мамонов.
— Прикажите ему батальон задержать в лесу, а самому явиться ко мне, — приказал я.
— Синченко! — крикнул Мамонов моему коноводу.
— Слушаю вас, товарищ капитан, — откликнулся Николай.
— Скачи, братец, навстречу Клименко и передай приказание командира, чтобы он свой батальон оставил в лесу, а сам — бегом к капитану.
— Ясно, товарищ капитан.
— Ну скачи...
Николай Синченко, выполняя приказание начальника штаба, вихрем помчался навстречу капитану Клименко.
В грязном маскхалате, запыхавшись, прикатил на лыжах капитан Клименко — командир третьего батальона: высокий, стройный, красивый украинец. Он поспешно доложил:
— Товарищ капитан, вверенный мне батальон выполнил поставленную вами задачу и прибыл в ваше распоряжение.
— Вы немного задержались, товарищ капитан, — деланно упрекнул я его.
— Виноват, товарищ капитан, — вытянувшись, ответил Клименко, — задержались. По-честному говоря, я спешил к вам, товарищ капитан. Но все же виноват, — закончил свой рапорт Клименко.
— А где артиллеристы? — спросил я его.
— Беда, товарищ капитан, — он беспомощно развел руками, — беда с нашими артиллеристами: лошади не тянут, и они, бедные, подталкивают пушки, зарядные ящики и кричат: «Раз, два... взяли, шагом марш». Когда артиллеристы произносят «шагом марш», лошади делают два-три шага. Попытался: я помочь им... Повозились мы, продвинулись с полкилометра — буквально на людях тащили, а командир дивизиона мне говорит: «Что ж, и мы нужны, но ты нужнее нас. Давай, капитан, кати на лыжах к командиру полка».
Клименко я отдал приказание, мы договорились с ним о сигналах, условились, куда должен выходить его батальон по сложившейся обстановке.
— Только не медли, Клименко, все как положено, по-честному.
— Будьте уверены, товарищ капитал, я. и мои люди не подведем. Раз нужно, значит, надо сделать, — ответил он на прощанье.
Было уже три часа, и зимнее — солнце удлинило тени, когда начался обстрел наших позиций. Это не был сплошной огонь — невидимый крупнокалиберный дивизион вел обстрел пока только Бородина.
Разрывы; участились... Запылало несколько домов. Клубы дыма, расстилаясь, окутали село…
Началась шестая по счету контратака немцев. Она была самой отчаянной из всех его контратак.
На этот раз противник не распылял свои силы по всему фронту. Один за другим шли три эшелона ускоренным шагом. Наши ответили огнем. Немцы падали, но следом упорно шли следующие цели. Наш пулемет замолк. Немцы, проваливаясь в сугробы, бросились бегом и... ворвались в деревню. Резервный батальон, подтянутый к этому времени к Бородину, бросился им навстречу. Все перемешалось. Бой перешел в рукопашную.
Немецкий дивизион начал вести огонь на перелете с места происходившего побоища. Снаряды рвались впереди и позади нашего наблюдательного пункта, оглушая нас разрывами и свистом осколков.
— Гундилович, чего вы медлите? Слева помогай! — кричу в трубку!
Вдруг обстрел прекратился. Наступила резкая, до боли в ушах, тишина... В Бородине тоже тихо, только отдельная перекличка ослабевшего огня говорит, что там еще продолжается бой.
— В чем дело?
— Видно, кончились боеприпасы!
— И у немцев тоже.
С одного из холмов Бородина затрещал одиночный автомат, упрямо и настойчиво...
По траншеям бежали наши на помощь. Навстречу потянулись раненые.
— Тушите пожар, — распорядился я.
С удивлением я увидел пленных... Их вел молодой боец.
— Допросить и отправить в штаб дивизии, — говорю Мамонову.
Мухаммедьяров, вернувшийся из Бородина, вытер вспотевший лоб.
— Фу, кажется, и с шестой покончили... — Он помолчал, потом добавил: — Должен огорчить тебя, Баурджан: Малик просил передать, что боец его роты Тулеген Тохтаров геройски погиб в этой схватке.
* * *
Вечерело...
Хмурая туча снова поползла по небу. Легкий ветер погнал по земле снежную порошу...
— Не успели с немцами покончить, как вот вам, пожалуйста, — обернулся ко мне Мухаммедьяров, показывая на небо, — буран надвигается.
Мы смотрели, как ветер плавно вздымал легкие пылинки и кружил их. Казалось, будто дымок проносится над брустверами наших окопов.
— А вот, на горизонте, — показал я вдаль, — густая чернота.
— Снова буран, метель, вьюга, — повторил с болью в голосе Мухаммедьяров. — Не дает небо людям отдохнуть!..
Ветер «прибавил шаг», все быстрее и быстрее подгоняя легкую снежную крупу...
Как настораживаются олени, почуявшие приближение грозы, так и солдаты выглядывали из окопов и о тревогой всматривались в надвигающуюся черную завесу...
— Мамонов!
— Я! — очнувшись от глубокого сна, откликнулся Мамонов.
— Передайте командирам: людей в деревнях по домам не расквартировывать! Всем размещаться только в окопах. Костров не разводить, в домах — полное затемнение... Для обогрева людей устроить ниши в траншеях, подостлать солому. В каждом десятке трое на посту, пятеро спят в этой нише, а двое с лопатами непрерывно расчищают снег в окопах и секторах обстрела. Два офицера отдыхают, третий — обходит позиции. Организуйте круговое патрулирование разведчиков. Особое внимание — на Соколове... Вот все распоряжения на эту ночь.
Мамонов поежился, но, видимо, не от бьющей в лицо холодной струи ветра...
— Товарищ командир, ведь люди и так.. — начал было он.
— Что «и так»?.. — грубо прервал я его. — Неужели вы думаете, я не знаю, как трудно приходится людям? Вам не нравится, что я запрещаю нежиться в домах? Мы воспользовались предательским сном немцев в теплых домах. Я не хочу чтобы сегодня немцы воспользовались нашим сном. Если усталых и продрогших солдат завести хотя бы на час в хату, потом их и пушечными выстрелами не разбудишь...
— Я вас понимаю, Мамонов, — мягче добавил Мухаммедьяров, — но ничего не поделаешь — командир прав. Эту ночь надо перетерпеть. Вы поняли? — примирительно спросил он у насупившегося Мамонова.
— Понял, товарищ комиссар, — улыбнулся Мамонов и, обращаясь ко мне, козырнул. — Разрешите идти выполнять, товарищ капитан?
— Да, идите, — сухо ответил я.
Мамонов пошел выполнять приказ. Снег под его валенками скрипел и пищал, казалось, он шел, раздавливая осколки стекла.
— Мне кажется, он обиделся на тебя, — заметил комиссар. — Зачем ты его так грубо оборвал?
— Да как-то невзначай, самому неприятно... Ну ничего, он не из злопамятных.
Через несколько минут Мамонов с офицерами штаба уже шел к позиции, объясняя им что-то и рассылая их по разным направлениям.
* * *
Надвигающиеся тучи черно-серым занавесом закрыли от нас последние косые лучи солнца. Буран начал подвывать. Ветер все смелее взметал снег, набирая высоту, и люди, идущие к окопам, казались по пояс погруженными в белый, стремительно несущийся туман. Все выше и выше гонит ветер снег, и только головы в ушанках мелькают в потоках снежной пыли. Сумерки быстро поглощают расстояние, сокращают горизонт, сужают кольцо темноты вокруг нас. Короткое время зимнего дня все отступает...
Мухаммедьяров пошел проверить, как в батальонах организована подача горячей пищи, а я поспешил к окопам, чтобы убедиться в выполнении распоряжений.
Ветер выл, кружил снег, заметал наши окопы и траншеи, слепил глаза, свистел в ушах... Я скользил, борясь с вьюгой, спотыкался, падал.
Ногой я нащупал бугор, сделал два шага и... вдруг стремительно провалился в снег. Стараясь удержаться, я беспомощно барахтался, но безуспешно: осыпающийся снег тянул меня вниз, как в засасывающее болото. Внезапно я почувствовал, что ноги мои повисли в пустоте...
— Эй, кто там! Какая нечистая сила принесла тебя сюда?! — услышал я недовольный голос из подземелья, — Вот мать. Всю крышу провалил своей воловьей тушею, верзила ты этакий! — продолжал кто-то меня ругать.
Я сделал еще одну попытку выбраться из этой волчьей ямы, но тут кто-то ухватил меня за ногу, и снова послышалась брань:
— Какого черта задрыгал ногами? Ну-ка, живо проваливай! Чего лягаешься? — я почувствовал, как кто-то сильно ударил меня по ноге.
Подоспевший адъютант протянул было мне руку, чтобы помочь выбраться.
— Ладно, там встретимся... — крикнул я и, прижав локти к туловищу, соскользнул вниз. Почувствовав твердую почву под ногами, я спросил: «Кто здесь?»
— А сам ты кто? — раздался грубоватый басок из темноты. — Какого черта болтаешься по окопам? Не видишь, что ли, что понаделал: всю сооружению, как фрицевская бомба, разрушил!..
Я засветил фонарик: в вырытой в снегу полуноре, полупещере, в углу, зажмурившись от ослепительного света моего фонарика, сидел крупный детина в ушанке и маскхалате.
Я стоял на куче снега, обвалившегося под моей тяжестью с «крыши»! Снег засыпал подстилку из соломы, на которой валялось несколько солдатских мешков. Я перевел луч фонаря вверх: в отверстие «крыши» смотрело на меня удивленное лицо адъютанта.
— Проваливайтесь сюда! — смеясь, крикнул я. — Здесь тихо.
Адъютант спрыгнул вниз, сбив меня с. ног и обвалив еще часть крыши...
— Вы что, с ума спятили? — возмутился солдат и. снова выругался. — Для умных людей вход сделан, а они...
Действительно, осмотревшись, я увидел вход, тщательно завешенный палаткой.
— Ты что разошелся? — прикрикнул адъютант. — Не видишь, что ли, здесь командир полка?!
Солдат растерялся и пробурчал сквозь зубы:
— Разве в такой тьмище разберешься?
— Ничего, брат, не сердись, мы живо отремонтируем твою конуру. А ну, превращай дверь в крышу, — сказал я адъютанту, снимая плащпалатку с входа.
Скачков мигом взобрался наверх; вместе с бойцом они раскинули надо мной палатку, укрепили ее по краям глыбами снега. Так была реставрирована «крыша».
— Ну, мир заключен! — сказал я солдату, вошедшему вместе со Скачковым. — Теперь садись и рассказывай, где остальные.
Солдат опустился на снежный пол и доложил, что два бойца стоят на посту, остальных сержант увел на кухню за горячей пищей, а он остался закончить укрытие для отделения.
— В домах люди есть? — спросил я.
— Может, из офицеров кто, а наш взвод весь тут, — ответил боец. — Давеча был у нас старший политрук Рахимов, сказал, что вы никому не разрешали спать в домах: может быть, фрицы в гости к нам пожалуют.
— Да, верно. Вот и передай своим товарищам, чтобы начеку были. Ну, а с куревом как?
— Фрицевскую солому курим, — улыбнувшись, ответил солдат, вытаскивая из-под маскхалата трофейные сигареты и протягивая их нам...
Мы закурили.
— Ну, а как зваться будем? — спросил я бойца.
— Алешин Андрей, из-под Павлодара, — ответил тот.
— Тулеген Тохтаров не из вашей роты?
— А что с ним, товарищ капитан? — с тревогой спросил Алешин.
— Он сегодня дважды героем показал себя! — ответил я.
— Да, он парень такой... Я с их ротой в одном вагоне ехал. Простой, свой парень, как говорится, в доску. Шутник и до рассказов большой охотник. Всю дорогу нам песни свои пел, сказки рассказывал, складно у него получалось... — Алешин, как бы удивляясь, в раздумье покачал головой. — Значит, парень неспроста был с огоньком, если геройство проявил.
Я не сказал Алешину о гибели Тулегена и, попрощавшись, покинул его уютное подземелье.
Двигался я в темноте по узким снежным траншеям, пряча голову и сгибаясь, чтобы укрыться от иглистого снега. Встречавшиеся мне солдаты были заняты своим делом: кто стоял на посту, кто расчищал занесенные снегом боевые места, другие возвращались с ужина. Я шел, держа перед собой фонарик; солдаты и офицеры, услышав мой голос, прижимались к снежным стенам траншеи, уступая мне дорогу.
Неожиданно в воздухе прогремели три стройных ружейных залпа.
— Что это? — спросил я у стоявшего на посту бойца.
— Товарища хоронят, — с болью ответил солдат. — Кош, достым, жаткан жерин торха болсын, серигим Тулеген... — прошептал солдат и отвернулся, чтобы скрыть от меня слезы. «Прощай, друг мой, напарник Тулеген»... — так сказал солдат. Так казахи предавали земле прах своего ближнего.
Казалось, завывание и порывистые вздохи ветра над свежим могильным холмом доносили с далекого Алтая всю глубину материнского неутешного горя…
* * *
Потушив фонарь, я продолжал свои путь в полной темноте. Перед глазами стояла картина боя: белое поле, и, как сказочный сокол, летит по нему с раскинутыми крыльями белого маскхалата Тулеген Тохтаров.
Так, блуждая, я добрался наконец до штаба на окраине села. Он был расположен в разбитой школе, в которой уцелели две комнаты.
— Товарищ командир, сюда, сюда, — раздался голос Синченко, — здесь и товарищ комиссар.
Синченко ввел меня в комнатушку, где у растопленной печурки, на которой уже кипел чайник, сидел Мухаммедьяров и, дуя на воду, пил...
Следом за нами в комнату ворвался снег, белым морозным паром обдало сидящего. Синченко поспешно захлопнул дверь.
— Вот, кипяточек похлебываю, — сказал Мухаммедьяров, — ах, как приятно жжет, — оторвавшись от кружки, добавил он. — Я велел после ужина до самого утра во всех кухнях кипятить воду и разносить ее по окопам. Пусть бойцы отогревают нутро.
Не успел я оглядеться, как в комнату вошел весь запорошенный снегом Мамонов и, развязывая ушанку, на ходу доложил:
— Все делается как приказано, товарищ капитан. Фу, какая метелица разыгралась! — Он улыбнулся и вытер капли на молодом розовом лице.
— А патрули?
— Все разведчики во главе с Данилиным на лыжах пошли.
— Не перестреляют наши друг друга? — забеспокоился комиссар.
— Что вы, товарищ комиссар! К патрулям от каждой роты связные назначены. Все продумано: пароль, отзыв, место встречи.
Стряхнув с себя таявший снег, я тяжело опустился на табурет. Все время уходили и приходили с докладами командиры. Раскрыв планшет и достав карту, Мамонов пододвинулся к тусклому свету керосиновой лампы и сказал:
— Вы знаете, товарищ командир, а что, если соколовский гарнизон воспользуется пургой и вздумает сегодня оставить Соколово, тогда он обязательно пойдет через нас. Вот он тут, — показал Мамонов на карту. — А до нас расстояние всего четыре-пять километров, и дорога здесь хорошая... Есть и другая дорога, — он указал на окольный путь, — но по ней слишком долго добираться им до своих.
Мамонов начал доказывать вероятность своего предположения о возможных действиях противника. Это на языке военных называется «оценкой обстановки». Я и комиссар внимательно слушали разумные рассуждения Мамонова, а он, ободренный этим, говорил все более страстно и вдохновенно. Сейчас Мамонов жил только мыслью о том, как бы точнее разгадать думы немецкого командира.
Способностей к анализу у Мамонова мы раньше не замечали, мы знали его как хорошего офицера и старательного честного исполнителя, поэтому нас эта горячность обрадовала.
— Вы совершенно правильно оцениваете обстановку, а ваши доводы обоснованны, Мамонов, — похвалил я его.
Он просиял от одобрения.
— Да, соколовские немцы почти обречены, но, на их счастье, им повезло с погодой, — поддержал беседу комиссар.
— Если они не воспользуются этой ночью, товарищ комиссар, — горячился Мамонов, — то им завтра будет капут...
— А вот как бы этой ночью они нам капут не сделали, ведь у них танки. Пустят передовым отрядом танки, загонят всех в какую-нибудь ямищу, будут стоять и трещать, пока не проведут всю колонну пехоты.
Мамонов забеспокоился, упавшим голосом он произнес:
— На дворе ни зги не видать. Куда стрелять? Трудно будет разобраться, где свои, где враги. Под носом могут пройти.
— Конечно, он может бросить на месте всю технику и налегке, не ввязываясь в бой, в пешем порядке обойти нас, пользуясь темнотой и бураном... У нас ведь только непосредственное охранение, а людей далеко в такую погоду посылать нельзя, — добавил я, прислушиваясь к завыванию бури.
— Это ужасно, если он так сделает! — воскликнул Мамонов. (Видимо, раньше он не предполагал возможности такого варианта).
— Это самый лучший выход для него, — поддержал мою мысль комиссар, — бросить технику и увести живую силу. Только едва ли он пойдет на это: немцы пешком ходить не любят. Нет, он будет держаться за технику. Как же нам поступить?
— Вот что, Мамонов, — сказал я, — у нас есть одно средство против танков.
Мои собеседники недоумевая посмотрели на меня, Я взял у Мамонова карту и, указывая на место, где выходит из леса дорога, идущая из Соколова, сказал:
— Вот здесь надо немедленно соорудить мощный снежный вал. Ширина дороги около десяти метров. Возьмите десятка два людей и снежным валом перегородите дорогу. Танк наткнется на вал, в темноте это сооружение может показаться ему непреодолимым препятствием. Свернуть с дороги он не сможет, а если свернет, то провалится в снег. Даже если он и пробьет этот вал, мы, пропустив танк, пулеметным огнем отрежем идущую за ним пешую колонну...
— Правильно! — в один голос поддержали меня мои товарищи.
— Так и решим, — заключил я. — Иди, дружок, заваливай дорогу.
Мамонов быстро оделся и с адъютантом выбежал из комнаты.
* * *
Мы с комиссаром сидели молча, продолжая думать о Соколове.
Мысли бежали одна за другой... Я вспомнил прошлую ночь, день, старался понять, что произошло, но думы о будущем, о ночи, под покровом которой мы находились, заслоняли все.
Только сейчас я огляделся... Комната тонкой перегородкой была разгорожена на две. Из-за перегородки, где был свален весь домашний скарб, выглядывали два заспанных детских личика.
За столом, в углу, в полумраке сидела хозяйка. Она буквально впилась взглядом в нас, как будто каждое наше слово должно было решить ее судьбу.
Я с трудом оторвался от ее гипнотизирующих глаз... Эта женщина была учительницей местной школы, а в этот чуланчик ее выселили немцы. Платье складками висело на ее похудевшем теле, лицо было бледно... Она бесшумно и осторожно поднялась, подбросила дров в печку, долила чайник. Я, погруженный в думы, почти не воспринимал вопросов Мухаммедьярова и ее коротких ответов. Обрывками долетали до меня фразы о немцах, о трудностях, о холоде, о детях, которых она загородила вещами, чтобы уберечь от пуль, и другие — тихие грустные жалобы много пережившей женщины.
Буран выл, все вокруг гудело, и мне казалось, что это Мамонов с двадцатью бойцами роет снег, запруживая дорогу, а порывистые удары ветра, треск стропил разрушенной школы напоминали мне лязганье лопат, разворачивающих глыбы снега.
— Мама, пить хочу, — тонкий детский голос заставил меня очнуться.
Хозяйка, сидевшая на корточках у дверцы печки, ответила:
— Сейчас, милочка, сейчас, еще чайник не вскипел...
— Зовите ее сюда, пусть погреется у печки, — попросил Мухаммедьяров.
Услышав приглашение, из-под одеяла вылезла босоногая девочка лет пяти-шести, в длинной рубашонке и, подойдя к печке, протянула руки к огню.
Пришел Синченко, держа под мышкой полбуханки замерзшего хлеба и пару банок консервов. Мухаммедьяров попросил у хозяйки миску, поставил ее на печь и, вскрыв консервы, выложил содержимое в посуду. Запах разогретой пищи потянулся по комнате. Николай стал поджаривать на огне замерзший хлеб. Запах хлеба, раздражая обоняние, расшевелил детей. Из-за перегородки показались еще две девочки, одна постарше, другая помоложе первой, и уставились на еду...
— Дайте, хозяйка, нам тарелку, — попросил Мухаммедьяров. — Пища вкусна только с хозяевами... — привел он казахскую поговорку. — Давайте поужинаем всей семьей.
Смутившись, женщина ответила:
— Что вы, господин... — она запнулась и растерялась. — Что вы, товарищ комиссар, какие мы тут хозяева...
— Нет, вы настоящие хозяева, а немцы и мы — непрошенные к вам гости... — засмеялся я.
— Таких гостей, как вы, мы давно ждали... — ответила учительница и вдруг, не выдержав, разрыдалась.
Мы устроились полукругом у печурки. Впервые с начала войны я ужинал в семье.
Я не мог оторвать глаз от детей, уплетавших консервы и черствый хлеб... Откуда-то появились припрятанные Синченко кусочки сахара.
Теплая комната, детские лица, хорошая русская умная женщина — все это будило щемящую тоску по дому, сыну, жене... а рядом, быть может, невидимые за стеной бурана, уже движутся колонны немецких танков.
Распахнулась дверь — в клубах пара, белые, как два Деда Мороза, Мамонов и Скачков.
Протерев залепленные снегом глаза, и вдохнув полной грудью теплый воздух комнаты, Мамонов доложил:
— Фу, настоящий ад кромешный! Одним словом, товарищ командир, дошли с трудом. Кое-что навалили. Подымешь лопатой, и пока донесешь, все сдует. Потом додумались: в полах шинели и плащпалатках стали таскать. Что нагромоздили там, не знаю, может, уж ветром все размело...
— Деревьев бы навалить, тогда бы снег сам задерживался, — покачал головой Мухаммедьяров…
— Кое-как приволокли два валежника, товарищ комиссар.
— Мин бы нам штук двадцать, но их нет у нас... — вздохнул я. — Пулемет выставлен?
— Один пулемет поставлен, — ответил Скачков.
Мы сидим в этой каморке. Часть бойцов шныряет где-то в снежной мгле и ощупью пробивает себе путь во тьме, патрулируя вокруг наших позиций. Другие, напрягая слух и всматриваясь в темную даль, стоят на посту. Третьи — с лопатами ходят по траншеям, расчищая наметенный снег. Остальные, прижавшись друг к другу, спят в снежных жилищах. Вьюга злобно воет, рывками бьет ветер... Где генерал Чистяков? О чем он сейчас думает? Что делают люди полка Шехтмана и артиллеристы Курганова, четвертые сутки бьющиеся за Соколове? Что делают немцы в Соколове и по другую сторону от нас? Мне, как командиру полка, ничего не известно, я не знаю, что делается вокруг нас. Я глух и слеп. Все, что я делаю, — шаги наощупь... Я снова ловлю на себе тревожный, вопрошающий взгляд женщины и опускаю глаза...
— Товарищ командир, — вбежал Синченко, — там пулемет стреляет!
Мы выбежали на улицу. Еле слышно сквозь пургу доносилась очередь пулемета... Она была рваная, порывистая. Пулемет то задыхался, то снова строчил мелкой дробью...
— Там... — сказал Мамонов, показывая в сторону Соколова. А далекий пулеметчик все строчил и строчил…
Вдруг все стихло.
Неожиданно восток начинает светлеть. До восхода еще далеко... Что за оранжевый свет разгорается на горизонте?
Небольшое пятно все ширится. Вот уже и низкие тучи стали желто-оранжево-красными.
— Соколово, — обернулся ко мне Мухаммедьяров. Да, горит Соколово. Значит, враг уходит. Срочно всех офицеров я отправил на места и приказал усилить оборону в Соколовском направлении.
В ожидании мы провели больше часа...
Соколово пылало, но вот забрезжил рассвет, ослабив краски пожара. Мы с Мухаммедьяровым пошли посмотреть на снежный вал, сооруженный ночью.
В двухстах метрах от леса громадный снежный бугор загораживал дорогу. Ночная пурга намела вокруг вала гору снега, придав ему сказочно гладкую форму с острым красивым гребешком. Это то, что, по нашим предположениям, должно было стать преградой для танков врага и что было нашей единственной надеждой. С соколовской стороны на заметенной дороге мы обнаружили еле заметные следы гусениц танка. Сохранились и две провалины в нашем валу, по-видимому, танк таранил наше сооружение.
— Значит, здесь ночью все-таки немецкий танк побывал, — сказал Мухаммедьяров. — И этот сугроб, заставил его повернуть обратно.
— Да, наш вал заставил немцев переменить маршрут, — радостно заявил Мамонов.
У кювета дороги я заметил темную точку. Охваченный тревогой, я направился туда. Комиссар и Мамонов последовали за мной.
У края кювета лежал запорошенный снегом, проутюженный танком обломок пулемета и раздавленное гусеницей тело отважного пулеметчика. Поодаль лежали с десяток сраженных его пулями трупов немецких солдат.
Мы сняли ушанки. Перед нами тот, кто ночью вступил в единоборство с вражеским танком.
Мне показалось что-то знакомое в лице героя. Я подошел, наклонился над ним, смахнул снег с лица и узнал моего ночного собеседника — Андрея Алешина.
Какой до чудовищности странной бывает судьба человека на войне! Разве мы могли представить себе, что наша встреча на другой день будет такой?
«Они сказывали, что ночью к нам фрицы могут пожаловать». Как просто говорил он тогда об этом!.. Они пожаловали к нему, и он их не пропустил.
Из леса показался верховой.
Офицер штаба дивизии вручил мне листок из полевой книжки генерала Чистякова, где крупным, неровным почерком генерала было написано, что противник перед рассветом оставил Соколово, и полк Шехтмана двинулся преследовать его по следам. Генерал приказывал мне сдать участок батальону Н-ской бригады, который подойдет для смены к одиннадцати. А нам был указан новый маршрут.
Трудно выбить с места противника, но выбитому противнику еще труднее остановиться: он скользит и не может задержаться ни на одном рубеже. Он останавливается, пытается зацепиться за местность, огрызается, рычит, но при нашем подходе круто поворачивается, показывая нам спину.
Как убегающий от погони конь, так и отступающие проявляют всегда особую прыткость. Глубокие сугробы, как путы, сковывали наши ноги, мы утопали в снегу, но гнали и гнали убегающего противника. Мы были преследующие, а не беглецы, и эго придавало нам силы.
Так с боями мы прошли километров восемьдесят.
Двадцать третье февраля 1942 года — годовщину Советской Армии — мы встречали на поле боя. Впервые нам читались доклады языком огня.
Хутора, разбросанные северо-западнее Холкинского шоссе, среди болот Рдейской низменности, носили общее название Глуховка. Через эти места немцы прошли марафонским бегом, поэтому хутора сохранились от разрушения. Здесь, у шоссе, мы остановились.
Занятый боевой жизнью, я не имел времени отдать последний долг Тохтарову и другим достойным бойцам за Бородино, доложить об их подвигах высшему командованию и советской общественности.
Мужество не должно оставаться неотмеченным. Не заметить или забыть отвагу, проявленную солдатом в бою, где он кровью доказывал свою любовь к Родине, — черное пятно, ложащееся на командирскую совесть.
Лично я не был свидетелем подвига Тулегена Тохтарова. Часто, говоря о войне, многое приукрашивают и преувеличивают, но я не хотел оскорбить память Тулегена и других отважных даже намеком на вымысел. Я хотел, чтобы листы реляций были юношески чисты и по-солдатски честны, как сам Тулеген.
Тулеген Тохтаров... О нем, о его гибели я мог написать правду только со слов очевидцев, со слов людей, непосредственно общавшихся с ним, со слов тех, кто сражался рядом с ним. Ключ к этой правде у солдат его роты. У Малика, Трофимова, Гундиловича.
* * *
Комнатушка. На столе коптит гильза от снаряда малокалиберной пушки. Непривычно тихо.
Передо мной Малик Габдуллин, политрук Тулегена. Он сидит на табурете, опираясь на край стола, и перелистывает мелко исписанную общую тетрадь. Рядом с ним, в телогрейке, без шапки — широкоплечий великан с продолговатым лицом и отмороженным кончиком длинного прямого носа — Балтабек Джетписбаев, комсорг полка. Он сидит, полуприкрыв глаза усталыми, веками. Я слышал о нем как о любимом вожаке молодежи полка. Офицеры называли этого детину ласкательно — Балташ или почтительно — Балтаэке. Как-то я спросил комиссара, чем комсорг заслужил всеобщую любовь. Мухаммедьяров коротко ответил: «Простотой, искренностью, честностью».
Вот комиссар батальона Трофимов. Его белесые брови потемнели, глаза, как у близорукого, щурятся от усталости; он осунулся, оброс, вместо слов из его простуженного горла вырываются рваные хрипы. Ушанка небрежно откинута назад, пальцы его крутят очередную газетную самокрутку.
Четвертый — командир батальона, капитан Гундилович, блондин с обветренным лицом и немного отвисшей нижней губой. Он очень похудел, орлиный нос и острый подбородок слишком выделяются на его утомленном лице, красивые голубые глаза провалились.
Мы молчим и думаем о Тулегене. Я хочу увидеть героя, ищу его лицо среди тысячи лиц бойцов нашего полка. Лица мелькают в моей памяти, но ни на одном из них я не могу сосредоточиться. Я мучаюсь, что не запомнил его. Габдуллин напоминает мне о наших встречах с Тулегеном, но мне кажется, что я с ним никогда не встречался.
— Вот, товарищ командир, комсомольский билет и заявление Тулегена Тохтарова о приеме его в партию... он подал его тогда, перед боем, — Малик передает мне небольшой листок бумаги и тонкую книжечку.
Я раскрываю с трепетом комсомольский билет Тулегена — этот идейный паспорт большинства нашей молодежи. Из нижнего угла книжки на меня смотрит открытое лицо юноши с правильными чертами, с высоким лбом и отброшенною назад копною густых черных волос. Прямой и ясный взгляд... Какое тонкое и умное лицо у этого рабочего парня!
Вот он какой! Я смотрю на эту карточку и вспоминаю январские дни, подмосковное село Нахабино, помещение больницы, где мы распределяли по подразделениям новое пополнение. Вот подходит к столу рослый юноша в аккуратно заправленной широкой шинели, туго затянутой поясом. Старательно отпечатав несколько шагов по мерзлому полу, стукнув каблуками, он останавливается по стойке «смирно» и смело, с достоинством представляется:
— Рядовой Тохтаров Тулеген.
— Кем хочешь быть? — спрашиваю его.
— Куда прикажете, туда и пойду, товарищ капитан, — бойко отвечает он.
— В автоматчики пойдешь! — Есть в автоматчики.
— Я разворачиваю вчетверо сложенный лист, вырванный из тетради, и вслух читаю: «Прошу принять меня в ряды Коммунистической партии большевиков. Если меня убьют в бою за Родину, прошу меня все равно считать большевиком.
Сын скотовода, сам рабочий, Тулеген Тохтаров». Так он писал, просто и кратко.
— Ну, рассказывайте, Малик, — предлагаю я Габдуллину.
— Тулеген Тохтаров, — читает Малик страницы из своей тетради, — 1923 года рождения, рабочий из Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области. В роту прибыл четырнадцатого января...
— Рассказывайте, — нетерпеливо перебиваю я его.
— У меня, товарищ капитан, здесь кое-что записано о нем, разрешите прочесть?
— Хорошо, читайте.
— Дисциплинированный и примерный на службе боец. Отлично владеет оружием. В пути следования, в эшелоне, был назначен комсоргом и агитатором. Все поручения выполнял образцово и в срок. Впервые вступил в бой с немецкими оккупантами второго февраля за деревню Ново-Свинухово. В атаку пошел смело, уничтожил пятнадцать вражеских солдат и троих офицеров.
В ночь на шестое февраля в боях за деревню Бородино он первым ворвался в дом, занимаемый немцами, гранатой и автоматным огнем уничтожил двенадцать вражеских солдат. Во время первой контратаки противника, проявив инициативу, первым бросился с фланга на врага, увлекая за собой рядовых Батталова, Соколова, Игембердинова, Шумилова, Губайдуллина, Настретуллаева и других...
Малик закрывает тетрадь и начинает рассказывать о гибели Тулегена.
— Снаряды рвались за снарядами, разрушая траншеи и осыпая нас огнем. Разрывы оглушали, осколки свистели, не давая нам поднять головы. Только урывками мы вели огонь по идущей на нас немецкой цепи. Вдруг на миг все стихло, и я увидел, как немцы бегом бросились на Бородино. Я со взводом кинулся к ним навстречу, но уже поздно — они вошли в деревню. Мы очутились лицом к лицу с врагом. Почти в упор стреляли друг в друга. Дисков хватило только на несколько минут. Патроны кончились. У немцев тоже иссякли боеприпасы. Все, кто остался в живых, бросились врукопашную... С другого конца деревни до меня донеслись возгласы наших бойцов, стрельба участилась. Я хотел броситься туда, как вдруг почти рядом раздался выстрел. В десяти шагах от себя на соседнем дворе я увидел, как, опираясь на левую руку, приподымался немецкий офицер, наводя парабеллум на бойца, раненного, по-видимому, в живот. Я узнал Тулегена. Он, собрав последние силы, взмахнул автоматом и, рывком бросившись на офицера, ударом приклада в голову свалил его и свалился сам. Я подошел к нему — он был мертв. — Малик протягивает мне тетрадь и добавляет: — Здесь у меня записаны некоторые слова, сказанные Тулегеном.
Я положил тетрадь в сторону и обратился к остальным.
— А вы что расскажете, товарищи?
— Он был алтайским гордым архаром, — горяча вставляет Балтабек.
Я с удивлением смотрю на него — раньше я не подозревал в нем способности к поэтическому мышлению.
— Тулеген был моим земляком, одного мы с ним племени, — с болью в голосе говорит Балтабек.
— Товарищ Габдуллин привел ряд данных, но Томаров, конечно, только в одном Бородине уничтожил намного больше указанного числа немцев, — деловито вставляет Гундилович.
— Да, товарищ капитан, им уничтожено немало вражеских солдат, — подтверждает Малик. — Бойцы мне рассказывали, как он, перебегая из ячейки в ячейку, косил и косил вражескую цепь...
— В бою очень трудно точно учесть, чья пуля нашла немца, — вмешался Трофимов, — но мне кажется, что главное в подвиге Тохтарова то, что он личным примером заражал других, сын далекого Алтая, он за русскую землю призывал драться по-русски.
* * *
Поговорив еще о делах Тулегена и других бойцов, мы распрощались. Я остался один. Коптилка трещит и мигает.
Передо мной — комсомольский билет и заявление Тохтарова. Какую силу и какую ненависть к врагу должен иметь человек, чтобы последнюю предсмертную судорогу превратить в смертоносный удар по врагу!
Тулеген Тохтаров и Андрей Алешин — рядовые советские люди. Один — лениногорский рабочий, другой — колхозный парень из-под Павлодара, до последнего вздоха сражавшийся один на один со стальным немецким чудовищем. Им мы обязаны нашей победой!
Какая сила двигала этими бойцами? Что вдохновляло их на великий подвиг и рождало презрение к смерти?
Я раскрываю тетрадь Малика. Ровным и красивым почерком Малик записывал мысли, слова и поговорки, услышанные от солдат, фамилии и адреса товарищей, происходившие события.
Записи отрывочные, торопливые и незаконченные. Местами страницы тетради запачканы кляксами от дождевых капель и талого снега или просто комками грязи — явные следы того, что «кабинетом» автора были поле боя, дно окопа или воронка от снаряда. Я не задерживаюсь на страницах. На одном из последних листков тетради я читаю заголовок: «Тулеген Тохтаров».
«Смотри в глаза смерти — она испугается и отступит перед тобою».
«Кто любит жизнь, тот всегда наступает на костлявую ведьму».
«В наступлении не оглядывайся, а то споткнешься».
Записи завершали строки Абая, переписанные Маликом:
Пленяя слух, забирают душу мою в полон Красивая песня и сладкая мелодия, Погружают меня в мир размышлений... Если песни ты любишь — люби их, как я...Да, говорю я себе, разве Тулеген своим последним дыханием не пробудил в нас много высоких дум, чувств, размышлений? Разве он не мог сказать: «Если любишь жизнь, то люби ее так, как я ее любил!».
Вода потечет по правильному руслу и не остановится, если верно направить ее...
Скакун помчится, как стрела, если умелая рука его окрылит...
Сокол ринется против бури и урагана, если в гуще грозовой волны будет ясна ему цель...
Мы — советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь... У нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, — это любовь к Родине.
Недаром говорили мудрые: «Отец мужества — любовь, отец жизни — народ!».
Слава простому советскому человеку, вместившему в сердце своем океан любви к Родине и товарищам!
...Мигает коптилка.
Я пишу слова реляции о награждении отличившихся в боях за Бородино:
«Достоин присвоения звания Героя Советского Союза...»
Герои смертью жизнь не кончают, они начинают жить в сердцах миллионов!
Примечания
1
Главная походная застава.
(обратно)2
«Усталый скакун чувствует и тяжесть рукоятки плетки» (казахск.).
(обратно)3
Ахмак — дурак (казахск.).
(обратно)4
Махан — мясо (жаргон).
(обратно)5
Виды артиллерийского огня.
(обратно)6
Мостова — рисовый суп с мясом.
(обратно)7
О почтенный мой! Ну чего они от меня хотят?
(обратно)8
Что с тобой? Занимайся своим делом!
(обратно)9
Будет исполнено.
(обратно)10
Полковник приказал больше не делать привалов до места назначения.
(обратно)11
Об этом нельзя говорить.
(обратно)12
Я об этом не знаю.
(обратно)13
Благодарю. Я раньше не думал, что большевики так добры.
(обратно)14
Я умираю. Надеюсь, меня похоронят.
(обратно)15
Архив МО СССР, ф. 783, д. I. л, 98.
(обратно)16
ПВА СА, ф. 763, оп. 10268, д. I, л. 79.
(обратно)

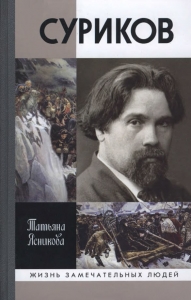


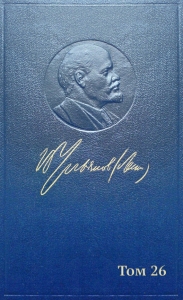

Комментарии к книге «За нами Москва. Записки офицера», Баурджан Момыш-улы
Всего 0 комментариев