Владимир Успенский Зоя Космодемьянская
ПАРТИЗАНКА ТАНЯ (Вместо предисловия)
Шестого декабря 1941 года началось долгожданное контрнаступление советских войск под Москвой. Гитлеровцев отбросили прочь от нашей столицы. Враг сопротивлялся отчаянно, пытаясь удерживать каждый дом, превратив в огневые точки кирпичные постройки, погреба и подвалы. Ко всему прочему, страшно было захватчикам покинуть укрытия, оказаться на морозе, в поле или в лесу. В легких шинелишках-то! А холода действительно стояли лютые. Лопались не только стволы деревьев, трескались даже сухие кладбищенские кресты.
Вьюга заметала воронки и трупы. Над сугробами возвышались остовы печей, закопченные кирпичные трубы. Стлался дым новых и новых пожаров, оседали гарь и копоть, покрывая снег грязным серым налетом. Медленно, по нескольку километров в сутки, откатывался на запад огненный вал войны.
Военный корреспондент «Правды» Петр Александрович Лидов получил задание редакции написать о том, как будет освобожден Можайск. Этого события ждали с особым волнением. Ведь Можайск — древний русский город на подступах к столице. Там рядом Бородино — поле нашей воинской славы.
Намерзшийся и уставший за день, Лидов с трудом нашел место для ночлега. В дом, а вернее — небольшую крестьянскую избу, уцелевшую недалеко от шоссе, народу набилось мною. Здесь обрели пристанище погорельцы. Вповалку спали на полу бойцы в новых белых полушубках. На печи ютилась хозяйка с детишками. Неровно, то вспыхивая, то почти угасая, светила, потрескивая, лампа, заправленная бензином с солью.
Отыскав местечко в углу, Петр Александрович съел кусок твердой семипалатинской колбасы с сухарем и сразу лег спать, вытянувшись на истертой соломе. Подушку заменяла полевая сумка.
Неподалеку погромыхивала канонада. На улице завывал ветер. А в избе тепло, вроде бы даже уютно. Да и то сказать: не каждую ночь фронтовому человеку доводится провести в обжитом, натопленном помещении.
Но вот потянуло вдруг холодом. Кто-то крикнул: «Дверь закрывай!» Возле Лидова устало опустился старик в большой косматой шапке. Снял рукавицы. Лицо морщинистое, продубленное морозом. Покряхтывая, устраивался поудобней.
— Не толкайся, дед, — сказал разбуженный им красноармеец.
— Прости. Погреться зашел, до костей проняло.
— Далеко путь держишь, отец? — спросил Лидов.
— К родственникам. В нашей деревне большой бой был. Ну и подчистую, сам понимаешь… Ни кола ни двора. Только и осталось, что на себе было. Такого насмотрелся, что не приведи господь!
— Война… Бери, закуривай.
— Я войну знаю, сам на двух побывал. А тут зверство самое настоящее. В Петрищеве девчонку повесили, совсем еще молодую девушку…
Лидов подвинулся ближе к старику.
— Где, говоришь? Что за девушка?
— В Петрищеве, это точно. А кто она, сказать не берусь. Народ толкует — партизанка. Сперва шибко пытали, старались чего-то выведать. Ей петлю на шею, а она речь держала…
Слушая старика, Петр Александрович задумался.
Совершенно особый случай! И его долг — долг журналиста, военного корреспондента, — выяснить подробности, разобраться во всем.
Не дождавшись рассвета, Лидок отправился в путь по заметенным прифронтовым дорогам.
Добраться до Петрищева было тогда нелегко. От шоссе до затерянной среди лесов деревни пять километров. Проселок не расчищался. Ни грузовая машина, и тем более «эмка» не могли пробиться через сугробы. Только на собственных ногах или на лошади. Первый раз Петр Александрович пришел в деревню пешком примерно через неделю после того, как фашисты бежали из Петрищева. Пришел ли один или со своими товарищами-корреспондентами, сказать трудно. Ведь Лидов бывал потом в этой деревне несколько раз. Вместе с ним бывали здесь и правдист Михаил Калашников, и Сергей Любимов, написавший потом очерк для «Комсомольской правды». Почти всегда с Лидовым приезжал фотокорреспондент «Правды» Сергей Струнников.
Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагал Петр Александрович, направляясь в Петрищево. Бесспорным являлся лишь сам факт: в этой деревне гитлеровцы повесили девушку, объявив, что она партизанка и поджигательница домов. Ее истязали, допрашивали сначала в одной, затем в другой избе, — имелись свидетели. Она была измучена, едва держалась на ногах, но все же гордо и смело встретила смерть, призывая людей бороться с фашистами, истреблять их. Крестьяне, согнанные к месту казни, были потрясены ее мужеством…
Больше месяца тело девушки раскачивалось на виселице посреди деревни. Гитлеровцы не разрешали снимать его. Пусть висит для устрашения. Чтобы неповадно, дескать, было гражданским лицам выступать против покорителей-оккупантов.
В новогоднюю ночь перепившиеся солдаты надругались над трупом, изуродовали штыками. Затем, опасаясь расплаты (приближалась Красная Армия), виселицу спилили. На краю деревни, между школой и опушкой леса, среди кустов была вырыта яма. Туда и бросили окоченевший труп, не прикрыв даже лица. И засыпали комьями мерзлой земли. Вскоре могилу занесло снегом.
Вот, пожалуй, и все достоверные сведения. Даже дату, когда фашисты схватили девушку, никто не мог назвать. В мрачные дни оккупации люди утратили счет ночам и дням. Ни радио, ни газет, никакой связи с внешним миром… Если у кого были календари, то прятали или уничтожали их, чтобы не попались на глаза гитлеровцам: ведь в календарях — портреты руководителей партии и правительства. Кое-кто отсчитывал время, делая узелки на веревочке или зарубки на дверных косяках. Немудрено было сбиться, Ну и записей, разумеется, никто не делал. Люди, которых расспрашивал Лидов, сходились в одном: казнили девушку в самом начале зимы. Перед этим была метель, а ночь выдалась морозной и звездной. И утро казни было тоже холодное. Попробуй-ка определиться по таким данным, тем более что зима вообще была ранняя и крутая. Морозы ударили в первой половине ноября, и тогда же плотно лег снег.
Установить время — нужно и важно, однако несравненно важнее было узнать, кто эта девушка, откуда она? А сделать это в ту пору было очень непросто. С конца лета, с осени в западной части Подмосковья осело довольно много беженцев, незнакомых местным жителям. А некоторые из местных, наоборот, эвакуировались. Половина населенных пунктов, если не больше, была сожжена, разрушена. В одном только Можайском районе было полностью уничтожено сорок селений, а еще в пятидесяти деревнях случайно уцелело по два-три дома. Лишившись крова, семьи искали приюта где угодно, переполняя сохранившиеся постройки. Люди замерзали в сугробах, на дорогах и пепелищах. Да ведь и фронт находился рядом, угрожающе напоминая о себе приглушенным грохотом орудийных залпов, и еще неизвестно было, отодвинется ли война дальше или вновь накатятся немцы. Сотни, тысячи красноармейцев и командиров ежедневно гибли в боях, получали тяжелые ранения. Их не успевали увозить в тыл… Как же в таких условиях выяснить фамилию партизанки?
Лидов вполне мог бы ограничиться краткой информацией. В таком-то селе, дескать, с особой яркостью проявился звериный характер фашистских вояк. Советские бойцы отомстят за гибель юной патриотки… Получилось бы волнующе, броско. Ведь Петр Александрович слыл мастером информации, любил этот своеобразный газетный жанр, в его записях остались такие строки: «Информация — это черный хлеб газеты. Трудный, но необходимый». Однако Лидов поступил по-другому, взялся за необычное для начального периода войны кропотливое расследование.
Имя девушки всплыло в первый же день, когда Петр Александрович прошел в Петрищеве по домам, потолковал с людьми. Несколько женщин сказали, что это, дескать, Маруся Гавшина, секретарь Верейского райкома комсомола. Очень похожа… Другие говорили, что нет: Маруся, мол, человек известный, проводила в Петрищеве подписку на заем, выступала с докладом. Сходство имеется, но это не она. Маруся взрослее, осанистее. Жители советовали навести справки в районе. Верея — не дальний край. Это верно, однако Лидов знал, что в Верее еще немцы.
Хозяйка дома, в котором партизанка провела свою последнюю ночь, Прасковья Яковлевна Кулик, успела, разумеется, тайком перемолвиться с девушкой несколькими фразами. Та неохотно отвечала на вопросы. Сказала только, что она из Москвы, что зовут ее Таня. Это было незадолго до казни, когда партизанка уже знала, что наступающее утро будет для нее последним.
Жители недальнего совхоза Головково, после пожаров перебравшиеся в Петрищево, в свою очередь, утверждали, что девушку повесили не здесь, а у них в совхозе. Потом ее сняли и увезли. Не верить жителям из Головкова вроде не было оснований, они видели казнь собственными глазами, правда, издалека. Но зачем же понадобилось фашистам одну и ту же партизанку казнить в двух местах? Или это были разные девушки?..
Заниматься расследованием того, что произошло в Головкове, Петр Александрович и его товарищи не имели ни возможности, ни времени. Там и начинать-то было не с чего. Показания свидетелей противоречивы… Может, просто легенда, родившаяся из слухов, разнесшихся после того, как казнили партизанку в Петрищеве?!
Таинственная, необъяснимая история в совхозе Головково оставалась долгие годы нераскрытой. Теперь многое известно. В этой книге, в частности, будет рассказано и о том, что произошло там. А в январе 1942 года правдисты Петр Лидов, Сергей Струнников к военкор «Комсомольской правды» Сергей Любимов по крупицам собирали сведения в Петрищеве.
21 января советские войска выбили гитлеровцев из Вереи. Вместе с наступавшими частями в город вошли работники районного комитета партии, доселе укрывавшиеся в окрестных лесах. И в тот же день в Верею приехали Лидов с Любимовым. Секретарь райкома партии сказал, что Маруся Гавшина жива и здорова, она была в партизанском отряде и уже возвратилась в город. Райкому известно о девушке, повешенной в Петрищеве. Она ночевала в одной из партизанских землянок, называла себя Таней. Предположительно — комсомолка из московского истребительного полка.
С помощью редакции Петр Александрович добился разрешения познакомиться с секретными документами воинской части, которая занималась в Москве подготовкой и переброской через линию фронта разведывательных, истребительных, диверсионных групп. Нашел в списках несколько Татьян, не вернувшихся с заданий, взял фотографии. Может быть, одна из этих девушек и погибла в Петрищеве? Но все они вроде бы старше…
Для того чтобы не осталось никаких сомнений, требовалось вскрыть захоронение. Это было необходимо. Даже если девушка не будет опознана по снимкам, можно сфотографировать казненную, поместить фото в газете, которая разойдется по всей стране. Кто-нибудь да откликнется.
24 января были собраны местные жители. С их помощью разыскали среди кустов занесенную снегом могилу. Несколько человек взялись за ломы и лопаты. Словно бы окаменевшие комья поддавались с трудом.
То, что увидели — потрясло всех. В тонкую шею юной девушки врезалась веревка. Разметались густые темные волосы. Лицо красивое, не искаженное предсмертной гримасой. Промерзшее тело, прикрытое изодранной кофтой, изувечено чем-то острым. Очищенная от земляного крошева, от снега, девушка казалась вырубленной из хрупкого льда. Вот такой, хрустально-чистой, почти прозрачной, осталась она в памяти Лядова. Года через полтора Петр Александрович запишет в дневнике, что ему довелось видеть разные портреты казненной героини. Одни художники добились близкого сходства с оригиналом, другие за сходством не гнались, а старались постичь и выразить на полотне внутреннюю сущность партизанки, ее порыв, ее идею. И эти к другие портреты хороши, пока на них смотришь. Но стоило закрыть глаза — и девушка представлялась ему именно такой, какой видел в первый и последний раз, на снегу у разрытой могилы.
А опознанию вскрытие не помогло. Ни на одну из Татьян, заброшенных в тыл врага, девушка не была похожа. Корреспонденты решили: какое бы имя ни носила казненная, факт остается фактом — она совершила подвиг, и об этом подвиге должен знать народ. Надо, не теряя времени, браться за перо.
27 января 1942 года сразу в двух газетах, в «Правде» и в «Комсомольской правде» появились очерки о партизанке — Петра Лидова и Сергея Любимова. С фотографиями Сергея Струнникова.
Очерк Лидова «Таня» написан был просто, с тем сдержанным скрытым волнением, которое обязательно вызывает ответное чувство. Очерк перепечатали многие республиканские, областные, городские газеты и, конечно, военные. Его передавали по радио, размножили отдельной листовкой. В редакцию хлынул поток писем. Читатели делились своими мыслями и переживаниями, просили Лидова продолжать поиск. Даже давали советы, как лучше искать. Петр Александрович, просматривая почту, надеялся: кто-нибудь назовет имя юной героини. Но в письмах его не было.
И все-таки оно прозвучало!
В Тимирязевский райком комсомола города Москвы пришел взволнованный паренек, назвавшийся Шурой Космодемьянским. Он утверждал, что на снимке его сестра — Зоя! Но о ней почему-то написано, как о Тане. И вообще, известны ли какие-нибудь подробности? В райкоме сказали, что они знают только то, о чем напечатано в газете. Но постараются выяснить.
На другой день в «Комсомольскую правду» явилась целая делегация, человек пять. Они сообщили, что девушка на снегу, с петлей на шее, их одноклассница из 201-й школы — Зоя Космодемьянская. Ее узнали многие, в том числе учительница Вера Сергеевна Новоселова. Мама Зои тоже работает в школе, но ей пока не показывают газету. Вдруг какая-нибудь ошибка?!
Нет, ошибки не было. Сергей Любимов тотчас связался с Петром Лидовым. А тяжелую миссию — сообщить матери о гибели Зои, приняли на себя работники райкома комсомола и Тимирязевского роно.
Чтобы официально подтвердить факт казни и фамилию казненной, была создана специальная комиссия, выехавшая в Петрищево. Вот документ, который был составлен после проверки всех известных к тому времени фактов:
АКТ
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: т. Владимирова — от ЦК ВЛКСМ, т. Шелепина — от МК ВЛКСМ, старшего лейтенанта т. Клейменова — от Красной Армии, т. Муравьева — от Верейского РК ВКП(б), т. Березина — от Грибцовского сельсовета, тт. Седовой, Ворониной, Кулик — от жителей села Петрищево, — составили 4 февраля 1942 года настоящий акт по осмотру и опознанию неизвестной гражданки, повешенной в селе Петрищево Грибцовского сельсовета Верейского района Московской области.
Нами установлено следующее:
1. При опросе очевидцев — граждан села Петрищево — Седовой В. Н., Седовой М. И., Ворониной А. П., Кулик П. Я., Кулик В. А. установлено, что в первых числах декабря месяца 1941 г. в домах граждан села Петрищево Седовой М. И., Ворониной А. П., Кулик В. А. производился обыск, допрос и зверское издевательство немецких солдат и офицеров над неизвестной советской девушкой.
После обыска, допроса и зверских надругательств над ней она была на другой день повешена в центре села Петрищево на перекрестке дорог.
Граждане села Петрищево — Седова В. Н., Седова М. И., Воронина А. П. Кулик П. Я, Кулик В. А., а также преподаватель языка и литературы тов. Новоселова В. С. и ученик Белокунь В. И. по предъявленным разведотделом штаба Западного фронта фотографиям опознали, что повешенной была комсомолка Космодемьянская Зоя Анатольевна.
2. Комиссия произвела раскопку могилы, где похоронена Космодемьянская Зоя Анатольевна. Осмотр трупа подтвердил показания вышеуказанных товарищей, еще раз подтвердил, что повешенной является тов. Космодемьянская 3. А.
3. Комиссия на основании показаний очевидцев обыска, допроса и казни установила, что комсомолка Космодемьянская 3. А. вела себя как истинная патриотка социалистической Родины и погибла смертью героя.
Обращаясь к местному населению, собранному немецким командованием на казнь, она произносила слова призыва к беспощадной борьбе с немецкими оккупантами…
Протокол опроса очевидцев — жителей села Петрищеве, документы — паспорт и комсомольский билет тов. Космодемьянской Зои прилагаются.
К работе комиссии были привлечены т. Новоселова Б. С. — преподаватель языка и литературы школы № 201 и ученик 10-го класса этой школы т. Белокунь В. И., знавшие Зою Космодемьянскую в течение нескольких лет.
О чем и составили настоящий акт
Подписи:
1. Владимиров.
2. Шелепин.
3. Клейменов.
4. Муравьев.
5. Березин.
6. Седова.
7. Воронина.
8. Кулик.
Село Петрищево Грибцовского с/с Верейского района Московской области. 4 февраля 1942 года.Через несколько дней, 13 февраля, к месту казни выехала мать Зои, Любовь Тимофеевна. Вот что пишет она в своих воспоминаниях:
«Плохо помню, как это было. Помню только, что асфальтированная дорога к Петрищеву не подходит и машину почти пять километров тащили волоком. В село мы пришли замерзшие, оледенелые. Меня привели в какую-то избу, но отогреться я не могла: холод был внутри. Потом мы пошли к Зоиной могиле. Девочку уже вырыли, и я увидела ее.
Она лежала, вытянув руки вдоль тела, запрокинув голову, с веревкой на шее. Лицо ее, совсем спокойное, было все избито, на щеке — темный след удара. Все тело исколото штыком, на груди — запекшаяся кровь. Я стояла на коленях подле нее и смотрела… Отвела прядь волос с ее чистого лба — и опять поразило меня спокойствие этого истерзанного, избитого лица. Я не могла оторваться от нее, не могла отвести глаз.
И вдруг ко мне подошла девушка в красноармейской шинели. Она мягко, но настойчиво взяла меня за руку и подняла.
— Пойдемте в избу, — сказала она.
— Нет.
— Пойдемте. Я была с Зоей в одном отряде. Я вам расскажу…»
Звали девушку Клавой, фамилия Милорадова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года Зое Анатольевне Космодемьянской было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А еще через два дня в «Правде» появился новый очерк Лидова, с нетерпением ожидавшийся читателями. Он назывался «Кто была Таня».
О Зое Космодемьянской узнала вся страна. Подвиг ее вдохновлял молодых бойцов.
Продолжавшаяся война бросала журналиста Лидова то на один, то на другой фронт. Он был участником и летописцем многих сражений. В качестве стрелка-радиста летал бомбить крупный город в глубине фашистской Германии. Бывал у партизан. С группой смельчаков Петр Александрович проник в захваченную гитлеровцами столицу Белоруссии, где работал до войны. Написал о том, как живут и борются с врагами минчане. Очерк «В оккупированном Минске» вызвал растерянность в фашистском гарнизоне, недовольство в Берлине. Как же так, по улицам города, в котором установлен строгий режим, полностью господствует «новый порядок», прямо среди дня разгуливает и даже беседует с жителями специальный корреспондент «Правды», имеющий звание майора.
Многое довелось пережить Петру Александровичу Лидову, но мысленно он никогда не расставался с Зоей Космодемьянской, продолжая собирать сведения о ее жизни и подвиге. «Я хочу знать всю правду о Тане, — писал он в 1942 году в многотиражной газете «Правдист», — и всю правду рассказать другим… Я в ответе за память об этой девушке перед людьми».
Он хотел после войны сесть за стол, изложить на бумаге то, что было увидено, пережито, прочувствовано. Любовь Тимофеевна Космодемьянская вспоминает его слова: «Я непременно напишу книгу о Зое. Большую, хорошую книгу». Увы, не написал.
В июне 1944 года Петр Лидов со своим постоянным спутником Сергеем Струнниковым приехал на военный аэродром под Полтавой, где базировались американские «летающие крепости». Они, эти «крепости», поднимались с далеких западных аэродромов, бомбили военные объекты фашистов и их союзников, а добраться назад не могли, не хватало горючего. Поэтому садились на наших аэродромах, заправлялись, брали бомбы и улетали на новое задание. Это были трудные и опасные «челночные» рейсы. Лидов хотел воздать должное американским летчикам.
И вдруг — сигнал тревоги! В воздухе — четыре «юнкерса». Появление вражеских бомбардировщиков здесь, далеко от линии фронта, оказалось совершенно неожиданным. Американцы даже не замаскировали свои машины. Экипажи бросились в укрытия. И пулеметчики, коим надлежало отбивать вражескую атаку, поспешили следом. «Юнкерсы» могли целиться спокойно, без помех.
Запылали три огромные «крепости». А фашисты начали новый заход. Со снижением, чтобы бить точнее. И тут Лидов не выдержал, кинулся к крупнокалиберному пулемету. Рядом — верный друг Струнников. И Александр Кузнецов — военный корреспондент «Известий».
Длинной очередью ударил Лидов по головной машине. «Юнкере» задымил, клюнул носом и огненным факелом понесся на аэродром. Упал он неподалеку от пулемета. И грянул сильный взрыв.
Другие «Юнкерсы» повернули на запад, поспешно освобождаясь от оставшихся бомб. Из блиндажей выскочили американцы, подбежали к разбитому пулемету. Все три журналиста, отразившие вражеский налет, были мертвы… На могиле, в которой схоронили Лидова, Струнникова и Кузнецова, американские летчики установили пропеллер «летающей крепости».
Да, Петр Александрович Лидов создал бы очень интересную книгу о Зое Космодемьянской, но он навечно остался на той войне, где осталась и Зоя. А продолжить поиски, подробно рассказать о героине довелось другим.
Автор этой книги многие годы собирал материал о Зое и ее боевых друзьях, изучал документы, сопоставлял факты, разыскивал свидетелей минувших событий. И, разумеется, в той или иной форме использовал то, что было опубликовано ранее: от очерков П. А. Лидова до воспоминаний Л. Т. Космодемьянской.
ХОРОШО БЫТЬ МОЛОДЫМ!
Когда-то в этих местах на Тамбовщине шумели обширные лиственные леса. Их давно уж свели под пашню. Раскинулись там поля, изрезанные оврагами, с редкими березками да ясенями в низинах. Возле домов — старые ветлы, кусты сирени. Плотно заселились благодатные эти края. Память о дремучих лесах сохранили лишь некоторые названия. В том числе — Осиновые Гаи, большое село, насчитывавшее после революции около пяти тысяч жителей. А 13 сентября 1923 года население здесь увеличилось еще на одного человека. Родилась девочка. Темноволосая, с прозрачными синими глазами. Назвали ее Зоей.
Было бы неверно сказать, что событие это осталось в селе незамеченным. Наоборот. Отец и мать девочки, ее дед и бабка были хорошо известны жителям Осиновых Гаев, пользовались уважением, привлекали к себе особое внимание. Кто мог не знать волостного писаря, от которого многое зависело в жизни крестьян?! Тем более, если это человек начитанный, бойкий, заядлый спорщик, к тому же хорош собой, отец шестерых детей, да еще и женатый на одной из первейших в селе красавиц, строгой неулыбчивой Марфе Михайловне. Таков был дед Зои — Тимофей Семенович Чуриков.
Наследникам своим волостной писарь старался дать то, в чем самого обделила судьба, — образование. Дочь Любу отвез в город Кирсанов, определил в женскую гимназию. Окончив там полный курс, Любовь Тимофеевна вернулась в Осиновые Гаи, начала работать учительницей. И получалось это у нее хорошо.
Вскоре после Октября в селе вместо двух создалось два десятка начальных школ. Преподавателей, разумеется, не хватало, брались за это дело люди, сами едва освоившие грамоту. Крестьяне-то понимали, что к чему, из какого источника лучше черпать: каждый старался, чтобы его ребятишки попали в ученье к Любови Тимофеевне, а еще лучше к ее ровеснику и дружку с детства, за которого она вышла замуж, — к Анатолию Петровичу Космодемьянскому. Они двое — наиболее образованные в сельской округе. Даже самые рьяные борцы с церковью, которых коробила «религиозная» фамилия Анатолия Петровича, не могли не ценить его ум и способности.
Космодемьянский выделялся не только широкими познаниями, по и твердым характером, казался старше своих лет. Успел прослужить в Красной Армии во время гражданской войны. Заведовал библиотекой, избой-читальней, ставшей центром просвещения в родном селе. Он мог смеяться искренне, весело, заразительно, однако чаще всего был суховат, сдержан, немногословен. Создал драматический кружок и руководил им. В пьесе А. Островского «Бедность не порок» замечательно исполнял роль Любима Торцова, задавая тон всем «артистам», в том числе и жене Любе, игравшей Любовь Гордеевну.
Вот что писала она впоследствии о своем муже: «Анатолий Петрович умел справиться с любым делом. Это признавали все. Старший сын в семье, рано потерявший отца, он сам пахал, сеял, убирал хлеб… Односельчане очень любили и уважали Анатолия Петровича, доверяли ему, советовались с ним по семейным и иным делам, а уж если надо было выбрать надежного человека в ревизионную комиссию — проверить работу кооперации или кредитного товарищества, неизменно говорили: «Анатолия Петровича! Его не проведешь, он во всем разберется!»
Еще одно привлекало к нему людей: он был на редкость правдив и прямодушен. Если кто-нибудь приходил к нему за советом и он видел, что человек этот не прав, не задумываясь, говорил:
— Неправильно ты поступил, я на твою сторону не стану.
— Анатолий Петрович никогда душой не покривит, — нередко слышала я от самых разных людей».
Зоя с раннего возраста была очень привязана к отцу, старалась находиться рядом с ним, даже когда был занят, не мог разговаривать с ней. Много общего угадывалось между ними. Серьезность, развитое чувство ответственности.
А как ему было не развиться, этому чувству, если Зое, когда ей еще не исполнилось и двух лет, начали повторять: «Ты старшая. Ты большая. Ты должна присматривать за малышом». А так называемый «малыш» Шура родился богатырем, был криклив, требователен, капризен. Ростом он скоро догнал и перегнал сестру, но она оставалась для него не только товарищем по играм и развлечениям, но и незыблемым авторитетом. Если Зоя что-то сказала, лучше не противоречить. Такой характер: все равно добьется своего. Возражать бесполезно. Коренастый, крепкий Шура вздыхал, но подчинялся своей худенькой, хрупкой и непреклонной сестре.
От раннего детства, прошедшего в Осиновых Гаях, остались у Зои лишь отрывочные, несвязные воспоминания. Вернее даже — ощущения. Вот она и отец едут на возу с сеном. От пряного запаха увядших цветов чуть кружится голова. Воз высокий, и когда он покачивается, Зое немножко страшно — как бы не упасть. Она тесней прижимается к отцу.
Гибкой лентой тянется среди зеленых полей дорога. Такой простор — глазам не охватить! И ведь это лишь то, что видно своза! А дальше, за горизонтом, там как? Есть ли у нее конец, у этой красивой родной земли?!
Дома встречают их мама с Шурой. Братишка подпрыгивает от нетерпения, столько у него новостей, столько надо рассказать Зое! Бабушка, ласково улыбаясь, выкладывает на стол свежий хлеб с подрумяненной корочкой, которая так приятно похрустывает на зубах. Мама уже подоила корову, наливает всем парное молоко. Разве может быть что-нибудь вкуснее, если проведешь целый день на воздухе, на лугу, помогая взрослым!
А как чудесно отдыхать в сарае, на душистом сене! Зое кажется, что плывет над лугом в волнах теплого воздуха, а вокруг цветы, цветы… Белые, розовые, синие… Но чу! На окраине села заиграл гармонист, высокие девичьи голоса завели песню… Отец поправляет под головой Зои подушку, она обнимает его большую, сильную руку и засыпает счастливая и спокойная.
Ощущение светлой радости — вот что сохранилось в ней от далекого детства. А сколько ей было тогда, до отъезда из Осиновых Гаев? Лет пять или шесть…
В 1929 году семья Космодемьянских покинула дорогие привычные места и отправилась в далекое путешествие, в Сибирь. Мама объясняла потом детям: захотелось, мол, ей и Анатолию Петровичу людей посмотреть, мир повидать. Но пытливая Зоя со временем начала догадываться о другом. Отец ее был активнейшим пропагандистом ленинских идей, ленинских норм жизни. С этим и выступал перед крестьянами (Анатолий Петрович знал наизусть многие речи Ленина, вырезал из газет, из журналов снимки Владимира Ильича и составил из них целый альбом: а ведь в ту пору фотографии Ленина появлялись редко, не говоря уж о портретах, их просто не было). Но вот после смерти Владимира Ильича начала быстро и круто меняться обстановка. Другие люди пришли к руководству в районе, в селе. На Космодемьянских посматривали недоброжелательно. Ишь ты, мол: не из бедняков, образованные, чего от них ждать?!
Наверно, правильно поступили Анатолий Петрович и Любовь Тимофеевна, покинув село. Да ведь и правда, интересно было и мир посмотреть, особенно детям. Впервые долго-долго ехали они на подводе до железнодорожной станции, впервые увидели огромный, черный, дымящийся и пыхтящий паровоз, впервые оказались в стремительно несущемся, покачивающемся вагоне. И не на час, не на день в вагоне-то, на целых семь суток.
Подвижному, избалованному бабушками Шуре быстро надоедало глядеть в окно, тесно ему было в небольшом вагонном пространстве, он уставал, капризничал. Мама вынуждена была заниматься с ним, развлекать его. А Зоя и отец с рассвета и до позднего вечера не отрывались от окна, уж они-то пересчитали все станции, все горы, все реки от Волги и до Енисея. И лесостепь увидели, и тайгу. О каждом городе, где стоял поезд, отец рассказывал Зое что-нибудь интересное. Как и когда закладывался, что было тут в дни революции. Вот здесь родился и вырос Владимир Ильич. Здесь, возле Омска, красноармейцы под руководством геройского командарма Тухачевского разгромили главные силы белого адмирала Колчака.
Зоя, разумеется, запомнила далеко не все, о чем говорил отец, но осталось у нее восхищение, удивление увиденным и зародилось горделивое чувство: все это наше, русское, советское! Огромность-то какая! А отец улыбался: это лишь малая часть могучей и многообразной России. Если брать с запада на восток — проехали меньше половины. А ведь есть еще север, есть юг… Воистину необъятна наша держава! И эти просторы за окном, и красота природы, и слова отца — все спаянно, слитно воспринималось Зоей. И осталось в ней навсегда. Действительно: то, что проникает в душу в самом начале жизни, никогда не сотрется потом. Песни, спетые в детстве, не забываются.
С поезда Космодемьянские сошли в городе Канске Красноярского края. Дома тут были деревянные, из больших, почерневших от времени бревен. Тротуары дощатые. И совсем никакой зелени, лишь редкие кустики в палисадниках. Зоя, вольно разгуливавшая, бывало, по простору Осиновых Гаев, в первый же день заблудилась среди однообразных улочек, оказалась в милиции, где ее и разыскал взволнованный Анатолий Петрович. Зоя распивала чай с милиционерами, спокойно и обстоятельно рассказывая о том, откуда приехали, какое впечатление произвела на нее дорога. Да еще и поторапливала собеседников: поскорее узнайте, где мок родителя и брат Шура. Он ведь скучает без меня…
В Канске семья задержалась недолго. По Сибири велика была нужда в образованных людях. Космодемьянских сразу же направили учительствовать в село Шиткино.
Привыкшие к степной открытости, к многолюдью к тесноте, Космодемьянские оказались в совершенно новой для себя обстановке. Помещение для школы? Пожалуйста, просторный дом. Для учителей изба-пятистенка, занимай хоть половину, хоть всю. Дрова? Вон поленница на опушке, сухая сосна, коли да топи хоть с утра до вечера, если не лень. Леса много.
Тайга отовсюду подступала к селу. Настоящая, глухая тайга. С одной стороны стеной стояли пушистые пихты. С другой — старые, величавые, оплывшие смолой сосны. Над морем зелени высились могучие кедры, любоваться которыми одно удовольствие. И чего только не было под густым пологом леса, особенно на склонах оврагов, на берегах ручейков! Малина, черника, черемуха! А грибов просто невероятное количество, местные жители выбирали только самые лучшие.
Очень интересная началась жизнь. Прямо перед домом — быстрая бурная река. Сразу за сараем — развесистые кедры с большими шишками, а потом малинник с крупными, вкусными ягодами. Рядом-то рядом, но детям одним бегать туда было нельзя: заходили поживиться ягодой лакомки-медведи. Настоящие. Кто знает, что у них на уме. Из-за них «по большую малину» ходили только группами, не забывая прихватить ружье. Но Зоя все-таки бегала и одна. Наберет кружку, и скорее домой.
Для семьи Космодемьянских время, проведенное в Шиткине (всего лишь год), было, наверно, самым хорошим, самым спокойным. Отец и мать подолгу были с детьми. Рано утром Любовь Тимофеевна и Анатолии Петрович отправлялись в школу вести уроки. Зоя оставалась хозяюшкой. Обязанности свои она знала твердо. Каша — в печке, молоко — в крынке: накормить Шуру и поесть самой. Следить, чтобы брат не перевернул все в комнате вверх дном. Главное, чтобы не залез на стол: упадет, расшибется. Ну и разные другие наставления, полученные от мамы.
Зоя старалась добросовестно выполнять то, что ей поручалось, но не всегда все складывалось как надо. За стремительным Шурой попробуй-ка угляди, особенно если приходили соседские ребятишки. Да и сама порой забывала о своих обязанностях, увлекалась игрой так, что к приходу мамы не успевала навести порядок. Войдет, бывало, Любовь Тимофеевна в квартиру и ахнет тихонько. Из стульев, из ящиков сооружен «дом», вся посуда на полу, вперемешку с тарелками красуются игрушки: старая кукла, лошадка на колесах с наполовину оторванной головой. Тут же сидит соседская девочка Манюшка и прижимает тряпку к расцарапанной щеке. А Зоя докладывает строго, почти по-военному: «Мы были умными, у нас все хорошо. Ничего не разбили и не пролили».
Действительно, разве не так: дети, оставленные почти на весь день, не только живы и здоровы, но и сыты, и изба цела, не сгорела — чего же еще надо? Маме оставалось только поблагодарить Зою, вернуть на свои места различные предметы, от табуреток до чугунков. Прибраться. И порадоваться тому, что день прошел без плохих происшествий.
Осенние и зимние вечера, долгие вечера, они проводили вместе — маленькой, но дружной семьей. Сперва каждый занимался своим делом. Любовь Тимофеевна и Анатолий Петрович проверяли тетради, готовились к урокам. Дети знали: папа и мама работают, а работа — это очень важно, и старались вести себя как можно тише, ничем не мешать взрослым. За окном выл ветер, бросая в стекла пригоршни снега, слышно было, как стонут деревья в тайге. Потрескивая, горели в печурке дрова. Было уютно, хорошо, тепло. Но главная радость, «настоящий вечер» — это ожидало детей впереди. Отец или мать, покончив с делами (а иногда сразу оба), подсаживались ближе к печке, и начинался долгий, спокойный разговор. Дети рассказывали, как они провели день, что нового узнали. Или слушали сказку. Любовь Тимофеевна знала много сказок: и про Василису Прекрасную, и про Ивана-царевича, и про Кузьму скоробогатого. Некоторые из них дети помнили дословно, а все же просили: еще! В устах мамы знакомые сказки каждый раз звучали ново, необыкновенно.
Последним подсаживался к печке отец. Насчет сказок он был не мастак, больше помалкивал. Если и рассказывал, то какие-нибудь случаи из жизни зверей или птиц. Например, о воробье, который много болтал, хорохорился, а на деле оказался трусишкой. Говорил-то Анатолий Петрович про зверюшек, про птах, а Зое казалось, что вроде бы про людей.
Летом 1930 года Космодемьянские приехали в Москву погостить у родственников. Пожили, нашли работу, решили остаться. Любовь Тимофеевна стала преподавать в начальной школе и поступила на заочное отделение педагогического института. Анатолию Петровичу нашлась должность в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Он тоже надеялся осуществить свою мечту, поступить в технический институт: усиленно готовился к этому.
Комнату Космодемьянским дали на Старом шоссе, — было такое в Москве. А поскольку это название еще не раз встретится в книге, скажем подробнее об этой уникальной улице. О «возрасте» свидетельствовало само название. Еще в петровские времена селились тут мастера-ремесленники, вывезенные из Амстердама (до сих пор сохранились Астрадамские проезды). Бывал тут и сам царь Петр (недавно были спилены последние липы, по преданию, посаженные им). До революции Петровской академией называлась нынешняя Тимирязевка, Петровской лесной дачей именовался массив Тимирязевского парка-заповедника. А единственной улицей, не только пролегавшей по краю леса, но и рассекавшей часть массива, как раз и было Старое шоссе, тянувшееся от опытных полей академии до шлагбаума на железной дороге Рижского направления — возле остановки Гражданская.
Сравнительно недалеко от центра Москвы (до стадиона «Динамо» рукой подать), среди крупных жилых районов — и вдруг эта тихая, мощенная булыжником улица, где и домов-то не видно среди деревьев. Впрочем, «дома» — слишком громко сказано, стояли там небольшие аккуратные дачки. В одной из них и поселились Космодемьянские. Теперь, естественно, все там застроено обычными зданиями, и обидно, что даже само название исчезло. Ныне это улица Вучетичя, который жил неподалеку. Как будто не появлялось новых улиц, требовавших наименования, достойных носить фамилию известного скульптора…
Привольно чувствовали себя на Старом шоссе Зоя и Шура. Движения тут почти никакого. Дети играли где хотелось, чаще всего возле водоразборной колонки или на слушке леса. Вместе со взрослыми, вместе с соседскими ребятишками Зоя и Шура Космодемьянские ходили в парк, каждый раз открывая для себя что-нибудь неожиданное. Вот могучие, в несколько обхватов дубы. Вот Олений пруд в низине. Вот березовая аллея, в которой даже ночью не темно: светятся белые стволы. А вот высоченные лиственницы, прямо как в Сибири. Под лиственницами, в траве-белоусе, полно маслят. Брат и сестра приносили целую корзинку!
Если когда-нибудь Зоя и была безоблачно счастлива, то именно там, на милом сердцу Старом шоссе. Конечно, в семье уже почти не было «настоящих вечеров», долгих задушевных разговоров, как в селе Шиткино, отец и мать были слишком заняты. Иногда, правда, читали вслух книги. Но редко. Зато семья обязательно проводила вместе все выходные и праздничные дни. Это было очень здорово! Шестого ноября они гуляли по пустынному осеннему парку, по влажной опавшей листве. Отец показал дом лесника Зеленова, в самой глуши, а потом еще ручеек — речку Жабинку, которая за пределами парка впадала или в Таракановку, что на Соколе, или прямо в Москву-реку, до которой, оказывается, было не очень далеко. Зое захотелось проследить, куда же впадает Жабинка, дойти до самого устья. Решили с отцом обязательно совершить такой исследовательский поход.
А на другой день, в праздник, отправились на Красную площадь. Тогда демонстрации не были строжайше организованы, как в послевоенные годы. Шли коллективы трудящихся, шли семьи и отдельные лица. Была самодеятельность, было искреннее веселье: оркестры, гармошки, пение, танцы и пляска. Зоя и Шура смотрели по сторонам, восхищались яркими плакатами, транспарантами, звездами, знаменами. Шура так бурно выражал свою радость, столько раз вскрикивал, восторгаясь, так рьяно подпевал демонстрантам, что совершенно охрип и шепотом спрашивал, а скоро ли площадь. Затихли дети, лишь когда впереди завиднелись мраморные стены ленинского Мавзолея. Выглянуло солнце, озарив площадь золотистым светом. Зоя, ступая на цыпочках, смотрела на руководителей партии и правительства, узнавала знакомые по портретам лица. Даже не верилось, что такие известные всем люди — и так близко! Улыбаются, приветственно вскинув руки. Это ведь ей машут и смотрят в ее сторону! И она замахала тоже, подпрыгивая, чтобы самой было виднее и чтобы ее видели с Мавзолея.
В школу Зоя и Шура, несмотря на разницу в возрасте, пошли вместе, даже в один класс. Конечно, Шура был еще маловат, всего шесть лет, но, во-первых, брат и сестра были настолько привязаны друг к другу, что просто не могли представить себя порознь, а во-вторых, Шуру не с кем было оставить дома, мама и папа на работе. Вот и оказался он самым младшим в своем классе. А Зоя, пожалуй, самой старшей — в сентябре 1931 года, первого ее учебного года, ей «стукнуло» восемь.
Забот сразу прибавилось много. Не столько о себе, сколько о Шуре. Ученье давалось ему трудновато. Нетерпеливый он, озорной. Лишь бы играть, а не домашние задания готовить. У Зои каждая буква, каждая цифра в тетрадке выведены старательно, а у брата все вкривь и вкось, на страницах — следы грязных пальцев. Зоя потребовала: прежде чем берешься за тетрадь или учебник, обязательно мой руки. Шура возмутился. «Еще чего! Отстань!» Но под строгим взглядом сестры быстро смирился.
Особенно много беспокойства доставлял он Зое в школе. Сидели они на одной парте. А учительницей в их классе была Любовь Тимофеевна. Зоя сразу поняла, какая разница между мамой дома и мамой — преподавательницей в школе. Здесь нет ни сына, ни дочки, тридцать учеников в классе, все равны. На уроках Зоя обращалась к учительнице, как и другие девочки и мальчики, называла Любовью Тимофеевной. А озорной и лукавый Шура был себе на уме. Дождется, пока станет совсем тихо, лишь голос учительницы звучит в комнате, и вдруг скажет громко и капризно: «Мама! Мне сидеть надоело!» Нарочно, чтобы вызвать недоумение, суматоху, чтобы все смотрели на него: строгая учительница, и вдруг — мама?!
Зоя краснела, ей было стыдно за выходки брата, она старалась предупредить их, но голос Шуры раздавался всегда неожиданно: «Мама, мне скучно».
Кончилось тем, что Любовь Тимофеевна вынуждена была перевести своих детей в параллельный класс. Там Шура сначала притих, а потом начал проявлять себя в новом качестве — победителем на переменках. Крепок был богатырь. Дома он от колонки в квартиру, на второй этаж, полные ведра таскал. И в школе показывал силушку. В любой схватке выходил победителем. Над всеми одноклассниками брал верх, а подчинялся лишь своей худенькой хрупкой сестре. И, наверно, нет ничего удивительного, что Зоя скоро начала пользоваться в классе большим авторитетом. Надо ведь еще учитывать и то, что она была постарше многих и что характер у нее был решительный, твердый.
Кто-то из мальчишек разбил оконное стекло. Ну, бывает. Не очень уж тяжелый проступок. Признайся, извинись, и ладно. А на этот раз никто не хотел признаваться. Зоя возмутилась: есть, оказывается, такие бесчестные! Перед началом урока встала на учительский стул, все собрались вокруг нее. Пристальным взглядом обвела лица:
— Говори, кто разбил? Не подводи других!.. Молчишь? Все равно по глазам узнаю сейчас!
Такое убеждение звучало в ее голосе, так подействовала ее уверенность, что один из мальчишек, толстощекий забияка, опустил голову и произнес со вздохом:
— Это я.
И все поняли, все запомнили: от Зои ничего не скроешь. Так ее бабушка в деревне поступала, узнавая провинившихся детей по выражению лиц.
Зоя не только приструнивала, поругивала Шуру, но и гордилась им, особенно его умением рисовать. Картинки у него получались четкие, выразительные, передающие напряжение. Чаще всего напряжение боя, потому что Шура изображал главным образом атаки: скачущих кавалеристов, пехотинцев с ружьями наперевес, взрывы снарядов и бомб. Такое было тогда время, между одной большой войной и в предчувствии другой: почти все мальчишки хотели стать танкистами, летчиками, моряками или смелыми всадниками.
Как-то само собой получилось, что по утрам первой просыпалась всегда Зоя, опасаясь опоздать в школу. За ней, потягиваясь, отгоняя остатки сна, вставала мама и тут же начинала «раскачивать» Шуру. Тот только с боку на бок переворачивался. А отца не трогали: вечером он долго засиживался у керосиновой лампы, зато утром отправлялся на работу позже всех.
Позавтракав, втроем выходили из дома. Осенью и зимой еще затемно. До школы было далеко, Любовь Тимофеевна считала, что не меньше трех километров. И ни трамвая, ни автобуса по пути. Лишь изредка подвозил их в кабине грузовика знакомый шофер.
Была еще и другая дорога, не по окраине парка, а прямо через лес, но зимой ее заносило снегом. К тому же ходить по ней в темноте опасались не только женщины, но и мужчины: неподалеку от шоссе было глухое место, которое жители называли «волчьими ямами». В петровские времена там стоял какой-то заводик, вероятно, кирпичный. Земля была изрыта. Там почему-то особенно густо, непролазно рос кустарник, а высоко над головами смыкались кронами старые сосны. Даже в солнечные дни было сумрачно. Там прятали навороженное добро шпана и кочующие цыгане, там находили пристанище уголовники. Слухи, может, были преувеличены, но лучше уж крюка дать, чем идти мимо в темное время. Тем более что и на проезде, по которому ходила Любовь Тимофеевна, было так же хорошо и красиво, как и в самом парке. С одной стороны лес, а с другой — редкие домики.
В любое время года эта дорога была замечательна. Осенью ярким пламенем пылали деревья, шумела опадающая листва. Зимой высились белые пышные сугробы и хрустел под ногами снег. Весной воздух звенел от птичьего пения. Из школы возвращались, когда светло, и шли прямиком через лес, любуясь цветами, собирая букетики подснежников, ландышей, незабудок.
Кстати, это была не та школа, в которой создан музей Зои и Шуры Космодемьянских, которая известна теперь по всей стране. Нет, первые три года брат и сестра учились в школе, здание которой и поныне стоит неподалеку от слияния бывших шоссе — Старого и Нового, а теперь улиц Вучетича и Тимирязевской. Номер у нее был 222-й. Одна — во всей округе. Даже после войны, когда на Старом шоссе появилась восьмилетка, учащиеся старших классов ходили туда. И доныне в этом здании звучат юные голоса: в семидесятых годах там создан был учебно-производственный комбинат.
Изо дня в день, при любой погоде три километра по лесной дороге в один конец и столько же, или немного меньше, в другой. Закалка для Зои и Шуры была отличная. Они не болели, не знали, что такое простуда. Щеки у обоих смугло-розовые, Зоя окрепла, заметно подросла. Про Шуру и говорить нечего: озорничал, не зная, куда девать силенку.
Живя на Старом шоссе, Зоя, родившаяся в степной местности, узнала и полюбила лес. И совершенно не боялась его. Многие люди, оказавшись в одиночку в незнакомых зарослях, особенно в пасмурный, дождливый день, теряются, не знают, что делать, зовут на помощь. И правда ведь — жутко бывает. А для Зои лес — друг. Он укроет (сколько раз, бывало, спасалась в чащобе от ребят, играя в казаки-разбойники!). Он накормит ягодами или орехами, грибами или съедобными корешками. И от непогоды защитит.
Хорошо чувствовала себя Зоя в лесу еще и потому, что знала, как можно выбраться из любых дебрей. Главное: наметь направление и иди прямо, не уклоняясь в сторону, не блуждая по кругу. Терпеливо выбирай ориентиры и шагай от одного к другому. Рано или поздно окажешься на дороге или на просеке.
Никому не известно, что и когда пригодится в жизни. Наступит срок, и Зое придется сутками, неделями оставаться в осеннем продрогшем лесу, не имея крыши над головой, скрываясь от преследования врага. Сколько раз с благодарностью вспомнит она Тимирязевский парк, давший ей много полезных навыков.
Два события, хорошее и трагическое, произошли одно за другим. Анатолию Петровичу предоставили комнату в доме номер 7 по Александровскому проезду. Как раз на противоположной (от Старого шоссе) стороне Тимирязевской лесной дачи. Местность вокруг непривлекательная. Дом на отшибе, среди огородов, возле обширного пустыря. Но зато комната на втором этаже была просторной, светлой и теплой.
Детям переезд доставил большое удовольствие: новое-то всегда интересно! Тем более что в полученной комнате нашлось место для ребячьего уголка. Столик детский поставили, полочки повесили. Зоя хозяйственно разместила учебники, книги, тетради, вырезанные из журналов картинки. А вот «богатство» Шуры оказалось значительно разнообразней, он привез в новое место массу всякого добра: стеклышки, железки, рыболовные крючки, сломанные и действующие рогатки, какие-то палки, обрывки какой-то сетки. Впрочем, скоро забыл об этих «ценностях», которые и были благополучно ликвидированы при очередной уборке.
Шуре — лишь бы поспорить. Показал Зое: тут будут мои книжки, а тут — твои. Ждал, что сестра начнет возражать, жаждал схватки. А Зоя, давно понявшая его характер, ответила согласием. «Хорошо». Конфликт был исчерпан, едва начавшись. Самолюбивый Шура был доволен. А Зоя потом ставила книги и учебники там, где считала нужным, где ей было удобнее.
Зажили, в общем, в свое удовольствие. А однажды Анатолий Петрович, вернувшись с работы, сказал словно бы между прочим, что ему удалось взять билеты в цирк. Четыре билета, на всю семью. Зоя благодарно улыбнулась отцу, Шура заорал «ура!», а Любовь Тимофеевна поцеловала мужа в щеку. Чудесная была новость. Для занятой делами семьи развлечения выпадали не часто. В выходные дни бывали в кино или ездили иногда в парки. И вдруг — цирк! Это где клоуны, дрессированные звери, акробаты, всевозможные трюки! Никогда там не бывали!
О предстоящем походе в цирк говорили всю неделю. А в субботу Любовь Тимофеевна, вернувшись с детьми домой, увидела необычное. Муж не на работе, а в комнате. Анатолий Петрович, бледный и осунувшийся, лежал на кровати. Сказал успокаивающе:
— Ничего особенного. Неважно себя чувствую. Живот.
На следующий день ему не стало лучше. Держался бодро, но чувствовалось, что состояние ухудшается.
— Придется вам идти в цирк без меня, — с улыбкой произнес он.
Любовь Тимофеевна колебалась. Может, действительно, пойти в цирк без Анатолия Петровича? Он-то поправится. А когда еще будет возможность приобрести билеты?! Шура был огорчен тем, что поход в цирк срывался. А Зоя, видевшая, с каким трудом далась отцу его улыбка, сказала решительно:
— Нет! Без тебя мы не пойдем.
Анатолию Петровичу становилось все хуже. Его била лихорадка. Нарастала боль. Он не жаловался, не стонал, был сдержан, как всегда, закусывая губы во время приступов. А Зоя, сидевшая возле кровати, чувствовала, как боль ломает отца. Его боль словно становилась ее болью. И когда ощутила, что ему совсем невмоготу, что он не может сдержать стоны, взяла пальтишко и шапку.
— Пойду за доктором.
— Куда же ты среди ночи?! — воскликнула мама. — Далеко! Не найдешь!
— Пусть, — прошептал Анатолий Петрович. — Пусть разыщет…
В темную глухую февральскую ночь десятилетняя девочка отыскала медицинский пункт, привела врача. А тот определил сразу: «Заворот кишок. Немедленная операция». Но пока нашли машину, пока доставили… Операцию сделать успели, но было уже слишком поздно…
Для Зои смерть отца навсегда осталась мучающим переживанием. И чем взрослее она становилась, тем больше. Ну почему, почему случилась такая нелепость?! Они вот с мамой и Шурой ели всегда хоть и не досыта, но регулярно. А как и где кормился отец, обеспечивающий семью? На службу он уходил позже всех, мама оставляла ему порцию завтрака. Потом целый день на работе, на курсах. Приходил усталый, дети едва успевали дождаться его. Наскоро пил чай. Обедал ли он днем? Может, перехватывал что-нибудь всухомятку, на скорую руку?!
Шура в ту пору мал еще был, не осмыслил потерю отца, даже спрашивал до самого лета, почему нет папы, когда он вернется? А Зоя поняла не только глубину утраты, но и свою возросшую ответственность; за растерянную, убитую горем маму, за брата. Сама встречала родственников, приехавших на похороны. Им был известен лишь старый адрес. Зоя, пройдя через лес, долго ждала, озябшая, возле той дачки, где семья жила прежде.
Она знала, что ей нельзя плакать, нельзя увеличивать переживания мамы, расстраивать Шуру. Она держалась. И разрыдалась лишь один раз, когда комья морозной земли с глухим стуком посыпались на крышку гроба.
И потом она всегда скрывала свое горе. Плакала только ночью, укрывшись с головой одеялом. Думала, что никто не замечает. И удивлялась порой, просыпаясь от ласкового прикосновения материнских рук: Любовь Тимофеевна вытирала слезы со щек стонавшей во сие дочери.
Круто, резко переменилась жизнь. Семья осталась без опоры, без главного кормильца, и это — в трудные годы, когда в стране многие голодали, когда государство еще не имело возможности оказать помощь нуждающимся. На один заработок учительницы начальной школы семью не прокормишь. Любовь Тимофеевна взяла дополнительные часы днем, а по вечерам стала преподавать в школе для взрослых. Дома не бывала почти весь день. А если и бывала, то проверяла тетради, готовилась к урокам, наскоро варила обед. Многие другие обязанности приняла на себя Зоя.
Учиться брат и сестра перевелись поближе, в только что заново отстроенную школу № 201, имевшую просторные, светлые классы, хорошую библиотеку, большой двор. Зоя и Шура, как и прежде, занимались в одном классе, но взаимоотношения между ними несколько изменились. Если прежде Шура пытался бунтовать, не повиноваться сестре, то теперь он полностью признал ее руководство, и если о чем и заботился, то лишь о том, чтобы никто и нигде не обидел Зою. А уж в этом на него, сильного, самолюбивого и смелого, можно было вполне положиться.
Приготовив домашние задания и проверив, как справился с этим брат, Зоя принималась за хозяйство. Убиралась в комнате, топила печь. Любовь Тимофеевна в своих воспоминаниях рассказывает:
— Ох, спалит нам Зоя дом! — говорили иной раз соседи. — Ведь ребенок еще!
Но я знала: на Зою можно положиться спокойнее, чем на иного взрослого. Она все делала вовремя, никогда ни о чем не забывала, даже самую скучную и маловажную работу не выполняла кое-как. Я знала: Зоя не бросит непогашенную спичку, вовремя закроет вьюшку, сразу заметит выскочивший из печки уголек. Однажды я вернулась домой очень поздно, с головной болью и такая усталая, что не было сил приниматься за стряпню. «Обед завтра сготовлю, — подумала я. — Встану пораньше…»
Я уснула, едва опустив голову на подушку, и… проснулась на другой день не раньше, а позже обычного: через каких-нибудь полчаса надо было уже выходить из дому, чтобы не опоздать на работу.
— Вот ведь беда! — сказала я, совсем расстроенная. — Как же это я заспалась! Придется вам сегодня обедать всухомятку.
Вернувшись вечером, я спросила еще с порога:
— Ну что, совсем голодные?
— А вот и не голодные, а вот и сытые! — победоносно закричал Шура, прыгая передо мной.
— Садись скорее обедать, мама, у нас сегодня жареная рыба! — торжественно объявила Зоя.
— Рыба? Какая рыба?..
На сковороде и в самом деле дымилась аппетитно поджаренная рыбка. Откуда она?
Дети наслаждались моим изумлением.
Шура продолжал прыгать и кричать, а Зоя, очень довольная, наконец объяснила:
— Понимаешь, мы, когда шли в школу мимо пруда, заглянули в прорубь, а там рыба. Шура хотел поймать ее рукой, а она очень скользкая. Мы в школе у нянечки попросили консервную банку, положили в мешок для калош, а когда шли домой, задержались на часок возле пруда и наловили… Пришли домой, зажарили, сами поели и тебе оставили. Вкусно, правда?
Можно себе представить, что это была за рыба, которую удалось выловить консервной банкой! С мизинец величиной. Но разве в величине дело…
Шура ворвался в комнату раскрасневшийся, возбужденный. При виде его Любовь Тимофеевна и Зоя замерли в изумлении. Всякое бывало, приходил он в ботинках, разбитых при игре в футбол, с синяком под глазом, в порванной рубашке, но сейчас!.. С ног до головы перемазан глиной, весь в копоти. А главное: что стало с его пальто, с почти новым пальто! Все пуговицы выдраны «с мясом», вместо них зияли дыры. И карманы вырваны с кусками материи, болталась неровная грязная бахрома.
— Где это ты? — спросила Зоя.
— Мы с ребятами пещеру выкопали, костер жгли, на нас напали, а мы отбивались, — постепенно утрачивая пыл, отвечал Шура, не сводя глаз с печального маминого лица. Пожал плечами, начал переодеваться.
Ни слова не сказала ему Любовь Тимофеевна. Боялась расплакаться от огорчения, от обиды. Взяла пальто, принялась его чистить. Достала нитки. Конечно, надо покупать новое, но сразу-то не соберешься. И весь вечер потом, ссутулившись, сидела в дальнем углу молча, спиной к детям, штопая и зашивая. Непривычная, давящая тишина воцарилась в комнате. В конце концов Шура не выдержал, остановился за спиной мамы, произнес невнятно и торопливо:
— Я больше не буду…
Нет, не раскаялся он, не понял.
— Хорошо, — вздохнула Любовь Тимофеевна. — Верю.
Холодно пожелала спокойной ночи, легла на кровать. И не слышала разговор, который состоялся между детьми. «Чего ты сердишься, — шепотом сказал Шура. — Ведь я же извинился, она простила». — «Разве так извиняются… Мама работает одна, ей трудно. А теперь мы целый месяц будем совсем мало видеть ее». — «Почему?» — «Чтобы заработать на новое пальто, ей надо провести пятьдесят добавочных уроков!» — «Сколько?» — ужаснулся Шура, для которого и один-то урок высидеть было пыткой. «Да-да, примерно пятьдесят уроков», — подтвердила Зоя.
Неизвестно, заснул ли в ту ночь Шура, о чем он думал… Во всяком случае, когда рано утром, еще до рассвета, Любовь Тимофеевна открыла глаза, сын стоял у ее изголовья. Наверно, давно стоял.
— Мама, прости, я больше не буду никогда-никогда!
И такая искренность, такая боль прозвучала в его словах, что Любовь Тимофеевна, приподнявшись, ласково погладила его волосы и поцеловала в щеку.
Замечательная молодежь вырастала в нашей стране в тридцатые годы: целое поколение, жившее не столько своими интересами, сколько интересами государства, стремившееся получить как можно больше знаний, чтобы принести пользу своему народу, своей Отчизне. Поколение революционных романтиков, борцов, оптимистов. Устремленное в будущее. Можно сказать светлое поколение.
А ведь время тогда было трудное, жесткое, сложное.
Забывая о собственных невзгодах, волновались за челюскинцев, оказавшихся на льдине, гордились советскими летчиками, первыми проложившими путь через Северный полюс в Америку. Теснясь в коммунальных квартирах, радовались появлению подземных дворцов метрополитена. В редкие свободные часы устремлялись в музеи, в библиотеки, в театры. Мечтали служить в военном флоте или осваивать дальневосточную землю, строить тракторный завод или возводить плотину. Сами не всегда сытые, сами нуждавшиеся во многом, с радостью помогали тем, кому было плохо. Фашисты Германии и Италии пытались в то время задушить испанскую революцию. Республиканцы мужественно сражались за свою свободу. Все помыслы советской молодежи были на их стороне. Тринадцатилетний Шура вздыхал: «Эх, черт возьми, поздно родился, не успею фашистов-то бить!» Зоя предложила: в банке открыт специальный счет, многие люди вносят туда деньги для женщин и детей сражающейся Испании. Давайте и мы, сколько сможем?!
— Хорошо бы, — неуверенно произнесла Любовь Тимофеевна.
— Мы все понимаем, мама! — горячо поддержал сестру Шура. — Знаешь, мы с Зоей на завтраки поменьше будем тратить.
— И заработаем немножко.
— Каким образом? — спросила Любовь Тимофеевна.
— Ты же сама говорила, что можно брать работу на дом, копировать чертежи, — напомнила Зоя. — А мы с Шурой хорошо чертим, особенно он.
Так и решили. И рады были Космодемьянские, что хоть совсем капельку, а все же помогали борцам за свободу! Пламенный лозунг Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — был для Зои и Шуры так же близок и дорог, как и для тех, кто сражался в окопах Испании.
С седьмого и по девятый класс русский язык и литературу преподавала Вера Сергеевна Новоселова, она же была какое-то время и классным руководителем. Для брата и сестры Космодемьянских она навсегда стала своего рода идеалом, воплотив черты, которые Зоя считала лучшими в людях. Вера Сергеевна покоряла учеников увлеченностью, глубоким знанием своего предмета, любовью к нему. Она не просто вела уроки: сама горела, сама волновалась, зажигая и волнуя тех, кто слушал ее. Она не требовала, чтобы ребята заучивали, она хотела, чтобы они понимали.
Спрашивала: «Почему вам нравится этот литературный герой? Или не нравится? Правильно ли он поступает? А как надо было бы поступить?» И начинался спор-разговор, в который втягивался весь класс, высказывались мнения, цитировались отрывки из литературных произведений, доводы критиков, декламировались стихи. Неуютно чувствовали себя лишь те, кто не знал обсуждаемую повесть или поэму. Но таких с каждым разом становилось все меньше. А произведение, о котором шел спор, Зоя, как правило, перечитывала еще раз, и многое воспринимала по-новому.
Наверно, не было в Москве музеев или памятных литературных мест, куда не сводила Вера Сергеевна своих питомцев. И не просто водила. Подготовка начиналась заранее, учительница советовала, что прочитать предварительно, с какими картинами познакомиться, где найти различный подсобный материал. Много рассказывала о том или ином писателе, о его книгах, о его судьбе. Да еще экскурсовод… После похода ребята обменивались впечатлениями. Знания оставались глубокие и прочные.
Или так: на несколько часов уведет Вера Сергеевна свой класс в Тимирязевский парк или в Останкино. Ребята бродят по лесу, посидят у костра. Почитают стихи о весне (если это весной), о замечательной русской природе. Вспомнят, как писали о ней Пушкин, Тургенев, Толстой. И обязательное правило: после себя не оставлять в лесу никакого мусора, ни единой сломанной ветки.
Зоя довольно много читала и до прихода новой учительницы, а под влиянием Веры Сергеевны увлечение литературой становилось все серьезнее. Из записей в дневнике, который вела Зоя, видно, что в седьмом классе она прочитала много пушкинских произведений, среди них: «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Повести Белкина», «Арап Петра Великого». Значатся в дневнике «Ася» и «Рудин» Тургенева, целый ряд чеховских произведений, «Очерки бурсы» Помяловского, «Простая душа» Флобера. И это не только прочитано: высказано в дневнике и собственное мнение.
А на лето Зоя наметила: «Основное — Чехов: «Вишневый сад», «Ионыч»; Горький: «Старуха Изергиль», «На дне», «Мать», «Дело Артамоновых»; Фадеев: «Разгром»; Шолохов: «Поднятая целина»; Шекспир, Гёте, Конан Дойл»… И все, что планировалось, она, как правило, выполняла.
Даже непоседа Шура под влиянием учительницы и сестры постепенно увлекся художественной литературой. А вообще учился он легко, играючи, все давалось ему без напряжения. И математика, и география, и пение, и химия. Принесет «неуд» — не огорчался. Чуть-чуть поднажмет, и в дневнике отличная оценка. По физической подготовке — среди первых. Хорошо играл на гитаре, оставшейся после Анатолия Петровича. Много рисовал. Можно было только позавидовать его одаренности. Зоя-то часами просиживала над учебниками по химии или решая алгебраические задачи.
Подсказок не хотела. Шуре, бывало, надоест ждать ее, чтобы вместе пойти погулять, или жаль станет сестру, допоздна сидящую за столом. Напишет ей ход решения, положит листок возле локтя: «Погляди и кончай». — «Нет, сама разберусь». И не было случая, чтобы поддалась искушению. Ну и сама не подсказывала на уроках, не давала списывать. На нее обижались некоторые одноклассники, но она была непреклонна. Помочь после занятий — сколько угодно. А списывать — нечестно. Не в отметках же дело, а в знаниях. Так считает и Вера Сергеевна, она сама говорила об этом.
Каждая встреча с любимой учительницей доставляла Зое радость. Не только из-за того, что несла открытия, новые познания. Вера Сергеевна была обаятельна в самом лучшем понимании этого слова. Назвать ее красивой было трудно. Хотя бы потому, что крупноваты черты лица. Но какое одухотворение светилось всегда в ее глазах! Волосы были роскошные: тугие жгуты кос опоясывали голову. При любых обстоятельствах держалась Вера Сергеевна свободно, естественно, без всякой позы или надменности, но с сознанием собственного достоинства. Какая-то внутренняя сила чувствовалась в ней. Одно только ее присутствие исключало проявление хамства, при ней невозможна была ложь, хвастовство, фальшивая патетика. Люди, обладавшие подобными свойствами, инстинктивно старались держаться подальше от Новоселовой. Она ведь выскажет все и при всех, не считаясь со званиями, положениями, чинами. Да, эта учительница, даже не проводя специальных уроков принципиальности и благородства, могла много дать своим ученикам. Особенно таким, как Зоя, бравшим с нее пример.
После войны Вера Сергеевна работала в школе № 223, где резко выступала против оценки работы учителей по процентам. Сколько, мол, у вас пятерок, а сколько троек? Такой подход к делу связывал руки педагогам, толкал их на путь бездушной формальной отчетности, даже обмана. В Тимирязевском районе столицы против этого боролись три старейших учительницы, которых полушутя называли «корифеями российской словесности». Это прежде всего Мария Дмитриевна Сосницкая, преподававшая в школе имени Зои Космодемьянской, замечательный педагог и автор широко известных книг «Живое слово» и «Тропа к Пушкину». Это — Вера Сергеевна Новоселова. И еще Нина Николаевна Сечкина, бывшая тогда методистом районо и имевшая к тому времени большой педагогический стаж.
Так вот, Нина Николаевна, сама заслуженный и опытный педагог, не переставала восхищаться уроками Новоселовой, на которых ей по долгу службы приходилось бывать. Дает, к примеру, Вера Сергеевна несколько уроков подряд на одну тему в параллельных классах, и каждый из них не похож на предыдущий. Как артист чувствует зал, чувствовала Новоселова настроение класса, уровень его подготовки, сразу определяла, что надо сделать, чтобы заинтересовать ребят, «взять» в руки, провести урок с максимальной пользой. Менялось выражение лица, менялся тембр голоса, менялось все ее состояние и, если в одном классе она чуть ли не все сорок пять минут читала стихи, то в другом проводила строгую, почти университетскую лекцию.
А сколько внимания уделяла Вера Сергеевна проверке письменных работ, считая это очень важной, индивидуальной и даже в какой-то степени интимной формой общения педагога со своими подопечными. Она не просто выискивала ошибки и выясняла степень знаний. Она делала пометки на полях, уточняя смысл, заменяя в сочинениях негодные, неточные слова и фразы более уместными. Вера Сергеевна правила сочинения, как редактор правит рукопись, объясняя ученику, чем вызвано то или иное замечание.
«Помню, что Зоя особенно увлекалась трагическими биографиями Шевченко и Чернышевского», — вспоминала Вера Сергеевна.
Действительно, Чернышевским Зоя увлеклась, и не без содействия Веры Сергеевны, которая поддерживала ее интерес к этому замечательному революционеру, давала необходимую литературу. Зоя прочитала почти все, что можно было найти о Николае Гавриловиче, восхищаясь его мужеством во время гражданской казни, его стойкостью на каторге и в ссылке, которые отняли у него двадцать лет. Читала запоем все, что было написано Чернышевским или о Чернышевском. Шура забеспокоился почти всерьез:
— Знаешь, мама, она вчера как пришла из школы, так и утонула в книжке. Читает — и ничего не видит и не слышит. По-моему, она скоро начнет спать на гвоздях, как Рахметов.
Шутил, конечно, братишка, сам испытывавший глубокое уважение к стойкому революционеру. Не случайно же сделал он рисунок к сочинению Зои: воспроизвел тушью домик, в котором жил в ссылке Чернышевский. Хорошо передал окружающую пустоту, холод одиночества. И пообещал сестре: «Когда-нибудь обязательно напишу большую картину. Она будет называться: «Гражданская казнь Чернышевского».
К вступлению в комсомол Зоя готовилась очень серьезно и обстоятельно, как и вообще делала все, за что бралась. Внимательно прочитала «Манифест Коммунистической партии». Изучила речь Владимира Ильича Ленина на III съезде комсомола: некоторые абзацы помнила наизусть. Ну и конечно — основополагающие комсомольские документы, в том числе материалы X съезда ВЛКСМ, который состоялся в апреле 1936 года. Выписывала в свою тетрадь некоторые мысли, некоторые фразы. И даже по одним только этим выпискам можно судить, что интересовало, что тревожило тогда Зою.
«У нас развелись люди, которые различные мещанские атрибуты выдают за зажиточную культурную жизнь… Подобно попугаям, они блистают своим пестрым оперением, под которым скрыто убогое существо невежд!»
Такие «попугаи» встречались и Космодемьянским. Зоя с нескрываемым презрением относилась к ним, к их мещанскому быту.
Еще выписка:
«Забота и внимание к человеку заключаются вовсе не в том, чтобы давать ему все готовенькое, растить в нем чувство сытенького благополучия, за которым всегда следует пресыщение. Забота и внимание заключаются вовсе не в том, чтобы льстить и подлаживаться к молодому человеку, растить в нем маленькое обывательское самодовольство и этим вытравлять в нем чувство нашей гордой скромности… Советская власть открыла перед молодежью все двери, все пути — выбирай любой, иди! Но иди на своих ногах, твердо, смело, с упорством, настойчивостью, дерзай, добивайся, достигай честным трудом, учебой, умением!»
Именно таким путем и шла Зоя. Ее идейная убежденность, ее горячее стремление посвятить себя большим полезным делам не вызывали ни у кого, в том числе и у мамы с Шурой, никаких сомнений. Любовь Тимофеевну тревожило другое: отношение товарищей по школе, предстоящее обсуждение в райкоме комсомола. Примут ли Зою? Для такой тревоги у мамы и у Шуры имелись некоторые основания.
Дома она — обычная девчонка, в меру веселая и общительная, трудолюбивая, с чувством юмора. Любит повозиться с соседскими детишками, покрасоваться перед зеркалом, примеряя мамино платье (уже почти доросла!). А в школе, на людях, очень менялась, замыкалась в себе. Была резка, порой слишком прямолинейна. Учительница химии поставила ей за отметку «отлично», а Зоя вдруг попросила изменить ей оценку. «Почему?» — удивилась учительница. «Потому, что этот предмет я на «отлично» пока не знаю». И учительницу поставила в неловкое положение, и себя тоже. В классе долго потом спорили, права она или не права.
Что это? Свойства определенного возраста в различных проявлениях? Стеснительность, скованность… Но как-то уж слишком обостренно. Вот Шура тоже бывает и груб, и резок, но быстро отходит, мягчает. Он даже более стеснителен, чем Зоя. В гостях или при знакомстве с новыми людьми краснеет, теряется, не знает куда деть большие руки, что сказать. А глядишь, через полчаса он уже чувствует себя как дома. У него все мальчишки в классе — верные друзья. А у Зои только две подруги, Ира и Катя, да и то задушевными их не назовешь, скорее просто хорошие знакомые.
Любовь Тимофеевна беспокоилась: у Зои такое время, когда появляются у девушек секреты, тайны. Братцу-другу Шуре многого не скажешь, даже маме, пожалуй, не откроешь всего, а с подругой можно было бы поделиться, посоветоваться. Но не с кем.
Трудно Зое. Для взрослых она слишком молода и по возрасту, и внешне: худенькая девчонка в полудетских туфельках без каблуков. А со сверстниками ей неинтересно. Она чувствовала себя значительно старше их. Так сложились обстоятельства, что на ней с детских лет лежали настоящие, серьезные обязанности. Забота о Шуре, о доме, даже о маме — у нее не оставалось времени для шалостей, для болтовни, для забав. Она к этому привыкла. Пустяковые занятия, бесполезные разговоры раздражали ее. Зоя и не скрывала своего мнения. В классе, в школе это нравилось далеко не всем.
Казалось, обязательно найдутся ребята, которые выступят против приема Зои в комсомол, припомнят обиды. А получилось как раз наоборот: впервые открыто и ясно проявилось то уважение, с которым, оказывается, относились к Зое товарищи по школе. Комитет комсомола дал ей самую лучшую характеристику, в которой особенно подчеркнул ее честность, добросовестность, принципиальность во всем.
На общем собрании Зоя, борясь с волнением, коротко рассказала свою биографию (да и что рассказывать-то!), четко и точно отвечала на все вопросы. Потом кто-то поднял руку: «Чего ее спрашивать? Мы все вместе с Зоей готовились, и все бегали к ней советоваться: как это понять, как то; что надо прочитать? Лучше уж она пускай нас спрашивает!» А следующий выступавший, ее одноклассник, сказал так: «Сколько лет учился вместе, сколько раз обращались к Зое за помощью, наверно, тысячу раз». — «Ну, прямо уж тысячу!» — усомнились в президиуме. «Может, и больше, — ответил одноклассник. — И никому никогда не отказала. Будет сидеть с тобой, пока ты поймешь, не считаясь со своим временем. Надежный товарищ!»
Зое и неловко было от того, что ее хвалят, и приятно, конечно.
Перед обсуждением в райкоме комсомола Зоя чувствовала себя спокойнее, увереннее, чем в школе. Там ведь, наверно, задают вопросы более общие, теоретические, а к этому она долго готовилась. Пожалуй, на этот раз больше волновался Шура. Он проводил сестру в райком и потом долго, до самой темноты сидел на крыльце, бродил вокруг дома, ожидая сестру.
Принимали многих ребят. Очередь Зои подошла одной из последних. Секретарь райкома, веселый и молодой, спрашивал быстро. Каково сейчас положение в Испании? Читала ли Маркса?.. Ответами был явно доволен. Подумал, прищурившись:
— А что самое важное в нашем уставе, как по-твоему?
Неожиданный был вопрос. Зоя подумала, сказала:
— Самое главное: комсомолец должен быть готовым отдать Родине все свои силы, а если нужно — и жизнь.
— Ну, ладно… А хорошо учиться, выполнять комсомольские поручения?
Зоя даже удивилась:
— Это само собой разумеется.
Секретарь нахмурился, подошел к большому окну, увлекая за собой Зою. Резким движением отдернул занавеску, показал на небо:
— Посмотри, что там?
Зоя вгляделась, пожала плечами:
— Ничего нет.
— А звезды? — усмехнулся секретарь. — Видишь, сколько звезд и какие красивые! Но ты их не заметила, потому что они сами собой разумеются. Пойми: все большое и хорошее в жизни складывается из малого, вроде бы незаметного. Просто каждому надо хорошо делать обычное. Ты об этом не забывай!
Вполне доходчиво объяснил ей секретарь. Не щадить себя ради счастья Родины — важно и необходимо. Но не менее важно и в повседневной привычной жизни наилучшим образом выполнять свои обязанности. Собственно, Зоя всегда так и поступала, но очень уж приподнятое было настроение, когда отвечала секретарю.
Домой сестра и брат возвратились поздно, о многом поговорили, пока добирались от райкома до дома. Зоя плескалась под умывальником, а Шура, подойдя к столу, сказал маме:
— Знаешь, она у нас молодец! Большой молодец!
С этого времени Любовь Тимофеевна начала замечать, как меняется характер Зои. Не утратив принципиальности, она стала как-то добрее к людям. Особенно после того, как ее избрали групоргом. Одно это заставило Зою ближе познакомиться с одноклассниками. Надо было расспросить, кому какое поручение по душе, у кого какие предложения, кто за что возьмется… Сама Зоя взялась обучать неграмотных женщин в одном из домов на Старопетровском проезде.
Не только по школьным, но и по общественным, по комсомольским делам встречалась она теперь с новыми людьми, и с молодыми, и с пожилыми. Тут волей-неволей станешь разговорчивей, добросердечней, переборешь стеснительность, неуверенность, замкнутость.
Зоя, конечно, сама чувствовала, понимала, что с ней происходит. И когда однажды за чаем мама, внимательно посмотрев на нее, сказала: «Ты какая-то неузнаваемая, будто заново родилась!», Зоя ответила весело:
— Ты права! Давай познакомимся, комсомолка Космодемьянская!
И, поднявшись со стула, протянула маме узкую твердую ладошку.
Осенью 1940 года, едва начав заниматься в девятом классе, Зоя заболела. Простуда, потом осложнение. Была дома одна, решила вымыть полы. Набрала ведро воды, намочила тряпку. Дело-то вроде привычное. Наклонилась и потеряла сознание. Мама и Шура, вернувшись из школы, застали Зою в глубоком обмороке. Ее сразу же увезли в Боткинскую больницу. Несколько суток опытные врачи боролись за жизнь девушки.
Медиков удивляла и восхищала выдержка Зои. Высокая температура, сильные головные боли, уколы — а от нее не слышали ни крика, ни стонов, ни жалоб. Профессор, выйдя в приемную к Любови Тимофеевне, так и сказал ей:
— У девочки огромная выдержка… Самое трудное позади, можете не волноваться.
Хоть немного успокоилось материнское сердце.
Не меньше Любови Тимофеевны переживал и Шура, впервые в жизни надолго оставшийся без сестры. Он тосковал без Зои, каждый день готов был ездить к ней в больницу. И очень переменился за короткое время. До девятого класса он оставался мальчишкой. Рослый, с крепкими мускулами, до ледостава купавшийся в пруду, по утрам обтиравшийся снегом, красивый юноша, на которого заглядывались девушки, он в душе был ребенок ребенком. Сегодня мечтал стать летчиком, завтра — знаменитым футболистом, потом художником, потом вдруг агрономом.
Упрямый, задиристый, любивший похвастать, он стеснялся сходить в магазин за покупкой — девчоночье, мол, занятие, приятели засмеют. Легко ему было за сестринской-то спиной. А увезли Зою, и сразу повзрослел, отлетело все пустяковое, наносное, забылись развлечения, шумные игры на пустыре. Шура взял на себя все, что делала прежде сестра. Топил печь, мыл полы, убирал комнату, чистил картошку. Только в продуктовый магазин мама, щадя его самолюбие, ходила сама.
Раньше Зоя и Шура прирабатывали немного по вечерам, копируя чертежи и пополняя семейный бюджет. У Шуры получалось быстрее и лучше. А теперь он взял вдвое больше работы, просиживал над чертежами до поздней ночи, иногда трудился и по утрам, до школы. А получив деньги, сказал маме:
— Шапка мне не нужна, в старой прохожу, не развалится. Давай Зое платье купим. Красивое. Ведь она у нас девушка.
— Согласна. Сам и вручишь ей подарок.
Когда Зоя вернулась из больницы, она была еще так слаба, что с трудом ходила по комнате. Больше лежала. Глаза казались огромными — так она исхудала. Ей бы отдыхать, поправляться, а она взялась за учебники. Любовь Тимофеевна осторожно высказала свое мнение:
— Уже середина учебного года, а заниматься всерьез тебе еще рано. Не лучше ли подождать до сентября, набраться сил…
— Это что же, отстать от своего класса? Шура моложе меня, а школу закончит раньше?
— Тебе обещают путевку в санаторий.
— Я и там заниматься буду. А после санатория — тем более. Вся весна впереди. Догоню. Ни в коем случае не останусь на второй год! — Зоя заявила это так решительно, что Любовь Тимофеевна поняла: возражать бесполезно.
Очень любила Зоя книги Аркадия Гайдара. Перечитывала по нескольку раз. В повести «Школа» ее особенно волновало то место, где Борис, будучи в разведке, забыл об осторожности, об ответственности, самовольно решил искупаться и тем самым погубил своего старшего товарища — Чубука. Что мог подумать о нем Чубук? Только одно: Борис оказался предателем. Каждый раз, возвращаясь к этому месту, Зоя возмущалась: как же он мог? О чем же он думал? Что за несерьезность такая?
«Голубая чашка» радовала ее тонким мастерством. Вроде бы ничего не происходит в повести, никаких особых событий, а какое чудесное, светлое настроение она создает. Даже не верилось, что человек, способный создать такие произведения, живет поблизости, в Москве, ходит по тем же улицам, что и Зоя. Как бы хотелось увидеть его!
И получилось — словно в сказке. Хорошо запомнился ей весенний день в Сокольниках, в санатории. Быстро сбежала она с крыльца, пошла по аллее. Над вершинами деревьев ползли облака. Вот в одном месте они разорвались, появился голубой просвет, веселые, сверкающие лучи солнца упали на землю. Стало светлее вокруг. Под карнизом крыши заблестели сосульки. Едва успели облака затянуть этот разрыв, как солнце проглянуло сквозь хмурую пелену еще в двух местах.
Было тепло. Снег потемнел, сделался рыхлым. Зоя слепила комок и запустила его в дерево. На желтом стволе сосны появилось белое пятно.
— Прямо в цель! — засмеялась она. — Не разучилась, значит!
Безлюдно в парке. День будничный, гуляющих нет. Не видно даже лыжников — кому охота ходить по мокрому снегу! Издалека доносился приглушенный расстоянием шум большого города, гудки автомашин, трамвайные звонки.
Недолго царствовать холоду. Скоро побегут ручьи. Оденутся молодой листвой кусты и деревья, появятся первые цветы… А там, не успеешь оглянуться, экзамены в школе…
Странно все-таки устроена жизнь. Когда Зоя лежала в больнице, она думала, что самое главное — быть здоровой. И все будет хорошо. Но вот поправилась, много гуляет, катается на лыжах. И место здесь красивое, и книг в библиотеке много, и заботятся о ней. Но чувство неудовлетворенности не покидает ее… И не только по школе соскучилась. Ей всегда не хватает чего-то, тянет куда-то, а куда — не поймешь…
Свернула на узкую, глубоко протоптанную тропинку. Полы длинного, коричневого с меховой оторочкой пальто чертили на снегу причудливые зигзаги. По этой тропинке Зоя еще не ходила. Надо посмотреть, куда ведет.
На поляне остановилась от неожиданности. Здесь высилась огромная снежная баба. На голове вместо волос — тонкие прутики. Вместо глаз — угольки. А возле снежной бабы, спиной к Зое, стоял широкоплечий человек. Он достал из кармана щепку, воткнул в снежный ком. У бабы появился рот. Человек отступил в сторону, полюбовался своей работой. «Такой взрослый, а чем занимается!» — Зоя едва удержалась от смеха.
Но вот человек повернулся, и Зоя сразу узнала его. Высокий лоб, добродушное лицо, веселые и лукавые глаза — таким он был на портрете в книге. Пожалуй, только он один и мог так серьезно заниматься мальчишеским делом!
Зоя улыбнулась смущенно, не решаясь заговорить первой.
— Смотрите, это снежная королева! — сказал человек. — Хорошо получилось?
Зоя не ответила. Снежная баба сейчас меньше всего интересовала ее.
— А я знаю вас, — негромко произнесла она. — Вы — Гайдар, я все ваши книги читала…
Они разговорились.
— Я тоже отдыхаю здесь, приказано поправить здоровье, — сказал Гайдар. — Мы с вами летчики, сделавшие вынужденную посадку. Положение незавидное, правда?
— Чему уж завидовать!
— Ну, ничего. Бывает несчастье похуже. Раз мы сели — давайте проведем время так, чтобы и в строй поскорей вернуться, и чтобы весело было… Вы чем занимаетесь?
— Чтение, прогулки.
— А что вы умеете делать?
— Умею лепить снежных баб и строить крепости.
— Тогда давайте работать вместе.
— Идет! — согласилась Зоя.
Вдали послышался звон колокола, сзывающего на обед.
— Эх, не вовремя! — огорченно махнул рукой Гайдар.
— А мы, Аркадий Петрович, в другой раз сделаем.
Весь тот день она находилась под впечатлением встречи с любимым писателем. Зоя знала и о том, какой необыкновенный человек сам Гайдар. Четырнадцатилетним подростком оставил он родной город и ушел добровольцем на фронт. В пятнадцать лет командовал батальоном, в шестнадцать — полком. В боях с белыми был контужен и ранен. Пришлось покинуть Красную Армию, в которой Гайдар хотел остаться на всю жизнь. И, может быть, потому, что сам провел юношеские годы в борьбе за Советскую власть, смог он лучше других рассказать новым мальчишкам и девчонкам о тех горячих днях, о своих храбрых товарищах. Была у Гайдара повесть «Военная тайна». Очень нравилась эта повесть всем ребятам, не нравился только печальный конец, когда гибнет маленький Алька — смелый всадник первого Октябрьского отряда имени мировой революции. Многие ребята просили Гайдара изменить конец, оставить Альку в живых. А Гайдар не изменил. Он ответил ребятам, что победа над врагами дается нелегко и что самые лучшие люди отдают за нее жизнь. А то, что ребятам жалко Альку, — это хорошо. Значит, ребята будут еще крепче любить свою страну и ненавидеть ее врагов.
Зоя тоже жалела Альку. И еще ей хотелось быть такой же смелой, как он, как сам Гайдар.
Аркадий Петрович и Зоя вместе ходили на лыжах, вместе построили из снега крепость, позвали отдыхающих и разбили снежками это укрепление.
Однажды отправились на каток. Утро выдалось морозное. Звенел под коньками лед. Зоя каталась хорошо. А у Аркадия Петровича не ладилось. Он давно не становился на коньки. Ноги разъезжались, он то и дело падал.
— Какой же вы неуклюжий! — смеялась Зоя.
— А вы помогите товарищу, — отряхивал снег Гайдар. — Дайте руку!
И они, взявшись за руки, сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей побежали по сверкающему ледяному полю.
Катались долго. Кроме Зои, у Аркадия Петровича нашлось еще несколько помощников — знакомых мальчишек. Шумная ватага с веселыми криками носилась по катку.
Усталые, возвращались они в санаторий.
— Очень здорово было, — говорил Гайдар. — Один бы я ни за что не смог кататься. А взялись все вместе, и сразу научили!
— Вы счастливы, да?
— Ну, Зоя, для счастья этого мало. Слишком мало. Просто я очень доволен сегодня.
— Аркадий Петрович! — Зоя говорила негромко и серьезно. Гайдар замедлил шаг. — Аркадий Петрович, а что такое счастье? Ведь есть же оно у людей?
Гайдар задумался. Зоя остановилась, ожидая ответа. Порыв ветра сбил с дерева снег, он запорошил пальто, но Зоя не шевельнулась. Она не сводила глаз с лица Гайдара.
— Есть, Зоя! Такое счастье есть на земле, — произнес он неторопливо, будто размышляя вслух. — За это счастье боролись смелые люди.
Зоя кивнула, по-мальчишески прыгнула через сугроб и первой пошла по тропинке. Ветер усиливался, крутил поземку, бросал в лицо колючие снежинки.
Гайдар догнал Зою, и они пошли рядом.
— За это счастье придется еще бороться, — сказал Аркадий Петрович, — и борьба будет жестокая.
— Я знаю. И товарищи мои знают.
— Знать мало. Надо готовить себя…
Они вышли к санаторию. Здесь, за лесом, ветер почти не чувствовался. Покачивались, поскрипывали толстые стволы сосен, принимая на себя удар, оберегая людей от разбушевавшейся стихии. А между высокими деревьями, тесно прижавшись друг к другу, стояли молодые, тонкие деревца. Они гнулись, снег осыпался с них, но молодой лес, поднявшийся вслед за старым, стойко выдерживал натиск ветра…
Через несколько дней в санаторий приехал фотограф, сделал большой групповой снимок отдыхающих. Теперь этот снимок можно увидеть в музеях. На нем вместе Аркадий Гайдар и Зоя Космодемьянская, герой гражданской войны и будущая героиня Великой Отечественной, которые погибнут за Родину почти в одно и то же время, в самое трудное для страны время — в 1941 году.
И вот Зоя покидает санаторий. За ней приехала мама, Гайдар пошел проводить их.
— До свидания, до новой встречи, — сказал он, остановившись у калитки и подавая Зое книжку. — Возьмите на память.
Аркадий Петрович крепко пожал руку Зое и Любови Тимофеевне, долго смотрел им вслед.
Зоя очень обрадовалась подарку. Это была одна из последних книг Гайдара — «Чук и Гек». Зое нравился рассказ про веселых братишек, но особенно приятно было получить книгу из рук самого автора.
Открыла книжку. Крупным, четким почерком на первой странице было написано:
«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».
Слова были взяты Гайдаром из текста книги…
Хорошо быть молодым! Хотя бы потому, что у тебя все впереди, и если ты очень-очень захочешь, то добьешься того, что наметил, поднимешься на любую вершину. У тебя есть на это время, есть нерастраченные душевные силы. И замечательно — если рядом с тобой верные друзья, которым готов помочь ты и которые всегда помогут тебе. Надежное чувство локтя, силу коллектива — все это Зоя особенно ощутила, вернувшись из санатория. В короткий срок ей надо было наверстать упущенное в школе. И оказалось, что о ней беспокоятся не только одноклассники, но и ребята из параллельных классов, и Вера Сергеевна Новоселова, и все другие учителя.
По математике, по самому трудному для Зои предмету, взялась помогать Катя Андреева, крепкая круглолицая девушка со здоровым румянцем, не сходившим со щек. Любовь Тимофеевна была несколько озадачена: математику хорошо знает Шура, почему бы ему не подтянуть сестру? Для чего затруднять Катю? А девушка очень серьезно сказала: у Шуры нет педагогических способностей. Математика требует терпения, постепенного систематического освоения. А Шура спешит, прыгает с одного на другое…
Объяснение звучало вполне убедительно. У Кати оказалось много терпения и такта, она каждый день не расставалась с Зоей до тех пор, пока та полностью не усваивала заданную тему. И вскоре Зоя начала получать хорошие оценки.
Приходил Володя Юрьев, сын преподавательницы, которая учила Зою и Шуру в начальных классах. Серьезный юноша с высоким лбом и хорошей доброй улыбкой, он готов был помочь по любому предмету. Если занят чем-то Володя — обязательно являлся высокий, ироничный Юра Браудо, отлично разбиравшийся в физике и химии. Ваня Носенков, Нина Смолянова — не перечесть, сколько оказалось у Зои друзей и помощников. Легко и хорошо было с ними Зое в родной школе. И приближавшиеся экзамены вовсе не казались ей страшными.
Как-то в мае, после уроков, озеленяли двор. Девятому «А» классу достался самый трудный участок: там, где недавно пристроили к школьному зданию трехэтажный корпус. Надо было убрать строительный мусор, а затем выкопать ямки для деревьев. Вместе с ребятами трудился здесь и директор — Николай Васильевич Кириков. Плечистый, сильный, он таскал кирпичи, орудовал ломом и лопатой. Перепачкался изрядно. Пошучивал:
— Шура! Космодемьянский! Не нажимай! Другим ничего не останется.
— Это он за себя и за Зою!
— Ну уж, я сама!
— Ладно, ладно! — смеялся Кириков. — Твое деревце какое?
— Вот липа, третья с краю. А четвертая Кати Андреевой.
— Будете расти — и деревья, и вы. Лет через двадцать посмотрите, какими они станут!
— Через двадцать? Да мы состаримся к тому времени!
— Вот как! — притворно насупился Кириков. — Значит, я, по-вашему, глубокий старик?
— Что вы, Николай Васильевич, о присутствующих не говорят! Вы у нас совсем молодой!
К работавшим подошел худощавый мужчина, чуть сутулившийся, будто стеснявшийся своего высокого роста. Вежливо поздоровавшись, спросил, где можно увидеть директора.
— Это я, — повернулся к нему чумазый, разгоряченный Кириков, вытирая руки о рубаху-косоворотку, покрытую следами ржавчины, кирпичной пылью.
На лице мужчины отразилось такое недоумение, что ребята расхохотались. А тот переспросил:
— Действительно вы?
— Безусловно. К вашим услугам, — улыбнулся Кириков.
Мужчина оказался корреспондентом центральной газеты. Долго ходил вместе с директором по двору, смотрел, как работают ребята, расспрашивал старшеклассников. А через некоторое время в «Правде» появился очерк о школьниках, которые хорошо учатся, хорошо трудятся, чтобы оставить после себя зеленый сад. Они получили прочные знания, надежную закалку и, как образно выразился корреспондент, «не боятся ни заморозков, ни ветров под открытым небом».
Первый в жизни настоящий бал! Выпускники пригласили девятиклассников на свой вечер. Дружили ведь все минувшие годы, вместе веселей будет. Ну и пусть смотрит, пусть учится «молодежь» — им в следующем году предстоит организовывать свой праздник!
На Зое — новое нарядное платье, подарок Шуры. Красное, с черным горошком, хорошо сшитое платье, которое ей очень к лицу. Туфельки на среднем каблуке: в них она выше, стройнее. Знакомые ребята поглядывают на нее как-то странно, будто впервые видят. То один, то другой приглашает танцевать.
И Шуру приглашают. Не ребята, конечно, а девушки. Парень он видный, красивый. Но стесняется, мнется. Какой из него танцор — этакий увалень. Зоя подбадривающе кивнула ему: давай, мол, давай, ты не хуже других, почти все ребята под ноги смотрят, чтобы носки девушкам не отдавить.
Подошел смуглый юноша — выпускник, чернобровый, с чуть пробивающимся пушком над верхней губой. Он недавно в их школе, зовут его Леня. Или Леша. Сегодня он чаще, пристальнее других смотрит на Зою.
— Тебе нравится вечер?
— Да, — кивнула она.
— А наши на Красную площадь собираются.
— Рано еще.
— Зоя….
— Слушаю.
— Зоя, ты… Ты за грибами ходить любишь? — выпалил вдруг юноша, и на щеках его проступили от волнения красные пятна. Вопрос этот настолько не вязался с окружающей обстановкой, что Зоя невольно улыбнулась.
— Хожу иногда.
— Давай вместе соберемся!
— Вряд ли.
— Ну не за грибами… Давай в кино сходим.
Зоя отрицательно качнула головой.
— Ты не хочешь?
— Почему же, хочу! — в глазах девушки появилась лукавая усмешка.
— Когда?
— После моего выпускного вечера… Приедешь?
— Приеду, — уныло ответил юноша. — Если сумею. Я ведь не в институт, в военное училище собираюсь. Могут далеко отправить. Знаешь ведь, как в армии.
— Если захочешь — приедешь.
Из шумной толпы девушек вынырнула вдруг Ирина.
— Ой, какая ты сегодня…
— Ну, какая? — нахмурилась Зоя.
— Не знаю… Необыкновенная!
Зое и приятно и неловко было от того, что юноша не отходил от нее. Даже мама обратила внимание: разговаривает с Верой Сергеевной, а сама не без удивления поглядывает то на Зою, то на молодого человека.
Коротка летняя ночь. Вот уже заалела восточная сторона неба. Девятиклассники высыпали во двор, оставили выпускников попрощаться с учителями. Ира спросила, понизив голос:
— Он тебе нравится, да?
— Не выдумывай. Мы едва знакомы.
— Ну и что же! Разве любовь приходит только тогда, когда изучишь человека? Влюбляются же с первого взгляда. И сколько угодно.
— Об этом я не думала. Но я полюблю только того, кого буду знать и уважать. Это будет волевой человек, смелый и честный.
— Ой, Зоинька, когда полюбишь, то ничего не поймешь. Будешь видеть только одно хорошее. Даже плохое хорошим покажется.
— Ну, неправда. Что же я, ослепну, что ли!
— Ослепнешь, Зоинька! Все слепнут!
— А ты знаешь, да?
— Нет, не знаю, — вздохнула Ира. — Догадываюсь. С улицы послышались голоса.
— Зоя, где ты?
— Не отставайте, девочки!
— Здесь мы! Идем!
Взявшись за руки, шагали юноши и девушки по широкой асфальтированной дороге. Впереди, над темной зубчатой кромкой Тимирязевского парка, все ярче разгоралась красная полоска зари. Чуть дымилась роса на траве. Занималось прохладное утро.
Вот из-за леса вырвался наконец луч солнца, ударил в глаза; следом хлынул поток ослепительно-яркого веселого света. Небо из серого сразу стало голубым, а облака на нем из темных превратились в бело-розовые.
— Девочки, чудесно-то как! — воскликнула Ира.
— Давайте споем! — предложил кто-то.
Шагай вперед, комсомольское племя, Шути и пой, чтоб улыбки цвели!Начали девушки, и с их голосами слились голоса ребят:
Мы покоряем пространство и время, Мы — молодые хозяева земли!..Весело и шумно было в эти утренние часы 22 июня 1941 года на улицах и площадях столицы. Выпускники средних школ, полные радужных надежд, встречали наступление нового дня. А далеко на западе, на границе, уже начался страшный бой, рушились дома, взорванные авиабомбами, тысячи бронированных машин двинулись на нашу землю, чтобы смять, сломать, растоптать это молодое счастье.
МЕСТО В СТРОЮ
Лучи прожекторов полосовали небо, шарили по облакам, разыскивая вражеские самолеты. Когда самолет попадал в полосу света, луч цепко держал его, не давая вырваться, упорно следовал за ним. Непрерывно хлопали многочисленные зенитки, и, заглушая их выстрелы, гулко и тяжело сотрясали землю взрывы авиабомб.
Где-то за Тимирязевским парком полыхало багровое зарево.
Всю ночь Зоя и Шура провели на улице, готовые тушить вражеские зажигалки. Но на их участке было сравнительно спокойно. А утром распространился слух — бомба попала в школу.
— В какую? В двести первую? В нашу?
Космодемьянские, взволнованные и встревоженные, поспешили к школе. Зоя бежала впереди; часто колотилось сердце. Вот знакомый переулок, потом будет поворот. Что она увидит там? Груду развалин?
Зоя обогнула угол дома и облегченно вздохнула. Здание школы уцелело. Бомба упала возле него. Взрывная волна выбила стекла, во многих местах отлетела штукатурка со стен.
Двери — нараспашку. Сквозняк гонял пыль и мусор по длинному коридору.
Вот здесь танцевали они на выпускном вечере, вот окно, возле которого стояла Зоя. Валяется на полу картина, хрустят под ногами, мертвенно поблескивают осколки стекла.
Лицо Зои окаменело, плотно сомкнулись губы. Быстро ходила она по комнатам. Вот библиотека. Опрокинутые шкафы, разбросанные книги, груды книг. Среди них сидела на табуретке женщина, школьный библиотекарь Мария Григорьевна. Негромко всхлипывала, слезы текли по ее щекам.
У Зои перехватило дыхание.
— Не надо, Мария Григорьевна, — сказала она. — Не плачьте. Мы наведем здесь порядок.
— Пусть плачут они! Они еще заплачут у нас, — шептал Шура, поднимая с пола книги и стирая с них пыль.
Зоя повернулась к выходу. Ей тяжело было оставаться здесь.
Стремительно бежали дни. Радио приносило все более горькие известия. Наши войска оставляли села и города, гибли десятки и сотни тысяч людей, гитлеровцы убивали детей и женщин, бомбили санитарные поезда. Каждый вечер Зоя слушала последние известия, не говоря ни слова. Переживала молча. И лишь однажды не выдержала:
— Что они делают! Что делают!
Столько боли, столько ненависти было в ее голосе, что Любовь Тимофеевна вздрогнула.
Зою мучил вопрос: как быть дальше? Пришло то грозное время, когда каждый комсомолец, каждый человек должен отдать все силы, чтобы защитить, сберечь свое Отечество. Разве не в этом клялась она, вступая в ВЛКСМ, разве не на это были направлены все ее думы? Но как это осуществить?
Мальчишкам легче. Кто постарше — идут на фронт. Шура с товарищами ездил на строительство укреплений. Правда, и Зоя делает кое-что. Вместе с мамой шила вещевые мешки для бойцов, дежурила во дворе во время воздушных налетов, поработала на заводе учеником токаря. Но это все же не то. У нее много сил, она умеет стрелять, она готова к борьбе. А девушек ее возраста на фронт не берут.
В сентябре старшеклассников послали убирать урожай (Шура остался в городе, он в это время работал на заводе «Борец»). Едва устроившись в деревне, Зоя сразу же написала письмо:
«24. IХ-1941 года.
Здравствуй, милая мамочка!
Пишу тебе с места, т. е. из совхоза, куда мы должны были прибыть. Нас поселили в избе всем классом (девочки). Сейчас мы все там убрали, привели в порядок свои вещи, постелили кровати. Милая мамочка, обо мне не беспокойся. Я о тебе очень часто вспоминаю и уже скучаю. Дружу я с Ниной, о которой тебе говорила.
С завтрашнего дня выйдем на работу, а сегодня будем отдыхать с дороги.
Зоя, крепко тебя любящая.
Р. S. О моем питании не беспокойся, карточки наши не нужны. Нам будут выдавать хлеб по спискам (600 г. в день)».
Перечитала письмо: что в нем порадует маму, что может вызвать тревогу или беспокойство? В первой строчке после слов «из совхоза» уточнила «около 80 км. от Москвы». Над словом «девочки» написала «только», чтобы у мамы не было никаких вопросов-сомнений.
Довольная, легла спать.
На рассвете, вооружившись лопатами и мешками, вышли в поле, выкапывать и собирать картошку. Работа не только однообразная, но и тяжелая. Влажная земля прилипала к ногам. Надо было все время наклоняться, часа через три у Зои заныла спина. Но ничего не поделаешь, терпи!
Зоя выполнила чуть больше половины нормы. А вот трое мальчишек, с которыми она работала, сразу, в первый же день дали почти сто процентов. Быстро дойдут до противоположного конца поля и отдыхают там на пожухшей траве. Ловчее, привычнее они, что ли? Не только Зоя, но и многие другие за ними угнаться не могут.
Сперва она по-хорошему завидовала ребятам. А через несколько дней пригляделась внимательно и была возмущена. И Зоя, и Нина, и почти все их товарищи подолгу задерживаются на месте, выбирая из размокшей после дождя земли каждую картофелину. Раза два-три приходится копнуть гнездо, ведь чем глубже, тем клубни крупнее, лучше. А те трое ковырнут слегка, выберут то, что на поверхности, не утруждая себя, и дальше. А половина картофеля, может быть, даже больше, так и оставалась в земле.
Зоя, конечно, тут же, при всех, заявила ребятам, что это не работа, а одно безобразие. Люди весной возделывали поле с надеждой на богатый урожай, теперь многие из них, наверно, на фронте. И урожай действительно хороший, разве можно губить его?! Это же для Москвы на зиму, для бойцов Красной Армии!
— Чего же ты нам сразу не сказала? — начали возражать ребята. — Мы впервые на картошке.
— Да вы что же, сами не понимаете?!
— Копали как получалось.
— Ну, знаете! — возмущенно пожала плечами Зоя.
Мнения разделились. Одни старшеклассники безусловно поддерживали Зою. Другие говорили, что и вправду надо было бы показать, научить. Некоторые товарищи картошку до сих пор только на столе видели, жареную или в супе.
Поспорили основательно. Ребятам, которые плохо работали, крепко влетело. Но и Зое тоже досталось. Следовало, дескать, сначала поговорить с ребятами, указать на ошибку. А уж если не подействовало бы, тогда шум поднимать.
Зоя и сама засомневалась: может, действительно, зря обидела ребят, может, они не нарочно?.. А с другой стороны — маленькие они, что ли, за ручку их водить, носом тыкать? Смотрели бы, как другие работают!
Очень хотела написать обо всем маме, поделиться своими переживаниями, своими мыслями. Но подумала и решила: у мамы и без того много забот, много волнений. Да и времени нет для длинных рассуждений. За день так намаешься, что вечером только бы до постели добраться. Сил хватало лишь на несколько фраз:
«3. Х-1941 года.
Дорогая моя мамочка! Прости, что долго тебе не писала, все некогда… Норма выработки на 1 день — 100 кг (1 мешок стоит 70 копеек). Вот мы и стараемся выполнить норму. 2/Х я собрала 80 кг. Как ты себя чувствуешь, я все время о тебе думаю и беспокоюсь, сильно скучаю, но уже скоро вернусь, как уберем картошку… Мамочка, прости меня, работа очень грязная и не особенно легкая, я порвала галоши, но ты, пожалуйста, не беспокойся — в обуви я обеспечена и вернусь цела и невредима в Москву.
Недостойная тебя, дорогая мама, но горячо любящая твоя дочь Зоя».
Домой старшеклассники возвратились в середине октября, в очень тяжелые дни, когда стало известно, что гитлеровские войска прорвали фронт и приближаются к столице. Москва быстро пустела. Эвакуировались заводы, институты, государственные учреждения. Прекратились занятия в школах. Толпы людей осаждали на вокзалах поезда. Тысячи и тысячи уходили пешком, с чемоданами в руках и котомками за спиной. Везли свой скарб на тележках, в детских колясках.
Зоя весь день провела в городе по каким-то своим делам. Вернулась сердитая. Ничего не объяснив маме, сказала:
— Я не представляла себе, сколько в Москве крыс! Корабль-то еще не тонет, а они уже бегут, трусы!
— Ну, что ты, Зоя! Вывозят тех, кого нужно: детей, стариков, женщин. Заводы будут лучше работать на востоке, в спокойной обстановке.
— Я не об этом, — резко ответила девушка. — Сама видела: сытые, заносчивые, как буржуи, мужчины расхаживают по перрону, обсуждают, где им будет лучше, в Свердловске или в Ташкенте. А рядом на путях женщины давятся, лезут в теплушки, а вместе с женщинами какие-то смазливые приказчики с усиками. Их бы всех под ружье, в окопы!
— Там же проверяют, наверно, фильтруют…
— Попробуй профильтровать такие толпы… Крысы поганые, — брезгливо поморщилась Зоя. — Ну они ладно. Сегодня артиллерийская спецшкола уехала, которая на Шмитовском проезде. А ведь там наши с Шурой ровесники. В форме ходили, стрелять обучены.
— Через год они станут командирами и будут грамотно воевать, — урезонила Любовь Тимофеевна.
— Я не знаю, что будет через год, а сейчас фашисты под Москвой и идут на Москву. Кто же остановит их? Как можно в такое время бежать из Москвы тем, кто способен носить оружие?!
— Успокойся, Зоя. Ведь есть же командование, которое знает обстановку, руководит.
— Нет, мама, спокойной я быть не могу.
— А где ты была сегодня? — спросила Любовь Тимофеевна, чтобы переменить разговор. — Ты, наверно, голодная?
— Очень, мамочка. А была… — Зоя запнулась, помолчала. — Я хочу поступить на курсы медицинских сестер. Поможешь достать мне нужные справки?
— Но, Зоя, ты ведь еще школьница…
— Помнишь, мы обучались оказывать первую помощь пострадавшим и раненым? Начальные знания у меня есть.
Любовь Тимофеевна подавила горестный вздох: если Зоя приняла решение, переубедить ее трудно. Одна надежда: пока Зоя поступит на эти курсы, пока будет учиться, может, что-то переменится к лучшему.
Через два дня, собрав документы, Зоя снова надолго уехала в город. Сначала в райком комсомола — в который уж раз. Таких, как она, желавших попасть на фронт, здесь было много. Зое объяснили, что набора на курсы медсестер пока нет, а больше девушек никуда не берут. «Ты работала на заводе «Борец»? Учеником токаря? Вот и иди, работай на оборону!»
Поняв, что в райкоме ничего не добьешься, Зоя ушла. Но отправилась не на завод, а в городской комитет комсомола. Ей было известно, что там тоже много желающих сражаться с фашистами. К секретарю, который занимается добровольцами, стоят длинные очереди. Но другой возможности нет, придется и ей постоять, дождаться.
— Космодемьянская, — услышала она, наконец, свою фамилию.
После сумрачного коридора кабинет показался ей очень светлым. Белые шторы на окнах были подняты. На стене — большая карта.
Секретарь МК пожал Зое руку, предложил сесть. Как и думала девушка, разговор начался с расспросов: кто она, где родилась, куда выезжала, давно ли вступила в комсомол.
Зоя отвечала быстро, стараясь подавить волнение, — ведь решалась ее судьба. Пальцы помимо воли вертели пуговицу, но девушка заметила это только тогда, когда перехватила взгляд секретаря. «Еще подумает, что я очень нервная», — мелькнула в голове мысль, и Зоя заставила пальцы успокоиться, положила руки на колени и потом все время следила за ними.
Теперь вопросы сыпались один за другим, быстрые и разнообразные.
— Какой язык знаешь?
— Немецкий.
— Что такое азимут?
Зоя ответила.
— В цель стреляла?
— Неплохо.
— А с вышки в воду прыгать не боишься?
— Не боюсь!
— А с парашютом?
— Тоже.
— Сила воли есть?
Зоя чуть заметно улыбнулась. Ей еще никогда не приходилось так лестно говорить о себе. Но что поделаешь…
— И сила воли есть, и нервы у меня крепкие.
Секретарь помолчал немного, еще раз внимательно посмотрел на девушку, и Зое показалось, что он подавил вздох.
— Люди нам нужны. На фронт, значит, хочешь?
— За тем и пришла.
— Трудно на фронте. Ты, между прочим, во время налетов где бываешь?
— Я? На крыше. Бомбежки не боюсь. — И, чтобы разом пресечь все вопросы, Зоя добавила решительно: — Вообще ничего не боюсь!
— Ишь ты, какая смелая, — сказал секретарь. — Ну иди, подожди в коридоре. Соберутся товарищи, поедем в Тушино прыгать с парашютом.
Зоя вышла. От возбуждения она не могла сидеть, ходила по коридору. Конечно, легко было говорить там, в кабинете, что она ничего не боится. На самом-то деле все куда сложнее. Вот сейчас нужно будет прыгать с самолета. Если и будет страх, Зоя, конечно, постарается побороть его. А вдруг не выйдет? «Чепуха! Прыгают же девушки!» — успокаивала она себя.
Когда секретарь снова вызвал ее и спросил: «Готова?», без колебаний ответила: «Готова!»
Она думала, что сразу отправится на аэродром, но вместо этого секретарь принялся рассказывать, какие тяготы ожидают ее.
— Ты должна ясно представлять себе, на что идешь, — закончил он.
— Я готова, — повторила Зоя.
— Иди домой, обдумай все хорошенько.
Только в коридоре вспомнила девушка о прыжке с парашютом.
«Да это же он просто так сказал, испытать хотел», — поняла она.
Зоя была довольна этим разговором. Но впереди предстоял еще один, не менее трудный разговор — с мамой.
Домой возвращалась в темноте. Тихими и безлюдными казались улицы. Нигде ни полоски света. Октябрьский мороз сковал грязь, подернул лужи тонким ледком.
Возбужденная, раскрасневшаяся вошла Зоя в комнату. Шуры не было дома. Любовь Тимофеевна сидела за столом, что-то писала, встретила дочь тревожным, вопросительным взглядом. Окна были занавешены, тепло и уютно было в комнате. Сняв пальто, Зоя шагнула к маме и обняла ее:
— Мамочка, я иду на фронт!
Любовь Тимофеевна отозвалась не сразу. На лице ее резче проступили морщинки. Зоя поняла, что мама боится разрыдаться, ласково взяла ее руку.
— А ты… сумеешь? — произнесла Любовь Тимофеевна. — Ведь это очень тяжело. Очень…
— Сумею, мама.
— Почему именно ты? — Любовь Тимофеевна медленно подбирала слова. — Ведь тебя не призывают, от тебя ничего не требуют.
— На моем месте ты сделала бы то же самое. Я не могу иначе.
Да, Любовь Тимофеевна знала, что поступить по-другому Зоя не способна. Но ведь она мать, как же ей отпустить свою девочку в неизвестность, может быть, даже на гибель?!. Она искала доводов, способных остановить, удержать Зою. Искала и не находила.
— Достань мне, мама, красноармейский мешок, который мы с тобой сшили. И чемоданчик. Надо готовиться. Только ты никому не говори, куда я еду. Даже Шуре. Это большой секрет. Скажешь, что собираюсь к дедушке в деревню.
Чтобы избежать дальнейших разговоров, Зоя поскорей легла спать. Полузакрыв глаза, видела маму, сидящую за столом. Любовь Тимофеевна уронила голову на руки, лицо было такое грустное, что Зое хотелось встать, обнять, поцеловать ее. Но девушка сдерживала себя. Нельзя — будут слезы, будет лишнее расстройство.
Хорошо, что пришел с работы усталый Шура. Любовь Тимофеевна захлопотала, готовя ему поесть, и это отвлекло ее от тяжелых дум. На душе у Зои стало спокойней.
Мама и Шура негромко разговаривали, думая, что Зоя спит. Шура одобрил ее решение уехать в деревню, предложил и маме ехать вместе с ней… Милый Шура, если бы он знал! Но Зоя не имеет права рассказывать…
Пролетели сутки, другие. Зоя вновь оказалась в знакомом длинном коридоре Московского горкома комсомола. И опять здесь было полно народа. Парни и девушки (все, пожалуй, постарше ее) заметно волновались, ожидая своей очереди. «Тоже добровольцы, — подумала Зоя. — Не отказали бы мне, слишком нас много».
Чувство тревоги усилилось, когда девушка вошла в кабинет. Ее встретил секретарь, с которым беседовала она два дня назад. Он выглядел усталым. Глаза его смотрели холодно. Молча пожав Зое руку, кивком указал ей на кресло. Девушка села, предчувствуя неладное.
— Так вот, Космодемьянская, — секретарь помолчал и закончил сухо: — Мы решили тебя не брать!
— Как не брать? Почему не брать? — срывающимся от обиды голосом крикнула она, вскочив.
Секретарь положил ей на плечо руку.
— Ну, не волнуйся, — мягко сказал он. — Сядь и не волнуйся. Ты пойдешь в тыл…
Зоя немного успокоилась. Она поняла, в чем дело. Ее проверяли — не поторопилась ли, не раскаивается ли, что вызвалась идти добровольцем.
На этот раз они договорились конкретно обо всем. Секретарь сказал, когда и куда надо явиться, что захватить с собой.
Зоя вышла в коридор, улыбнулась тем, кто стоял у двери, ожидая очереди.
— Ну, как? — шепотом спросили ее.
— У меня все в порядке. Держитесь смелей.
И вот последний вечер дома, рядом с мамой. Свет не горит. Топится печка, языки пламени лижут сухие поленья, багровые отсветы озаряют задумчивое лицо Зои, печальные глаза Любови Тимофеевны.
Разве о такой судьбе дочери мечтала Любовь Тимофеевна, сама много перестрадавшая в жизни! Мечтала она о том, чтобы кончила Зоя институт, чтобы была у нее любимая работа, хорошая семья, чтобы не знала горя.
Так могло быть… А сейчас не время думать об этом. Нет такой семьи, которой не коснулась бы война. Уходили на фронт отцы, мужья, братья… У нее уходит дочь…
Боже мой, как хотелось плакать! Слезы навертывались на глаза. Любовь Тимофеевна сдерживала себя. Зоя, понимая ее, без слов гладила руку матери.
В печке догорели дрова, рдели яркие, раскаленные угли. Постепенно они тускнели, в комнате становилось все темней. Слышалось ровное, спокойное дыхание Шуры.
— Каково тебе будет, дочка? — со вздохом вырвалось у Любови Тимофеевны.
— Не я одна, мама, — Зоя задумалась, сказала тихо: — Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-нибудь, кроме России.
Любовь Тимофеевна вопросительно посмотрела на нее.
— Это, мама, Салтыков-Щедрин. Вспомнилось что-то… Ну, пора закрывать печку.
Утром первым поднялся Шура, торопился на завод.
— Обними деда. И бабушку, — говорил он на прощанье. — Счастливого пути. В деревне тебе лучше будет.
Зоя поцеловала брата. Хорошо, что он ничего не знает. Пусть ходит спокойный.
Потом пили чай, как это делали по утрам. Все было очень буднично и обыкновенно, и Любовь Тимофеевна никак не могла представить, что это — последний раз.
Зоя поднялась из-за стола, проверила вещевой мешок, маленький, почти игрушечный, чемоданчик. Кажется, уложено все. Любовь Тимофеевна достала теплые зеленые варежки, связанные ею, заставила Зою надеть свитер.
Вышли на улицу. Пасмурное серое утро стояло над Москвой. Редкие прохожие торопливо бежали мимо, подняв воротники пальто. Зоя и Любовь Тимофеевна дошли до остановки. Из-за угла показался красный с двумя прицепами трамвай.
— Посмотри на меня, мама, — сказала Зоя. — Да у тебя слезы… Не нужно, — Зоя улыбалась. — Ну, мама! Прошу тебя.
Собрав силы, Любовь Тимофеевна улыбнулась в ответ.
— Вот так. До скорой встречи! — сказала Зоя, обнимая ее.
Трамвай, задержавшись на остановке несколько секунд, плавно тронулся с места. Зоя вскочила на подножку и помахала рукой.
31 октября, точно в назначенное время, Зоя подошла к кинотеатру «Колизей», что на Чистых прудах. Было еще рано, не открылась даже касса, но возле кинотеатра стояло уже несколько человек. Они были тепло одеты, у всех — вещевые мешки. Зое показалось, что некоторые лица знакомы ей. Ну, конечно! Вот стоит девушка постарше ее. Зоя видела эту девушку в МК комсомола, когда выходила из кабинета. Та тоже узнала Зою, кивнула и спросила, тая усмешку:
— Вы в кино?
— Да.
Погода ухудшалась. Крепчал пронизывающий ветер. Моросил дождь. Тускло поблескивал мокрый асфальт. Юноши и девушки, собравшиеся возле кинотеатра, выбирали местечко посуше.
Зоя, как и все, стояла молча. Конечно, сюда пришли добровольцы, такие же, как она. Но ведь почти никто не знает друг друга в лицо, может быть, здесь затесался кто-то чужой, явившийся на первый киносеанс.
Подходили все новые юноши и девушки с вещевыми мешками, с чемоданчиками. У них спрашивали, скрывая улыбки:
— Вы в кино?
— Да, конечно, — отвечали они.
Но когда, наконец, открылась касса, никто не подошел за билетами. И тогда все засмеялись.
— Что же вы стоите? Мест не хватит! — сказал веснушчатый белобровый парень своей соседке.
— Не к спеху, я на второй сеанс, — отшутилась она. — Приятно погулять в такую погоду.
Девушка, которую Зоя видела в горкоме комсомола, подошла к ней.
— Клава Милорадова. А тебя как зовут?
У Клавы неторопливые, уверенные движения, она полнее Зои и вообще выглядит солиднее. Говорит спокойно, смотрит доброжелательно. Зоя сразу прониклась симпатией к ней.
Девушки и юноши, знакомясь, пожимали руки, называли свои имена. Добровольцев было много. Зоя не могла сразу запомнить всех. Ладно, успеется!
С одной из девушек сбегала в ближайший магазин, принесла кулек миндальных орехов:
— Берите! — угощала всех. — Чтобы не скучно было фильм-то смотреть!
Вскоре возле кинотеатра остановились грузовики. Какой-то командир в шинели пересчитал собравшихся. Раздалась команда: «По машинам!» Все полезли в кузова, подсаживая друг дружку. Зоя оказалась между Клавой Милорадовой и Софьей Мартыновой.
Грузовики тронулись.
— Дадут нам оружие и сразу пошлют на задание, — неуверенно предположила Софья. — Но я ничего не умею. А вы, девочки?
— Поучат, наверное, — сказала Клава.
— Я тоже так думаю, — согласилась Зоя. — В армии всегда учат сначала, месяц или даже больше.
— Но мы же не в армии.
— Правда, мы не поймешь где, — рассудила Клава. Долго не могли понять, куда они едут. И только когда пересекли почти всю Москву, догадались: на Можайское шоссе. Миновав Кунцево, машины прибавили скорость на хорошей дороге, обгоняя колонны пехоты, повозки, артиллерийские упряжки.
По обе стороны шоссе возводились укрепления. Виднелись дзоты, ряды стальных «ежей». Женщины и подростки рыли зигзагообразные траншеи, копали противотанковый ров. На обочине — колонна грузовиков с прицепленными к ним пушками. В открытых кузовах тесными рядами сидели моряки. Они что-то кричали, махая бескозырками девушкам.
На фронт шли новые силы. Зоя была горда тем, что среди людей, вступивших в бой с ненавистным врагом, находится теперь и она.
Путь оказался недолгим. Машины остановились среди сосен на краю дачного поселка, неподалеку от железнодорожной станции Жаворонки. За штакетником — несколько длинных одноэтажных построек. Среди зарослей — небольшие, аккуратные домики зеленого цвета. Клумбы с побитыми морозом цветами, посыпанные песком дорожки. Зоя подумала: детский сад или скорее всего летний пионерский лагерь. Когда-то она ездила с Шурой почти в такой же.
Девушкам отвели просторную комнату, в которой стояло десять железных коек и столько же тумбочек. Начали размещаться. Зоя и Клава, конечно, рядом. С ними же и тихая, скромная, державшаяся в тени Софья Мартынова (ее почему-то все так и звали — Софьей, а не Соней). Дальше Маша Кузьмина, студентка педагогического института. С другой стороны от Зои — Наташа Обуховская. Ей уже, оказывается, двадцать три года. Почти местная, жила и работала в Ильинском. А вот Аля Воронина — она говорит, что обязательно будет медицинской сестрой. Две подружки — студентки Московского художественно-промышленного училища: Женя Полтавская и Шура Луковина-Грибкова. За ними Катя Пожарская, Лёля Колосова.
Зоя сначала неловко и неуверенно чувствовала себя среди новых знакомых. В школе, в классе она издавна привыкла быть старшей, ответственной. Да и дома тоже — по отношению к Шуре, к его многочисленным приятелям. И вдруг оказалась самой молодой. Среди добровольцев, правда, были несколько ее ровесников, но все они выглядели взрослее, солидней. У всех было какое-то определенное положение. Если не студент, то рабочий, служащий. А Зоя кто? Школьница. Окончила девятый, в десятом по-настоящему даже не поучилась. Говорить об этом язык не поворачивается. Впрочем, на разговоры почти не оставалось времени. Сразу же после ужина добровольцы собрались в клубе. Пришел командир, принес несколько наганов, маузер, парабеллум, вальтер, разложил их на столе.
— Начнем с изучения оружия. Нашего и немецкого, — сказал он. Голос резкий, говорил отрывисто, коротко. Зоя сразу поняла, что дело свое он знает хорошо. Объяснял устройство нагана, внимательно вглядываясь в лица слушателей: все ли понятно. Не смотрел на руки, но движения его, когда разбирал и собирал наган, были удивительно точны.
— Девушка, — сказал вдруг он, — вот вы…
— Милорадова, — поднялась Клава.
— Вам неясно, как вынимается барабан?
— Не ясно, — смутилась Клава.
— Идите сюда, сделаем вместе… Смотрите все, товарищи… Вот так. Ну, смелее.
Зое техника показалась несложной. После того как командир закончил объяснение, она самостоятельно разобрала и вновь собрала наган.
— Как ты быстро освоила, — удивилась Клава.
— Ну, что ты, я еще сшибаюсь. Вот Шуру бы сюда, моего брата… У него золотые руки.
Занятия длились несколько часов, и к концу их Зоя почувствовала, как сильно она устала. Все-таки с самого утра на ногах, и к тому же столько событий, новая обстановка. Но Зоя и виду не показывала. Наоборот, подбадривала и себя и других.
Может быть, поэтому, когда нужно было выбрать старосту, несколько человек назвали ее имя. Зоя удивилась — почему? Ведь девушки еще так мало знали друг друга.
— Ты у нас, кажется, самая строгая, — сказала Софья Мартынова.
Сигнал подъема раздался в шесть. Зоя отбросила одеяло и начала быстро одеваться. Кое-кто из девушек никак не мог проснуться. Клава открыла глаза, непонимающе посмотрела вокруг.
— Скорей вставай, — весело затормошила ее Зоя, — а то устрою холодный душ!
Клава приподнялась на локте:
— Уже? Ой, как рано!
Все-таки трудно гражданскому человеку привыкать к строгому режиму. Кажется, и не ленились девушки, делали все довольно быстро, а времени до занятий осталось в обрез. Завтракая, Зоя волновалась:
— Скорее, товарищи, скорее. Того гляди опоздаем.
— Да что ты все командуешь, — сердито отозвалась одна.
Брови Зои приподнялись, в глазах появилось холодное, чуть презрительное выражение. Казалось, сейчас она скажет что-то резкое. Но Зоя сдержала себя. Она в упор, не мигая, смотрела на девушку. Та, не выдержав, покраснела, наклонила голову и принялась торопливо есть.
— Сами меня выбирали. А уж если выбрали — слушайтесь.
— Зоя права, — поддержала Клава Милорадова. — Мы не в гостях у родственников, а в воинской части.
А Софья Мартынова, зябко поведя плечами, сказала Зое:
— Ну и взгляд у тебя! Даже страшно стало! Построив группу, командир-инструктор повел ее на занятия. В осеннем лесу было пустынно и неуютно. Деревья стояли голые, только кое-где держались еще на ветках желтые пожухлые листья. Поникла почерневшая трава.
— Как ориентироваться в лесу без компаса? — спросил командир.
— Мох на деревьях растет с северной стороны, — ответила Зоя.
— Еще?
— По годовым кольцам на пнях.
— Видите эту сосну? — обратился командир ко всей группе. — Присмотритесь внимательней, что бросается в глаза?
Сосна была самая обыкновенная. Желтая кора потемнела от дождей, ствол немного изогнут.
— Так что же? — спросил командир.
— С одной стороны ветвей много, — неуверенно произнесла Клава, — а с другой почти совсем нет.
— Правильно. Кроны деревьев гуще с южной стороны, где больше солнца. Но не только деревья любят солнечный свет. Видите возле ствола муравейник?
— Видим.
— Муравьи тоже выбирают места потеплей, если возле дерева, то с южной стороны. Чтобы ствол не загораживал солнце.
— В лесу, оказывается, и заблудиться невозможно, — пошутила Женя Полтавская.
— Знающему человеку — конечно… Думаю, этот вопрос ясен. Теперь разберем, как пользоваться компасом и картой…
Группа двинулась дальше. Шагать по подмерзшей земле было нетрудно, и все-таки к полудню усталость уже дала о себе знать. Ныли ноги, непривычные к длительной ходьбе, от холодного ветра горело лицо.
Перерыв на обед был короток. Зоя совсем не отдохнула. Едва успела переобуться — снова раздалась команда приступить к занятиям.
На этот раз учились стрелять из нагана. У Зои получалось неважно. Раньше-то ведь только из малокалиберной винтовки стреляла. Наган был тяжел, прыгал в руке, пули шли мимо цели. Инструктор приказал тренироваться в прицеливании без патронов, а сам занялся с другими. Зоя тренировалась долго. В конце концов она научилась правильно совмещать мушку с прорезью прицела, но больше заниматься не могла. Правая рука так устала, что невозможно было поднять револьвер. Ныла кисть, ломило плечо.
Подозвав к себе Зою и еще нескольких девушек, командир дал им компас, сделал отметку на карте и приказал идти по азимуту. Расстояние, правда, было невелико, но прежде, чем дойти до места, пришлось перебраться через два оврага, густо заросших кустарником, и перейти вспаханное поле. Ноги проваливались в борозды, цеплялись за комья земли. Зоя сняла варежки, расстегнула пальто, и все равно было жарко.
— Мы, девочки, здорово похудеем сегодня, — сказала Клава.
В часть возвращались вечером. Шли друг за другом, стараясь не налететь в темноте на пень или еще на что-нибудь. Каждый шаг давался с трудом.
— Далеко ли еще? — спросила Клава. — Ноги просто не слушаются. Посидеть бы.
— Нельзя, Клава, — Зоя тронула ее за локоть. — Знаешь, есть такая поговорка — дорогу осилит идущий.
— Поговорка-то хороша, только от нее не легче, — вздохнула Клава.
В ту ночь девушки не видели снов. Намаявшись за день, они спали как мертвые.
Утром, захватив ящики с толом, снова отправились на занятия.
Командир объяснял, как лучше устанавливать взрывчатку, как пользоваться взрывателями. Тол подкладывали под деревья, отбегали в сторону и прятались в ожидании взрыва.
Потом учились скрытно подползать к дотам и тоже закладывали взрывчатку в наиболее уязвимые места. А затем снимали тол: эти доты могли пригодиться для настоящих боевых действий.[1]
Прошло несколько напряженных дней, и Зоя почувствовала, что устает меньше. Крепли мускулы. Кожа на лице и на руках огрубела, стала нечувствительной к холоду. Девушки освоились в новой обстановке, ближе узнали друг друга. Особенно нравились Зое неразлучные студентки-художницы Женя Полтавская и Саша Луковина-Грибкова, которую девчата между собой звали просто Луковкой. Обе веселые, задорные, неунывающие. Саша-то, оказывается, училась на курсах шоферов, умеет водить машину. Донором была. Пять лет отзанималась в своем художественном училище, подготовила дипломную работу. Как раз в октябре должна была защищать… Вот сколько успела, а она ведь почти ровесница Зои.
О себе Саша говорила так: «Рисовать люблю, и получается у меня. Но я кто? Я художник-ремесленник. По тканям. Фантазии у меня маловато. А вот Женя Полтавская — это да! Настоящий талант! Без всяких шуток, девочки. Знаете, как в характеристике у нее написано: «…исключительная одаренность, особые способности». И это, учтите, в нашем художественном училище так считают, где каждый второй чуть ли не гений! Музыку она знает, театр знает, по балетам меня водила». — «Сашка! Сейчас тяжелым в тебя запущу!» — грозила Полтавская. «Это за правду-матку? Черная неблагодарность!» — смеялась Луковка.
Зоя с любопытством приглядывалась к Жене. Ничего в ней такого, что говорило бы об особом таланте. Девочка худенькая, шея тонкая, волосы густые, темные, зачесаны на прямой пробор. Вот разве в лице есть нечто. Красивое, нежное, с тонкими чертами лицо. А глаза будто устремлены в себя, будто она все время напряженно размышляет о чем-то. А бывает, вдруг посмотрит на окружающих с таким изумлением, словно впервые увидела их, открыла для себя новое, очень важное. Женя носила тельняшку (Зоя, кстати, внимательно рассмотрела эту странную морскую одежду, даже потрогала. А что: очень тепло и удобно!). Саша Луковина-Грибкова посмеивалась над подругой: «Женька у нас всегда полосатая. Мечтает за моряка выйти».
«Безусловно, — отвечала Женя. — Моряки народ самый романтичный, самый яркий!» — «И самый коварный!» — не отступалась Луковка.
Так и подшучивали весело, необидно. К ним присоединялись в свободные минуты степенная Клава Милорадова, тихая, незаметная Софья Мартынова, молодая ткачиха Валя Зоричева. А Зое хорошо, легко было вместе с ними.
В тот вечер добровольцам разрешили развести на территории части костры: небольшие костры под кронами сосен. Зоя даже удивилась. Вдруг заметят с воздуха немецкие самолеты-разведчики или бомбардировщики, чуть ли не каждую ночь пытавшиеся прорваться к Москве. Потом сообразила: небо затянуто тучами. Если и скребется под облаками какой-нибудь фриц, то что он поймет, увидев несколько случайных огоньков? По ним не сориентируешься, они скорее дезориентируют.
Командиры-инструкторы хотели, наверно, показать, как лучше развести огонь в сыром лесу, как подогреть консервы, вскипятить чай. Все это, безусловно, полезные навыки, но ведь у вечерних костров есть еще одна чудодейственная способность; объединять, сплачивать, сближать людей. Впервые парни и девушки, прибывшие в часть, собрались все вместе, сидели, отдыхая, пекли картошку, пили чай, вели разговоры. Пели негромко. Нашелся, конечно, и любитель рассказывать анекдоты. Было уютно и даже немножко празднично.
Только за маму у Зои душа болела, чего она там ни напридумывает, самые страшные мысли наверняка лезут ей в голову. Мама и представить не может, что Зоя греется сейчас у огня, среди друзей. И даже совсем недалеко от нее. Сколько здесь по прямой до Тимирязевки? Километров тридцать? Если подняться в светлое время на самую высокую сосну, то, пожалуй, Тимирязевский парк разглядишь, особенно в бинокль… Разве это расстояние! Вот увидела бы мама сейчас свою дочь, и гораздо легче стало бы у нее на сердце, и Зоя перестала бы беспокоиться.
Из темноты появился рассыльный:
— Космодемьянская?
— Здесь!
— В штаб.
Зоя не удивилась. В штабе побывали уже многие.
Таков порядок: с каждым новичком знакомился, беседовал командир или комиссар части Подробно о содержании бесед никто не рассказывал, но из слов девушек можно было понять что разговаривать с полковым комиссаром Дроновым Никитой Дорофеевичем было просто даже приятно Он не только расспрашивал, но и сам рассказывал о себе, вспоминал о службе в кавалерии, разные интересные случаи Он словно бы заряжал бодростью, хорошим настроением. А командир части майор Спрогис Артур Карлович — это сухарь. Или времени у него мало для разговора, или уж натура такая. Интересуется, каким видом спорта занимался. Имеешь ли значок ГТО или «Ворошиловский стрелок». Будто на соревнования отбирает.
Зоя попала как раз к Спрогису. Встретил он ее с безукоризненной вежливостью, скрывавшей все эмоции. Холодком веяло от него. Задавал обычные вопросы по биографии, ответы выслушивал с полным, казалось, безразличием. Только один раз Зоя поймала на себе его пристальный взгляд, почти физически почувствовала укол зрачками в зрачки: было такое ощущение, что майор разом оценил ее суть. Даже обидно стало Зое: экий провидец, не слишком ли он самоуверен?! Сидит тут психолог в натопленной комнате с плотно завешенными окнами. Сейчас, значит, про ГТО вопрошать начнет. Срезать бы его, заядлого спортсмена… Тут уж, видно, характер столкнулся с характером. Но Зоя-то, конечно, не знала, что опытный чекист Спрогис обратил на нее внимание еще в кабинете секретаря городского комитета комсомола. Он, член отборочной комиссии, сидел там в стороне от стола, присматривался, не задавая вопросов. И тогда еще понял, что из этой хрупкой на вид девочки получится настоящий боец.
— Космодемьянская, ты знаешь, какие дела предстоят, — сказал он. — За линией фронта может случиться все что угодно. Не боишься?
— Нет.
— Сейчас еще можно отказаться. Никто не узнает, никто не осудит. Вернешься домой. Но это последняя возможность. Потом будет поздно.
— Сколько можно об одном и том же! И в горкоме, и здесь. Я давно решила, и все!
— Желаю успеха, — майор поднялся. — Иди и готовься.
Когда Зоя спустилась с крыльца штабного домика, костры уже не горели. Было темно и тихо.
ПЕРВЫЙ ПОХОД
Конечно, их надо было еще учить и учить, этих замечательных парней и девушек, этих энтузиастов, готовых к борьбе, но ничего или почти ничего не смысливших в военном деле. Какие из них диверсанты, какие разведчики?! Они и по духу своему, по умонастроению еще совсем не военные, и в этом, как ни парадоксально, было их единственное преимущество. Им (почти все они в гражданской одежде) легче перейти линию фронта, легче укрыться среди местного населения, а в случае необходимости «раствориться» в деревнях, в поселках. Все это хорошо понимали майор Спрогис и полковой комиссар Дронов. Обстановка была такая, что времени на специальную подготовку не оставалось. Немцы упорно продвигались к Москве.
Особенно трудным было положение на центральном участке Западного фронта, на Волоколамском шоссе. Здесь обескровленные войска генерала Рокоссовского с трудом сдерживали превосходящие силы врага, отступая от рубежа к рубежу. Несколько раз возникала угроза прорыва фашистских танков прямо к Москве. Командование бросало туда все, что имелось под рукой, вплоть до наскоро сформированных артиллерийских батарей и стрелковых рот. Только бы задержать фашистов еще на час, на два, на сутки — выиграть время!
В тыл противника, в район Волоколамска, было приказано срочно направить диверсионно-разведывательные отряды. Их главная задача — разрушать мосты и дороги, обстреливать колонны, нарушать связь, любыми средствами замедлить продвижение вражеских резервов, обозов с боеприпасами и продовольствием. Опытных разведчиков у Спрогиса не было, все, кто еще уцелел, находились на задании. Оставалось только одно — послать новичков.
Рано утром 4 ноября добровольцы приняли присягу, дали клятву, начинавшуюся такими словами: «Вступая в ряды народных мстителей, перед лицом моей Родины, моего народа клянусь не выпускать из моих рук оружия, пока священная земля социалистической Родины не будет очищена от немецко-фашистских оккупантов…»
Отныне они считались настоящими воинами. Всех парней и девушек, отобранных для заброски в тыл противника, распределили на четыре группы. Добровольцев, оказавшихся в группах Николая Домогацкого и Виктора Буташина, Зоя почти не знала. Они жили в другом доме и занимались отдельно. Слышала только, что среди них вроде бы находится правнук поэта Пушкина. Любопытство разбирало: похож ли он хоть немного на своего великого прадеда? Но не пойдешь же разыскивать, спрашивать. Тем более — в этой воинской части вообще не поощрялись расспросы. Что надо знать, тебе скажут.[2]
Зое хотелось попасть в группу Константина Пахомова. Надежный он был товарищ и, казалось ей, умный. Работал на заводе «Серп и молот», учился в вечернем металлургическом институте. Альпинист. На руках следы ожогов — людей спасал из горящего дома. Выглядит молодо, а у него уже, оказывается, жена, дочка. Наверно, отец он хороший, заботливый. Он и в отряде-то старается помочь тем, кому трудно. И ребята у него как на подбор, почти все с одного завода. А главное — в группу Кости включены Женя Полтавская и Саша Луковина-Трибкова. Хорошо бы вместе с ними.
Однако у начальства свои расчеты, свои соображения. У Пахомова — главным образом парни, а группа Михаила Соколова, наоборот, составлена была в основном из девушек. Клава Милорадова, Валя Зоричева, Маша Кузьмина, Софья Мартынова, Зоя… Командиру группы было тридцать четыре года, девушкам и парням он казался степенным «стариком», к нему обращались по имени и отчеству, величая Михаилом Николаевичем. Или дядей Мишей. Считалось, наверно, что он сможет проявить больше заботы о девушках.
Все делалось быстро. Добровольцы получили мины, тол, гранаты. Колючие металлические рогатки, которые прокалывают скаты автомобилей. Уложили в вещевые мешки сухой паек. На складе брали по желанию, кому что нужно. Многие взяли сапоги: кирзовые, тяжелые. Некоторые примеряли солдатские шапки-ушанки. Зоя взяла теплый подшлемник, чтобы не застудить голову, ночуя в лесу.
Расписывались в получении личного оружия. Зое достался наган № 12719, изготовленный на тульском заводе в 1935 году. Надежный револьвер-самовзвод. У Клавы наган похуже, старого образца: после каждого выстрела надо пальцем взводить курок. Когда снарядились полностью, взвалили на себя весь груз, почувствовали — тяжеловато! Женя Полтавская подбадривала то ли себя, то ли товарищей: «Ну, ничего, это ведь только туда, для немцев гостинцы. Обратно легче будет!»
Сигнал на обед прозвучал раньше обычного. На этот раз кормили особенно вкусно и сытно. Потом час на сборы и — построение. Последняя проверка оружия и снаряжения. А у ворот, за штакетником, уже ожидали машины-полуторки.
Группа Константина Пахомова и группа «дяди Миши» Соколова заночевали в Истре, в небольшом двухэтажном здании. Здесь, наверное, была маленькая гостиница или дом для приезжих. Две пожилые женщины позаботились о гостях, застелили постели чистейшими простынями, дали каждому новое полотенце. Добровольцы были смущены: «Зачем нам, мы по-походному, лишь до утра. Только испачкаем все». — «Деточки, дорогие, да для кого же, как не для вас! Отдыхайте на здоровье, силушку свою берегите!»
Еще до рассвета готов был завтрак. Женщины кормили их по-домашнему, угощали оладьями и вареньем. Ребята весело благодарили, женщины улыбались в ответ. «Кушай, сыночек, кушай…» Зоя заметила: смахнут слезы со щек и улыбаются.
От Истры на запад полуторки двигались медленно. Навстречу попадались машины с ранеными. Шоссе во многих местах было разбито воронками. Трижды пришлось останавливаться, пережидая воздушные налеты. Бомбили, правда, не их маленькую колонну, какие-то другие цели, но все равно ехать было нельзя.
В сумерках остановились на опушке леса возле станции Горюны. Сгущалась темнота, и все ярче разгоралось зарево, охватившее впереди весь горизонт. Не смолкал приглушенный расстоянием грохот. Иногда раздавались удары такие сильные, что вздрагивала под ногами земля.
Армейский представитель, сопровождавший разведчиков, подозвал командиров групп, вскрыл пакет и долго объяснял что-то Пахомову и Соколову: показывал по карте, светя фонариком. Потом представитель пожал руку каждому парню и девушке, не пропустив никого, пожелал счастливого возвращения и сел в кабину полуторки. Машины ушли. Прервалась последняя ниточка, связывавшая со своими.
По просеке углубились в старый лес. Деревья тут стояли большие и поодаль друг от друга. Шагали долго, но темп был привычный, и Зоя не чувствовала усталости, хоть и давил на спину тяжелый мешок. Ну и нервное напряжение, конечно, сказывалось.
Просека пошла под уклон, лес становился мельче и гуще. Впереди, правее, все ярче разгоралось зарево пожара. Были слышны не только выстрелы пушек, но и частая винтовочная пальба, будто там, вдали, ломали сухой хворост.
И вдруг: «Стой! Кто такие?» На просеку высыпали люди с автоматами наготове. Зоя стиснула рукоятку своего нагана… Какая странная форма! Подвинулась ближе к дяде Мише, который разговаривал с неизвестными. Ой, да это же милиционеры! В своей одежде, только шапки солдатские. Ребята молодые, одного возраста с разведчиками. Их забросали вопросами: как здесь оказались, что делаете?
— Воюем, — солидно отвечали те. — Московская школа милиции, фронт держим.
— А чего же не переодели-то вас?
— Торопились. По тревоге. Только шапки нам доставить успели, — объяснил один. А другой поправил самолюбиво:
— И не хотели. Наша форма не хуже.
Эта случайная встреча приободрила разведчиков. Не одни они в ночном лесу. Во всяком случае, тыл прикрыт, никто не ударит сзади.
Зашагали дальше и вскоре спустились в овраг. Деревня справа была теперь совсем близко. Когда спадал грохот стрельбы и разрывов, Зоя различала гудение моторов. И догадалась: это же танки немецкие! А вот самолеты приближаются. Только чьи? Наши или фашистские?
Подбежали Женя Полтавская, за ней Саша:
— Зоя, Клава, мы уходим! Наша группа туда, влево.
— Счастливо, девочки!
— Луковка, ты за Женькой присмотри, больно шустрая!
— Ладно, сберегу талант для народа! Вы сами-то осторожней! До свидания!
— До встречи!
Исчезли девчонки, растворились во тьме. Кто-то шепотом приказал двигаться перебежками. Клава и Зоя держались рядом. Когда поднялись по склону, оказались в полосе, освещенной пожарами. Пришлось ползти по кустарнику. В это время раздались неподалеку два взрыва. Звук, заглушённый пальбой, не показался громким, но вспышки были яркими, плеснуло белое пламя. Может, авиабомбы или танковые снаряды? Ползти и перебегать с тяжелым грузом было не очень-то приятно. Девушки пошли, пригибаясь, не оборачиваясь в сторону деревни. Вскоре они оказались в другом, более глубоком овраге. Тут было совсем темно и стрельба слышалась отдаленно, глухо. Можно было перевести дух.
По крутому склону спустился Михаил Соколов с двумя парнями. Спросил:
— Все здесь?
— Кроме Кузьминой и Мартыновой.
— Значит, все.
«Как?» — чуть было не вырвалось у Зои. Закрыла ладошкой рот, надеясь на лучшее: может, отстали, может, еще что?
— Минное поле, — сказал Соколов. — Там, ближе к деревне, минное поле…
— Насмерть? — со страхом спросил кто-то, Зоя не узнала изменившегося голоса.
Соколов не ответил. Потоптался, вздохнул. Поняв, что все ждут его слов, произнес не очень уверенно:
— На обратном пути похороним. Если здесь пойдем…
Зоя вздрогнула. Нет, конечно, ни Софью, ни Машу она больше никогда не увидит.
Эти девушки не успели совершить ничего, они только добрались до линии фронта. И все равно вечная слава им, юным героиням, за их готовность к любым трудностям, к любым подвигам во славу Отечества! Не осталось после них ни могил, ни памятников. Больше того и горше того — до сих пор почти ничего не известно об этих девушках. В документах воинской части — только короткая запись:
Кузьмина Мария — комсомолка, студентка Московского педагогического института, родилась в деревне Постниково Смоленской области.
Мартынова Софья — комсомолка, учащаяся, 1921 года рождения.
Никаких других сведений о Мартыновой нет. Кто она? Откуда? Может, кто-нибудь знал ее, помнит ее?
Почему бы нынешним комсомольцам не насыпать символический холмик и не поставить на нем простую дощатую пирамидку с жестяной звездочкой, какие ставили на могилах погибших воинов. И начертать две фамилии.
В лесу, за станцией Горюны.
Днем они отдыхали в глухих зарослях. Спали, чистили оружие. С наступлением темноты — снова в путь.
— Ну, разведчицы, получите задание, — сказал Соколов Клаве и Зое. — Выдвигайтесь вперед, пройдите вдоль шоссе. Есть ли там немецкие посты, патрули? Опознавательный сигнал — постукивание рукояткой нагана по гранате. Как было на занятиях. Выполняйте.
Перебегая от дерева к дереву, девушки добрались до асфальтированной ленты, тянувшейся с запада на восток. Вот она, прямая и ровная дорога к столице! Если шагать по шоссе, будут дачные поселки, Павшино, Тушино — места, знакомые каждому москвичу. За Тушином, пройдя под каналом, дорога сливается с Ленинградским шоссе. И все это не так уж и далеко! С того места, где стоит Зоя, за сутки можно, пожалуй, дойти до метро «Сокол». А на машине — часа за два. Но между Зоей и Москвой — фронт. По этой асфальтированной ленте рвутся к столице фашистские танки и мотопехота. И Зое страшно оттого, что дорога такая прямая и ровная.
— Пойдем налево, — шепнула Клава.
Сначала они двигались осторожно, останавливались, прислушивались. Но дорога была пустынна, ночь темна. Нигде ни голоса, ни огонька.
Казалось, нечего было опасаться. Девушки перестали прятаться и пошли по обочине шоссе. Эта неосторожность едва не погубила их.
Из-за поворота появились два мотоциклиста, свет фар ударил в глаза. Клава охнула от неожиданности и упала на землю. Зоя рядом. Мотоциклисты ехали быстро и, видимо, не смотрели по сторонам. Не заметив партизанок, они промчались мимо в нескольких метрах от них.
Девушки отползли за деревья.
— Испугалась я, — шепнула Клава.
— А я чуть не выстрелила. Едва удержалась, вспомнила — нельзя!
— Давай условимся, Зоя, живыми в руки не дадимся.
— Конечно!
— В случае чего — сами себя…
Дальше девушки двигались вдоль дороги перебежками. Земля была покрыта опавшей листвой. Ползти было трудно. Шорох листвы казался очень громким, заглушал другие звуки. Приходилось останавливаться и слушать: не донесется ли издалека гудение мотора.
Худенькая Зоя перебегала легко и быстро. Клаве приходилось труднее. Ей было жарко, на лбу выступил пот, лицо горело. Но она не отставала, не выпуская Зою из виду.
Продвинувшись вдоль шоссе километра на два и не обнаружив фашистов, девушки отошли в лес и вернулись к своей группе.
— Путь свободен, — доложила Зоя.
— Пошли, — скомандовал командир.
Партизаны хорошо знали свои обязанности. Парни разбились на пары и начали устанавливать на дороге шоссейные мины. Четыре девушки заняли места в боевом охранении. Наступил самый ответственный момент: успеют ли ребята поставить мины, пока на дороге нет гитлеровцев?
Томительно тянулись минуты. Далеко-далеко послышалось гудение. Зоя насторожилась, тронула Клаву.
— Машины?
— Да! — помедлив отозвалась та. — Бежим, предупредим наших.
— Не спеши. Еще несколько минут. А то занервничают ребята.
Гул машин нарастал. Предупредив минеров, девушки бросились вместе с ними в лес.
— Все поставили? — спросила Зоя.
— Несколько штук не успели… Ничего, и этих хватит!
Пробежав метров триста, остановились. Машины были совсем близко. Моторы их гудели с надрывом, на высокой ноте. Чувствовалось, что машины тяжело нагружены. Зоя, сцепив пальцы рук и подавшись вперед, ждала…
«Ну, скорей! — мысленно торопила она. — А вдруг не взорвутся…»
Яркая вспышка осветила все вокруг, выхватила из темноты людей, кусты и деревья. На миг увидела Зоя лицо Клавы, бледное, с широко открытыми глазами; к щеке прилип желтый березовый листик.
Вспышка погасла, и тотчас сильный, гулкий взрыв раскатился по лесу.
— Вот это здорово! Это здорово! — восторженно шепнула Зоя.
Снова блеснула вспышка и грянул взрыв. И еще раз.
Потом стало очень тихо. Все ждали: что же будет дальше? Никто не решался двинуться, переступить с ноги на ногу, боясь нарушить тишину.
Со стороны шоссе донесся какой-то крик, раздался выстрел, потом второй. Затрещали автоматы.
— Салютуют нам, — засмеялся командир группы. — Ну, пусть на здоровье патроны жгут, не будем мешать им. За мной, товарищи.
Когда дорога осталась далеко позади, остановились передохнуть. Ребята закурили. Разговаривали шепотом, делясь впечатлениями.
— Как ты думаешь, что там было? — спросила Зоя. — Машины с пехотой? Или с оружием?
— Может быть, даже танки, — ответила Клава.
— Вот хорошо бы. Надо сходить туда, посмотреть.
— Дядя Миша не пустит. Риск.
— А жаль. Интересно бы среди дня.
Рассвет застал группу в зарослях орешника неподалеку от деревни Ново-Васильевской. Пока разведчики выясняли, нет ли там немцев, можно ли там отдохнуть, Клава и Зоя притулились на кочке, подстелив елового лапника. Очень низко, почти цепляясь за вершины деревьев, ползли серые, тяжелые тучи. Несколько раз начинал сыпать снег.
— Намерзнемся мы сегодня, — поежилась Зоя.
Подошел командир. Сказал громко, торжественно:
— Поздравляю вас, товарищи, с большим праздником! С годовщиной Великой Октябрьской революции!
— Ой, нынче же Седьмое ноября! — вскочила Зоя. Все заговорили, перебивая друг друга.
— Хороший подарочек преподнесли мы гитлеровцам!
— Да уж, почешутся!
— У нас дома пельмени, наверно…
— А они-то грозились парад в Москве устроить!
— Как там сегодня? — вслух подумала Зоя. — А, Михаил Николаевич?
— Как обычно, — ответил он.
— И демонстрация будет?
— Вполне возможно.
— А немецкие самолеты? — забеспокоилась Клава.
— Не допустят их. Да и погода вроде нелетная, — ответила Зоя.
Дождавшись, когда смолкли разговоры, командир улыбнулся, сделал широкий, приглашающий жест:
— Прошу вас, дорогие товарищи, провести праздничный день в деревне, в тепле!
Больше в этом походе ничего особенного не случилось. Ночью ребята «сбегали» еще раз на шоссе, разрушили бревенчатый мостик. Зоя и Клава прямо среди дня уложили на проселочной дороге, которой пользовались фашисты, десяток «колючек», присыпав их сухими листьями. Сам командир ходил куда-то в разведку. И никто не столкнулся с немцами, не было даже перестрелки. Сказывалась, вероятно, осторожность, расчетливость «дяди Миши». Или просто везло.
Когда возвращались к своим — не услышали ни одного выстрела. Соколов вел группу каким-то кружным путем. Долго, бесконечно долго шли вдоль лесной речушки или ручья, несколько раз перебирались с одного берега на другой. Зоя и без того была простужена, а тут еще промочила ноги, к утру у нее начало побаливать ухо. Но не жаловалась, конечно, только Клаве сказала об этом.
Машина, присланная за ними на Волоколамское шоссе, доставила группу Соколова не в Жаворонки, а в Кунцево, где была основная база их воинской части. Длинное здание «казарменно-дачного типа», как шутили добровольцы, стояло в тихом живописном месте, на краю леса. Комнаты были теплые, удобные, на четыре-пять человек.
Участники похода с удовольствием помылись в бане. Зоя приняла лекарство. А потом спали кто сколько хотел: их не тревожили целые сутки.
Отдохнув, написав короткие письма домой, Зоя и Клава сидели на соседних кроватях совсем по-домашнему, в платьях, босые. Обхватив руками острые колени, Зоя задумчиво смотрела на подругу. Сказала:
— А ведь я по имени-отчеству должна к тебе обращаться.
— Это еще почему?
— Ты ведь учительница. В мирное время могла бы в нашей школе преподавать.
— Но я всего на три года старше тебя.
— Хорошо, что мы вместе, — невпопад ответила Зоя. — Тревожно мне что-то. Мы здесь, нам хорошо, уютно, а Саши и Жени все нет и нет.
— У них другая задача, и срок возвращения, наверно, другой, — успокоила Милорадова.
Воинская часть, в которой оказалась Зоя и ее товарищи, была необычной и, пожалуй, единственной в своем роде. Военная обстановка потребовала создать ее. А одним из организаторов был Даниил Алексеевич Селиванов — в последние годы подполковник в отставке, проживавший в Москве; человек, умудренный богатым опытом. В октябре — ноябре 1941 года Селиванов, в ту пору старший лейтенант двадцати семи лет от роду, был помощником начальника оперативного диверсионного пункта (воинская часть 9903) разведывательного отдела Западного фронта. Фактически возглавлял штаб этой части. Он первым встречал прибывающих добровольцев. Это ему сдала Зоя Космодемьянская свои документы и чемоданчик с вещами. Он занимался формированием и обучением групп, принимал участие в разработке всех планов, в подготовке конкретных заданий. Он беседовал почти с каждым из тех, кто вернулся с задания, он писал отчеты для доклада командованию.
Даниил Алексеевич Селиванов знал все о своей части, но по долгу службы привык молчать. И лишь спустя много лет после войны рассказал, как и что было. Он поведал о том, какой вклад внесли комсомольцы-добровольцы воинской части 9903 в общее дело разгрома немцев под Москвой, впервые назвал фамилии некоторых фронтовых тружеников, ранее не попадавшие в печать. Он писал:
«В начале июля 1941 года группа офицеров в количестве 10–12 человек прибыла в гор. Смоленск, где находился штаб Западного фронта (с 10 июля 1941 года — штаб Западного направления) и поступила в распоряжение разведывательного отдела штаба. Все мы прибыли на фронт из Москвы по направлению Генерального штаба Красной Армии. Большинство офицеров (в том числе и я) учились в Высшей спецшколе Красной Армии. В этот период начальником РО штаба Западного фронта был полковник Корнеев Тарас Федотович.
Приказом начальника РО штаба Западного направления № 02 от 20 июля 1941 года (приказ издан был несколько позднее нашего прибытия на фронт) всех нас прикомандировали к разведотделу штаба и подчинили полковнику Свирину Андрею Ермолаевичу. Так была создана спецгруппа полковника Свирина А. Е. (генерал-майор Свирин умер 22 февраля 1977 г. в Москве).
В период вынужденного отхода советских войск на восток задача спецгруппы заключалась в создании диверсионных и разведывательных групп и засылке их в тыл противника для выполнения разведывательно-диверсионных задач в интересах войск фронта, в оказании практической помощи партийным и советским органам в формировании партизанских отрядов и диверсионных групп, их вооружении с последующим оставлением в тылу немцев на случай отхода войск Красной Армии в глубь страны.
По указанию полковника Свирина все офицеры выехали непосредственно в войска фронта, действовавшие на главных операционных направлениях. Меня полковник Свирин оставил в руководстве спецгруппы в качестве своего помощника. Заместителем полковника Свирина являлся майор Спрогис Артур Карлович, но он все время находился в одной из армий.
В каждой действующей армии работало по два офицера. Помню, майор Спрогис работал вместе со старшим лейтенантом Коваленко Ф. И. (19-я армия), старший лейтенант Мегера А. К. — со старшим лейтенантом Матусевичем (20-я армия), капитан Алешин со старшим лейтенантом Щевелевым (22-я армия), капитан Батурин Ф. П. со старшим лейтенантом Клейменовым М. А.[3] (13-я армия), старший лейтенант Грабарь со старшим лейтенантом Веселовым (21-я армия).
24 августа 1941 года полковник Свирин заболел и выехал на лечение в Москву. В спецгруппу он не вернулся. Перед отъездом он дал мне указания поддерживать непосредственную связь с начальником РО штаба и офицерами-разведчиками спецгруппы, работавшими в войсках и вместе с ними отходившими в восточном направлении.
В октябре 1941 года все офицеры спецгруппы были отозваны из войск и по мере прибытия их в РО штаба фронта в пос. Перхушково направлялись в Кунцево, где создавался оперативный диверсионный пункт под руководством майора Спрогиса.
Теперь работа была централизована. Каждый офицер оперативной разведки имел конкретные задачи и нес за них персональную ответственность. Старшим помощником начальника диверсионного пункта был старший лейтенант Мегера А. К. Я являлся помощником начальника диверсионного пункта.
Начальником диверсионного пункта были назначены офицеры-направленцы на главных направлениях обороны Москвы:
Волоколамское — старший лейтенант Грабарь, старший лейтенант Веселов (16-я армия);
Можайское — капитан Батурин Ф. П., старший лейтенант Клейменов М. А. (5-я армия);
Наро-фоминское, Малоярославецкое направления — капитан Алешин, старший лейтенант Старовойтов Ф. А., старший лейтенант Коваленко Ф. И. (33-я и 43-я армии).
В период обороны Москвы командование Западного фронта и начальник разведотдела штаба фронта полковник Ильницкий Яков Тимофеевич поставили перед оперативным диверсионным пунктом задачу резко усилить диверсионную работу в тылу немецко-фашистских войск, особенно в их тактической зоне: производить взрывы и поджоги складов с оружием, боеприпасами, продовольствием и др. имуществом; взрывать мосты, минировать дороги и портить их, разбрасывая металлические «ежи»; нападать на узлы связи и портить линии связи немецких войск; производить разведку районов сосредоточения немецких войск, дислокацию штабов, узлов связи, боевых позиций артиллерии и минометов; нападать на мелкие группы немцев, одиночные машины и мотоциклы врага с целью захвата пленных, их документов для установления нумерации частей и соединений противника, их боевых задач и мест сосредоточения и т. д.».
К письму Даниила Алексеевича можно добавить еще вот что. Раньше в здании «казарменно-дачного типа» на краю леса размещалась специальная школа, готовившая людей для заброски в глубокий вражеский тыл. Когда приблизился фронт, школу эвакуировали на восток.
Остались только две группы, человек по двадцать: литовская и белорусская. Они были включены в состав оперативного диверсионного пункта и выполняли первые задания командования в/ч 9903, пока отбирались и в спешном порядке готовились для боевой деятельности комсомольцы-добровольцы.
Кабинет Селиванова был расположен возле входного тамбура, в начале коридора — первая дверь справа. Стол, несколько стульев, шкаф с бумагами, кровать под солдатским одеялом (спал здесь же, урывками). В этой небольшой комнате, размером три на пять метров, побывали практически все комсомольцы-разведчики, уходившие во вражеский тыл. Сюда в первую очередь поступали сообщения, донесения. И об успехах, и о потерях, которых в октябре — ноябре 1941 года, во время немецкого наступления, было особенно много.
Группа Константина Пахомова, в которую хотела попасть Зоя и которая действовала на одном направлении с группой Михаила Соколова, в часть не вернулась. Ушли разведчики и словно сгинули — никаких вестей. Восемь человек из числа тех, с кем Зоя познакомилась возле кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах… Лишь спустя некоторое время выяснилось, что стало с ними.
Комсомольцы Пахомова получили задачу трудную и ответственную: проникнув в Волоколамск, взорвать штаб гитлеровского соединения. И польза, и своеобразный праздничный фейерверк в честь годовщины Октябрьской революции.
Осторожно приблизились через кладбище к окраине города. И напоролись на часовых. Отходить по чистому полю под сильным огнем противника не было возможности — перестреляют. Разведчики приняли неравный бой.
Среди ночи жители Волоколамска были разбужены сильной стрельбой; взрывами. По улицам неслись грузовики с фашистскими солдатами, с эсэсовцами. Люди радовались: «Неужели наши, неужели Красная Армия? Или партизаны?!»
Гитлеровский генерал, убедившись, что на кладбище окружена небольшая группа, приказал взять русских живыми. Надо было выяснить, кто они, кем и зачем посланы? Выполняя приказ, фашисты все теснее сжимали кольцо окружения, заставляя русских вести огонь, расходовать боеприпасы. И действительно, к рассвету в группе кончились патроны и гранаты. Остались только ножи да приклады. Поняв это, фашисты поднялись, пошли без выстрелов. На каждого парня, на каждую девушку — несколько дюжих натренированных гитлеровцев.
Разведчики сопротивлялись до последней возможности.
Связав им руки, фашисты доставили бойцов к дому № 32 по Солдатской улице. Шестеро окровавленных, в изодранной одежде комсомольцев стояли тесной кучкой. Двое раненых сидели на снегу. Немцы выгнали из дома жителей, в комнату вошел генерал в сопровождении офицеров.
Фашисты вроде бы приняли все меры, чтобы никто из жителей не общался с пленными, чтобы никто посторонний не присутствовал на допросе. Но, как известно, всегда найдутся прямые или косвенные свидетели любых событий. Три часа продолжался допрос, и все это время на печи, забившись в дальний угол, лежала двенадцатилетняя девочка Лина Зимина. Вот что рассказывала впоследствии о том дне Лина Сергеевна, ныне геолог:
«Я все видела и все слышала. Допрашивали они пленных прямо возле двери. Три офицера стояли, сидел генерал, он и допрашивал, а переводчик записывал все.
Первым ввели высокого юношу. Все допытывались, знает ли он остальных своих товарищей. Заставляли назвать их имена, рассказать о них все. Он ничего им не сказал. Стоял перед ними гордый и разговаривал резко.
За юношей ввели девушку. Она была среди них самая молоденькая и очень смелая (Женя Полтавская. — В. У.). Ей задавали такие же вопросы, а она сказала: «Я ничего не знаю, и вы меня не спрашивайте. Я люблю свою Родину и умру за нее».
Ввели вторую девушку. Опять такие же вопросы задавали. Она молчала. Генерал спросил:
— У вас, наверное, есть мать?
— Есть, — отвечала девушка.
— Вам ее не жалко? — спросил генерал.
Она резко ответила ему:
— Вы лучше себя пожалейте!
Потом других допрашивали. Но никто ничего не рассказал, держались все смело».
В третьем часу дня комсомольцев повели на Солдатскую площадь. Вокруг них, оттесняя жителей, плотным кольцом шли автоматчики. К этому времени была готова виселица: длинный брус, одним концом укрепленный на телеграфном столбе, а другой — в развилке березы. Но вешать разведчиков фашисты почему-то не решились. Офицер дал команду, затарахтели автоматные очереди. Семеро рухнули на снег, один, обливаясь кровью, устоял на ногах.
— Не бойтесь! — крикнул он людям. — Красная Армия еще придет!
Двое из упавших пытались подняться. В тишине звучали их голоса:
— Да здравствует наша Родина! Смерть палачам!
Фашисты добили всех короткими очередями. Потомна шеи мертвых комсомольцев надели веревочные петли.
Их казнили дважды: расстреляли, а затем повесили.
Они погибли как мужественные солдаты на старой Солдатской площади древнего русского города.
Евгения Полтавская, студентка Московского художественно-промышленного училища имени М. И. Калинина. Считалась особенно одаренной. Место рождения, предположительно, Херсон или Витебск. Родных и близких не оказалось.
Александра Луковина-Грибкова, студентка-дипломница того же училища. Родилась в деревне Истье Угодско-Заводского района Калужской области.
Основу группы, как уже говорилось, составляли комсомольцы с завода «Серп и молот».
Константин Пахомов — заводской конструктор. Родился в 1912 году в Краснодаре. Очень любил природу, животных. Он один из немногие добровольцев, успевших перед войной жениться. Был счастлив. После него осталась дочь.
Павел Кирьяков, крановщик-стахановец, активист заводской комсомольской организации. Был отличным стрелком-снайпером. Сколько гитлеровцев сразили его пули в ночном бою на окраине Волоколамска?! У него осталась в Москве старшая сестра, ныне пенсионерка, Елена Васильевна Кирьякова. Во время гражданской войны она была бойцом Первой Конной армии.
Николай Галочкин, специалист по прокатным станам. О нем — очень скупые сведения. Дружил с Пахомовым, они вместе окончили в 1938 году заводской металлургический техникум. Затем работал в конструкторском бюро. Возможно, живы его брат и сестра.
Николай Каган, механик цеха. Работая на заводе, закончил в мае 1941 года институт. У него остались сын и дочь. Последнее письмо от Николая жена получила во второй половине октября, «Дорогие мои и любимые. Живу недалеко от Москвы, настроение очень бодрое. Очень доволен именно тем, что попал в эту часть. В конце ноября надеюсь быть в Москве, а пока дни полностью загружены, и сейчас спешу на занятия…»
Виктор Ординарцев, слесарь. Ровесник Зои. Кончил школу фабрично-заводского ученичества. В комсомол вступил во время войны. В семье, кроме него, еще восемь детей. Был скромен, даже застенчив. Увлекался спортом, особенно футболом. Хотел стать летчиком.
Иван Маненков (в документах воинской части ошибочно значился как Маленков). Единственный в группе парень, работавший не на «Серпе и молоте», а на заводе «Москабель». Родился в 1922 году в деревне Чублово Конаковского района Калининской (Тверской) области. Окончил школу ФЗУ. Отличался добросовестностью, точностью, стремлением к знаниям. Работая на заводе, поступил в техникум. Был в своем цехе военоргом, редактором стенной газеты. Пионерская дружина школы на родине Маненкова носит теперь его имя. Каждый год там первый урок в первых классах начинается с рассказа о его подвиге…
В этом списке, рядом с фамилиями друзей, могли бы стоять фамилии Зои Космодемьянской и Клавы Милорадовой. Даниил Алексеевич Селиванов не включил их в группу Пахомова лишь потому, что считал: на более трудное задание (взорвать штаб!) должны идти в основном парни. Для ведения разведки вполне хватит двух девушек.
Те, кто погиб в Волоколамске, приняли смерть быструю и все вместе, чувствуя рядом плечо товарища. А Зое предстояло пройти долгие страшные испытания в полном одиночестве, надеясь только на свои душевные силы.
Конечно, тогда, в ноябре сорок первого, готовясь к новому походу, Зоя еще не знала всех подробностей гибели пахомовской группы. Но о том, что разведчики казнены, было известно. Как и о том, что возле Рузы погибли товарищи из другой группы: Александр Курляндский и Курт Ремлинг. Зашли погреться в избу лесника, группу окружили гитлеровцы. Начался бой…
Жаль было друзей, хотелось отомстить врагам за их смерть. Зоя очень переживала в те дни. А домой отправляла короткие спокойные письма.
«Здравствуйте, дорогие мои мама и Шура. Жду от вас весточки. У меня это второе к вам письмо. Я жива и здорова. Ваша Зоя».
А вот еще: «Дорогая мама! Как ты сейчас живешь, как себя чувствуешь, не больна ли? Мама, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, приеду навестить домой. Твоя Зоя».
Это последнее ее письмо, датированное 17 ноября. Ответа не дождалась.
МОСКВА ЗА НАМИ!
Узнав о прибытии разведчиков-диверсантов, командир дивизии полковник Полосухин обрадованно поторопил адъютанта: «Зови!» Застегнул ворот гимнастерки, выкрутил побольше фитиль керосиновой лампы. Мельком глянул на окна: завешены одеялами, маскировка надежная.
Комната наполнилась людьми, принесшими стынь ноябрьской ночи. Первым представился майор Спрогис. Полковник отметил: волевое лицо, спокойные, понимающие глаза много пережившего человека. С ним — направленны диверсионного пункта по 5-й армии капитан Батурин и старший лейтенант Клейменов. Федор Павлович и Михаил Алексеевич — полковник Полосухин всегда спрашивал у офицеров имя и отчество.
Они привезли своих воспитанников, с рук на руки передали их представителю армейской разведки капитану Епанчину. Этот знаком полковнику не первый день. Строен, щеголеват — из бывших кавалеристов. Хромовые сапоги сверкают — как на танцы собрался. Доложил, сделал шаг в сторону, прищелкнул каблуками. Звякнули бы шпоры, да нет их, не то время. Рядом с капитаном мешковато выглядели двое парней в ватниках. Они даже не назвали себя. Полосухин сам шагнул к ним, протянул руку.
— Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Виктором Ивановичем.
— Крайнев, — ответил парень с чистым высоким лбом.
— Проворов Павел, — охотно заговорил второй, его карие глаза поблескивали весело, любопытство светилось в них. — К вам мы, значит, товарищ полковник.
Спрогис пояснил:
— Это командиры групп. Крайнов идет старшим.
— Садитесь к столу, товарищи. Можете расстегнуться, у нас тепло.
Павел Проворов только того и ждал: устроился ближе к лампе, распустил ремень, оттянутый мешочком с гранатами. Около него не спеша сел Крайнов. Вглядываясь в их лица, Полосухин заметил: до чего же они различны, специально таких непохожих не подберешь. У Крайнева глаза большие, голубые, прозрачные. Волосы светлые. И весь он какой-то сдержанный, собранный. А товарищ его, Проворов, оправдывает, пожалуй, свою фамилию. Шустрый, улыбчивый, на цыгана похожий. Лицо смуглое, кудри — как воронье крыло. Лихой парень, по всей видимости. Они хорошо дополняют один другого, не надо бы их разлучать. Спросил:
— Задание вам понятно?
— Я проинструктировал дополнительно, — сделал шаг вперед Епанчин.
— Вам все понятно, товарищи? — повторил Полосухин. — Вопросы ко мне есть?
— Проводники? — привстал Крайнов.
— Два сапера. Я сам пойду, — поторопился ответить Епанчин.
— Да уж вы постарайтесь, — мельком глянул на него Полосухин. И разведчикам: — Вчера немцы начали новое наступление севернее и южнее нас. Атакуют везде, кроме полосы нашей армии. У нас пока тихо. Большая тишина перед большой бурей. Здесь самый центр Западного фронта. Автострада из Можайска на Москву, железная дорога. Гитлеровцы очертя голову лезть будут, — полковник взял не набитую табаком трубку, повертел в руках, положил подальше. — Перед нашим передним краем большие лесные массивы. Противник имеет возможность скрытно сосредоточивать силы. Мы знаем, какие войска гитлеровцев находятся непосредственно на передовой. А что у них в тылу? Какие части подтянул враг, где они, на каком направлении сконцентрированы? Любые, даже косвенные сведения о дислокации и передвижении вражеских войск — для нас большая ценность. Это первое. Другая основная цель — мосты и дороги. Мешайте противнику маневрировать силами и средствами. Особенно когда он начнет наступление. И еще вот что… Товарищ майор, сколько человек всего?
— В двух группах — девятнадцать. Почти половина девушки.
— Понятно… Район действий сравнительно небольшой, задания у групп одинаковые. Советую вам без особой необходимости не разлучаться. Пусть будет крепкое ядро, способное постоять за себя. От этого ядра можно посылать разведку, выставлять дозоры, засады, наблюдателей.
— Учтем, — сказал Крайнов.
— На месте посмотрим, — белозубо улыбнулся Проворов. — По обстоятельствам…
— Где люди?
— Возле машин, товарищ полковник.
Первым выбежал из дома капитан Епанчин. Когда Полосухин подошел к грузовикам, стоявшим на обочине шоссе, разведчики уже были выстроены двумя неровными шеренгами. Впереди — девушки. У каждой наган на ремне, гранаты у пояса. Сумки через плечо — в них бутылки с горючей смесью. В туго набитых вещевых мешках взрывчатка, боеприпасы и продукты. У парней во второй шеренге мешки побольше, а вместо наганов — винтовки. Снежная пыль, припудрившая землю, просветлила немного черноту ночи, можно было разглядеть лица разведчиков. Полосухина поразила броская красота девушки, скорее женщины, стоявшей на правом фланге. И не просто красота, а интеллигентность, одухотворенность. Может, поэтесса или актриса?!
— Вы кто? — вырвалось у полковника.
— Волошина Вера, — сказала она, считая, видимо, такой ответ исчерпывающим. Не место здесь вдаваться в подробности.
Рядом с ней девушка полная и, наверно, спокойная, доброжелательная.
— Милорадова Клава.
Следующая — почти ребенок. Высокая, худенькая, со строгим лицом подростка. Взгляд прямой, настороженный: еще, мол, один начальник, от этого чего ждать? Одета не как все. Вместо шинели — длинное пальто с меховой опушкой. Вместо валенок — сапоги. На голове вязаный подшлемник.
— Космодемьянская Зоя.
— Шапка-то где?
— В мешке.
— Почему пальто?
— Мишенью не хочу быть, — резко ответила она.
Полосухин удивленно вскинул брови.
— А другие разве хотят?
— У нас по желанию, товарищ полковник, — негромко, но твердо произнес майор Спрогис. — В разведку, в населенный пункт пальто даже лучше. — И, как бы предупреждая дальнейшие расспросы, добавил: — Не беспокойтесь, товарищ полковник, все они уже были в немецком тылу.
«И эта девчонка?» — чуть не вырвалось у Виктора Ивановича.
Шел вдоль строя, узнавал фамилии, разговаривал с разведчиками, даже шутил, а сам, как признался потом Спрогису, думал: насколько это противоестественно, когда девушка отправляется на риск, навстречу смертельной опасности. Ну, здесь, на передовой, в общей цепи, где рядом свои, где позади пулеметы, пушки, танки, вся, можно сказать, страна за спиной — еще допустимо. Здесь огромный и отлаженный воинский механизм, который заботится о членах своего коллектива, стремится дать каждому допустимую нагрузку, бережет по мере возможности. А как же там, среди врагов, где только гибель вокруг и ни от кого никакой помощи? Там даже обогреться негде в холодные ночи. И постоянное напряжение, способное вымотать человека за несколько дней. Далеко не всем мужчинам под силу такое. А эти разведчицы — особой закалки, что ли? Особую школу прошли?.. Да какая там школа у этой девушки с одухотворенным лицом и милой улыбкой, какая закалка у этой тростиночки — сердитой девчонки?! Необходимость — и только. Не пускать бы их в промозглую мглу, отправить бы назад, в теплые комнаты, чтобы учились, да работали, да детишками обзавелись в свой черед…
— Пора, — это голос капитана Епанчина.
— Удачи вам! — сказал Полосухин. Помолчал немного, ища подобающие слова. Как напутствовать бойцов? Не нужны им громкие фразы, они хорошо знают, почему и ради чего идут на задание. — Надеюсь, товарищи, мы увидимся. Уверен, что увидимся. До скорой встречи!
Повернулся и зашагал к дому. За спиной его раздались негромкие команды.
В горнице Полосухин набил табаком трубку и сразу вышел на крыльцо. Разведчиков уже не было. Все растворилось, исчезло в глухом мраке. Где-то очень далеко ухали тяжелые взрывы, тенькали оконные стекла. Там, вдали, даже ночью не прекращается бой. А в полосе его дивизии тихо. Но надолго ли? Может, немцы уже изготовились к наступлению, может, они начнут утром? Ну, что же, и он не сидел сложа руки.
Закурив, Виктор Иванович с удовольствием затянулся несколько раз подряд. Это лучший отдых для него: постоять одному на воздухе, подымить, расслабиться хотя бы на несколько минут. А в помещении он не курил и другим не советовал. Противно, когда в комнате воняет табачищем. Противно и вредно. Особенно тем, кто не курит.
Между собой добровольцы называли Спрогиса «человеком без переживаний». Артур Карлович знал об этом. Сорвались у кого-то такие слова и полетели из группы в группу. Не очень-то они наблюдательны, эти девчонки и мальчишки. Строгая требовательность, всегда ровный голос — вот что видят и слышат они. У майора многолетняя привычка — всегда держать себя в крепкой узде. И невдомек, конечно, девушкам и парням, как волнуется он за своих питомцев, как мучает его совесть, если случается срыв. Они — молодые — многого не знают, не понимают еще, они имеют какое-то право на ошибку. А он обязан предвидеть все, что может произойти с ними, за очень короткий срок обучить их хотя бы азам труднейшей разведывательно-диверсионной работы. У них молодость и здоровье, у него опыт и знания.
Да, очень большой опыт, накопленный всей жизнью. В пятнадцать лет — разведчик 7-го латышского полка, защищавшего Советскую власть. Выглядел совсем мальчишкой, пробирался в тыл белых, на него не обращали внимания. В середине 1919 года был отозван в Москву. Принимал участие в нескольких сложных операциях ВЧК. Затем Феликс Эдмундович Дзержинский направил его на пулеметные курсы Красной Армии. Курсанты не только учились, но и охраняли Кремль, Советское правительство, самого Владимира Ильича Ленина. Несколько раз стоял Спрогис на посту у квартиры Ленина. Это было высокое доверие, приносившее огромную радость. Владимир Ильич нашел время побеседовать с латышским пареньком.
Потом были трудные бои на Южном фронте, разведывательная работа в тылу Врангеля, в бандах Махно. Долго служил на границе. Окончил высшую пограншколу. Увлекался различными видами спорта, что очень помогло ему переносить физические и нравственные перегрузки. На всесоюзных стрелковых соревнованиях успешно защищал честь динамовского коллектива. В 1929 году команда заняла первое место…
Когда пришлось решать, ехать ли ему в отпуск на Черное море (путевка была в кармане) или немедленно отправляться в Испанию, он ни минуты не колебался. Перебрал вещи в чемоданчике, отложил ненужное и был готов.
Советник по разведке Малагского, а затем Мадридского фронта, он много раз ходил в тыл врага, добывал ценные сведения, доставлял пленных франкистов. Разведгруппа у него была небольшая, но какие люди подобрались в ней! На счету группы — семнадцать взорванных вражеских эшелонов! Навсегда останутся в памяти операции в горах Гвадалахары, переправы через бурную реку Тахо… Когда Артур Карлович возвратился из Испании, на его груди сияли два ордена: Ленина и Красного Знамени.
Ему было чем поделиться с комсомольцами-добровольцами, но времени — в обрез. Невероятно сложная и тяжелая обстановка: решалась судьба Москвы, судьба социалистического Отечества. Фронту требовалось отдать все.
Сейчас, трясясь в грузовике, возвращавшемся в Кунцево, Артур Карлович испытывал особое беспокойство. За все время существования воинской части 9903 он передал армейской разведке самый многочисленный отряд, под общим руководством Бориса Крайнова. Действовать им предстояло в треугольнике Можайск — Верея — Наро-Фоминск, в районе, насыщенном вражескими войсками. Начальник разведотдела штаба фронта полковник Ильницкий, давая указания Спрогису, дважды подчеркнул: послать самых умелых, самых активных, самых надежных. В ближайшие дни на карту будет поставлено многое.
Артур Карлович сделал все, что мог. В отряде лишь четверо новичков, да и то из числа тех, кто отличился на занятиях. Некоторые разведчики и сам Борис Крайнов уже бывали в тех местах, куда проложен маршрут. Разработаны несколько вариантов связи с разведотделом 5-й армии, с направленцами диверсионного пункта. Но справятся ли молодые бойцы?! Поучиться бы им хотя бы месяц-другой…
Теперь оставалось только ждать вестей от Крайнова и Проворова и готовить, без передышки готовить пополнение, обучать прибывших новичков. Парни и девушки занимаются по двенадцать часов. Устают так, что замертво падают на свои койки. И Спрогис тоже устал. Двое суток почти без сна. Ему тоже только бы добраться до кровати. Но он не ляжет. Войдет сейчас в тихую казарму, поднимет людей по тревоге и сам отправится с ними в темный лес, в глубокие кунцевские овраги. Курсанты будут «переходить линию фронта», двигаться по компасу, натыкаясь на кусты и деревья, будут ругать мысленно бесчувственного командира. А майор, перебегая и переползая вместе со своими учениками, будет думать не столько о них, сколько об отряде, который прорывается в эти часы во вражеский тыл.
Тревожило Артура Карловича и еще одно обстоятельство: правильно ли поступил, назначив командиром второй группы Павла Проворова. Долго толковали об этом с комиссаром. Формально все вроде бы правильно: Проворов прошел соответствующую подготовку, побывал во вражеском тылу. Человек неунывающий, смелый, даже лихой. Если бы речь шла о назначении его командиром разведывательного подразделения регулярных войск, у Спрогиса не возникло бы никаких колебаний. И комиссар Дронов Никита Дорофеевич говорил: «С комсомольца Проворова можем спросить строго. Характер крепкий, знания получил». Это так, но у разведчиков-диверсантов, ведущих партизанские действия, своя специфика. Чтобы руководить многоцелевой группой в тылу врага, нужны особые качества, определенная житейская мудрость, умение понять и оценить сложную обстановку, найти верное решение, учесть настроение людей. Гибкость требуется в сочетании с твердой волей, целеустремленность — с заботливостью. Как, например, у Веры Волошиной.
Умница она, скромная, настойчивая, душевная. Словно бы всей своей предыдущей жизнью подготовлена к тому, чтобы вести товарищей на самое трудное дело. В детстве, в юности была хорошей спортсменкой (для Спрогиса это важный критерий), участвовала в военных играх, метко стреляла, организовывала походы в тайгу. Первая из своей школы в городе Кемерово решилась ехать в столицу, держать экзамен в Московский институт физической культуры и спорта. Сдала, поступила упорная сибирячка, но на первом курсе обрушилась на нее тяжелая болезнь. Грипп дал осложнение на ноги и на сердце. О физкультурной работе нечего было и думать. Рухнули мечты и надежды. Такая катастрофа кого хочешь выбьет из седла, однако Вера справилась со своими переживаниями. Пошла в другой институт, в кооперативный. Была там активной общественницей и по мере возможности продолжала заниматься спортом.
Стихи пишет. В основном про природу. Во время короткого привала на ночных занятиях под осенним дождем прочитала вдруг про лето. Артур Карлович запомнил:
Снова небо распахнулось, Засверкало синевой. Солнце снова окунулось В лужи с вешнею водой. Снова бегает по лужам, Веселится детвора. Миновала злая стужа, Лету красному — ура!Промокшие, озябшие бойцы взбодрились: будто теплом повеяло!
Волошина на первом же задании превосходно показала себя. Группу забросили в район Калинина. Глушь, леса. Проводник из местных жителей сдрейфил, сбежал. Командир растерялся: куда идти? Что делать? Решил вернуться к своим. Волошина взбунтовалась: «Зачем нас готовили, через фронт переправляли, чтобы мы перед первой же трудностью спасовали?! Карта и компас есть, сама вместо проводника выведу куда требуется!» Сместили разведчики своего командира, выбрали другого, а Волошину — заместителем. Больше двух недель действовали они потом в фашистском тылу, минировали дороги, рвали линии связи. И благополучно возвратились к своим.
Полковой комиссар Дронов не возражал Спрогису: Волошина пользуется среди бойцов уважением и авторитетом. Но все же лучше, если группу возглавит человек, хоть немного в армии послуживший, — Павел Проворов. Старый служака, комиссар больше надеялся на людей привычных и понятных ему, не прочувствовал еще полностью особенностей своей новой работы. Предложил: «Пусть Волошина идет комсоргом отряда, поможет Крайнову и Проворову, к бойцам присмотрится. И тогда в следующий раз ее командиром пошлем».
Спрогис согласился, но червячок сомнения все же беспокоил его. Оставалось лишь надеяться на расчетливость, смекалку и выдержку Бориса Крайнова, объединявшего обе группы.
Тяжелый вещевой мешок давил спину, оттягивал назад плечи. Особенно почему-то левое. Зоя подложила под левую лямку рукавичку — стало еще хуже. Переложила под правую — вроде бы легче.
Разведчики шли цепочкой по лесной дороге. Впереди Борис Крайнов с капитаном Епанчиным и саперами. Замыкающим — Павел Проворов.
Зоя пыталась представить, где находится. Хотя бы приблизительно. На машинах они проехали Голицыно, Кубинку и свернули влево, на юг. В деревне, где пахло гарью, с ними говорил полковник — Зоя рассмотрела «шпалы» на петлицах, когда он задержался возле нее, удивленно разглядывая. Готов, наверно, был спросить, сколько ей лет. Он не оригинален, все начальники спрашивали Зою об этом, отвечать надоело. Да восемнадцать же! Разве виновата она, что худенькая, что молодо выглядит? У них в воинской части и помоложе есть: шестнадцатилетние московские школьники Тамара Маханько и Николай Морозов. Насколько строгий отбор был, а вот взял почему-то их майор Спрогис…
Полковник, правда, не насчет возраста, насчет одежды поинтересовался. Зоя ответила ему так, чтобы не приставал больше. А он нахмурился, и лицо стало грустным. Зоя пожалела… У нее часто бывало: скажет, будто кнутом хлестнет, а потом переживает — не обидела ли зря человека.
Из деревни они двинулись на юго-запад. Пересекли Нару. Узенькую — недалеко от истока. Лед был хрупок, поверх него лежали доски и бревна. Вроде бы мостик. Затем — дорога среди черных деревьев.
Потянуло ветром. Клава Милорадова, шагавшая впереди, остановилась так внезапно, что Зоя натолкнулась на ее мешок. По цепи шепотом передали: «Ложись!»
Подогнув колени, Зоя медленно присела и повалилась на бок. Мешок коснулся земли, сразу стало легче дышать: ослабли лямки, давившие грудь. Зоя подтянулась чуть-чуть, прислонилась щекой к валенку Клавы. Но валенок был щетинистый, неприятно холодный. Тогда она продвинулась еще немного и опустила голову на мягкий ватник выше Клавиного колена. Хорошо, удобно — так и задремать можно.
Выстрел, грянувший впереди, заставил ее приподняться. Стреляли из винтовки. Еще. И еще раз. Коротко прошил воздух станковый пулемет. Лес озарился розовой вспышкой ракеты. Пулеметчик, наверно, засек цель: забарабанил длинно, на всю ленту.
Снова ракета. И — тишина.
Что там ни говори, а на втором задании чувствуешь себя гораздо увереннее, чем в первом походе. Тем более с такими товарищами, как Борис, Павел, Вера Волошина. И славная заботливая Клава Милорадова опять рядом…
Послышался топот ног, голоса. Два бойца провели третьего, раненого. Его поддерживали под мышки, почти несли.
— Что там? — приподнялась Зоя. Ей не ответили.
А случилось неожиданное. Старший сержант-сапер, командир боевого охранения, выставленного на пересечении просек, доложил капитану Епанчину, что к концу дня, уже в сумерках, в лесу появились немцы. Старший сержант, как и было приказано, вел наблюдение, не открывая огня. Дальше перекрестка фрицы не совались. Долбили там землю, — вероятно, окапывались.
Епанчин чертыхнулся негромко. По просеке и должны были идти разведчики.
Оставались два запасных варианта. Правее, через сосновый лес. Но если немцы на перекрестке, они могут быть и в сосняке? Для проверки капитан приказал выдвинуться туда старшему сержанту с бойцами. Однако, едва они продвинулись метров двести, навстречу грянули выстрелы.
Последний вариант — взять влево, через болото. Туда, в чахлое криволесье на кочках, немцы ночью не сунутся. Конечно, морозы прихватили стоячую воду, да крепко ли? Готовя маршрут, саперы Павлов и Карганов прошли там благополучно, даже ног не промочив. Но это — в светлое время. И не сравнить бойцов — дальневосточных таежников с городскими жителями.
— Не сомневайтесь, товарищ капитан, — заверил сапер Павлов. — Без снега надежно сковало. Всего метров сто трудных.
Епанчин колебался. Вопросительно смотрел на Крайнова. Тот произнес коротко:
— Да.
— Саперы останутся на кромке болота, — объяснил ему обрадованный Епанчин. — Давай укажем им приметное место. Будут ждать связного до завтрашнего утра. С первым твоим донесением. — И, подумав, махнул рукой. — Сам буду ждать вместе с саперами. Начальство переживет как-нибудь мое отсутствие.
— Простынешь, — сказал Крайнов. — Одет легко.
— А уж это моя забота, — буркнул Епанчин, уловивший смешок в голосе парня.
Невозможно рассказывать об отряде Крайнова, о Зое Космодемьянской, не говоря о полковнике Полосухине, о его славной и легендарной 32-й стрелковой дивизии, чьи боевые дела вписаны золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Нельзя оторвать одно от другого, не будет полной ясности, потускнеет, измельчится панорама событий. Ведь саперы именно этого соединения проводили отряд Крайнова через линию фронта; в полосе этого соединения, и прежде всего для его пользы, трудились потом разведчики.
В некоторых работах о Зое Космодемьянской говорится, что отряд Крайнова действовал якобы на участке «27-й Дальневосточной Краснознаменной дивизии, прибывшей на защиту Москвы». Это явная ошибка, недопустимая ошибка. 27-я не входила в состав 5-й армии, ее вообще не было на том оперативном направлении. Достаточно посмотреть любой официальный источник, чтобы не оставалось никаких сомнений. Хотя бы книгу «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», которая вышла в 1964 году в Военном издательстве, под редакцией Маршала Советского Союза В. Д. Соколовского. Там указано расположение всех воинских соединений, сражавшихся на подступах к столице. Из приложенных схем видно, что деревня Обухово, неподалеку от которой ноябрьской ночью пересек линию фронта отряд Крайнова, находилась на участке 32-й стрелковой дивизии.
С этой дивизией, повторяю, тесно связаны действия комсомольцев-разведчиков, поэтому о ней и ее командире надо сказать особо. История и боевые традиции у нее славные. Одна из старейших в Красной Армии, полки ее громили белогвардейцев в годы гражданской войны. В начале тридцатых годов дивизию перебросили на Дальний Восток, в Приморье, на границу с Маньчжурией, которую тогда оккупировали японцы.
Один из батальонов разместился на Каульской сопке. От нее в сторону границы тянулась широкая низина, сплошь заросшая кустарником, настолько густым и высоким, что там ничего не стоило заблудиться. Издавна это место облюбовали контрабандисты. По тайным тропам переходили здесь наш рубеж шпионы и диверсанты. Местные жители старались держаться подальше от этой низины. Стычки, а порой и бои с нарушителями вспыхивали почти каждый день, особенно до хасанских событий. Батальон поднимали по тревоге — навстречу пулям! Страна жила мирной жизнью, а для красноармейцев в этом районе затяжной многолетний бой не прекращался, не спадало постоянное напряжение.
Полковник Полосухин гордился своей дивизией, про себя называл ее «спартанской». Впрочем, назвать ее можно было и таежной, и болотной, и вездеходной, и непотопляемой. Недели и месяцы проводила она вдали от казарм, совершая марши, преодолевая горы, форсируя реки, прокладывая колонные пути через лесные дебри. И каждый марш заканчивался учебным «боем», стремительной атакой или отражением натиска «противника». Причем всегда на новой, незнакомой местности — Полосухин считал это необходимым, чтобы избежать шаблона, привычки.
Трудно было служить в 32-й стрелковой. Обувь изнашивалась вдвое быстрее, чем в «спокойных» частях, стоявших в глубине страны. Гимнастерки обдирались в лесных походах, сопревали на солдатских плечах гораздо скорее, чем планировали интенданты. Привычными были нарекания хозяйственников: слишком много боевых патронов изводят на учениях стрелки. Но зато люди получали здесь настоящую выучку. А неприятности Виктор Иванович Полосухин брал на себя.
В сентябре сорок первого года дивизия получила приказ погрузиться в вагоны. Больше двадцати эшелонов потребовалось, чтобы поднять на колеса «хозяйство Полосухина». И понеслись они на запад длинной цепочкой, почти не делая остановок. Повсюду, задерживая другие составы, загорался для них зеленый свет. В считанные минуты менялись на станциях паровозы. Забрасывали в теплушки сухой паек, кипы свежих газет и вот уже тревожно подхлестывал, торопил гудок, поспешно выстукивали колеса: скорей, скорей, скорей! И всем было понятно: значит, плохо, очень плохо на фронте, если гонят дивизию через всю страну таким стремительным темпом, значит, очень надеются на дальневосточников!
И вот — Москва. Почти никто из бойцов раньше не видел столицу. А теперь эшелоны шли по окружной дороге через Владыкино, Лихоборы, Красную Пресню. Люди теснились в дверях теплушек, жадно разглядывая огромный город, затянутый пеленой холодного тумана.
Видны были улицы, казавшиеся очень широкими. Тысячи окон, крест-накрест заклеенных полосками бумаги. Много асфальта, много заводских труб…
Женщины и дети с надеждой смотрели на бойцов в новой форме, на платформы, покрытые брезентом, под которым угадывались стволы пушек. Светлели их лица, приветливо махали руками, а старухи осеняли эшелоны крестным знамением.
Выгружалась дивизия в Можайске и на соседних станциях. Здесь чувствовался фронт. Налетала вражеская авиация, горели дома. С запада шли остатки разбитых, вырвавшихся из окружения частей. Сотни изнуренных, подавленных красноармейцев. Многие без оружия.
Полосухин, прибывший с первым эшелоном, знал, что боеспособных советских войск впереди нет, фронт создается заново. Дальневосточникам приказано встать на Бородинском поле, перекрыть две важнейшие магистрали, по которым гитлеровцы рвались к столице: широкую асфальтированную автостраду Минск — Москва и железную дорогу, бегущую от Смоленска.
Объезжая на машине Бородинское поле, Виктор Иванович испытывал такое ощущение, будто все тут давно знакомо ему. Сколько раз мысленно бывал он с фельдмаршалом Кутузовым, с генералом Раевским, с Пьером Безуховым в соседних деревнях, в лесах и оврагах, хорошо знал, где и какие располагались редуты и флеши. Два увлечения было у Полосухина, и первое из них — книги. Все свободное время отдавал он художественной литературе, помогавшей ему понимать людей, разбираться в сложных взаимоотношениях человеческих, анализировать минувшие события. Ну и, конечно, литература военная, специальная. Ему не довелось окончить академию, за спиной была лишь Томская пехотная школа да курсы усовершенствования «Выстрел». Но в общении с «академиками» он почти не ощущал пробелов в своей подготовке, не уступал в знаниях, только знания эти достались ему ценой очень большого труда. В походах, уставая не меньше, чем бойцы, он перед сном сидел два-три часа возле копчушки в штабной палатке, листая книгу или учебник. А утром поднимался вместе со всеми. Или еще раньше.
Когда он впервые приехал на Дон к родителям жены, теща удивилась и обрадовалась: хозяйственный зять попался, привез большие тяжеленные чемоданы. Но еще больше поразилась она, когда увидела, что вещей у молодоженов почти нет, а чемоданы набиты книгами. И весь отпуск, как и все последующие отпуска, Виктор Иванович с утра и до вечера с книгой не расставался.
Другой страстью Полосухина были географические карты. Воображение имел хорошее, легко читал их, отчетливо представляя рельеф местности: скаты, ручейки в зарослях ивняка, овраги и болота, расстояния между ориентирами. Посмотрел карту — будто побывал в этом районе. А на Бородинском-то поле благодаря книгам и картам бывал много раз. Он отметил даже, что Утицкий и Беззубовский леса разрослись за последние годы, нарушив знакомую ему панораму.
Настроение у него было торжественно-приподнятое. Какая ответственность и какая высокая честь выпала на долю дивизии: защищать Москву не на безымянном участке, а на том самом поле, где возвеличился российский воинский дух, вознеслась слава русского оружия и начался закат знаменитых наполеоновских армий.
В доме с вывеской «Военно-исторический музей» было пусто. На голос Виктора Ивановича вышла женщина-сторожиха. Объяснила заезжему военному, что никого здесь не осталось, она одна, но если товарищ командир хочет, она покажет ему музей.
Полосухин, волнуясь, осматривал экспонаты. А что будет здесь через год? Через десять лет? Сохранится ли этот музей? Останется ли в нем память о 32-й дивизии?
Сторожиха привычно протянула книгу посетителей. Виктор Иванович сел к столу, разборчивым почерком заполнил все графы. На вопрос «Цель посещения Бородинского поля» ответил: «Приехал Бородинское поле защищать». И поставил дату: 12 октября 1941 года.
Свой командный пункт Полосухин развернул на высотке позади того места, где стояла когда-то батарея Раевского. С высотки хорошо просматривались окрестности. Видны были памятники и обелиски, воздвигнутые в честь героев Бородинской битвы: воинам лейб-гвардии Московского полка, 1-й артиллерийской бригады, лейб-гвардии Измайловского полка…
А будут ли полки его дивизии достойны того, чтобы народ сохранил память о них?!
Времени для организации обороны оставалось мало. Отряды прикрытия, высланные на запад, уже вошли в соприкосновение с гитлеровцами. Под низким пологом туч проносились вражеские самолеты-разведчики. На правом фланге закапывался в землю 113-й стрелковый полк. У него большой район обороны, он прикрывал Бородинское поле с севера. На самом поле, перехватив автомагистраль и железную дорогу, расположились подразделения 17-го Краснознаменного стрелкового полка имени товарища Фрунзе. Этому полку — самое трудное. Полосухин не сомневался, что фашисты нанесут главный удар именно здесь, вдоль дорог.
Поскольку третий стрелковый полк дивизии находился еще в пути, командующий армией отдал Полосухину свой резерв: два учебных батальона и батальон курсантов Московского военно-политического училища имени Ленина. Они заняли оборону на левом фланге.
Утром хмурое небо наполнилось ревом фашистских бомбардировщиков. Самолеты плыли косяками по девять штук, выискивая добычу. Но на земле было пусто. Войска окопались, замаскировались, укрылись в лесах, кустах и оврагах. Если удавалось немцам обнаружить огневую позицию, заметить автомашину или людей, они обрушивали сразу десятки бомб, вздыбливая и перепахивая землю.
Командованию гитлеровского корпуса, двигавшегося на Можайск, было известно, что сюда прибыли подразделения новой советской дивизии. Но немцев не очень тревожило это. Они уже привыкли к тому, что русские бросают в бой соединения, на скорую руку сформированные из запасников и остатков отступивших войск. Соединения эти укомплектованы по новым, очень урезанным штатам, да и то не полностью. Слабо обучены, тяжелого оружия у них мало.
Фашисты были совершенно уверены, что мощным ударом прорвут советскую оборону и беспрепятственно двинутся дальше. Так было не один раз. Немцы даже разведку не удосужились произвести. Из населенных пунктов одновременно выползли их танки, вышли бронетранспортеры и грузовики с пехотой. Особенно много танков появилось на автостраде. Там они шли в два ряда, вытянувшись длинной колонной. Танкисты не закрыли люки — дышали чистым осенним воздухом.
Наступающая лавина выглядела грозно. Один вид ее мог подавить психику обороняющихся, нагнать панику. Это, конечно, понимали фашисты. Но они не учли того, что перед ними стояло не наскоро сколоченное соединение, а кадровая дивизия Красной Армии, сохранившая довоенный состав, включавшая в себя три стрелковых и два артиллерийских полка, противотанковый и зенитный дивизионы, саперный и разведывательный батальоны и другие подразделения. Пятнадцать тысяч бойцов и командиров ее хоть и не побывали еще в боях, но закалку и выучку имели отличную.
Колонна танков катилась по шоссе, ощетинившись стволами орудий. Советская артиллерия молчала. Таков был приказ. «Пушкари» готовили шквальный сосредоточенный огонь по тому месту, где дорога проходит в глубокой выемке с крутыми откосами, где танкам не развернуться ни вправо, ни влево. Лишь когда колонна втянулась в это своеобразное ущелье, громыхнул залп нескольких десятков орудий. Артиллеристы били, словно на учениях. Сразу загорелось шесть танков. На дороге — затор. Броневые машины тыкались в разные стороны, как слепые котята. А батарейцы вели точный огонь на уничтожение.
Гитлеровцы рассчитывали нанести неожиданный мощный удар, но получили еще более мощный и более неожиданный отпор. Первая попытка наступать сорвалась в самом начале. За ней последовала вторая. Потом третья. Не сразу, знать, поверили фашисты в неудачу. Лишь после того, как танки и пехота были отброшены в третий раз, вражеское командование убедилось, что с наскока ничего не добьешься, бой надо вести всерьез.
Немцы снова подняли в воздух авиацию. Подтянули свою артиллерию. Началось сражение, которое продолжалось потом целую неделю. Одна советская дивизия — против трех. В тылу Полосухина — никаких резервов, а наступающий немецкий корпус подпирался сзади еще одним, столь же сильным, корпусом. Разведка доносила, что у врага на Можайском направлении не менее тысячи броневых единиц. У Полосухина танков не было.
Фашистов отбрасывали в одном месте — они прорывались в другом. За ночь бойцы контратаками восстанавливали положение, а днем немцы опять бросали вперед бронированные машины и авиацию, опять прогрызали оборону, просачивались по лесам.
Чего только не было в этом сражении! Немцы прорвались вдоль шоссе, захватили деревню Артемки и Утицы. А выбить их нечем. Лишь в Можайске выгружался один из последних эшелонов — прибыл 3-й батальон 322-го стрелкового полка. Тот самый батальон, который стоял в Приморье на Каульской сопке, перекрывая «долину контрабандистов». Виктору Ивановичу ничего не оставалось, как бросить людей в бой прямо с колес, в светлое время, когда в небе господствовали немецкие самолеты. Но вот где сказалась выучка бойцов таежной, болотной, всепроходимой дивизии! Батальон разомкнулся на взводные колонны и ускоренным маршем, почти бегом двинулся вдоль шоссе Гжатск — Москва. Не по шоссе, нет, а по густому лесу, по незнакомой местности. Скрытно, всего за два часа, не имея отставших, батальон вышел в указанный район и с ходу, неожиданно атаковал деревню Утицы. Фашисты бежали, падая под меткими пулями дальневосточников. На три километра отбросил батальон немцев.
Не упомнишь, сколько раз переходила из рук в руки деревня Артемка. Окрестности ее были усеяны трупами в зеленых и серых шинелях.
Группа вражеских танков прорвалась к командному пункту дивизии. Полосухин приказал бойцам и командирам занять круговую оборону. Редкой цепочкой залегли люди в неглубоком окопе. А танки приближались, ползли черными громадами среди памятников и обелисков героям двенадцатого года. Комиссар дивизии, полковой комиссар Мартынов подсчитал хладнокровно: по танку на человека. И приготовил гранаты. А Виктор Иванович вызвал по телефону ближайшую гаубичную батарею, приказал развернуть орудия в сторону командного пункта и бить, не считаясь ни с чем. Командир батареи медлил — там же все начальство! А для снаряда сто метров не расстояние.
Пришлось Полосухину повторить команду. Сам командир батареи встал к прицелу. Четыре гаубичных снаряда, каждый весом в двадцать килограммов, были посланы в цель безукоризненно: четыре танка развалились, как орехи под молотком. Еще залп — и еще четыре машины. Остальным удалось скрыться за дымом.
Оглушенные, контуженные люди поднялись из окопа. Стряхнули с себя землю, откашлялись, отдышались, восстановили связь со штабом дивизии. Командный пункт продолжал управлять боем.
Шесть суток гремело сражение на поле русской славы. 40-й моторизованный и 46-й танковый корпуса гитлеровцев пытались проложить себе путь к Москве. И не проложили. Они оставили здесь сто семнадцать танков и двести автомашин. Почти десять тысяч фашистов было убито и ранено.
Дивизия Полосухина тоже понесла очень большие потери: из строя выбыла половина личного состава и больше половины боевой техники.
Отчаявшись пробиться через Бородинское поле, гитлеровцы нанесли удар значительно южнее и, сделав бросок, захватили Можайск за спиной у дальневосточников. В дивизионной многотиражке появилось тогда стихотворение:
Мы отошли. Но помни нас, страна, Мы здесь стояли за тебя стеною. Враги продвинулись, но стороною, Как черти ладана, боясь Бородина!32-я стрелковая, круша немецкие тылы, прорвалась через линию фронта и заняла указанные ей позиции.
Скоро начнется новое вражеское наступление. Дивизия на стыке двух армий, на ответственном участке. Позади — прямая дорога к Москве. До столицы — восемьдесят километров, отходить некуда. А полки очень ослаблены.
Во время затишья дивизия укрепила занятый рубеж. Река Нара, вдоль которой тянулась основная линия обороны, сама по себе не являлась серьезной преградой для наступающих. По берегам ее были отрыты окопы полного профиля, сооружены дзоты. Подготовлены запасные позиции, поставлены минные поля на танкоопасных направлениях. На лесных просеках — завалы. На открытых местах, на дорогах возведены валы из валежника и соломы высотой до трех метров. Их обливали бензином или керосином. В любое время можно поджечь, создать перед врагом огненный барьер.
Чтобы ввести противника в заблуждение, Полосухин выдвинул часть своих сил вперед, к речке Тарусе. Пусть немцы столкнутся с боевым охранением, прежде чем выйдут к основной линии обороны. Может, спеси у них поубавится, ослабнет порыв.
Рассчитывал Виктор Иванович и на разведчиков-диверсантов. Их немного, но давно известно, что один смелый боец в тылу врага стоит трех-четырех, находящихся на линии фронта.
Болото замерзло не все, остались бочаги, не затянутые льдом. Воздух был густой, сыроватый. Пахло гнилью. Разведчики продвигались медленно, след в след. То пружинили под ногами моховые кочки, то скользкую твердость льда ощущали подошвы. Много было упавших деревьев, через некоторые стволы приходилось перелезать. Это с грузом-то. А Зоя еще очень старалась, чтобы не скрипели лед и сухой снежок под сапогами. Ступала на носках, всем телом подавшись вперед, чувствуя, как до боли напрягаются мышцы. Не шла, а будто кралась, словно кошка.
Когда осталось позади болото — ноги ее не держали. Хорошо, что командир устроил малый привал, разрешил отдохнуть двадцать минут, пока уточнял что-то с капитаном Епанчиным. Разведчики полежали немного, съели по сухарю и по куску сахара. И отправились дальше — теперь уже без сопровождающих.
Часа через три начался неуверенный осторожный рассвет. Утро вроде бы сомневалось: надо ли подниматься над озябшей осенней землей, все равно не озаришь, не согреешь ее за короткий срок. Лишь повинуясь заведенному порядку, неохотно раздвинуло оно ночные сумерки, оставив в низинах, в лесных зарослях серый туман.
На небольшой поляне Борис Крайнов остановил отряд. Подозвал Проворова, Голубева, Емельянова. Поговорил о чем-то. Ребята скинули мешки и, захватив винтовки, исчезли в чаще.
Зоя опустила на землю свой тяжелый мешок и почти упала рядом с ним. Ноги были словно чугунные.
У девочек лица пепельные. От утомления, от серого света, наверное.
Лес вокруг такой же, как в Кунцеве. На елочных нависях пестреют опавшие листья. В зеленой хвойной гущине светятся березовые стволы. Несколько старых, черных от времени, елей взметнулись над мелколесьем. Как на той поляне, где учились закладывать взрывчатку и поджигать бикфордов шнур. Обычный подмосковный лес. И как-то не верится, что находишься не в родном привычном мире, а за огненным рубежом, на вражеской территории, где совсем другие порядки…
— Булгина, Воронина, Космодемьянская, Самойлович, — это голос Крайнова. — Вы дозорные. Остальным отдыхать. Костры не жечь.
— Мешок возле меня оставь, — ласково сказала Клава. — Захвачу, если что.
— Ладно, спи.
Крайнов разделил девушек на две пары. Зою и Лиду Булгину отвел чуть назад, в ту сторону, откуда пришли. Там с вырубки хорошо просматривалось поле, по которому бежали столбы телефонной линии с оборванными проводами.
— Чтобы мышь не проскочила, — предупредил Крайнов. Окинул взглядом девушек, разрешил: — Одна может на пне посидеть. Но другая обязательно на ногах, чтобы не дремалось.
Командир ушел. Рослая, выносливая Лида сказала:
— Отдохни ты, Зоя.
— Почему я? Я почти не устала.
— Ну, если почти… — улыбнулась Лида. — Давай уж я начну, потом ты.
— Да садись же!
— Хорошо-то как! Лучше, чем в кресле.
— Так уж и лучше? — усомнилась Зоя, оглядывая ровное голое поле. Прошлась немного. Возле березы увидела гриб: высокий боровик-переросток с коричневой шляпой, к которой прилипли резные листочки. В теплом сыром августе бывают такие. Обрадовалась, наклонилась к нему и отдернула руку, обожженную мертвым холодом. Гриб заледенел, отвердел, как железка. Одна только форма, один вид остался от настоящего, от живого. Зоя словно обманулась в чем-то хорошем.
— Давай разговаривать, — позвала Лида Булгина. — Глаза закрываются, чуть не свалилась.
— Только потише.
— А мы совсем шепотом, — сказала Лида и надолго умолкла.
— Что же ты? Опять дремлешь?
— На лес смотрю. Были мы здесь, Зоя. Прошлый раз, без тебя. Тоже Борис водил.
— Когда Наташу Самойлович ранило?
— Да. Только ее не здесь зацепило. Вон в той стороне, ближе к Наре. Мы уже возвращались тогда…
У Булгиной приятный голос. Говорит она как-то округло, ровно. Полные щеки порозовели — отдохнула немного. Когда Лида в платье — никоим образом не похожа на разведчицу. Этакая уютная домашняя хозяйка, добросовестная работница. Только разве волевые складки в уголках губ… Но сейчас-то она в шинели…
— Мы возвращались тогда, вышли к Наре, а переправиться не на чем. Дождь идет, холодно. Лед на реке тонкий. Не плыть, не перейти. Да у нас Аля Воронина и плавать-то не умеет, а у Наташи левая рука перевязана. Мы к Борису: «Ищи лодку!» Но где ж ее разыщешь? Нету, и все. Решили маты из прутьев плести, чтобы на лед положить. Начали кусты ломать, а тут с нашего берега как ударят из пулемета. Шум услышали и встревожились. Наугад били, ни в кого не попали, но все же… Что нам делать? Садись и плачь, да при дожде все равно слез не видно. Немцы стреляют, наши стреляют — хоть назад уходи. Тогда Борис говорит двум парням: лезьте в реку, пробивайте канал во льду, чтобы плыть можно было. Ну, они и полезли. Ломают лед, он звенит, пулеметчики с двух сторон бьют по звуку.
Умолкнут, прислушаются и опять строчат. Яркие трассы перекрещиваются. А пули как попадут в воду — шипят. Коротко так: пшик, пшик… Ужас! Тут Наташа Самойлович разделась первая. Она ведь знаешь какая: решительная, крепкая. Хоть и ранена была. Стоит босиком, нас торопит. И мы разделись…
— Совсем?
— Лифчик и трусы на мне. Одежду свою и Наташину в плащ-палатку связала. Над головой вскинула и поплыла. Вспомнить не могу, до сих пор холод пронизывает. А закраины льда острие, так и режут, так и царапают. Ноги у меня свело, на четвереньках на берег выползла… А Наташе еще хуже. Левая рука совсем у нее не действовала. Только правой гребла. То скроется голова под водой, то опять появится. Нахлебалась она тогда из этой Нары… Ребята ей с берега шест подали, вцепилась в него здоровой рукой, на шесте и вытянули. Между прочим, Наташе после того случая в штаб перейти предлагали. Раненая, мол, хватит. А она отказалась, опять с нами пошла.
— Воронина-то как, она ведь не плавает, — напомнила Зоя.
— С Алей совсем скверно было. Мы переправились, а она и Борис за рекой. Плачет, говорит Борису: плыви, я останусь. А куда ж ей одной? Крайнов ничего не сказал, он же молчун. Взял Алю за руку и повел вдоль берега. Прямо туда, где немцы. Фашисты выше сидели, на круче, а Борис с Алей под обрывом. К деревне. Должна же возле деревни лодка быть! И верно — нашли. Ты только представь себе: ночь черная, дождь хлещет, пулеметы трещат. В сотне метров немецкие окопы, фашисты орут по-своему. А Борис хоть бы что. Вырвал кол, к которому лодка привязана. Перевернул, вылил воду. И перевез Алю. Почти перевез, — поправилась Лида. — Лодка настолько дырявая была, что вода в нее струей била. Затонула возле нашего берега, где по пояс. Нырнули Аля с Борисом, выкупались. Но это уж ничего, это повод для шуток потом был. Не держит, мол, Алю вода, и все тут.
— Вот ведь как, — сказала Зоя, — Борис такой неброский, на него в обычное время внимание не обратишь…
— Ну, нет! — горячо возразила Лида. — А глаза! А лоб! Сразу видно мыслящего человека!
— Я хочу сказать, что герои — они в общем-то с виду самые обыкновенные, — пояснила свою мысль Зоя. — Я вот думаю даже, что шумливые, крикливые, стремящиеся выделиться, гораздо дальше от героизма стоят. На самохвальбу порох расходуют…
За лесом треснули выстрелы. Девушки даже не поняли, два или три. Прислушались. Вдали привычно перекатывалась канонада. Где-то швейной машинкой стрекотал пулемет. Но выстрелы за лесом не повторялись.
Лида решила, что время ее отдыха кончилось. Поднялась, уступив подруге нагретый пень. Зоя с удовольствием села, чуть-чуть стянула сапоги. Шевельнула занемевшими пальцами.
— Люди! — услышала она громкий шепот Булгиной. — Смотри, наши, кажется.
— Точно. Павел с ребятами.
— Беги, Зоя, доложи Борису!
Командир не спал. Накинув поверх шинели плащ-палатку, он, нахохлившись, сидел на стволе поваленной ели и разглядывал карту. Выслушав Космодемьянскую, быстро пошел следом за ней.
А выстрелов было три, хотя не должен был прозвучать ни один: командир отряда предупреждал — как можно меньше шума.
Павел Проворов с товарищами отправился к перекрестку дорог в четырех километрах от места, где отдыхал отряд. Задача несложная: укрыться в лесу и наблюдать за передвижением противника. Заодно выявить режим охраны моста на проселке. Однако подойти к перекрестку Проворов не смог. Весь лес возле дороги был буквально нашпигован фашистской техникой. Укрывшись под кронами сосен и елей, стояли танки, бронетранспортеры, грузовики, штабные легковушки, походные кухни. Особенно много было танков. Их насчитали полтора десятка, но ведь это далеко не все.
Проворов вполне резонно предположил, что такие сведения сами по себе представляют интерес для командования и сразу повел группу назад, чтобы сообщить о виденном Борису Крайневу. По такому скоплению техники трахнуть авиабомбами — взвоют немцы!
На полпути, огибая деревню, ребята увидели двух гитлеровцев. Солдат тащил мешок, а следом шагал здоровенный веселый унтер с чемоданом. В одном кителе, несмотря на холод. Или закаленный, или крепко под градусом был. Судя по всему, эти немцы-танкисты «промышляли» в деревне и теперь возвращались в свою часть. Проворов огляделся. Кругом пусто. На востоке потрескивали выстрелы. Пулемет прострочил. Поди сообрази, где палят!
Велел ребятам взять фашистов на мушку. Голубев и Емельянов по команде нажали спусковые крючки. Солдат-немец ткнулся носом в землю. А унтер устоял. Мимо пронеслась пуля или не очень зацепила его. Пришлось Павлу выстрелить самому.
Бегом — на дорогу. Ребята подхватили чемодан, мешок, а Проворов, ища документы, обшарил карманы еще теплых, словно бы спящих гитлеровцев. Глянул мельком в лицо унтера: конопатая откормленная харя, в углах рта пузырилась кровь. От него пахло сивухой и одеколоном.
— Быстрей, так и не так! — подхлестнул Павел парней.
Вернувшись в отряд, осмотрели трофеи. Чемодан был набит тряпками: носки, полотенца, рукавицы, шапка, несколько банок варенья. А в мешке — куры и гуси со свернутыми шеями.
Кто-то из девушек предложил отнести все это назад, в деревню. Ей возразили: теперь в ту сторону нельзя соваться, немцы уже хватились своих, искать будут.
— Ничего, девочки, жратва нам самим пригодится, — сказал Проворов.
— У людей ведь отобрано.
— Для них это добро все равно пропало. Они возрадовались бы, если б узнали, что не фрицам, а своим досталось…
Бориса Крайнова особенно заинтересовали документы, взятые у танкистов. Солдатские книжки, письма. Самое нужное для разведчиков. Это — удача. Он даже не сделал замечания Проворову за неосторожность, за поднятый шум. Дело-то сделано.
Борис составил донесение, перевязал шпагатом пакет с документами, протянул связному:
— Отправляйся сейчас, днем. Время не терпит. В крайнем случае переждешь где-нибудь до темноты. Но вечером бумаги должны быть у капитана. Сюда возвращаться не надо. Мы идем дальше.
И Проворову:
— Поднимай людей!
— Дал бы передохнуть малость, ноги-то не казенные.
— Нельзя. Немцы теперь всю округу прочешут.
— Эх, жизнь кочевая, так и не так! — выругался Павел и осекся, наткнувшись на жесткий взгляд Крайнова. — Ладно уж, извини, вырвалось. А уходить надо, ты прав.
Через несколько минут разведчики двинулись дальше в глубь леса, не оставив на поляне никаких следов. Впереди, задавая темп, ровно шагал Крайнов.
Капитан Епанчин твердо решил ждать связного на передовой вместе с саперами. Задели его слова Крайнова: замерзнешь, мол. Человек самолюбивый и мнительный, он сам «домыслил» то, чего, наверно, не хотел сказать и даже в голове не держал командир ушедшего отряда. Простынешь, дескать, тыловой щеголь, штабной чиновник… Крайнов и знать не знал, что капитан этот из штаба, угодил в самое больное место. Епанчину стыдно было, что он, строевой командир, не участвует в боях, а корпит в тылу над немецкими документами, изредка допрашивает пленных, хотя это способна делать женщина, владеющая языком. Особенно неудобно было ему отправлять за линию фронта отряд Крайнова. Уходят на страшный риск юнцы и девчонки, а он лишь провожает их… И его же еще и жалеют: «Легко одет, не простудись!»
В разведывательный отдел Егор Егорович Епанчин угодил случайно. Всю службу провел в кавалерии, душой привязан был к своему романтичному и лихому роду войск. А жена, окончив институт, преподавала немецкий. Когда вышел приказ о том, что командному составу, сдавшему экзамены на звание военного переводчика, прибавляется определенная сумма к денежному содержанию, на семейном совете решили: Епанчиным то и карты в руки. Даже на курсы Егору не надо ходить, дома осилить можно. Они установили три дня в неделю, когда разговаривали между собой только по-немецки. За полтора года Епанчин в языке сравнялся со своей благоверной и успешно сдал соответствующий экзамен. Его хвалили за чистое берлинское произношение. И справку дали, и в личное дело занесли, и оклад увеличили. Радовался Епанчин вместе с женой.
Едва началась война, припомнил кто-то его отличное произношение. Дивизия кавалерийская ушла на фронт, а капитана откомандировали на краткосрочные курсы. С курсов — в армейский штаб. И не было у него ни опыта в новой работе, ни интереса к ней…
За ночь в шинели и хромовых сапогах Егор Егорович промерз, как говорится, до самых костей. Даже, казалось, мускулы и хрящи в нем заледенели и похрустывали, когда шевелился.
Среди дня связной от разведчиков явиться не мог. Поэтому капитан оставил саперов, имевших полушубки и валенки, в условленном месте возле болота, а сам со спокойной совестью отправился в штаб ближайшего полка, чтобы подкрепиться там, согреться доброй стопкой и раздобыть на время теплую амуницию. Саперам же сказал, что вернется в семнадцать ноль-ноль.
Однако саперы сами разыскали его еще до наступления темноты. Привели паренька с расцарапанной щекой и заплывшим глазом. Связной где-то грохнулся на бегу, зацепившись за корни. Егор Егорович прочитал донесение, присланное Крайновым, полистал немецкие документы и, пожалуй, впервые понял важность той работы, которой теперь занимался.
Пошел к начальнику штаба полка:
— Связь с дивизией есть?
— Тебе кого?
— Самого Полосухина.
— Сейчас соединят.
— И еще, будь другом, скажи, чтобы коня мне приготовили. И сопровождающих.
— Дорогу не найдешь, что ли?
— Тут такие сведения, что хоть эскадрон с собой в охрану бери!
Выводы напрашивались сами собой. Если враг подтянул непосредственно к линии фронта ударные танковые части (а он подтянул именно их), значит, наступление начнется в самое ближайшее время. И второе.
Противник сосредоточил танки на участке дивизии Полосухина, на стыке двух обороняющихся советских армий: 5-й и 33-й. Замысел фашистов ясен: надеются пробить брешь — ведь стыки по праву считаются наиболее уязвимым местом.
Что же, решительного наступления гитлеровцев Виктор Иванович и без того ожидал с часа на час. Предполагал: неприятель особенно сильно будет давить на левый фланг дивизии, на стык с соседями. Сведения, полученные от Крайнова, лишь уточняли и конкретизировали то, о чем думал полковник Полосухин, о чем размышлял командарм-генерал Говоров, о чем совещались, наверно, неподалеку отсюда, в Перхушкове, в штабе Западного фронта. Во всяком случае, обстановка теперь прояснилась, и надо еще раз взвесить, какие принять меры, чтобы отразить готовящийся удар.
Виктор Иванович Полосухин не мог сказать, что он чувствует себя спокойно в преддверии вражеского наступления. Нет, у фашистов больше сил. Им помогает уверенность в успехе и опыт, накопленный за несколько лет войны. А для полковника Полосухина, для его поредевшего соединения предстоящая битва будет лишь вторым крупным сражением с немцами, вторым испытанием — после битвы на Бородинском поле.
Он еще раз прочитал донесение, полученное от Крайнова. Что можно сделать для укрепления стыка с соседней армией? Направить туда саперов, пусть возводят инженерные заграждения. Противотанковый узел в деревне Акулово усилить ротой фугасных огнеметов. Хорошо бы поставить артиллерийскую батарею на высоте 201,9, которая как раз на стыке с соседями. Но батареи нет. Пусть начальник артиллерии выделит туда хотя бы два орудия. Снимет с другого участка. И еще — противотанковые ружья. Не ружья, а ружье. Один расчет есть в резерве.
Виктор Иванович вздохнул: вот чем приходится заниматься командиру дивизии. Самому поштучно распределять стволы.
Повернулся к адъютанту:
— Где паренек, который пришел от разведчиков?
— Обедает, проголодался. Говорит, должен возвратиться в свою часть.
— Отправьте на машине. И передайте майору Спрогису и его подчиненным большое спасибо.
ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ МИНОМЕТЫ…
Зоя проснулась от холода. Замерзли ноги. До боли, до ломоты в суставах. Пальцы будто распухли, такое впечатление, что кровь в них застыла, превратилась в острые льдинки-кристаллики, и они покалывают изнутри.
Сзади ровно дышала Вера Волошина, согревавшая своим телом Зоину спину. У Клавы даже дыхания не слышно. Все трое лежали на правом боку, притиснувшись друг к другу. Да и остальные тоже. Каждую капельку тепла сберегали. Вот уже двое суток не разводили костер, не ели горячего. Дым костра увидит или учует враг.
Неподалеку, на востоке, круглые сутки грохотали разрывы, сотрясая подмерзшую землю. Фашисты начали наступление. В прифронтовой полосе немцы заполнили все деревни, занимали все строения, отдельно стоящие дома, бараки, сараи, риги. Даже в лесу можно было наткнуться на них.
Гитлеровцы охраняли перекрестки дорог и мосты, патрулировали шоссе. Никуда не сунешься. И это как раз в такое напряженное время, когда фронт гнется под нажимом фашистов, когда нашим особенно нужна помощь.
Можно было уйти дальше от передовой, в большие можайские леса, разбить лагерь, обогреться. И оттуда делать вылазки, пытаться уколоть немцев в одном или другом месте. Но Борис Крайнов не делал этого. Отряд переходил с места на место, таясь от гитлеровцев, ничем не выдавая себя, но и не принося почти никакой пользы. Все устали, намерзлись, лица почернели от холода и бессонницы. Наконец Крайнов привел разведчиков среди ночи на песчаный взгорок и разрешил отдыхать.
Ребята разыскали старую поленницу — метровые плахи, пролежавшие лето и успевшие подсохнуть. Из плах сделали настил, густо набросали елового лапника и улеглись плотно, будто спрессованные. Зоя на правом боку заснула, на правом же и проснулась.
Осторожно, не разбудив соседок, соскользнула она с жесткого ложа, встала на непослушные негнущиеся ноги. Хмуро и неуютно было в лесу. Утро ли, день ли в разгаре — не разберешь. На зеленых космах молодых елок тускло поблескивали замерзшие капли. Оледеневшая трава позванивала, как тонкий фарфор, ломаясь под сапогами.
Крайнов, говоривший о чем-то с постовым, обернулся на звук шагов.
— Космодемьянская? Выспалась?
— Ноги закоченели.
— Не мала обувь-то?
— На номер больше брала. Да это у меня всю жизнь так: ноги и руки стынут. С кончиков пальцев.
— Крови маловато. Или насос слабо качает, — знающе пояснил постовой.
— Шагай, шагай, знаток анатомии, — шутливо подтолкнул его Крайнов. — За просекой приглядывай.
И к Зое:
— Очень замерзла?
— Как ледышка.
— Садись на пень, разувайся.
Она послушно выполнила его совет. Левый сапог снялся с трудом, а правый еще хуже: портянка сбилась комом на щиколотке.
— Тебя же один носок греет… Ну кто тебя учил так портянки наматывать?
— Никто не учил.
— Я думал: одна из всех сапоги выбрала, значит, привычная.
— Это мне Гайдар посоветовал.
— Кто? — удивился Борис. — Гайдар? Писатель?
— Аркадий Петрович, — с улыбкой подтвердила Зоя. Ей легко и приятно было говорить с Крайновым, особенно если они оставались вдвоем. С другими парнями совсем неинтересно, а с Борисом — очень.
— Ты знакома с ним?
— Случайно. В санатории. Он в сапогах по снегу ходил, я и сказала: холодно, мол. А он объяснил, что сапоги — самая незаменимая обувь, особенно на войне. Валенки могут промокнуть. Оттаят с мороза — и сырые. А уж оттепель и подавно не для них. Зато в сапогах, если на шерстяной носок и на теплую портянку, ни холод не страшен, ни сырость.
— Ишь ты! — Крайнов склонился над ее босой ногой, растирая рукавицей. — Повезло тебе такого человека увидеть.
— Несколько раз разговаривала, — тихо сказала Зоя, испытывая смущение от того, что шершавые теплые пальцы Бориса касаются ее кожи.
— Правда, ледышка совсем, — Крайнов склонился ниже, отогревая дыханием ее пальцы, и Зоя испугалась — вдруг губами коснется?! Даже дернулась. И покраснела.
Крайнов посмотрел на нее удивленно, отвел взгляд, насупился. Зоя видела — уши его стали пунцовыми. Ведь суровому командиру отряда было всего-навсего девятнадцать лет.
— Надевай носки, — строго сказал он, все еще не глядя на девушку. — А портянки надо вот так.
Борис хотел сам обернуть ее ногу, но передумал. Сел на плаху в метре от Зои, сбросил валенок.
— Гляди, как я делаю. Ногу держи на весу. Первый оборот. Перед большим пальцем уголок торчит, подвернуть его. И еще оборот, только потуже. Ну, а теперь закрепить кончик, подоткнуть. Нога как спеленутая.
— А у меня нет…
— В общем у тебя правильно, но посильней надо, чтобы дряблости не было. Иначе собьется, скомкается портянка. Давай еще. Ага, получше. Еще… Вот так и продолжай, тренируйся.
— Сколько раз?
— Пятьдесят, — совершенно серьезно ответил Борис. — Пятьдесят как минимум. А лучше сто. Терпения хватит?
— Раз надо — хватит, — улыбнулась Зоя.
Вообще-то она не взяла валенки прежде всего потому, что они ей не понравились. Были бы черные или серые — еще куда ни шло. А привезли какие-то грязновато-зеленые, неопределенного цвета, тяжелые и совсем не изящные. Особенно не гармонировали они с ее городским пальто. Вот тут и всплыли слова Аркадия Петровича, сразу перевесившие чашу весов в пользу сапог. Она и девочек пыталась уговорить, но те решили, что дело к зиме, в валенках надежней, хоть и подшучивали над неказистой обувью, называя ее «маскировочной» и «водонепроницаемой»…
И вот шагает она следом за Верой Волошиной по мелкому редколесью, раздвигая и медленно отпуская ветки кустов, чтобы не хлестнули идущего сзади. Отряд опять переходил на новое место: поблизости от ночной стоянки появились немцы. Теперь сапоги сидели на ногах как влитые, нигде не давило, не жало. С затаенной улыбкой вспоминала она утреннюю тренировку. Вот бы Аркадию Петровичу рассказать, как учил ее Борис. Где он сейчас, Гайдар?
— Зоя, Зоя! — услышала она громкий шепот, — На ходу дремлешь?!
— Задумалась.
— По цепи: Проворова к командиру.
— Ясно. Клава слышишь? По цепи: Проворова к командиру.
Распоряжение полетело в конец цепочки, где, как всегда, замыкающим шел Павел. Вскоре он пробежал мимо. А Зоя вновь мысленно вернулась в Москву. Когда думаешь о доме, о прошлом, быстрее летит время.
Придержала рукой ветку. Кустарник кончился. Впереди, вероятно, был овраг — темный провал. Разведчики остановились. И сразу вызов:
— Волошина, Космодемьянская — к командиру!
— Ну, мастер-колючка, для тебя работа! — высокий белый лоб Крайнова будто светился во тьме. Зоя насторожилась. За «колючку» можно было и обидеться, и ответить, но в резковатом голосе Бориса уловила она едва приметную ласковость и промолчала. А командир продолжал: — Прошлый раз, говорят, ты ловко сработала. Вот и теперь надо… Проселок на автостраду выходит, днем тут у немцев объезд. Не снуют по шоссе, в открытую, — через лес норовят.
— С рассвета до темноты едут, — подтвердил Проворов. — А ночью редко.
— Постарайтесь, чтобы три-четыре пробки. В лесу машинам свернуть некуда, пусть повозятся. Проворов — старший. Ждем здесь до полудня. Все.
Трое отделились от группы и пошли вдоль оврага. Справа — крутой спуск. Слева поле, и оттуда, с открытого простора, тянул ветер, такой холодный и резкий, что забивал дыхание. Ладно хоть попадались заросли орешника, там ветер чувствовался меньше.
В незнакомом месте, тем более ночью, когда не видишь конечной цели, когда нет приметных ориентиров, путь кажется бесконечным. Даже не представляешь себе, сколько прошел, сколько еще осталось шагать: может, минуту, а может — до самого рассвета. Незачем прикидывать, рассчитывать. Бесполезно. Надо идти, и все.
Зое было приятно, что Крайнов вспомнил о прошлой вылазке на Волоколамском шоссе. Бориса в тот раз не было с ними, но рассказали ему, значит, как потрудились тогда Клава и Зоя. У них имелся большой запас рогаток-колючек, похожих на маленькие, будто игрушечные, противотанковые «ежи». Кончики очень острые и с насечкой. Любую покрышку автомашины проколют. Клава и Зоя вышли на дорогу среди дня и замаскировали почти десяток таких «сюрпризов».
С той поры и прослыла Космодемьянская «специалистом по колючкам», хотя дело это не очень сложное и каждый может справиться с ним. Некоторые девочки подшучивали, называя ее просто «колючкой». Но в каждой шутке есть доля правды, это все знают. Вот и Борис сегодня… Нет, на Бориса она не в обиде. Да и какая она в действительности колючка — очень даже ошибаются девочки. Им-то не приходится постоянно доказывать свою «взрослость», а Зое надо. И резкость ее, наверно, — от задетого самолюбия. Как самозащита. Разве Клава Милорадова скажет, что Зоя «колючая»? Впрочем, Клава не пример, она относится к Зое по-особому: не только как подруга, но чуть-чуть даже по-матерински. Лучше взять Веру Волошину. Она комсорг, в отряде у нее авторитет, но нет в ней ни малейшего зазнайства, со всеми она одинакова, доброжелательна. Зоя ни одного резкого слова не сказала ей, причин не было. Или Женя Полтавская. Разве она была с ней когда-нибудь колючей?
Однажды, правда, Клава сказала, что она слишком прямолинейна. Зоя самокритично задумалась: от примитивности это или от принципиальности? Возрастное это у нее или черта характера? Был тогда такой случай.
Ушла одна группа минировать Звенигородское шоссе и почти вся погибла там. Вернулась Валя Степанова, студентка института кинематографии. А через несколько дней объявилась подруга ее — Шура Белова. Это было как чудо. Про Белову знали, что она отправилась на разведку в деревню и попала в руки фашистов. Погибшей считали, а она тут как тут: веселая и здоровая. Оказывается, Белова разыграла сценку, убедила немецкого офицера, что она беженка, возвращается домой. Ее оставили в избе без присмотра, она и воспользовалась. Перешла фронт, добралась до Москвы, отдохнула три дня дома — и снова в часть.
Зоя слушала и недоумевала: как это разговаривать с гитлеровцами, улыбаться, дышать одним воздухом с ними, унижать себя ложью! Нет, она не смогла бы!
Гневно прервала рассказ Беловой: «Если бы меня схватил немецкий офицер, я плюнула бы ему в лицо и крикнула: «Сволочи! Мы все равно победим!»
Наверно, слишком уж горячо прозвучал ее возглас. Все повернулись к ней. У Зои даже кровь прихлынула к щекам, а глаза заблестели от злости и от неловкости тоже. Белова пристально, грустно посмотрела на нее, усмехнулась одними губами, сказала: «Может быть, я поставлю еще одну мину…»
У Зои после этого испортилось настроение. Наверно, обиделась на нее Белова. Но не могла Зоя понять и принять то, что произошло с Шурой. Конечно, у каждого свой характер, свои взгляды. Но вот — рубеж. Черное и белое. Никаких компромиссов не должно быть.
Вера Волошина поняла тогда состояние подруги. Отвлекала ее какими-то разговорами. А ложась спать, произнесла твердо и успокаивающе: «Да, только так».
Зоя была очень благодарна ей. И не за один этот случай. Трудно сближалась она с людьми, сама знала за собой недостаток, но что же поделаешь?! Не всегда могла преодолеть стеснительность. Особенно по вечерам, когда будущие разведчики засиживались у костра в лесу, неподалеку от своей казармы. Костер создавал «походную обстановку», парни и девушки отдыхали после напряженного дня, шутили, пели приглушенными голосами. Все чувствовали себя «в своей тарелке», а Зоя старалась держаться в тени. Петь ей было неловко. Глянуть со стороны — этакая бука, одним видом настроение испортить способна.
Каждый разведчик хотел знать, с кем он пойдет на задание. Судьба маленькой группы в тылу противника зависит от общей спаянности и от надежности любого бойца. А эта замкнутая Космодемьянская — как она поведет себя в трудных условиях? Может, лучше не брать ее?
Зоя понимала, что некоторые разведчики относились к ней недоброжелательно, даже готовы были поговорить насчет нее с майором Спрогисом. Понимала, но ничего не могла изменить. Во всяком случае, не могла до того вечера, когда случайно или намеренно после занятий возле нее у костра оказалась Вера Волошина. Села рядом, чуть касаясь плечом плеча. Долго смотрела на язычки пламени, произнесла задумчиво:
— Речка у нас дома красивая… Вдоль нее мы в тайгу ходили.
— И я тайгу помню. Не очень, но помню! — вырвалось вдруг у Зои.
— Ты разве в Сибири была? — обрадовалась Волошина.
— Конечно! Понимаешь, отец и мама у меня там в селе, в школе работали!
— Вот это да! Выходит, почти земляки мы с тобой!
И пошел, и пошел у них разговор, да такой оживленный, что даже товарищи у костра смолкли, прислушиваясь и удивляясь, как это прорвало нынче Космодемьянскую!
С того вечера и началась их дружба. И в строю они были рядом, и за столом. Ребята называли их — «наши сибирячки»…
Зоя улыбнулась во тьме. Захотелось притронуться Вере, ощутить ее. Протянула руку.
— Ты что? — замедлила шаг Волошина.
— Соскучилась.
— И я намолчалась ужасно, — повернулась к ней Вера, и они засмеялись негромко.
— Обалдели! — цыкнул Проворов. — Ша, болтуньи!
— Не ругайся.
— Да разве это ругань? Это одно подбадривание.
— Давай, я первой пойду, — сказала Вера.
— Почему?
— Хорошо вижу во тьме.
Проворов уступил свое место. Знал — комсорг не подведет. Просто непостижимо было, как ориентировалась Волошина ночью на незнакомой местности. Шагала уверенно и всегда выходила точно в заданную точку. «Это у меня врожденный инстинкт от предков-таежников», — смеялась она. А Зоя восхищалась: насколько же гармонична и совершенна старшая подруга, природа всем щедро одарила ее. И добрым характером, и красотой, и тем, что давно утратили изнеженные горожане: острым зрением, тонким слухом и удивительным обонянием. Она как-то остановилась и сказала: «Пахнет погасшим костром. Вон оттуда». И точно: в двухстах метрах нашли головешки…
Овраг кончился, и поле слева тоже вроде бы кончилось, во всяком случае, утих ветер. Теперь они шли по высокому спутанному бурьяну. Зоя на ходу сорвала какие-то мелкие шарики, растерла пальцами. Вдохнула тонкий, ослабленный заморозками запах полыни, представился ей на миг жаркий день, солнце над полем, яркие бабочки над цветами. И пчелы…
Вера резко взметнула руку: «Внимание, стой!» Зоя замерла, затаила дыхание. Легкое гудение доносилось издалека. Вот почему услышала она пчел.
Звук стал резче, отчетливей.
— Машины, — сказала Вера. — К фронту.
— Проселок, — подтвердил Проворов.
Слева, вероятно на повороте дороги, скользнул по низким тучам световой отблеск. Проступили во тьме очертания деревьев. И вдруг вспыхнули два ярких глаза.
Все упали на землю.
— С зажженными фарами, так и не так! — вырвалось у Проворова. — А чего им бояться, самолетов-то нет!
Зоя ощутила, как вздрогнула Вера, повернулась к Проворову и вроде хотела сказать что-то. Но промолчала. Уткнулась носом в рукав и начала чихать. И Зое тоже настолько захотелось чихнуть, что она сорвала с головы шапку и закрыла лицо.
Сухой и ломкий бурьян, в который они упали, обдал их пылью, разъедавшей слизистую оболочку. Першило в горле. Всю волю свою сосредоточила Зоя, стараясь не раскашляться, подавляя желание чихнуть. А машины между тем проходили совсем близко, ревя двигателями, бросая в ночь белые пучки света.
Как только скрылся последний грузовик, Проворов вскочил и быстро двинулся к повороту дороги. Там, на возвышенности, исчез бурьян, росли большие деревья.
— Действуйте. Я наблюдаю. Сигнал — свист.
Зоя подумала: надо пройти дальше, где по обе стороны дороги черной стеной стоял лес. Там с проселка не свернешь. Будет пробка, о которой говорил Борис.
Положила колючку в колею, на замерзшую землю. А замаскировать нечем. Попробовала пальцами, ногтями царапать комья — не поддаются. Ударила каблуком — будто по кирпичу.
Отбежала за куст, наскребла мусора: травы, сучков, листьев. Вернулась — и не нашла колючки. Положила другую, присыпала. Потом — в соседнюю колею.
Теперь надо отойти подальше, чтобы приготовить сюрприз в другом месте. По пути несколько раз опускалась на колени, нагребла полную шапку листвы, травы, веток пополам со снегом. Натолкала, натискала с верхом, чувствуя, как саднит пальцы. Ободрала, наверно. Теперь бы сучьев еще, прикрыть мусор. Но не толстых, чтобы внимание водителя не привлекли…
Третий участок — в глубине леса. Зое повезло, нашла упавшую ветку дуба с жесткими, словно бы из жести, листьями. Вдвоем с Верой принялись обрывать их, маскируя колючки, и тут Волошина услышала отдаленные выкрики и поскрипывание.
— Подводы, — сказала она.
— Бежим!
— Много чести, — усмехнулась Вера. — Не думаю, чтобы обозники были быстрее нас.
Спокойно, не оборачиваясь, зашагала к повороту, где ждал их Проворов. Зоя старалась держаться ближе к ней, поглядывала назад и ступала осторожно, чтобы не взвизгивал под каблуками снежок.
Обоз тащился медленно. Девушки успели перекинуться словом с Проворовым, укрылись за стволами деревьев. Зоя выбрала толстую наклонившуюся березу, легла на нее животом, обхватила руками и отдыхала, прислушиваясь к приближавшимся звукам. Обоз напоминал цыганский табор. Громко скрипели колеса высоких фур, но еще громче переговаривались, перекликались солдаты. Понукали лошадей, смеялись. Кто-то наигрывал на губной гармошке. На одной фуре горел фонарь, вокруг него сидели солдаты, закусывали.
Казалось, обозу этому не будет конца. Зоя начала замерзать без движения. Черт их принес, этих немцев! Окованные колеса могут вдавить в землю или оттолкнуть в сторону с таким трудом уложенные колючки. Ну, из колеи-то их не выжмут. Все-таки есть надежда, что машины потом напорются.
Проворов решил: обоза не переждать. Приказал отползать.
Назад шли вдоль того же оврага, только теперь он был слева, а поле справа. Напряжение, владевшее ими возле дороги, ослабло. Зоя ощутила не только усталость, но и разочарование, опустошенность. Наверно, потому, что не было уверенности — с пользой ли потрудились. Подвернулся этот обоз…
Светало, когда вступили они под сомкнутые кроны соснового леса, где и днем-то, пожалуй, всегда сумрачно. Ветер не проникал сюда. Зое показалось, что пустой и тихий лес этот похож на нежилой, просторный, всеми покинутый и остывший дом. Неуютно здесь. Скорее бы добраться до своих. Там такое же глухолесье, но в отряде многолюдней, веселей.
Пыталась заговорить с Верой, а она отвечала односложно, думая о чем-то своем. Когда Проворов остановился передохнуть, Волошина прислонилась возле него к сосне, мотнула головой, будто косы на спину отбросила (кос давно нет, еще в школе отрезала, а привычка сохранилась). Сказала решительно:
— Извинись.
— За что?
— За то, что ругался при нас.
— Не нарочно я. Само собой вырвалось. Обстановка такая!
— А для нас не обстановка?
— Извинись! — поддержала Зоя.
— Раз уж вы всерьез, — натянуто улыбнулся Павел, — тогда извините, конечно. Если хотите.
— Да, хотим, — сказала Вера. — А еще скажи Крайневу, что на задание с тобой мы больше не пойдем. Хватит, наслушались. Верно, Зоя?
— Сами доложим.
— Нет, он! Так честней. Браниться умеет, пусть сумеет и объяснить.
— Ты что, всерьез? Война ведь!
— Тем более, Проворов. На войне не только геройство ценится. На войне, когда люди жизнь отдают, человеческое уважение еще дороже становится. Можешь ты это понять?
— Пытаюсь, — Павел плюнул с ожесточением. — Пытаюсь уразуметь, откуда такое наваждение на мою голову!
— Уразумей, пригодится, — холодно усмехнулась Вера.
— А ведь я предупреждал тебя, Павел, — голос Крайнева звучал укоризненно. — Ну, зачем это? Выругаешься — и сам умнее не станешь, и других хорошему не научишь. А обидеться могут, тем более девушки.
— Больно уж недотроги. Святые они, что ли?
— Да, недотроги. Да, святые. Легковесных девок сюда не пошлют. — Крайнов жестом упредил возражения Павла. — И не говори больше об этом, ты сам понимаешь, что не прав.
— Хоть по-детски-то можно? Кумой-лисой?
— Это еще что?
— Мальчонка у нас был соседский, за два года перевалило. Как рассердится, душу отводил: у-у-у, кума-лиса!
— Можно. Промежуточный этап для полного отвыкания, — скупо улыбнулся Крайнов, давая понять, что недоразумение выяснено.
Вообще-то Павел Проворов мог и не слушать замечаний Крайнова. Равные права: и тот и другой — командиры групп. Борис считался командиром сводного отряда, пока они действовали вместе. Проворов может уйти со своими ребятами в любое время — это в его власти. И при всем том Павел, человек своевольный, вспыльчивый и обидчивый, даже не помышлял расстаться с Крайневым: настолько привязался к нему. У Бориса было то, чего не хватало Павлу при всей его смелости и расторопности. Борис хладнокровен, неторопливо-настойчив. Словно рожден для того, чтобы быть вожаком, руководителем. Наверно, помогает ему изрядный опыт комсомольской работы.
Познакомились Борис и Павел в Ярославле, в обкоме комсомола. Из Ростова Великого, из Суздаля — со всей области съехались парни, добровольно вызвавшиеся сражаться в фашистском тылу. Азартный, горячий, Павел сразу почувствовал тягу к молчаливому и сдержанному Борису. У Павла слова горохом летят: половина лишних. А Борис скажет — в точку ударит.
Из Ярославля в Москву повез Крайнов семьдесят парней. Самому велено было возвратиться в обком. Но мысленно он уже простился с родным городом. В Центральном Комитете комсомола доложил о прибытии добровольцев и задал вопрос: справедливо ли, что ребята, которых он отбирал и привез сюда, пойдут в тыл врага, может быть, на смерть, а он, их вожак, вернется домой?
Однако вопрос вопросом, а дело делом. Из ЦК позвонили в обком, там возражали. Крайнов, мол, нужен в Ярославле. Но Борис настаивал на своем. Что сейчас самое главное? Борьба с врагом. Долг комсомольца находиться на переднем крае. Он молод, полон сил, он хочет быть там, где трудно… И добился, упрямец, — поехал вместе с ребятами в Кунцево.
Рядом с Борисом даже отчаянный Проворов чувствовал себя как-то уверенней. За себя, за свою жизнь Павел не боялся. Налет на немцев, разведка, засада — это по его части. Но отвечать за подчиненных, заботиться о них (ладно бы только кормежка, а то и о самочувствии, о настроении), не терять веры в успех, тщательно взвешивать все шансы, чтобы врагу досадить и потерь не понести, — до этого Проворов еще не дорос. Личным примером — он мог, но этого было недостаточно, чтобы успешно руководить группой.
Вот Борис только и делает, что водит людей с места на место, укрываясь от гитлеровцев. Проворов давно бы рискнул, попробовал прорваться к шоссе, заложить мины. Или на обоз наскочил бы. Нетерпение толкало на это, хотя в глубине души он понимал, что Крайнов пола ступает правильно, сберегая отряд и готовя серьезную операцию.
И насчет ругани Борис верно говорит, если по совести разобраться. Девушки же вокруг. Образованные, студентки. Тряпка, что ли, Павел, в конце концов, сдержаться не может? Возьмет себя в руки — как узел завяжет!
Одинаковые заряды отталкиваются, а противоположные притягиваются — в физике этот закон бесспорен. Распространяется он в какой-то степени и на человеческие взаимоотношения. Борис и Павел, разные очень во многом, даже внешне, в трудное время были необходимы друг другу. И в то же время Борис почти не замечал Веру Волошину, хотя знал, что в отряде она — личность самая сильная, самая выделяющаяся. Суть, вероятно, в том, что она была такой же, каков он сам. Вера могла делать почти все, что делал Борис, но она неспособна была дополнить, обогатить его. Разве что мастерством следопыта.
Оба светловолосые и голубоглазые, они были настолько схожи, что их принимали за брата и сестру. Только у Веры волосы золотого отлива, у Бориса белесые, какие бывают лишь у северян. Мягкие, с чуть приметным металлическим блеском. Мать в детстве ласково называла его «серебряным».
Вероятно, и в мыслях у них было много общего. С полуслова понимали один другого.
— Важно взорвать мост на шоссе, перехватить артерию. Так, Борис?
— Лучшая помощь. Но все перекрыто. Охраняют даже крутые повороты на возвышенных участках дороги.
— Не охраняют стоки, — улыбнулась Вера, сама радуясь этому открытию. Она только что вернулась из очередного разведывательного маршрута и спешила поделиться своими наблюдениями.
— Стоки? Дренаж? — Борис потянулся за картой.
— Смотри, шоссе пересекает болотце. Просто низину, по которой весной вода идет. Для слива ее под асфальтом трубы… В одном месте трубы видела, — поправилась Вера. — А вот здесь, по-моему, кирпичная кладка. И оба стока не охраняются. Это, конечно, не мосты…
— Но и не ровное место, — продолжал за нее Борис. — Если заложим всю нашу взрывчатку, ямы получатся порядочные.
— Повозятся немцы.
— Решено! — сдерживая кипевшую в нем энергию, Борис старался говорить тише обычного. Вера понимала: это от молодости у него стремление казаться строгим и невозмутимым при любых условиях.
— Когда? — спросила она.
— Разведка выступает через час. Поведешь. Встреча в полночь на подходе к шоссе. Дальше двумя группами: Проворов и я.
На этот раз Зоя была «чернорабочим» — тащила взрывчатку. Шестеро разведчиков ушли вперед налегке, их груз распределили среди остальных. Мешок был тяжел, как в первом переходе и, как тогда, резала плечо левая лямка, давила грудь, мешая дышать. Короче она, что ли? Или груз неправильно укладывает Зоя — надо тщательно проверить на отдыхе.
Еще тревожилась она за девочек. С середины дня подул теплый ветер, вроде бы даже мелкий дождик заморосил. С веток срывались капли. В лесу сырость не очень чувствовалась, а на открытых местах, особенно в низинах, было туманно и словно бы роса легла на пожухлую траву. Валенки у разведчиков намокли, разбухли, отяжелели. Видя, с каким трудом переставляют девушки ноги, Зоя даже неловкость какую-то чувствовала: страдают подруги, а ей в сапогах и легко, и тепло, и сухо.
Настолько втянулась она в дальние переходы, что даже не заметила, как дошли до цели. Не больше трех часов прошагали. Впереди было шоссе, и довольно близко: слышался треск мотоциклов, гул двигателей.
Волошина с разведчиками встретила отряд на заброшенном, затравеневшем проселке, который тянулся по лесу параллельно шоссе. И опять Зоя удивилась мастерству Веры и Бориса. Лес незнакомый, на десять метров едва видно, а они будто по ниточке пришли с разных сторон к месту встречи.
Разговаривали шепотом. Парни переложили в свои мешки взрывчатку. Разделились на группы. Проворов ушел по заросшей дороге. Борис со своими ребятами исчез в лесу. Всех остальных повела к шоссе Вера. Они — группа прикрытия. Если немцы обнаружат подрывников — надо заслонить товарищей огнем, обеспечить отход.
Метров сто двигались ползком, Зоя ничего не могла разглядеть, кроме нечастого мелькания света. Когда остановилась и отдышалась, увидела — шоссе совсем близко. Солдат в кабине грузовика прикурил — вспышка осветила лицо. Вполне можно было попасть из нагана.
Бойцы прикрытия, как черные продолговатые камни, лежали неподвижно на возвышенности, среди редких деревьев. Место было сухое, и Зоя подумала, что летом бугор этот хорошо прогревается солнцем, земляники здесь много… Разыскать бы его когда-нибудь вместе с мамой в синий безоблачный день. Посидеть здесь, показать, где прятались глухой осенней ночью…
Машины все ехали и ехали. Штуки четыре-пять кряду, потом интервал, и снова столько же. Показалось, может быть, Зое или вправду: при дальней вспышке фар метнулась по низине к шоссе горбатая тень. Наверно, не показалось: ведь не просто тень, а горбатая. Либо черт, либо свой парень с мешком взрывчатки за спиной. Но какие черти среди ночи в прифронтовой полосе: давно разбежались отсюда.
Зое стало даже немножко весело от такой мысли. Клаву бы рассмешить. Она близко, в трех метрах, но эти три метра сейчас — как пропасть.
По шоссе снова густо пошли машины. Сперва мотоциклисты и несколько легковушек, потом здоровенные крытые грузовики. Ехали они быстро, свет фар скользил понизу, не попадая на бугор. Зоя, чувствуя себя в безопасности, высунулась из-за дерева и с ненавистью глядела на ревущие, быстро проносившиеся машины. Что там, в этих кузовах? Отдыхают солдаты, которые утром попрут на наших бойцов? Или уложены снаряды, мины, гранаты — огонь и смерть, которые обрушат фашисты на защитников столицы?..
Кто-то трижды дернул ее за ногу. Сигнал отходить. Так быстро?
Ей не хотелось ползти, нюхать землю. Авось не увидят немцы с шоссе. Встала и попятилась, но Вера Волошина бросилась к ней, пригнула сильной рукой:
— Думай! Пришлось лечь.
Ползли быстро. Потом — перебежками от дерева к дереву. Едва остановились на старом проселке — подоспел Борис с двумя парнями. Через несколько секунд — запыхавшийся Проворов со своими ребятами.
— Сейчас рванет! — в голосе Бориса надежда и тревога. Он хотел сказать еще что-то, да так и замер с приоткрытым ртом. А Зоя даже присела от резкого треска за спиной, от раскатившегося грохота. Темный лес перед ней озарился, как при блеске молнии, проступили бело-розовые стволы берез.
Она повернулась быстро и увидела яркий огненный полог: деревья с этой стороны были не светлые, а, наоборот, черные, будто обугленные — каждый ствол выделялся на багровом, меркнущем фоне. Вновь громыхнуло, но дальше и слабее. Взрыва не было видно, лишь над деревьями раскрылся розовый веер, заштрихованный густой сеткой ветвей.
Секунда, и все погасло, сделалось очень темно — кончился маленький праздник. Проворов выдохнул восторженно:
— Ну, врезали! Ну, дали, кума-лиса! И сразу — суховатый голос Бориса:
— Павел, у тебя как?
— Все здесь.
— Порядок движения прежний. Волошина со мной. — И как ни крепился, вырвалось мальчишеское: — Ямища там небось!
— До обеда прочухаются!
— Всю взрывчатку запихнули!
— Отставить разговоры. Пошли.
Настолько удачно получилось с этими взрывами, что люди слишком уж расслабились, успокоились. Если бы не командир, шагали бы кучей, весело переговариваясь, а может, и песню запели бы. Негромко. Павел Проворов прыскал в кулак, припоминая, как укладывал в трубе взрывчатку. Над головой автомашины грохочут, в трубе сыро, вонь какая-то, а он работает, торопится, и всего лишь единственный раз ругнулся за все время, да и то не всерьез, а куму-лису помянул. Рассказать знакомым ребятам — не поверят!
Каждому было что вспомнить. И никто, пожалуй, кроме командира, не думал о тех последствиях, которые может иметь эта диверсия для отряда. Конечно, немцы примут меры. Прочешут окрестные леса. Возможно, с самолетов осмотрят, если погода утром на них сработает. Поэтому за ночь надо уйти подальше, хотя бы километров на десять. Выставить дозоры и затаиться в лесной чащобе. Но даже и Борис Крайнов не предполагал, какой резонанс вызвали ночные взрывы, прогремевшие в ближнем тылу наступающих войск, повредившие автостраду, которая питала гитлеровский фронт на этом участке. Фашисты встревожились, пытаясь понять: в чем дело, где ждать новых диверсий? Партизаны ли это? Или отряд русских прорвался через передовую? Или пробивается к своим окруженная часть?
На место диверсии выехали саперы и подразделения автоматчиков. Усилена была охрана объектов. Все гарнизоны немедленно выставили заставы и засады на окраинах населенных пунктов и перекрыли дозорами перекрестки дорог. На один из таких дозоров и нарвался около трех часов ночи отряд Крайнова.
Надо было пересечь неширокую кочковатую луговину, чтобы перейти из одного лесного массива в другой. Посреди луговины — малоезженая дорога, обозначенная на карте как зимник. До деревни километра полтора. Ничто не предвещало опасности. Отряд двигался, как обычно, цепочкой. Тишина нарушалась лишь топотом ног да тяжелым дыханием. И вдруг во тьме, в ошеломляющей близости, раздался удивленно-испуганный крик. Жестко прозвучала незнакомая команда, оглушающе грянули торопливые выстрелы.
Дрогни в ту секунду Борис, и отряд рассыпался, рассеялся бы в ночи. Кто-то упал, стреляя ответно, кто-то шарахнулся дальше в поле, кто-то метнулся назад, но голос Крайнова сразу вернул всем привычную собранность.
— Вперед! Только вперед! Быстро!
Это было самое правильное решение — не менять направления, не сбиваться с маршрута, уйти от огня. Немцы не видели разведчиков, стреляли наугад. Нельзя ввязываться с ними в бой, терять время. Тем более что со стороны деревни тоже защелкали далекие выстрелы. Немцы всполошились там, торопились на помощь своим.
— Скорей! Скорей! — подгонял Крайнов. Сам, выхватив у кого-то винтовку, с колена бил по оранжевым вспышкам. Зоя задержалась возле него, впервые выстрелила из нагана.
— Уходи, ну!
— Стонет кто-то!
— Уходи! — голос у Крайнева такой, что Зоя подчинилась. Побежала, пригибаясь среди мелких кустов. Пули жикали слева, казалось, парикмахер там ножницами отхватывает чьи-то волосы.
На опушке увидела Клаву Лебедеву, Наташу Обуховскую. Подбегали еще. Вера крикнула: надо продвинуться метров сто вдоль опушки и тогда стрелять, чтобы не перебить своих. Туда устремились толпой, и вскоре там беспорядочно загремела пальба.
Зоя вместе с Клавой Милорадовой поджидала отставших. Наконец подошли Крайнов, Проворов и Голубев — все невредимые.
Командир приказал прекратить огонь. Немцы тоже почти перестали стрелять — не знали куда.
Отряд собрался. Недоставало трех человек.
— Кто-то из ребят сразу назад побежал, — сказала Аля Воронина.
— Там раненый остался, — волновалась Зоя. — Я слышала стон. Разреши вернуться?!
Крайнов не ответил. Молчал, думал.
— Товарищ командир…
— А найдешь?
— Я же помню! Все прямо и прямо!
— Кусты кончатся — дальше ни шагу. На открытое место не выходи. Поднимется стрельба — ни в коем случае с земли не вставай. Только ползком. А мы по вспышкам бить будем.
Зоя отдала Клаве Милорадовой мешок и быстро, на цыпочках, пошла в темноту.
Наверно, в такие страшные минуты в человеке пробуждаются все инстинкты, доставшиеся в наследство от предков, живших когда-то в каменном веке… Зоя и видела сейчас лучше обычного, и слух у нее обострился, главное: — она, не выбирая пути, двигалась как раз там, где пробежала минут десять назад. Узнала конусообразный куст, возле которого стрелял с колена Борис. Прикинула, в какой стороне фашисты, откуда слышался стон. Проползла метров пять и наткнулась, как ей сперва показалось, на очередную кочку.
Нет — это человек. Ладонь скользнула по лицу, попала во что-то холодно-липкое. Зоя отдернула руку, и тут впервые ей стало жутко. Рядом лежал мертвый товарищ, она не способна была ничего исправить, но сама могла в любую секунду сделаться такой же: неподвижной, потусторонней, навсегда отрешенной от жизни. Будет валяться среди кочек, потому что нет никакой возможности вытащить и захоронить труп.
Немцы, стрелявшие до сей поры изредка, открыли вдруг огонь очень сильный, застрочил даже пулемет. Цветные трассы роем улетали в лес или, разбившись цепочкой, проносились над кустарником. Но Зое было ясно, стреляют не в нее. Скорее всего к гитлеровцам подошло подкрепление. Теперь они осмелеют, еще и поле прочесывать начнут.
Захватив винтовку погибшего товарища, Зоя, спотыкаясь о кочки, побежала к своим.
Командующий армией генерал Говоров позвонил на рассвете и начал разговор с добрых слов, с похвалы, чем сразу насторожил полковника Полосухина.
— Молодцы, дальневосточники, крепко стоите, — сказал командующий. — Нигде от Нары не отошли?
— Триста двадцать второй полк ночными контратаками восстановил положение.
— Знаю. А в центре мы опять назад подались. Не удержался сосед твой. Танков у немцев здесь много.
— Разве против меня меньше? На левом фланге, на стыке, до ста двадцати единиц.
— Поэтому и говорю — молодцы дальневосточники… Где твой резерв, Виктор Иванович?
Бот в чем дело — теперь все понятно!
— Третий батальон семнадцатого стрелкового полка занимает акуловский противотанковый узел, — нехотя доложил Полосухин.
— Придется забрать батальон. Временно. Высылаю грузовики и адъютанта с предписанием. Отправляй людей сам, без промедлений.
Последняя надежда, последняя возможность активно влиять на развитие боя… Батальон, который он так берег! Нужно ли объяснять генералу, что противотанковый узел в деревне Акулово создан на перекрестье двух танкоопасных направлений. Он служит тыловым опорным пунктом дивизии, а главное — прикрывает стык 6-й и 33-й армий… Нет, объяснять ни к чему, Говоров знает это и если все же забирает батальон, то значит, на другом участке положение из рук вон скверное.
— Чего молчишь, Виктор Иванович? — послышался в трубке голос командующего.
— Батальон будет отправлен.
— К пятнадцати ноль-ноль он должен занять оборону на опушке леса по восточному берегу реки Сторожки, перекрыть дорогу Звенигород — Саввинская слобода… Это необходимо.
— Товарищ генерал, я понимаю.
Полосухин глянул на часы; времени в обрез, надо ехать в Акулово, снимать батальон, штопать образовавшуюся дыру. Выход один: собрать в Акулове все специальные и хозяйственные подразделения семнадцатого полка: пусть саперы, связисты, разведчики, огнеметчики, обозники заменят на позициях стрелков.
В полдень батальон погрузился в машины. Невеселы были лица бойцов, никому не хотелось отрываться от родного полка, от своей дивизии.
— Передайте людям, что вернем вас сразу, как выполните задачу, — сказал Полосухин командиру батальона. — И объясните: звонил сам командующий, просил прислать дальневосточников. Он очень надеется на дальневосточников, — повторил полковник.
Отдав необходимые распоряжения, Виктор Иванович поехал на свой командный пункт. Сюда, в дом лесника, стекались из всех частей и подразделений сведения о ходе боев. Здесь, в тишине, вдали от штабной текучки, Полосухину легче было думать, находить главное, определяющее звено в пестром калейдоскопе событий. Он поочередно поговорил по телефону с каждым командиром полка. Ничего неожиданного не было. Виктор Иванович по одним лишь звукам стрельбы мог определить в общих чертах, как складывается обстановка. Возле Нарских прудов бой идет без большого напряжения. Там стреляют, будто работают размеренно и добросовестно. Зато в центре и на левом фланге, на стыке, грохот боя то затихает, то вспыхивает с неистовой силой, когда все огневые средства, от пистолетов до орудий крупных калибров, бьют с полным напряжением.
Полосухин слушал, стоя на крыльце и покуривая свою заветную трубку. С удовольствием курил, чувствуя, как после каждой затяжки светлеет в голове, быстрее текут мысли в мозгу, утомленном долгой бессонницей.
Положение усложнилось. Гитлеровцы прорвали фронт в полосе соседней армии и повели оттуда наступление на Жихарево. Теперь этот населенный пункт подвергался ударам и с запада, и с юга. Нынче утром 322-й полк отбил там две атаки пехоты с танками, а при третьей попятился от реки, отошел к лесу метров на триста-четыреста. Фашисты, конечно, стягивают сейчас туда свои силы. Чтобы расширить пролом, развить удар в глубину. А Полосухину нечем остановить и отбросить немцев, резерва нет. Придется взять роту или две с Нарских прудов. Там пока благополучно, помогает водный рубеж. Но надолго ли?
Виктор Иванович выбил о стояк крыльца трубку. Подумал: не закурить ли еще? Подымить без спешки, помозговать… Нет, надо ехать в 322-й полк к майору Наумову, помочь ему организовать оборону. Всех на передовую, всех в цепь: и телефонистов, и сапожников, и поваров. Гитлеровцы, почувствовав слабину, полезут настойчиво, оголтело. И надо обязательно удержаться, отразить натиск. Любой ценой. Нацелить туда всю артиллерию. Привлечь для отражения атак зенитчиков. А вечером подойдут подразделения, снятые с Нарских прудов, можно будет контратаковать.
И он действительно поехал на командный пункт полка. По доскам, прибитым к стволу старой сосны, поднялся вверх, где на развилке сучьев устроили настил наблюдатели. В сильный бинокль хорошо просматривались луга и поля, рассеченные Нарой. Вдали — немецкие позиции. Оттуда к нашей передовой взводными цепочками тянулись вражеские подразделения.
Как и предполагал Полосухин, фашисты начали свое послеобеденное наступление на узком участке, стремясь раздвинуть фланги прорыва. Сил для этого у них было достаточно даже без танков, которые еще не успели переправиться через реку — мешала советская артиллерия. Однако и без них фашисты могли бы расчистить себе путь огнем, пробиться вперед плотной массой. Но на этот раз почему-то молчали вражеские минометы, изредка била лишь одна артиллерийская батарея. Немецкая пехота, привыкшая наступать вслед за огневым валом, по выжженной перепаханной земле, действовала нерешительно, без напора.
— Не выспались, что ли, фрицы, или с похмелья? — удивлялись на сосне наблюдатели.
— И минометы совсем не тявкают, на металлолом их, может, отправили?
«Боеприпасоз у них нет, — предположил Виктор Иванович, и эта мысль обрадовала его. — Ночью не подвезли, а днем не решаются, днем самолеты наши над дорогой…»
Ему некогда сейчас было докапываться до причин — почему немецкие военачальники так обмишулились, оставив наступавшую пехоту без огневой поддержки. И уж никак не пришло бы ему в голову, отягощенную тысячами забот, связать сложившееся у врага положение с тем разведывательным отрядом, который отправлен был за линию фронта и сообщил оттуда о сосредоточении фашистских войск на стыке двух армий. Виктор Иванович почти забыл о разведчиках, да и не его забота была помнить о малом отряде, на то имелись специальные люди. А Полосухин просто порадовался, что немцы не могут нынче забросать наши позиции минами и снарядами. На одних патронах фашисты много не сделают. Они железом воюют.
Виктор Иванович приказал командиру полка внимательно следить, чтобы немецкие автоматчики не просачивались мелкими группами в лес, посоветовал действовать решительно, даже нахраписто, потому что фашисты не очень-то уверенно чувствуют себя на нашем берегу. А вечером — контратаковать.
Уехал Полосухин из полка со спокойной душой. За исход сегодняшнего боя он почти не тревожился. Но бой будет завтра, ему опять понадобятся резервы, чтобы влиять на развитие событий. А где взять свежие силы? Кажется, использовано все, что можно…
Поздно вечером, часов в одиннадцать, ему снова позвонил командующий армией. Голос Говорова звучал устало, но начал он, как и утром, с добрых слов:
— Держишь Нару, комдив? Знаю, Виктор Иванович, все знаю. И резервный батальон твой действовал отлично. Поспел вовремя и встал недвижимо. Молодцы дальне-восточники!
Полосухин уже понял, куда гнет Говоров, и лишь многолетняя привычка к дисциплине помогла ему сдержаться, не бросить телефонную трубку. Слушал, не разжимая зубы, а командующий продолжал негромко и вроде бы через силу: — На шоссе опять продвинулся немец. Тонкой ниточкой держим. Того гляди лопнет. А закрыть нечем. Так что готовь, Виктор Иванович, еще батальон.
— Не могу, товарищ генерал! Нет батальона.
— Собери отряд. Стрелковую роту и еще… Но не меньше ста пятидесяти человек. Машины будут в шесть ноль-ноль.
— Товарищ генерал!
— Выполняйте! — распорядился командующий.
НЕ ЩАДЯ СЕБЯ
— Мы, ярославские, народ лесной, испокон веков на пеньки молимся, — балагурил Павел Проворов, работая в паре с Верой. — Нам что ни дуб, то тулуп, что ни сосенка, то избенка. С милым рай и в шалаше — это от нас пошло. Сейчас такой шалаш отгрохаем — лучше дворца. Выходи за меня замуж, Волошина, жилье есть!
— Возьмешь, значит, голубчик? Осчастливишь? — в тон Павлу смеялась она.
— Ха, ты сама для любого счастье готовое! Ей-богу, Волошина, я еще не видел таких: одни достоинства в тебе и никаких недостатков. Даже кашу на пустой воде вкусно варишь. И шалаш вот строить умеешь. Аж страшно с тобой, робею!
— Это ты по молодости, — утешала Вера. — Все-таки три года между нами. А повзрослеешь и привыкнешь, притерпишься.
— Правда, Волошина, давай поженимся! — Проворов вроде бы продолжал дурачиться, а глаза были серьезные и голос звучал непривычно скованно. — Знаю, не найду лучше тебя. С какой бы ни обвенчался, ты все равно перед глазами маячить будешь. Как образец. Так что не порть молодую жизнь, соглашайся.
— Ты сперва у мамы разрешения спроси.
— Нет у меня ни мамы, ни папы, кума-лиса! Детдомовский я. Дозволений не требуется.
— Вот оно что, — посерьезнела Вера. — Поздно хватился. Жених у меня есть. На фронте он.
— Ну, дай ему бог, как говорится, доброго здоровья, чтобы ни пулей, ни осколком! Только жених — это еще не муж. Глядишь, пока война кончится, другую найдет. Или ты его позабудешь.
— Я надежная, — улыбнулась Вера.
— Мало ли что. Все равно сразу после войны сватов пришлю. Тогда выбирай…
Борис Крайнов посмеивался, слушая Павла, сам работал споро, без отдыха. Ему помогали Зоя и Клава Милорадова — неумехи в лесном деле.
У запасливых ярославцев были с собой топорики. Борис срубил два крепких кола — рогульки, заострил, вбил в землю. Поместил сверху перекладину — матку. От нее пошли скаты вправо и влево. На суковатые поперечины ложились продольные жерди, а на них девушки навешивали еловый лапник. Ветку на ветку во много слоев. «Как перья у птицы», — сравнила Зоя.
Внутри сделали настил из нетолстых стволов, а сверху тоже навалили елового лапника. Уютно, мягко и запах — хвойный настой! Всего возвели четыре шалаша. Оборудовали кухню под старой елью с густой кроной. Для топки Крайнов велел использовать только бездымный сухой хворост.
Это место Борис разыскал в такой глухомани, куда и в мирное время люди попадали, наверно, не каждый год. С двух сторон — непролазно заросшие волчьи овраги. Ни тропы, ни дороги вблизи. Посреди старого леса — молодая еловая крепь, столь густая, что вроде бы и не продерешься. Вот в этой крепи и разместился отряд на большой привал. До фронта далековато, канонада слышалась лишь утром, да и то слабо. Борис рассчитывал, что вымотавшиеся люди смогут, наконец, отдохнуть, восстановить силы.
Одна беда — не было поблизости текучей воды. Ребята бегали с котелками за километр, где сочился в низине хилый ручеек, заледеневший почти до дна, хотя и морозов-то настоящих еще не было. Продукты, взятые в поход, давно кончились бы, но выручили «трофеи», захваченные Проворовым еще в первый день; помогли растянуть полуголодный паек.
После оттепелей, зеленые «непромокаемые» валенки у всех разбрюзгли, разъехались, подошвы протерлись до дыр, высовывались пальцы. Валенки пытались привести в порядок. Нашлись иголки, суровые нитки. Изрезали на общее дело один вещевой мешок. Кто-то даже обкорнал полы своей шинели, чтобы обшить обувку. Шинель так-сяк, ватные брюки спасают от холода, а с остывшими ногами враз пропадешь.
Вера Волошина и Аля Воронина осмотрели, какие у кого потертости, ранки, царапины. Смазали йодом, наложили повязки, где нужно. Когда Вера обрабатывала Павлу рассеченную веткой бровь, он опять не удержался от шутки:
— И по этой части ты мастерица, Волошина! Ты хоть скажи заранее, чего ты делать-то не умеешь?
— У меня мама медик, стыдно было бы элементарных вещей не знать, — улыбнулась она.
Наконец завершены были все работы по оборудованию лагеря, люди впервые за несколько дней поели горячего. Борис Крайнов собрал бойцов возле костра. Сидел без шапки, расстегнув телогрейку: лобастый, спокойно-сдержанный. Заговорил короткими, четкими фразами:
— Задачу свою выполнили. Взрывчатки мало, продукты кончаются. Имеем право вернуться. Но целесообразно ли ходить туда-сюда через фронт? Предлагаю: послать связного. Пусть командование решит. Мы еще способны действовать. — Помолчав, добавил: — Раз уж мы тут, надо использовать все возможности. Так я думаю… Кто что скажет?
Бойцы молчали. Зоя, глядя на усталые, темные, осунувшиеся лица товарищей, подумала, что измотались они все очень. Сколько уж дней на холоде. Спали урывками, вповалку. Хоть бы наесться разочек как следует, досыта. А главное — помыться. Много времени не снимали они одежду, задубевшую от пота и грязи, пропахшую дымом костров. Переодеться бы в чистое и лечь, вытянувшись, спокойно. Только об этом ли рассуждать сейчас! От их лагеря до Москвы, до мамы — два суточных перехода. Фашисты ближе к столице, чем Зоя.
— Нечего мечтать о теплых постелях! — вырвалось у нее. — Пусть дают нам задание. Или партизан разыщем.
— Чего зря говорить, — поддержала Лида Булгина, — командир решил, и все!
— Могу сходить к нашим, — негромко произнесла Вера Волошина.
Тотчас вскочил Павел Проворов:
— Куда в пекло?! Там бой! Меня посылайте!
— А если вдвоем? — предположил Крайнов.
— Двойной риск будет! Сам сбегаю! — махнул рукой Павел.
Сказал это так легко и просто, с такой незыблемой уверенностью, что все поняли: он сможет, он доберется.
Одна из девушек, к которой Зоя относилась с большим уважением, сказала ей ночью, в дозоре, когда никто не мог их услышать:
— Зачем ты так! Ты не подумала о других. Мы ведь сделали все, что требовалось, и даже больше… Я едва двигаюсь…
— Что же ты молчала?
— Где уж было вякать после тебя! Это ты у нас неутомимая. А люди разные. Задание выполнили — и к своим, на отдых. Как положено. А теперь что будет? На полный износ?
— Да, если хочешь, — твердо ответила Зоя. — До последней возможности, не щадя себя. Никто нас сюда не звал, никто не толкал. Было время взвесить, подумать.
— Есть же предел…
— Нет никаких пределов, пока под Москвой немцы.
— Пусть ребята, им легче все-таки. — девушка заплакала тихонько, хлюпая носом, и Зое стало жалко её. Кроме всех прочих невзгод, двое суток не снимала он мокрые валенки. Сегодня их едва стянули — будто приклеились. Все было сырое, прелое: и портянки, и носки и брюки почти до колен… Кожа ног вспухшая, как тесто, какая-то ноздреватая, рыхлая…
Но все равно, надо терпеть, надо переносить любые невзгоды и думать только об одном: как причинить урон врагу!
Потом в шалаше они постелили на лапник шинель, накрылись Зоиным пальто и затихли, прижавшись друг к другу. Подруга, поплакав, довольно быстро успокоилась и заснула, а к Зое никак не приходил сон. Конечно, рассуждала она, девушкам гораздо тяжелее, чем парням. Есть такие трудности, о которых ребята даже не догадываются. Но девушки здесь нужны. И это высокая честь, высокое доверие — находиться среди разведчиков. Ведь товарищи, отбиравшие их, сделали все возможное, чтобы отговорить, не пустить сюда. Проверяли, насколько тверд в своем решении каждый доброволец.
Никто не заставлял их идти в бой с фашистами. Комсомольская совесть привела их сюда. И теперь нечего сетовать — им не обещали, что здесь будет мед. Надо что есть силы держать себя в руках: крепиться и действовать!
К линии фронта Проворов шел «на слух» — где меньше стреляют. Надеялся проскочить по знакомым местам, возле деревень Жихарево и Обухово, но там не то что бой — горячее сражение грохотало без устали почти полные сутки. Павел решил на рожон не переть: дело-то общее, рисковать нельзя, и дал порядочный крюк к северу, в леса за Большие Семенычи. Там приглядел местечко повыше, залез в сумерках на дерево и минут двадцать коченел на ветру, определяя дальнейший маршрут. Южнее, к самому горизонту, уходила багровая полоса пожаров, вспышки разной яркости беспрерывно мелькали там. Поблизости виднелся частый высверк пулеметов, тянулись нити трассирующих пуль.
Значительно меньше было стрельбы впереди, на востоке и северо-востоке. Пожары — лишь островками в темном разливе лесов. Может, густой лес как раз и мешал немцам наступать, или наши на этом направлении были сильнее, сумели остановить фрицев?! Во всяком случае, пробиваться надо тут, больше шансов на успех.
Через лес Проворов прошел благополучно. Слышал несколько раз голоса немцев: ложился и пережидал. На опушке едва не наскочил на позицию артбатареи, но вовремя прянул назад: в кусты, в темь. И дорогу перебежал удачно, и до Нары дополз, не напоровшись на мины, не наскочив на вражеское боевое охранение. Переправился тоже сносно, хоть и окунулся несколько раз с головой, потеряв в воде шапку. А вот потом не повезло. На нашем, на восточном берегу сидел в дозоре какой-то боец просто невероятной наблюдательности. Из охотников, может, или из довоенных снайперов — «ворошиловских стрелков». На большом расстоянии улавливал каждое шевеление. Чуть двинется Павел — сразу вспышка выстрела. Пуля свистнет рядом — жутью обдаст. Тут и немцы, конечно, начинали шебутиться: пускали ракеты, лупили из пулемета по берегу, кинули даже несколько снарядов.
Весь луг был сплошь изрыт воронками, как перепахан, и трупов тут валялось множество. Павел лежал среди них, тоже словно убитый, не шевеля даже пальцами. Но мертвым-то все безразлично, а промокшего разведчика холод пронизывал до самых внутренностей. Казалось, не то что рубаха к спине — кожа к ребрам примерзла.
Дождавшись, когда стихнет стрельба, Павел начинал, медленно, ползком продвигаться вперед, настолько осторожно, что сам себя не слышал. А вот охотник в дозоре — улавливал. Вспышка, свист пули, И опять понеслась катавасия: ракеты, пальба с двух, сторону свинцовый ливень над головой.
В конце концов Павел решил: не загибаться же от холода рядом со своими! Сделал под огнем отчаянный рывок метров, на двадцать, упал в воронку, ощупал себя. Вроде бы ничего, только правый валенок рассечен, словно финкой. Не жаль: одно название, а не валенок: совеем размяк, после купания.
Едва смолкла пальба, заорал во всю глотку:
— Ты, чертов сын, хватит своих калечить!
Опять грянули выстрелы, но только с одной стороны, с немецкой. Прорезался задиристый мальчишеский голос:
— Эй, там, не лайся! О'дин идетпь?
— Точна!
— Ползи давай! А соврал — крышка!
Сыпучая раздробленная земля прилипала к одежде. Тяжелым грязным комом свалился, наконец Павел в окоп. И как только очутился в безопасном месте, такой озноб его прохватил, что едва говорить смог. Стуча зубами о жестяную кружку, хлебнул предложенной ему водки, но не почувствовал ни тепла, ни опьянения. Маловато было, чтобы выгнать из организма скопившийся там холод.
В землянке Проворову набросали какого-то старья, наполовину нашего, наполовину трофейного. Китель немецкий, а ватник свой, совсем новый, только с обгоревшим до локтя рукавом. Пока одевался, приходил в себя, по линии сообщили о разведчике в штаб полка и еще дальше. Не прошло и полутора часов — появился в землянке капитан Епанчин. Выглядел так, будто лишь вчера проводил в путь отряд и никаких событий за минувшее время. Выбрит, подтянут, весь в ремнях, хромовые сапоги начищены до блеска.
Всмотрелся, вроде бы узнал Павла, стиснул его руку:
— Ну, рад видеть! Отряд цел?
— Почти. С потерями.
— Верхом ездить умеешь?
— Не очень.
— В седле-то удержишься? Пошли, лошади ждут.
Майор Спрогис приехал на командный пункт 32-й стрелковой дивизии, когда Проворов уже заснул. Отогрелся Павел в избе возле печки, поел плотно и размяк, уронил голову на руки. Епанчин положил его на топчан, накрыл шинелью. Просмотрел свои записи: о главном он успел расспросить связного… Тут как раз и подоспел Спрогис.
Егор Егорович отвел майора в комнату, где отдыхал Проворов. Склонившись над ним, Спрогис долго смотрел в черное, словно бы высохшее лицо юноши — такие рисовали на старых иконах. Будить не стал. Закрывая за собой дверь, произнес огорченно:
— Килограммов на десять похудел. Для молодого человека-то, представляете?… Потом побеседую с ним, когда проснется.
Епанчин доложил о своем разговоре с Проворовым.
— Новости неплохие, — кивнул майор. — Пусть отдохнет до завтрашнего вечера, потом возвращается к Крайнову. Будем выводить отряд. Придется о «коридоре» вам позаботиться, разведчики действовали в интересах вашей армии, — напомнил Артур Карлович.
— Товарищ майор, у командира дивизии и у меня… Мы предлагаем отправить Проворова утром. В четыре часа.
— Почему такая спешка?
— Это не спешка, это необходимость, товарищ майор. Есть срочное и важное задание.
— Вот как? — Спрогис ничем не выдал своего недовольства: — Отряд действует в полосе вашей армии, но подчиняется, как известно, мне.
— Безусловно.
— Дело, конечно, не в подчиненности, дело в общей для всех пользе. Сами знаете, люди в отряде устали, обувь развалилась, взрывчатки мало. Мы отправляли отряд на пять дней, срок давно истек. Я не вправе требовать большего. Люди под открытым небом, на подножном корму.
— Они же сами спрашивают…
— Они молоды, они еще не совсем понимают, что война может продлиться долго, что они понадобятся еще много раз.
— Товарищ майор, я тоже беспокоюсь о них, но есть указание начальника штаба армии. Мы не знаем положение в прифронтовом немецком тылу. Где резервы неприятеля? Где склады? Какова интенсивность движения на дорогах? Нужны сведения. Начальник штаба распорядился: всем разведгруппам, партизанским отрядам, войсковой разведке — всем, кто у гитлеровцев за спиной, в ночь на двадцать восьмое и в ночь на двадцать девятое ноября учинить пожары в деревнях, в населенных пунктах, где располагаются фашисты. С восемнадцати часов до полуночи. Наши самолеты будут в воздухе в это время, засекут объекты. Это поможет нам уточнить данные о противнике, выбрать цели для бомбардировщиков.
— Без Крайнова не обойтись?
— Товарищ майор, отряд Крайнова контролирует очень важный и трудный район. Держит под наблюдением всю территорию от Якшино и Радчино до Петрищева. У нас там никого нет, кроме них. Можайские партизанские отряды находятся дальше. Партизаны из Вереи — южнее. Вся надежда на Крайнова. А тридцатого пусть он выводит разведчиков.
— Не знаю, смогут ли они продержаться столько времени.
— Всего несколько дней.
Майор сидел, опустив голову, даже глаза прикрыл. Не дождавшись ответа, Егор Егорович заговорил снова:
— Товарищ майор, командир дивизии приказал доложить ему, когда вы прибудете.
— Так докладывайте, — Артур Карлович провел ладонями по щекам, будто сгоняя усталость. Решительно надел шапку, готовый бороться, отстаивать свою правоту. Но возражать, переубеждать начальство ему не пришлось. Полковник Полосухин был заметно возбужден:
— Загадку фашисты задали нам, — сказал Виктор Иванович, едва Спрогис переступил порог. — Голову ломаю — понять не могу… Здравствуйте! Прислушайтесь, майор: тишина, будто в мирное время. Стрельбу как обрезало. С вечера немцы прекратили атаки даже на самых активных участках. И не только у нас, но и в полосе всей армии, и у соседей. Оттягивают в тыл ударные части. Почему? Выдохлись? Перегруппировывают силы? Отдохнуть хотят перед новым броском? Выбрали другой район для удара? Узнать надо, выяснить обязательно. Имеются сведения, что в деревню Якшино переместился крупный штаб неприятеля. Следует уточнить, а то пошлем бомбардировщики, да по пустому месту, по крестьянским избам. — И, будто извиняясь: — У меня, товарищ майор, очень мало людей. Ни одного человека не могу снять с передовой — дырка будет… А помощь от нас требуйте любую. Снаряжение, боеприпасы, продовольствие.
— Проворов много не унесет.
— Пусть возьмет калорийные продукты, трофейный шоколад. Капитан может пойти с ним, в конце концов. Епанчин.
— Я готов!
— Нет, капитан там не помощник, у него свои заботы, — голос Спрогиса звучал глухо, говорил он словно бы через силу, заметнее стал акцент.
— Задание будет выполнено, товарищ полковник! Но прошу вашего согласия: тридцатое — последний срок, сразу выводим отряд.
— Я знал, что ты согласишься, — Виктор Иванович пожал руку и глянул в глаза Спрогиса: не обиделся ли суровый майор за обращение на «ты»? Нет, нормально: понял, что вырвалось это неожиданно, дружески.
Павла Проворова подняли в три часа. Он не сразу сообразил, где находится. Сон мало взбодрил его. Побаливала голова. При воспоминании о том, как замерз он после вынужденного купания, даже и теперь еще пробегала по телу дрожь. Однако быстро умылся, надел новое обмундирование, натянул сапоги, выпил горячего чая — и полный порядок: ожил человек.
Внимательно глядя на Павла, майор Спрогис медленно, даже как-то равнодушно, словно речь шла о самом обыкновенном, перечислил, что следует передать Крайнову, какие задачи выполнить. Потом заставил несколько раз повторить — все, особенно названия населенных пунктов. Предупредил:
— Авиаразведка с восемнадцати до полуночи, пожары устраивайте лишь в это время. Спички, термитные шарики?
— Есть. И зажигательные бутылки…
— О возвращении отряда уточните подробности с капитаном.
Поднимая вещевой мешок, наполненный взрывчаткой, сухарями, крупой и шоколадом, Проворов почувствовал, как заныли суставы, и подумал, что мало поспал, надо бы еще столько же.
На улице подморозило. И хоть добротно одет был Павел, его вновь прохватил озноб. Епанчин почувствовал, как вздрагивает разведчик.
— Ты что, продрог?
— Ага, после сна-то…
— Может, глоток нужен?
— А есть?
— Целая фляга. Коньяк, между прочим.
— Давай… Давай всю, — Проворов бесцеремонно сунул обшитую сукном флягу в карман. — Там пригодится.
— Смотри, лишняя тяжесть.
— Не беспокойся, не пересилюсь. Здесь это баловство, а там лекарство.
Им подвели коней. Гуськом поехали по лесной дороге. Озноб не исчезал и голова была как не своя: тяжелая, гудящая. Может, заболел? Ну и что? Другого-то нет вместо него, значит, надо ехать да помалкивать. И быстрей добираться до своих, пока не свалился с ног, если это действительно прицепилась хвороба.
На минуту ему стало не по себе, слабость вдруг захлестнула его при мысли, что впереди опять много трудного, страшного, неожиданного. Снова Нара (капитан обещал переправить по штурмовому мостику), снова линия фронта, снова лес, где на каждом шагу можно встретить фашистов. Опять придется ползти, бежать, красться по-звериному. Хватит ли сил? Да и повезет ли ему в этот раз?
К черту такие мысли! Ишь, отведал спокойной жизни и сразу разнюнился! А как же сейчас девчата спят-дрожат в своих шалашах или топчутся, согреваясь, в дозоре?! Вера, Клава — эти хоть самостоятельные, запас какой-никакой есть под кожей. А Зойка — худоба, как она терпит? Ноги и руки у нее мерзнут… Еще бы не мерзнуть — кожа да кости! И ведь никто не слышал, чтобы пожаловалась. А его тут, видите ли, сытого до согретого, озноб трясет…
— Ты это брось мне, кума-лиса! — тихонько выругался он.
— Что? Какая лиса? — не понял Епанчин.
— Это я так, от скуки.
— Заскучал? — удивился Егор Егорович. — Ну, парень, железный ты человек! Позавидуешь!
— А что? — развеселился Проворов. — Вполне можно! Валяй, завидуй!
Если бы несколько дней назад Зою спросили, что на свете самое вкусное, она бы не сразу нашлась. Чему отдать предпочтение?! А сегодня ответила бы без колебаний: вода! И хлеб, разумеется, но вода все же лучше, даже пресноватая, жесткая, мутная — вытопленная из льдинок, из грязного снега.
Она старалась подольше держать воду во рту, чтобы смочить десны, нёбо и язык — настолько сухие, что вроде бы начавшие шелушиться. Наступало облегчение, притуплялась сосущая, изнуряющая жажда. Но ненадолго. Вскоре опять охватывала вялость, и все существо ее пронизывало острое мучительное желание пить.
Вот уж не думала Зоя, что в фашистском тылу придется больше всего страдать от жажды. Да еще находясь в лесу, на природе! Скажи в Москве — не поверят мама и Шура. Кто в городе воду-то ценит, кто о ней думает? А здесь Зоя с утра сделала всего два глотка: один на рассвете, другой в полдень, хотя сама была нынче добытчиком питья.
Ночью в лагерь пришел Павел Проворов. Нет, пришел — не то слово. Приплелся, притащился из последних сил в полуобморочном состоянии. Глаза воспалены, багровое от жара лицо исцарапано ветками, покрыто синяками — он много раз падал. Бруски взрывчатки в вещевом мешке потрескались: наверно от ударов по стволам — так его мотало. Сухари и шоколад превратились в крошево.
Павла хватило только на то, чтобы доложить командиру о полученной задаче. Сказал — и забылся в полусне, ворочаясь и вскрикивая. Вера Волошина определила — температура под сорок. Сидела возле Павла, придерживая его шапку, следила, чтобы не сполз с подложенного под голову ватника — так ему легче было дышать.
— Горит! — стонал Павел. — Пить дайте!
Ему, естественно, отдали всю воду. По три глотка получили те, кто отправился в разведку, чтобы выяснить, какие деревни заняты немцами. В лагере осталась с больным Вера, остался Крайнов и еще Зоя с Алешей Голубевым. Молчаливый, исполнительный Алеша добывал кусочки льда в русле промерзшего ручейка. А Зоя разыскивала, где скопилось хоть немного снега, и осторожно сметала его в котелок. Собирала прямо-таки по снежиночке, по две. Скалывала тонкий ледок на замерзших лужицах в углублениях, в копытных следах. Часа за полтора — полный котелок. А подержишь над огнем — плещутся на донышке несколько глотков мутной воды. И пить их нельзя. Они — для больного. Для тех, кто вернется с боевого задания. Зоя облюбовала один участок неподалеку от лагеря, где росли старые сосны, а под ними — папоротник. Много развесистого папоротника. Вот ведь и морозы Уже были, земля присолена снежком, а большие резные листья зелены, как летом, лишь кое-где тронуты желтизной. Очень похоже это место на один из кварталов Тимирязевской лесной дачи, если пройти по Березовой аллее и за первым перекрестком свернуть влево. Там высятся величественные и стройные лиственницы Сукачева. Под ними — густой папоротник. В жаркие дни Зоя ходила туда с книгой. Устраивалась на пне — и никто ее не тревожил. Даже если близко человек пройдет — не заметит в таких зарослях.
Место, понравившееся ей, было низкое, сыроватое. В колее старой дороги, оставшейся после чистки леса, почти все лето держалась вода. Вот и здесь Зоя обнаружила давнюю заросшую колею. Пошла по ней, выкалывая кружевные ледышки, и набрела на промоинку, образованную, наверное, вешним ручьем. Где промоинка впадала в колею, на свалявшихся космах бурой травы намерзли сосульки. Скатывались капля за каплей, их и прихватывало.
Это была большая удача. Зоя принялась осторожно подрезать траву у самого основания сосулек. За несколько минут наполнила котелок травой со льдом. Еще столько же осталось. Да и дальше, может, попадутся такие стоки.
Бегом возвратилась в лагерь. Крайнов удивился: очень уж быстро!
— Повезло мне, — улыбнулась Зоя. — Внеочередной котелок.
— Внеочередной? — задумался Борис. — Ладно, — тряхнул он головой. — Вскипяти и раздели на шесть порций.
— Шесть?
— Милорадова и Булгина здесь. Вернулись. Скоро опять пойдут.
Повесив у костра котелок, Зоя поспешила в шалаш. Соскучилась по Клаве. Девушки переобувались. По их лицам Зоя поняла: разведка прошла неудачно. Спросила ласково:
— Устали?
— Очень, — вздохнула Клава. — А главное — обидно, до деревни дойти не смогли Метров двести осталось. Трое немцев колья какие-то рубят. И не обогнешь их — место открытое. Фрицы эти хуже баб — не столько работают, сколько языки чешут. Стоят, сплетничают. А мы больше часа в зарослях пролежали, замерзли совсем.
— Значит, есть немцы в деревне?
— Троих только видели. Командир говорит — а вдруг это залетные! Опять посылает.
— Может, мне попроситься с вами?
— Зачем? Мы, что ли, не справимся? — спросила Лида Булгина. — Своей работы тебе мало?
— Ой, котелок на огне! — Зоя выскочила из шалаша.
Дождавшись, пока вскипит вода, Зоя разлила ее в шесть кружек. На два пальца в каждой. Командиру, Вере, Алеше. Для Павла есть запас. А это — Клаве и Лиде.
Задумалась Зоя, провела сухим языком по шершавому нёбу. Так хочется пить, что даже спазмы в желудке. Опрокинула бы в рот все кружки! Но она-то ладно, она хоть сосульку погрызет в старом лесу. А Лида и Клава давятся сухарными крошками, проглотить не могут. Им ведь снова в путь, снова на риск…
Она решительно вылила свою воду в кружки подруг. Прибавилось на палец, у Клавы даже чуть больше. Осторожно отнесла кружки в шалаш.
— Вот, пока горячая.
— А сама?
— Я уже, — отвернулась Зоя. И поспешила уйти, чтобы не мучиться, глядя, как они пьют.
Взяла теплый еще котелок и быстро зашагала в тот лес, где по-летнему зеленел папоротник.
Утром заметно окреп мороз. Туч вроде не было, но в воздухе висела серая мгла, сквозь которую с трудом просвечивало хилое низкое солнце. Порой оно исчезало совсем, и тогда начинал падать снег: крупные хлопья оседали в безветрии вертикально, не кружась. Крайнов сказал, что это вымораживается влага. И еще он сказал: если по-настоящему ляжет снег, — а ему уже пора лечь, — то надо быть вдвойне и втройне осторожными, потому что теперь за разведчиками будут повсюду оставаться следы.
К полудню снега выпало столько, что его легко можно было собирать в котелок. Наконец-то все напились вволю.
Зоя и Вера сидели в шалаше, выбирали из вещевого мешка крошки, сортировали на две кучки. Слева — сухарные. Справа — желтоватые, похожие на мыло, мелкие кусочки взрывчатки. Сортировали очень тщательное Кто ее знает, как она действует, эта взрывчатка, если попадает в желудок. Живой, наверно, останешься, а болеть будешь — только этого сейчас не хватало…
Через вход в шалаш видны были молодые елочки, украшенные чистейшим снегом. И земля была девственно-белая, словно бы укрытая пуховым одеялом и заснувшая теперь на долгую зиму. Ни шороха нигде, ни птичьего писка.
Отряд, уменьшившийся еще на двух человек, отдыхал. Ночью из разведки не вернулись Клава Милорадова и Лида Булгина. Минули все сроки, а их нет, и теперь уж не осталось надежды на то, что они появятся. Зоя только и думала о своей милой доброй подруге. Что с Клавой? Где она? Успокаивало одно: бойцы, ходившие в разведку в соседние деревни, не слышали никакой пальбы. Может, Клава и Лида во тьме сбились с пути, не смогли разыскать лагерь и теперь скрываются где-нибудь или идут к фронту?
Вера Волошина тоже поглядывала на елки, на медленно оседавшие снежинки. Полные губы ее растягивала грустная улыбка.
— Ты что? — спросила Зоя.
— Так… Стихи вспомнила.
— А ты вслух.
— Ладно, — кивнула Вера и начала негромко:
В лесу осеннем тишина, Ручей забормотал спросонок, Ложится желтая листва На плечи молодых сосенок. Студеный ветер-озорник Деревья голые качает. Последний журавлиный крик Из поднебесья долетает. На остывающей земле Грибы холодные — чернушки В дупле, под листьями, в норе Укрылись мелкие зверюшки. Как долго-долго до тепла, До ярких солнечных рассветов. Контраст природа создала, Чтоб чаще вспоминали лето!— Это ты сама сочинила, да? — сразу поняла Зоя.
— Почему так думаешь? Слабые очень?
— Нет, читала как-то особенно! И настроение в них такое, наше…
— Я не сейчас, еще прошлой осенью написала. В лесу. До заморозков, до последней возможности за грибами ходила. Или гуляла просто.
— А будто вчера или даже сегодня, — Зоя подвинулась к Вере, дохнула на свои красные замерзшие руки. — Мне по ночам, когда согреюсь, теплые дни снятся. Словно мы с мамой на пригорке под солнцем среди цветов. И земляникой пахнет.
— Я тоже такое время очень люблю, — сказала Вера.
— Ой, что ты! Как радужная добрая сказка! Мы ведь тут столько холода приняли, столько бесконечных и мрачных ночей пережили! Я даже представить не могу: неужели когда-нибудь засияет солнце и все оживет в этом мертвом лесу?
— Обязательно, — кивнула Вера. — Вот осень прошла, и зимняя стужа, какой бы долгой она ни была, тоже пройдет. Закон природы: все, что имеет начало, обязательно имеет конец. Я это частенько повторяю, когда очень худо бывает, когда терпеть невмоготу.
— А я в такие минуты вспоминаю, как сюда, в отряд наш просилась. Об одном тогда думала — как с пользой отдать свою жизнь. Пойду, мол, на врагов с гранатой! Или встану навстречу танку, крикну что-нибудь такое…
— А танк тебя — в лепешку — и дальше своей дорогой…
— То-то и оно, не представляла, как на самом-то деле. Тащишься с мешком, мокнешь, мерзнешь, голодаешь — и никакого тебе героизма!
— Выдержка и упорство, — сказала Волошина.
— Да, для нас это, наверно, самое главное. И желание — своими руками врагов бить. Чтобы ощущать.
— Мы и так пользу приносим.
— Я понимаю, Вера. Но хочется видеть и знать, сколько же гитлеровцев я уничтожила. Мы уничтожили! — поправилась она.
— А я все больше убеждаюсь, что война — прежде всего тяжелейшая работа. Потом уж все остальное. Прежде чем заложить мину на шоссе, надо ее донести, надо место разведать, надо ползти ночью, по мокрому, натыкаясь на кусты…
— То самое, что вроде бы само собой разумеется.
— Но к этому, как правило, меньше готовятся, чем к стрельбе, к бою. Больше о возвышенном думают. А на практике-то сочетаются и возвышенное, и самое обычное, будничное. Просто труд во имя большой цели.
— Во имя нашей страны?
— Да, — сказала Вера. — Чтоб весной, когда почки распустятся, когда ландыши зацветут и яркие бабочки замелькают, чтобы к этому времени в лесу и духа вражеского не осталось. Чтобы мы здесь были. Ты со своей мамой. Ну а если уж нам не доведется, то пусть другие. Но чтобы обязательно наши.
НОЧНЫЕ ПОЖАРЫ
Борис Крайнов имел твердое правило: никого из девушек, кроме Веры Волошиной, на самые рискованные задания не посылать. У них свои обязанности: разведка, дозор, боевое охранение, разбрасывание «колючек». Тоже рядом со смертью ходили, но все-таки это не огневые стычки. А сегодня придется использовать всех. Иначе ничего не получалось, как ни колдовал командир над картой, над распределением бойцов.
Хоть и лучше чувствовал себя Проворов, хоть и снизилась у него температура, ходить он еще не мог. При нем на всякий случай должны остаться в лагере двое. Возникнет угроза — помогут перебраться в другое место, на запасной сборный пункт.
Значительная часть группы отправится в деревню Якшино. Двое суток наблюдали за этой деревней разведчики. Там, безусловно, расположен вражеский штаб и, судя по обилию легковых автомашин, не меньше, чем штаб дивизии. В Якшино надо устроить пожар поярче, заметней. Если получится, забросать гранатами штабной дом или узел связи — одну из крайних изб, к которой тянулось множество проводов.
Это не все. Дождавшись следующей ночи, ребята подожгут постройки в совхозе Головково, где тоже стоят немцы. А если успеют, то и в деревне Крюково. Для этого людей в основной группе хватит, могут действовать по несколько человек, как подскажут обстоятельства.
Еще двое бойцов поджигают Юматово. Кроме того, остается на западе деревня Петрищево. Разведчики выяснили: там по меньшей мере батальон пехоты и еще какая-то воинская часть. Место глухое, в стороне от большака, фашисты чувствуют себя спокойно. От лагеря эта деревня далековато, идти надо по бездорожью, по незнакомой местности. А просигналить своим необходимо. Кого же послать туда? Думай, командир, думай…
Разведчики, направлявшиеся к деревне Якшино, попали на опушке леса под перекрестный огонь крупно-калиберных пулеметов. Били фашисты издалека, при зыбком свете ракет, ни в кого не попали, но людей рассеяли. Кто-то метнулся обратно, залег среди кустов. Вера Волошина, Наташа Самойлович и Алексей Голубев бросились вперед, в густой ельник. Там же оказалась и Аля Воронина со своими подопечными: с парнями, посланными во вражеский тыл первый раз.
Долго ждали, не появится ли Крайнов, не проберется ли к ним окольным путем?
— Нет, — сказала, наконец, Вера. — Фашисты переполошились, теперь не сунешься. Между нами и Борисом открытое место.
— Как же быть? — повернулась к ней Наташа Самойлович.
— Действовать самостоятельно. Общую задачу мы знаем, боеприпасы имеются.
— К своим бы возвратиться.
— Сперва дело сделаем. Потом к фронту пойдем. Компас при мне.
— У меня тоже компас, да карты у нас нету, — вздохнула Наташа.
— По памяти. Не унывать же из-за этого! — улыбнулась Вера, подбадривая притихших парней. — Значит, будем считать так: нас стало меньше, но задание остается прежнее. Правильно? Возражений нет?!
Опять с утра — ни единого выстрела. Немцы затихли, оттянули с переднего края танки, значительную часть пехоты. Не удивительно ли: 26 ноября в первой половине дня не было минутной передышки, фашисты лезли вперед, не считаясь с потерями. А 27 ноября штабные работники не только 32-й дивизии, но и всей 5-й армии отметили в соответствующих документах почти дословно: «В течение дня боевые действия не велись и существенных изменений в расположении войск не произошло…» И на следующий день — тоже. Это было необычно, необъяснимо, тревожно.
Великое сражение бушевало и справа и слева от 5-й армии. Сотни тысяч советских воинов напрягали все силы, чтобы сдержать натиск врага, а здесь, на прямом направлении с запада к Поклонной горе, к Москве, установилось затишье: загадочное, странное затишье, действовавшее на нервы бойцов, взвинчивавшее командиров всех рангов, ожидавших подвоха. Что же действительно случилось? Может, немцы вообще сняли свои ударные силы и перебросили их на другой участок? Или, наоборот, готовят здесь страшный удар, чтобы кратчайшим путем выйти к штабу Западного фронта, а затем и к окраине Москвы?! Ответа на этот вопрос не могли найти ни в штабе дивизии, ни в штабе 5-й армии. Генерал Говоров, вызвавший к себе полковника Полосухина, долго расспрашивал о боях, о потерях, о наличии людей и боеприпасов. Обещал вернуть взятые из дивизии подразделения. Заметив, что Полосухин вертит в руках набитую трубку, сказал:
— Говорят, не курите вы в помещении?
— Табак у меня крепкий. Себя травлю, сам и в ответе, а люди почему страдать должны, чужую вонь нюхать? Особенно некурящие.
— Вот вы как рассуждаете, — слова Виктора Ивановича понравились Говорову. Тронул двумя пальцами вертикальную щеточку усов. — Знаете что, пойдемте во двор. Ноги разомнем, вы подымите на свежем воздухе.
Командарм снял с вешалки кожаный реглан, распахнул дверь.
Прошли мимо часового, мимо зеленой генеральской «эмки». Говоров прислушался, хмыкнул:
— Выдохся неприятель? Или готовит мощный удар? Одно из двух.
— Первое отпадает, товарищ генерал. Немцы даже не ввели в бой все резервы. На стыке с тридцать третьей армией у них оставались незадействованные танки.
— Подтянут туда еще, нацелятся с юга на Кубинку.
— На акуловский противотанковый узел, во всяком случае. Но никаких передвижений к линии фронта не отмечается.
— Все равно, Виктор Иванович, если они ударят, то именно там. И севернее вас, вдоль автострады. Они ведь и южнее и севернее вашей дивизии продвинулись, вы у них поперек горла стоите. Попытаются обойти, в кольцо взять.
— Людей у меня мало…
— Сказал — верну. Постараюсь вернуть, — уточнил Говоров. — А взрывчатка есть?
— Несколько тонн.
— Людьми не могу помочь, так хоть совет старого артиллериста примите. На подступах к Акулову, на шоссе, фугасы заложить надо. Большие, килограммов по триста. Пойдут танки — взорвать. Урон, пробка, во времени выигрыш.
— Это мы сделаем, — Полосухин мельком взглянул на часы… Говоров заметил, спросил:
— Торопитесь?
— Извините, товарищ генерал, пора мне. Знаете, какая ночь предстоит. На все прифронтовые населенные пункты разведка нацелена. Подожгут дома или стога сена везде, где стоят немцы.
— Выясняйте, выясняйте, где неприятель. На центральном участке картина достаточно ясная, а вот у вас в лесах сам черт ногу сломит.
— Погода портится. Лишь бы авиация поднялась.
— Я скажу, чтобы послали лучших летчиков, — пообещал Говоров.
Борис Крайнов сам решил идти в Петрищево. Двинется с таким расчетом, чтобы до полуночи запалить дом в деревне, а к рассвету быть в лагере. Вообще это нарушение элементарных правил. Опасно действовать в одиночку. Мало ли что может случиться: ногу подвернул — а помочь некому. И отряд без руководства оставлять нельзя, тем более когда он разделился на несколько групп. Однако придется рискнуть — другого выхода нет.
Узнав об этом, резко возразила командиру Космодемьянская. Стояла перед ним в распахнутом пальто, хрупкая и дерзкая, со следами сажи на длинной девчоночьей шее:
— Ты пойдешь, а мы, две здоровые тетери, будем возле больного сидеть?
— Так надежней.
— Какая тут надежность нужна? Костер погасят, притихнут на ночь. Кто сюда сунемся? А на задание минимум двое должны идти, ты сам сколько раз повторял это…
— Разные обстоятельства.
— Возьми меня с собой.
— Не могу.
— А я сидеть сложа руки не могу, когда все при деле. Понимаешь? Возьми. Ну, пожалуйста!
— Пусть идет, — прохрипел из шалаша Проворов.
— А ты как?
— Перекантуюсь!
— Нет уж, одного человека я при тебе оставлю, — решительно произнес Крайнов. И подобревшим голосом: — Собирайся, Космодемьянская. Портянки-то перемотай понадежней.
— Да уж будь спокоен.
И вот они в пути. На этот раз Зое легко и приятно было шагать, будто все время пологим спуском, хотя встречались и подъемы, и овраги, и крутые взлобки. Втянулась в длительные переходы и теперь, после хорошего отдыха, шла без напряжения, в свое удовольствие.
От свежевыпавшего снега в лесу было торжественно, чисто, светло: не споткнешься, не налетишь на пень. А может, особенно легко и приятно ей было потому, что впереди двигался сосредоточенный спокойный Борис. Они вдвоем в огромном заснеженном лесу. Об этом Зоя старалась не думать, но все равно думалось само собой и сказывалось на ее состоянии, волновало и радовало.
Вспомнился почему-то давний спор со школьными подругами, еще на Старом шоссе. Девочки говорили о том, как страшно оказаться в ночном осеннем лесу. Даже в Тимирязевском парке, хоть и расположен он прямо в городе. И шпана может встретиться, и цыгане… Собаки бродят. Да мало ли еще что. Заблудишься, до утра проплутаешь… Зоя слушала тогда, глядя на черное окно, по которому струились снаружи дождевые полоски, и вдруг решила проверить себя. Что она, в самом деле, темноты да всяких слухов боится?
«Давайте пройду через парк», — сказала она. Девчонки рты пооткрывали: «Когда?» — «Прямо сейчас». — «Ты рассудка лишилась!» — «Нисколько, — ответила Зоя, снимая с вешалки пальтишко. — Встретимся через два часа на остановке за плотиной».
И отправилась. На трамвае, потом пешком. Сначала по любимой своей Березовой аллее, где шуршали под ногами мокрые листья. Свернула направо, к самой высокой точке заповедника, где похоронен лесовод — академик Турский. Дальше можно по просеке до Оленьего пруда, до речки Жабинки, до бревенчатого домика лесника. Там уж и большой пруд рядом, и плотина. А можно через самую глухомань, через овражки и канавы, заросшие молодым березняком и орешником, где был когда-то кирпичный завод, брали глину, изрыли землю. Про этот участок ходили самые дурные домыслы. Люди, мол, там исчезали бесследно. Прежде, может, так и было. А теперь грибники туда ходят. Вечером конная милиция патрулирует главные аллеи.
Зоя подумала и решила идти через бывший завод. Уж испытывать себя, так по-настоящему! Свернула с просеки на тропу и сразу оказалась в густом мраке. Сосны, березы, орешник в три полога закрывали небо. Дождевые струйки сюда не проникали, задерживались метками, зато часто срывались крупные тяжелые капли. Воздух был холодный и влажный.
Зоя ступала осторожно, стараясь не шуметь, и вдруг замерла от испуга, услышав жалобный протяжный стон. Отшатнулась, попятилась, но мысль о том, что кто-то нуждается в помощи, толкнула ее вперед. Пошла, вытянув руку, чтобы ветки не выкололи глаза. А сердце билось так часто и стало настолько большим, что вытеснило из груди весь воздух — нечем было дышать.
Стон раздался ближе. Доносился он сверху, и Зоя ахнула с облегчением: это же дерево! Старое дерево скрипит, жалуется под ветром!
Ей очень захотелось подойти к стонущему дереву, погладить и успокоить его. Наверно, это была высокая сосна, каких здесь много. Тянулась, стремилась к солнцу, а теперь трудно ей держать крону на тонком стволе… Но сойти с тропинки Зоя не решилась: не сообразишь потом, в какую сторону двигаться.
Больше у нее не было никаких приключений. Только вымокла вся, пока добралась до трамвайной остановки. Кондукторша подозрительно косилась: откуда такая…
Подружки смотрели на Зою почти как на героиню. А некоторые, наверно, как на сумасшедшую. Сама же она была довольна, что пересилила страх. И вот что интересно: в тот раз она боялась гораздо больше, чем сейчас. Ей тогда даже жутко было какие-то секунды. А теперь она совершенно спокойна. Ненависть к врагу заслоняет мысль о себе. Да и какое может быть беспокойство, если рядом надежный товарищ. Шагая следом за ним, Зоя прячет за его спиной лицо от холодного ветра, от бьющих в глаза снежинок.
Она настолько привыкла к Борису, что даже странно было: неужели после этого похода их разъединят, направят в разные отряды… Нет, лучше уж и не предполагать такое!
Борис на ходу поднял руку: внимание, осторожней. Зоя старалась ступать на носки, внимательно прислушивалась. Какие-то странные звуки доносились издалека. Она дернула Бориса за рукав, тот остановился.
— Слышишь?
— Вот опять? Что это?
— Лошади? На ржанье смахивает…
Сделали еще шагов пятьдесят, и перед ними открылась прогалина, заросшая низким кустарником. Дальше, наверно, — поле. Во всяком случае, конца прогалины не было видно за белесой мглой. Лишь смутно обрисовывались впереди очертания какой-то постройки. Ветер, дувший оттуда, нес запах печного дыма, обрывки голосов. Совсем явственно раздавалось ржание многих лошадей. Поили их там, что ли, или в сарай загоняли?
Чуть приметно мелькал огонек. Он перемещался. Наверно, кто-то ходил с фонарем.
— Петрищево, — тихо сказал Борис. — Ты побудь здесь, а я подберусь поближе, посмотрю.
Зоя прижалась спиной к стволу дерева, на всякий случай вытащив наган. Это был не ее револьвер, к которому она привыкла. Когда Клава Милорадова и Лида Булгина уходили на разведку, у Зои было такое ощущение, что она долго не увидится с ними. Да и увидится ли вообще?! Захотелось оставить Клаве на память что-нибудь. Но ведь нет ничего. Разве только поменяться наганами: у нее револьвер лучше, как-никак самовзвод. Клава даже растрогалась…
Согревая ладонью рукоятку нагана, Зоя следила за Крайновым. Он сделал несколько перебежек от куста к кусту, потом пополз и скрылся из виду. Надо было набраться терпения. Усилившийся снегопад совсем заслонил виденное вдали строение. Теперь Зоя могла лишь слушать, но и слушать-то было нечего. Голоса в деревне больше не раздавались, конское ржание прекратилось. Только собака жалобно тявкала где-то вдали. Не облаяла бы Бориса!
Минуло полчаса или даже больше, пока вернулся Крайнев. Он поманил Зою в глубь леса. Пошли по своим же, недавно протоптанным, но почти занесенным следам. Остановившись, Борис отряхнулся:
— Все лицо мокрое от этого снега, и воротник тоже. Набился, пока полз…
— Что там?
— Длинный сарай — конюшня. В домах немцев полно, крайняя изба как улей гудит.
— Ну и что?
— Зажигать будем. Ты — конюшню, я — избы.
— В такой снегопад? Кто увидит? С какого самолета рассмотришь?
— Подождем, может, кончится. Еще рано, до полуночи время есть. И немцы угомонятся.
— Платок возьми, шею вытри. Замерзнешь.
— Я попрыгаю, — Борис принялся бесшумно топтаться на месте. У Зои, долго стоявшей без движений, тоже застыли пальцы ног и рук, она тоже начала приплясывать, то приближаясь к Крайневу, то отступая. И вдруг фыркнула весело.
— Тихо! Чего смешного? — удивился Борис.
— Вроде бы танцуем вместе… Наш с тобой бал!
— Похоже, — улыбнулся Борис. — Лесной бал! — И, словно оправдываясь: — А что поделаешь? Еще по крайней мере час ожидать надо.
Ползти — вот что самое ненавистное. Неподалеку фашисты, они не таясь выходят из дома, хлопают дверью, разговаривают в полный голос, гогочут. Уверенными хозяевами себя чувствуют. А Зоя вынуждена ползти по своей родной земле, хорониться в канаве, не смея выпрямиться в полный рост. Разве не обидно! Если бы не строгий приказ Бориса, она не стала бы унижаться. А Крайнов твердил: на войне полжизни ползком. Хочешь победить врага и уцелеть — не гнушайся простыми испытанными приемами. Это он слова Спрогиса повторял.
Но теперь Бориса не видно. Зоя одна, а он где-то справа. Когда они выбрались из леса на прогалину, снег почти не шел, и Зоя, поднимая голову, первое время могла еще разглядеть командира: он полз быстрее, и уже значительное расстояние разделяло их.
А потом снег повалил снова, да так густо, что и сарай, и лес — все скрылось. Чего уж ползти-то при такой видимости! Одна забота: не потерять направление, к сараю попасть. Зоя встала и с каким-то даже озорством пошла в открытую, выставив руку с наганом.
Бревенчатая заснеженная стена выросла вдруг перед ней. Зоя затаила дыхание. Рядом, за стеной, слышалось какое-то шевеление, ворочалось там что-то живое, жующее, теплое. Из продолговатого оконца струился парок, тянуло свежим навозом… Может, и люди там?
У Зои наготове бутылка с горючей смесью. Стукни о бревно, чиркни спичку… Но бутылка звякнет, дробясь на осколки, удар и звон стекла нарушат тишину. Зоя не осмелилась на это. Минуту или две провозилась, вынимая пробку. Осторожно, чтобы не булькала, облила горючей смесью стену: сверху вниз, от самой крыши. Солома-то наверху запылает, но хотелось, чтобы огонь охватил и бревна.
Пальцы слушались плохо — замерзли, пока открывала бутылку. И волновалась она. К тому же крупные снежные хлопья падали на спички, мешая зажечь их, хотя спички были с особой пропиткой. Они ломались, шипели, выскальзывали. Тогда Зоя взяла сразу несколько штук, сжала их сильно, чиркнула. Сверкнул огонек, она поднесла его к бревнам: пыхнуло пламя. Зоя на какое-то время ослепла. Попятилась с закрытыми глазами. Побежала спиной к свету, не оглядываясь.
Громкий испуганный крик донесся слева. Зоя посмотрела: не белой, а розовой была пелена в той стороне. Там слышался разноголосый гомон и вдруг ударит выстрел. «Борис!» — екнуло сердце. Зоя рванулась туда, но вспомнила приказ командира: подожжешь — и сразу в лес! Немедленно в лес!
За спиной заржали лошади. Кто-то кашлял и ругался непонятно и хрипло. Зоя, пригибаясь, побежала дальше, инстинктивно забирая вправо, в лощину, где чернели кусты.
Выстрелы в деревне ухали раз за разом. Однако стреляли куда-то в сторону. Только одна пуля свистнула над головой и подстегнула Зою: она побежала быстрей, высоко вскидывая ноги. Снега в низине нанесло до щиколоток, и девушка вскоре выбилась из сил. Остановилась, вытерла мокрое лицо, отдышалась и только тут сообразила, что лощина увела ее куда-то в сторону. И довольно далеко. Во всяком случае, даже проблеска пожара отсюда за снегопадом не было видно, а выстрелы раздавались глухо — ветер относил звук в сторону.
Зоя растерялась: где же искать Бориса в этой белой круговерти? Метнулась из лощины наверх и почти сразу очутилась в лесу. Но это был совсем не тот лес, в котором скрывались они с Крайновым и где должны были встретиться возле трех старых сосен. Там росли хвойные деревья, а здесь — березняк.
Она попыталась успокоиться, подумать без спешки, определить направление. Борис ждет ее. Может, совсем рядом. Но где? Куда повернуть? Пропал и последний ориентир — прекратилась стрельба. Зоя шла наугад, все еще рассчитывая на счастливый случай. Шла долго, вспоминая, как учил командир-инструктор находить стороны света. По муравейникам, они с южной стороны стволов, где греет солнце, но какие сейчас муравейники! По годовым кольцам на срезах пней. Тоже отпадает. А вот это, пожалуй, можно использовать: у старых сосен, растущих на открытых местах, крона гуще с юга.
На какой-то поляне Зоя нашла несколько отдельно стоящих деревьев. Пригляделась. Она знала: нельзя идти на север, там магистральные дороги, много фашистов. И на запад ей ни к чему. На восток надо пробираться, к своим. Но тоже придется пересекать шоссе. Не лучше ли на юг, в большие леса?
Она притулилась к стволу. Так устала, что не хотелось двигаться, не хотелось думать. Опуститься бы на землю, да посидеть хоть немного. Но нельзя. Она вспотела, убегая от деревни, и теперь холод исподволь пробирался под одежду. Зоя чувствовала это, однако не было сил нарушить оцепенение. Сникла она, подавленная случившимся. Сами собой закрылись тяжелые веки. Стало вроде бы лучше, уютней.
И вдруг она услышала странный звук: над головой мертвенно, по-костяному, стучали под ветром закоченевшие ветки. От этого звука сделалось так жутко, что она вскрикнула, оттолкнулась от дерева и быстро пошла по просеке, начинавшейся от поляны. Кажется, на юг или на юго-запад. Во всяком случае, не надо отчаиваться и распускаться. Не в пустыне она. Просека обязательно приведет куда-нибудь. На другую просеку, на дорогу, в деревню, к избе лесника. Там можно сориентироваться. Только не стоять, не поддаваться гнетущему настроению. Идти и идти!
У Зои не было часов, она не знала даже приблизительно, сколько теперь времени. Долго, наверно, скитается в одиночку: устала так, что ноги не слушаются. Может быть, утро скоро? А просека все тянулась и тянулась, иногда пересекаясь с другими. На каждом таком перекрестке стоял столбик с цифрами, и Зоя очень жалела, что цифры эти ничего не говорят ей. Зря не научили их понимать этот лесной язык…
На одном из перекрестков Зоя наткнулась на глубокую колею, разъезженную, видимо, осенью. Пошла вдоль колеи. А потом появился след. Зоя не сразу заметила его. Какое-то время брела с полузакрытыми глазами, а когда открыла — себе не поверила: по просеке тянулась цепочка следов, совсем свежая, не присыпанная снегом. Недавно прошел человек в больших валенках. Конечно, свой! Немец в одиночку не будет ходить по ночному лесу. Эта мысль придала ей силы, и она заторопилась, срываясь на бег.
Увидела человека метрах в пятидесяти: за белой пеленой шагал мужчина с винтовкой. Наверно, потому, что все еще очень надеялась она встретить Бориса, человек этот со спины показался ей похожим на Крайнова. Она даже не придала значения тому, что он прихрамывает. Ну, может упал или ранен.
— Борис! — радостно крикнула она.
Человек прянул в сторону, срывая с плеча винтовку.
— Борис, не стреляй!
Мужчина исчез где-то среди деревьев. Долетел оттуда напряженный голос:
— Девка, что ли?
— Да! — Зоя поняла, что ошиблась. Не Борис! Но все же наш человек, русский.
— Зовут как?
— Таней! — вырвалось у нее. — Своя, не пугайтесь!
— Я и не пугаюсь, — человек вышел на просеку.
Он сильно припадал на левую ногу. — Немецкие крали тут не разгуливают. Из Вереи будешь?
— Нет. А Верея далеко?
— Это как считать, — неопределенно ответил мужчина. Был он невысок, на голове большая заячья шапка, сдвинутая низко на лоб. Пальто подпоясано солдатским ремнем с двумя подсумками. За спиной, как у Зои, вещевой мешок. Возраст порядочный, наверно, под сорок. Внимательно осмотрел девушку с ног до головы — вгляделся в лицо. Зоя опасалась расспросов: кто, куда, зачем? Не хотела врать. Но человек спросил о другом:
— Очень устала?
— Едва держусь, — призналась она.
— Эх, горе горькое! Два километра протянешь еще?
— А там что? — насторожилась Зоя.
— Не ершись. Землянка в лесу. Отогреемся. Местный я.
— Партизан?
— Говорю — местный, — строго произнес человек. — Не бандит же, бандитам сейчас делать здесь нечего. Пойдем.
Зоя поняла, что ей тоже не следует приставать с расспросами. Каждый из них делает свое дело. Она последовала за ним, думая, что ей здорово повезло, но все-таки нельзя терять бдительность. Мало ли что может случиться.
Землянка, куда они пришли, вероятно, оборудована была еще летом, хорошо замаскирована в гуще леса на склоне оврага. Обитая внутри досками, она хранила тепло и запах обжитого помещения. При свете стеаринового огарка увидела Зоя нары, дощатый столик, ниши для оружия. Посреди землянки сложена кирпичная печурка, от нее коленом тянулась к двери труба.
Мужчина быстро разжег печку, вскипятил чайник. На столе появился хлеб, сахар и даже сало — Зоя сглотнула слюну.
Вместе пили чай из жестяных кружек, ели, пользуясь одним ножом, сидя в полуметре друг от друга, но Зоя так и не разглядела его лица. Он сбросил пальто, остался в тесном пиджачке, под которым виднелась вельветовая толстовка, но шапку свою большую не снял, она затеняла его лицо. Зоя видела только заросший щетиной подбородок, курносый нос, ловила иногда его быстрый взгляд.
Он и теперь ни о чем не расспрашивал, хотя, наверно, лесному человеку, отрезанному от мира, очень хотелось потолковать о новостях. Зоя в конце чаепития сама сказала, что пришла издалека, и что фронт держится по реке Наре.
— Тихо там последние дни, — тревожно произнес мужчина. — Не отодвинулись ли?
— Нет, — заверила Зоя, — это я точно знаю.
Спать он улегся на нижних нарах поближе к выходу. Зоя залезла наверх. Там было настолько тепло, что она даже сняла сапоги. Вытянулась, сунув под голову пустой вещевой мешок. Достала из кобуры наган и положила в изголовье. Сквозь дремоту донеслись до нее слова:
— Ты… не одна здесь?
Ей захотелось приободрить мужчину. Ответила твердо:
— Одной делать нечего. Много нас.
— Да уж, конечно. Сила нужна, — произнес тот. Вздохнул, повозился на нарах, а потом задышал размеренно, чуть похрапывая…
Вере Волошиной и ее товарищам помог ночной снегопад. Сделали все намеченное. Поставили мины на дороге неподалеку от Якшино, а затем по задворкам проникли в деревню. Беспечность гитлеровцев была удивительна. Часовые укрылись от снега, только возле одной избы расхаживал солдат. Да подальше, около автомашин, горело несколько костров и раздавались удары металла о металл.
В каком доме штаб — понять было трудно. Скорей всего там, где скопились автомашины. Но туда разведчики идти не рискнули.
Гранаты полетели в окна трех ближайших домов. Следом — бутылки с зажигательной смесью. А Вера успела и еще одну гранату метнуть — под ноги солдата. Густой снег скрыл группу от глаз фашистов. Криками и пальбой наполнилась деревня, а разведчики без шума ушли через огороды.
Вера помнила: в стороне от деревни, в глубине леса, значилось на карте несколько построек. Свинарник там или коровник. Надо посмотреть: если постройки пусты, можно немного отдохнуть под крышей.
Больше часа шагали по прямой, едва различая друг друга сквозь белесую мглу. Снег лепил в глаза, таял на лицах. Вера начала сомневаться: в такую метель даже со знакомой тропы собьешься, а домики в лесу, как иголка в сене. Да и целы ли они?
Запах дыма, принесенный ветром, насторожил Волошину. Поблизости жилье, люди! Но дым странный какой-то: солома вроде горит или сено?
Приказав разведчикам ждать, Волошина и Голубев осторожно пошли вперед, держа оружие наготове. Увидели отблеск огня, притаились за деревьями. Строения на поляне были полуразрушены, крыши провалены. Уцелела лишь небольшая избушка, хотя и на ней сбита труба, вместо двери зиял черный провал, из которого полз дым. Иногда провал освещался вспышками пламени, какие-то тени колебались внутри дома.
«Не фашисты, — решила Вера. — Немцы в холодном доме в лесу не будут сидеть. Да и часового бы выставили».
— Жители, — тихо произнес Голубев. — Или окруженцы.
Человек в красноармейской шинели, в пилотке, натянутой на уши, выскочил из дома. Ноги в обмотках — как палки. Знобко ему было в ботиночках на снегу. Схватил несколько сухих веток, охапку соломы — и скорее обратно. Ярче озарился дверной проем.
— Крикнем? — предложила Вера.
— Давай ты. Женского голоса не испугаются.
— А ты гранату приготовь… — Волошина выдвинулась из-за дерева: — Эгей, в доме! Вы кто?
Тишина. Приглушенная команда. Огонь метнулся испуганно и погас, будто прикрыли его чем-то. Из окна высунулся ствол винтовки.
— Вы кто? — повторила Вера.
— А ты? — раздался молодой срывающийся голос. — Ты сама кто?
— Я советская!
— Мы тоже!
— Выйди один, поговорим.
Долгая пауза. Потом тот же ломкий неуверенный голос:
— И ты одна?
— Вот иду, видишь? — Вера тряхнула головой и, улыбаясь, шагнула к дому. Навстречу ей — невысокий военный в туго перетянутой шинели, в больших разбитых сапогах. Танковый шлем сдвинут на затылок, лицо совсем юное, бледное. Худющее — один нос торчит. На скуле — запекшаяся кровь.
— Здравствуй, — сказала Вера, сразу почувствовав расположение и жалость к мальчику-танкисту, наверное, городскому жителю, очутившемуся в холодном враждебном лесу без своих командиров. — Окруженцы, что ли?
— Ага.
— Издалека?
— Издали, — сокрушенно вздохнул танкист, уловив сочувствие и теплоту в голосе высокой красивой женщины. — От самой Вязьмы идем. Оборвались, оголодали. Два дня во рту ничего не было. Греемся тут, а что дальше — не знаем. Куда ни ткнись — немцы. Говорят, уже Москву взяли!
— Кто говорит?
— В деревню мы завернули третьеводни…
— И уши развесили! Фашисты нарочно слухи пускают. Москва наша, фронт по Наре проходит. Мы недавно оттуда.
— Партизаны?
— Вроде этого.
Пока они разговаривали, вокруг собрались разведчики, вышли из дома красноармейцы.
— Что же вы так, без охраны, — сказал Голубев. — Неровен час…
— А, ничего, — махнул рукой танкист. — Немцы только по дорогам, тем более в такую метель. Да и чем охранять: две винтовки и пять патронов на всех.
— Остальное оружие где? Побросали?
— Так уж получилось, — с горечью ответил танкист, и Вера опять пожалела этого мальчишку, попавшего в огонь войны, вероятно, прямо со школьной скамьи.
— Братцы, — сказала она своим. — Дайте им поесть. Все, что осталось.
Наташа Самойлович выложила банку консервов. У Али Ворониной нашлось немного крупы. Снова развели огонь в доме, набили в котелки снега. Необычайно вкусной показалась всем каша. Хоть и понемногу — а поддержка. Потом выпили кипятку с крошками шоколада.
— Мы теперь с вами, ладно? — спросил танкист, заглядывая в лицо Волошиной.
— У нас свои дела.
— И мы тоже. Верно, товарищи? — обратился он к красноармейцам.
— Точно!
— Помогнем в чем надо!
— Куда же мы одни?
— Слышите, слышите? — обрадоваино кивал танкист. — Не сомневайтесь!
— А кто вас знает! — жестко сказала Наташа Самойлович.
— Как это кто? — У танкиста дрогнул голос. — Воевали, пока могли. Не подведем, не думай!
— Видите ли, товарищи, — примирительно заговорила Волошина. — Мы ведь не на прогулке здесь. И не от немцев бегаем. У нас есть задание. Выполним его — тогда будем пробиваться к своим.
— Нам бы тоже немца бить, да не знаем как.
— Учтите, дисциплина у нас строгая, сознательная. Никаких вольностей, никаких нарушений, никакого нытья. Хотите с нами — соблюдайте наши порядки.
— Конечно, — сказал танкист, и красноармейцы поддержали его:
— Разве мыслимо без дисциплины?!
— Эх, нам бы только через фронт!
Волошина повернулась к разведчикам:
— Ну что? Вместе будем?
— Пусть идут. Но только… — Наташа Самойлович хлопнула рукой по кобуре нагана, — только пусть помнят: нарушил приказ — расстрел на месте. Без церемоний.
— У нас очень строго, — смягчила ее резкость Волошина. — Нельзя иначе.
— Мы понимаем, понимаем! — заверил танкист. Этот юноша чем-то напоминал Вере ее друга Юрия.
Но не таким, каким видела его последний раз, когда он сказал, что любит ее. Он серьезный был, совсем взрослый, в форме Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота — в кителе, в фуражке с эмблемой. Нет, танкист напоминал того Юру, вместе с которым училась в школе, ходила в туристские походы, каталась на лыжах. Нос у него такой же прямой. Лицо немного удлиненное. Но главное — не внешние черты. В глазах у них что-то общее: открытость, доверчивость. Люди с подобными глазами бывают добры, немного наивны и очень принципиальны. Пообещает — сделает. Обязан — выполнит в лучшем виде.
Вере приятно было думать так, вспоминая своего дорогого далекого друга. Она угрелась в стогу сена, лежа недвижимо вместе с Наташей и Алей, вдыхая печальный запах увядших цветов невозвратимого лета. Здесь, в сухой глубине, было тепло, девушки сразу уснули. Веру тоже охватывала приятная дремота, путались мысли. Улыбаясь, она пыталась понять: во сне или наяву видит своих подруг по институту, синее небо, сверкающие купола церквей… Нет, какой там сон это они на практике в Загорске. На производственной практике после третьего курса. В плановом отделе райпотребсоюза.
День яркий, чудесный. Воскресенье сегодня. Люди за город идут: к воде, в лес. А подруги направились в Троице-Сергиеву лавру. В музей. Вера уже не раз бывала там. Ходила «подышать стариной», поглядеть работы Андрея Рублева. Словно бы оживала, понятней становилась великая история государства Российского.
А подруги тянут в универмаг. Зачем? Ну и придумщицы! На общественные деньги (в комнате жили коммуной) решили приобрести Вере платье из белого шелка. Очень красивое платье и дорогое — двадцать пять рублей. В таком только под венец!
Да ведь это со значением подарок! Догадываются девочки, что на каникулы в Кемерово поедет Вера вместе с Юрой. А вернется уже не Волошиной, другая будет фамилия…
Приятно, весело Вере в новом платье, сверкающем белизной. Будто по ней сшито. Белые туфли неощутимы. Кажется, взмахнешь руками и поднимешься в синее небо, к пушистым облакам, плавно поплывешь вместе с ними.
И вдруг все разом померкло, отяжелело, налилось темной краской. Из черного репродуктора — мрачное слово: война, война, война… А Вера в лавре, в музее, среди крестов и распятий в подвенечном своем наряде… Только один раз тогда и надевала его!
— Татьяна… Таня, — выплыл из пустоты чужой голос. Зоя вскинулась, ударившись плечом о потолок землянки. В руке — наган.
— Какая Таня? Кто?
— Не ершись спросонок. Убери пушку-то, — сказал мужчина. — Таня или не Таня — нам все одно. Ухожу я, потолковать надо. Оденься.
Зоя сразу вспомнила все, что случилось с ней. Натянула сапоги, накинула на плечи пальто. Выглянула из землянки — свет резанул по глазам: бело и ярко было в лесу, на ветках снежные нависи, как кружева.
— Стихло, — удовлетворенно произнес мужчина, глубже нахлобучивая шапку. — Там на столе провиант тебе оставил какой есть. А мне пора. Может, ворочусь ночью, а может, и нет. У меня в лесу домов, как у зайца теремов. Ну а ты? Надолго останешься?
— Я тоже пойду, только не сейчас, под вечер.
— Это вернее, — согласился мужчина. — Возле землянки-то не следи. Шагай по оврагу вверх, он прямо на просеку выведет, где встретились.
— Мне бы к речке попасть, к Тарусе.
— Не ближний свет. Поболе двух часов лесного хода ночью тому, кто знает. А тебе все три.
— В какую сторону?
— На северо-восток держи. Как дойдешь до пересечения просек, бери влево и никуда не сворачивай. Да смотри не проскочи с разбегу, речонка такая, что в половодье петух пешком перейдет. А сейчас замело. Лед ногою щупай. До Тарусы не будет речного льда.
— Спасибо, — сказала Зоя, — очень большое вам спасибо за все.
— Начальству-то как доложить о тебе?
— А никак. Встретил, мол, Таню, у нее свое задание… А если надо будет — свяжусь…
— Да, такая уж доля наша, — мужчина чуть приподнял свою шапку. — Ну, бывай! Удачи тебе!
С хорошим настроением вернулась Зоя в землянку. Здесь было сумрачно, лишь узкая полоска света пробивалась через продолговатое стеклышко, вделанное над дверью. Тронула чайник — еще горячий. На столе сахар и кусочек черствого хлеба. Зоя разрезала его надвое: половину в запас.
С удовольствием попила чай. И почувствовала, что ее снова клонит в сон: слишком утомилась и наголодалась она за последние дни. Тронула рукой плечи — косточки выпирают, будто бы не свои. И шея вроде длиннее стала. Или тоньше…
Она снова залезла на нары и лежала в тишине и тепле, мысленно благословляя свое неожиданное пристанище и случайную встречу в лесу. Что было бы с ней без этого партизана?!
Теперь она, можно сказать, знакома с народными мстителями. Запомнит дорогу сюда, к этой землянке, расскажет своим. Только когда, где?
Борис, конечно, возвратился в лагерь, а лагеря ей самой не разыскать. Значит, надо переходить фронт. Добраться до Тарусы, повернуться вправо и идти к Наре. А если повернуть влево, то вскоре доберешься до истоков Тарусы — Зоя хорошо представляла карту этого района. Начинается речка в болотах возле Петрищева. Они с Борисом часть пути проделали вчера как раз по долине речушки. Крайнов, наверно, и назад шел по ней, а Зоя шарахнулась в сторону. Сама виновата. Так она и скажет майору Спрогису или комиссару Дронову, когда вернется Выполнила, дескать, задание, а потом допустила ошибку. Да только выполнила ли?
Зоя даже приподнялась, сон будто ветром сдуло. Вот это штука! Как же она не сообразила раньше? Строения они с Борисом подожгли, это факт. Но в какое время? В самый снегопад, когда ни один самолет в воздух не поднялся. А если и поднялся, то летчик ничего не мог разглядеть. И потом долго еще валил снег, до самого утра, вероятно.
Значит, главного-то они не сделали? Только дома спалили. Чем же гордиться, о чем докладывать?! Хорошо хоть, что для подачи сигналов отведена не одна ночь. Может, сегодня погода будет ясная, и Борис снова… Но почему Борис? У него других забот много. А у Зои одна — выполнить то, что поручено. Она должна снова идти в Петрищево, просто обязана довести начатое до конца. И если Борис вернется туда же — они встретятся, и опять все будет прекрасно!
Приняв решение, Зоя успокоилась. Глотнула теплой воды из носика чайника и поудобней устроилась на нарах. Можно отдыхать часов до четырех, пока наползут сумерки.
А этот верейский партизан не поверил, кажется, что ее зовут Таней. Не очень твердо произнесла имя, хотя вырвалось оно не случайно. Зоя и раньше думала: при необходимости назовет себя так в память о Тане Соломахе, героине гражданской войны. Несколько раз Зоя перечитывала очерк о ней, читала вслух маме и брату. И так ярко представляла себе подвиг мужественной девушки, будто своими глазами видела и пережила все вместе с ней.
Очень много общего у них с Таней. Как и она, Зоя с детства любила книги, столько проштудировала, что и не перечислишь. А самые увлекательные помнила чуть ли не наизусть. Как и Таня, особенно увлекалась рассказами о героях, которые сражались за народ, преодолевая любые трудности. И сама хотела быть такой же. А жизнь текла будничная, обыкновенная.
Вот и у Тани сначала тоже. Училась в гимназии. Потом стала учительницей на Кубани, в казачьей станице… Там, еще до революции, вступила в подпольную организацию большевиков. А когда вспыхнула гражданская война, Таня вступила в красногвардейский отряд вместе с мужчинами. Очень ей было тяжело. Походы, бои. А она не такая уж сильная… Осенью восемнадцатого года свалил ее тиф. Лежала в селе Козьминском. И вот в село ворвались белые. Таню сразу бросили в тюрьму, хоть и больная была. Начали допрашивать, где скрываются товарищи по отряду. А она молчала, терпела пытки.
Однажды вывели ее из тюрьмы. Люди увидели, какая она избитая, вся в синяках, одежда окровавлена. А лицо спокойное и гордое. Конвоиры подталкивали ее, пинали девушку, а она сказала громко, чтобы все слышали: «Можете сколько угодно избивать меня, можете убить меня, но Советы не умерли — Советы живы! Они вернутся!»
Белогвардейцы принялись сечь Таню шомполами, кричали, что заставят просить милости. «И не ждите! — ответила она. — У вас я просить ничего не буду!»
Ее снова отправили в тюрьму. А утром 7 ноября в камеру ворвались пьяные беляки, прикладами выгнали арестованных. Таня сказала от двери: «Прощайте, товарищи! Пусть эта кровь на стенах не пропадет даром. Скоро придут Советы!»
Арестованных повели в степь. Восемнадцать человек. Конники начали рубить их по одному. Блеск шашки, удар, крик. И распростертое тело… На глазах у Тани гибли ее товарищи. Один за другим. Но она не запросила пощады… Ее зарубили последней.
Так было написано в книге «Женщина в гражданской войне». Зоя дословно помнила этот очерк.
Мелкие холодные звезды мерцали в небе. Снег лежал синеватый, пухлый, на нем четко отпечатывались следы.
Группа двигалась рассредоточенно. Впереди Вера Волошина с танкистом. В некотором отдалении — основное ядро: Наташа Самойлович, Аля Воронина, другие разведчики и красноармейцы. Тыл прикрывал Алексей Голубев.
Задержались только один раз, когда пересекали большак из деревни Якшино на совхоз Головково. Здесь виднелись оттиски автомобильных покрышек. Разведчики поставили в колею несколько мин, замаскировали их.
Все-таки очень плохо, что не имелось карты. Где-то поблизости перекресток дорог, который следовало бы обойти. Но правее он или левее? А впереди что виднеется: занесенный снегом дом или стог сена?
Вера решительно повернула вправо, на возвышенность — там легче сориентироваться. Танкист молча шагал за ней, полностью доверяясь разведчице. Радовался, наверно, что снял со своих плеч груз ответственности за бойцов, что не надо ему заботиться о маршруте, о еде и ночлеге. Скажет Волошина — он сделает. А Вере приятно было, что рядом с ней человек, немного похожий на Юру. Военный. С ним посоветоваться можно. И надежный он, прикроет в случае чего огнем из винтовки.
Медленно, вытягивая ноги из снега, поднялась Волошина по склону, поглядывая на компас. Скоро рассвет, надо уходить подальше от большака. Вон туда, в хвойный лес, начинавшийся у подножия холма.
Внимание Веры было приковано к компасу, лишь краем глаза увидела она справа острый выброс пламени. Сильный удар в плечо едва не сбил с ног. Она удержалась, но горизонт качнулся, поплыл перед ней. Падая, она успела еще заметить танкиста, распластанного на снегу, и нити трассирующих пуль… Или это мелькали в небе разноцветные холодные звезды?
В утреннем донесении командир немецкой пехотной дивизии сообщил командиру корпуса, что почти все населенные пункты, куда в связи с перегруппировкой выведены были войска, подверглись ночью нападению партизан. Особенно сильный налет произведен на деревню Якшино. Частично разрушен узел связи, убиты два штабных офицера. Повсюду партизаны отброшены со значительными для них потерями, которые уточняются. Приняты меры по усилению охраны населенных пунктов и всех военных объектов.
В отношении «значительных потерь» было допущено некоторое преувеличение: к моменту отправки донесения удалось обнаружить лишь несколько мертвых партизан. Причем установить, убиты они сегодня или неделю назад, было трудно. Однако партизаны — это бандиты, они вне закона, никто не будет проверять, сколько их погибло, считать трупы. Генерала, подписавшего донесение, тревожило другое. Трудно было поверить, что на недавно завоеванной территории, в прифронтовой полосе, оказалось вдруг сразу столько партизан, к тому же действующих не стихийно, а организованно, по единому плану. Может быть, это диверсионные отряды противника, просочившиеся через фронт?! Но в таком случае следует установить, где и когда прорвались русские, сколько их? Необходимо наказать виновных, допустивших такой прорыв. И на командование дивизии падает тень. А неприятностей у генерала и без этого было достаточно.
Перед обедом генералу сообщили: возле совхоза Головково захвачена русская женщина, раненая в перестрелке. На ней военная форма без знаков различия. Офицер, доставивший известие, особенно упирал на то, что форма и вооружение раненой точно такие, как у солдат Красной Армии. Офицер, аккуратист и педант, хотел выяснить, по какому параграфу квалифицировать пленную. Если она военнослужащая — содержать на общих основаниях. Если нет — совсем другой подход.
А генерала новость обрадовала. Захвачена женщина, следовательно, в районе дислокации дивизии действуют не подразделения регулярных войск, а партизаны. Значит, прорыв фронта не имел места, не требуется проводить расследований. Все ясно: партизаны — преступники, ведущие борьбу на свой страх и риск. Их надлежит уничтожать. Это определено приказом свыше, который предусматривает публичную казнь через повешение для устрашения гражданских лиц, которые замышляют выступить против немцев.
Отправляясь обедать, генерал отдал соответствующие распоряжения.
Долго везли Веру в кузове грузовика по тряской дороге. Было так холодно, что заледенели, покоробились окровавленные бинты. Перевязали девушку торопливо, неумело, кровь продолжала сочиться и, казалось, вместе с ней уходят, иссякают силы. Все острее болело простреленное плечо и ломило грудь; так ломило, что невозможно становилось дышать. Особенно возрастала боль, когда начинал бить озноб — Вера даже зубы стискивала, боясь закричать. Несколько раз сознание покидало ее.
В совхозе девушку перенесли в пустовавший дом рядом со школой, положили на широкую лавку возле стены. Вскоре пришел офицер. Вера смутно различала его круглое белое лицо. С трудом понимала вопросы. Откуда она шла? С кем? Как ее зовут?
Вере хотелось сказать, что все это зря, отвечать она не намерена, но говорить так офицеру не следовало, пусть видит, что она ослабела, ни одного слова произнести не может. Да и действительно, губы не подчинялись ей, она погружалась в забытье и только громкий голос вновь и вновь возвращал ее к действительности… А может, это не офицер, может, это отец Клары — инженер, приезжавший из Германии строить Кемеровскую ГРЭС? И Вера с подружками-шестиклассницами слушает его, изучает немецкую речь? Главное — произносить правильно…
Резкая боль заставила ее вскрикнуть. Открыв глаза, увидела занесенный кулак в кожаной перчатке. Снова вспышка боли — показалось, что летит куда-то вниз, в черноту.
Офицер, разозленный молчанием партизанки, несколько раз ударил ее, сбросил с лавки. Пнув сапогом, перевернул лицом вверх. Девушка была в обмороке. Офицер подождал, глядя, как возится с ней фельдшер. Спросил:
— Надолго?
— Боюсь, что да. Большая потеря крови.
Офицер выругался и вышел. Полумертвая — чего от нее добьешься? А песенка ее спета — завтра казнь.
Минула Веру горькая чаша, избежала она издевательства садистов, зверевших от беззащитности жертв. Немецкий фельдшер, человек средних лет, сам оставивший дома двух дочек, старался, как мог, облегчить ее страдания. Принес откуда-то матрац и подушку. Истопил печку, напоил кофе.
Вечером фельдшер долго сидел возле стола, хмуро думал о своем, поглядывая на пленницу. При свете лампы золотым нимбом светились волосы вокруг бледного лица, лихорадочно сияли большие, расширившиеся от боли глаза.
Такая красота — и обречена на гибель!
Ворчал он, проклиная войну и службу. А девушка, кажется, поняла его. Приподнялась, улыбнулась…
К полуночи ей стало хуже. Опять начался озноб, открылось кровотечение. Металась в беспамятстве на матраце, стонала. Принималась вдруг читать стихи. Несколько раз повторила строчки:
Слова не остаются словами. Слова превращаются в дело…Вспомнилось, значит, Вере в последнюю ночь стихотворение, написанное давным-давно, когда было ей только пятнадцать лет.
ШАГИ В БЕССМЕРТИЕ
Речку Тарусу Зоя нашла без труда. Сначала был пологий спуск. Лес сделался моложе и гуще. Затем она попала в такие заросли ивняка и тальника, что едва продиралась через них. Под ногами пружинили заснеженные моховые кочки. И вот — узкая извилистая полоска ровного снега и льда среди черных кустов. Обыкновенный ручеек — назвать его речкой язык не поворачивается. Но ведь все, даже самые великие реки, начинаются едва приметными струйками или вбирают в себя скромные речушки вроде Тарусы, в районе которой довелось действовать отряду Крайнева. Без малой воды и большой не бывать. Длиной-то Таруса всего километров двадцать или двадцать пять — от истока до впадения в Нару, и знают-то о ней немногие, только местные люди, а сколько довелось пережить здесь Зое с друзьями!
Встала она над замерзшей речкой, задумалась. Так хотелось повернуть вправо, к своим! Последнее испытание, последнее напряжение — перейти линию фронта. Можно будет, наконец, расслабиться, помыться, написать письмо маме. Но отсюда до Петрищева час хорошего хода, а ночь будет светлая, не то, что вчера. Самолеты вполне могут летать, пожар будет виден издалека. «Какие еще колебания? Стыдно даже!» — сказала она себе, припомнив слова Проворова, когда его посылали с донесением: «Добегу!» И увереннее, веселее почувствовала себя, будто услышала бодрый насмешливый голос Павла.
Идти можно не торопясь, время еще раннее. Зоя несколько раз останавливалась, отдыхала. Неподалеку от Петрищева речка раздваивается, убегает в сторону какой-то приток. А сама Таруса делается столь маленькой, что ее можно перешагнуть. Зоя узнала эти места, здесь они были с Борисом. Но следов никаких не осталось, все замело.
Лес чопорный, строгий: деревья не шелохнутся, чтобы не осыпался белый наряд. Особенно красивы елки, ровной цепочкой выстроившиеся вдоль просеки. Пышные и горделивые, они словно скрывают какие-то тайны под густыми ажурными лапами.
Зоя помедлила бы еще, полюбовалась, но у нее начали мерзнуть ноги. В сапогах хорошо по натоптанному, по дорогам ходить, когда только подошвы снега касаются. А если снег по щиколотку, он холодит и через носок, и через портянку. Зоя потопталась, попрыгала и решила — пора!
На этот раз с опушки хорошо просматривалась окраина деревни. Несколько добротных высоких домов и сараи, повернутые глухой стеной к лесу. Три или четыре длинных сарая стояли особняком, на отлете, до них было ближе, чем до изб. Подобраться легче, и загораживали они от наблюдения из деревни.
«Сбегаю!» — повторила Зоя понравившееся слово.
Туда — осторожно, а там — быстро. Облить бревна горючей смесью, поджечь и сразу назад. Только вот пальто мешает, ноги путаются, когда летишь опрометью. Может, повесить его пока здесь на сучок? И вернуться по своим следам.
Так она и сделала: сняла пальто, оставшись в теплой куртке. За спиной — тощий мешок. В кармане бутылка с горючкой. В другом — спички. Наган сунут за пазуху. Ну, кажется, все.
Еще раз оглядела деревню Пустынно, нигде ни огонька. Чуть слышны какие-то выкрики Над трубой крайнего дома поднимался дым… Морозный вечер, одинокость. Шагнешь из-за деревьев — и тебя могут увидеть. Там, в Петрищеве, много солдат, расставлены часовые. Немцы озлоблены, насторожены после вчерашних пожаров. Но все равно надо идти. Кроме нее, задание выполнить некому.
Зоя обогнула поваленный ствол старой березы и быстро пошла по открытому полю.
Какое же чувство долга, какое мужество нужно было иметь, чтобы самой, без приказа, отправиться навстречу смертельной опасности! Цель важная, но ведь и риск очень велик!
Уже одно это было высочайшим подвигом духа!
Проживал в Петрищеве некто Свиридов С. А. — мужичонка вздорный, считавшийся непутевым и даже вредным. Приехал он откуда-то из Белоруссии, к крестьянскому труду не приобщился, вкалывал на торфоразработках, с местными жителями почти не общался. Норовил взяться где полегче, но урвать побольше. А вредность его происходила от пристрастия к выпивке. Посули бутылку — на любую пакость готов. И ворота дегтем вымажет, и обругает несправедливо при всем честном народе, и любую ложь засвидетельствует.
Если появлялось районное начальство, Свиридов околачивался подле него, готовый сбегать, куда пошлют, или подать-принести. Соображал, значит: у руководства всегда выпить найдется, а люди, умеющие услужить, начальству нужны.
К фашистам прибился в первый же день, как только они вошли в Петрищево. То сена лошадям принесет, то воды, то печку истопит. А немцы ему — стакан до самого верха. Этого добра у них было в достатке — захватили склад на железнодорожной станции. Так и не протрезвлялся Свиридов недели две, ходил с блаженной улыбкой, выискивая, чем бы еще пособить щедрым хозяевам.
Вместе с гитлеровцами спасал он от огня конюшню, подожженную ночью, даже в пламя кидался, выводя рыжих германских коней. Тогда и приметил его фашистский офицер. А приметив, велел ставить по вечерам в дозор, чтобы до полуночи ходил и поглядывал, не подбирается ли кто к деревне. За это — поллитра.
Свиридов тут же выразил желание дежурить и вторую половину ночи, ежели дадут другую бутылку. Но офицер не согласился. Бутылки-то не жаль, но сообразил немец: после первого причастия надежды на сторожа будет мало. Пусть свой солдат померзнет, это надежней.
На границе осени и зимы день хмур, короток. Вечер долгий — а делать нечего. Едва стемнело, немецкие солдаты завалились дрыхнуть. Минувшая ночь была суматошной, с пожарами — не выспались. Свиридов натянул старый тулуп, за десяток лет изношенный колхозным сторожем, сунул ноги в растоптанные валенки, нахлобучил бесформенную, протершуюся до мездры шапку и поплелся нести службу.
Снегопад очистил воздух, он был прозрачен и звонок, дышалось легко. И чем дальше, тем сильнее морозило. Над снежным полем вроде бы струилось голубое сияние. А за полем, за нетронутой белой целиной, черными утесами громоздился лес.
Прохаживаясь от избы к избе, Свиридов громко сморкался и кашлял, чтобы немцы слышали — не спит дозорный. И посмеивался, предвкушая удовольствие: часок-другой, и вот она, заветная бутылочка под соленые огурцы. И под консервы — две банки спер он у зазевавшегося немецкого шофера.
Заглянул в конюшню, послушал, как хрупают овсом лошади. Соблазнительно было зайти, укрыться от ветра. Но пересилил это желание, отправился дальше.
Посмотрел на чистое поле — и аж глаза протер: там, где лес углом выпирал к деревне, по нетоптанному снегу шел человек! Свиридов сразу определил — не местный. Нет такого в Петрищеве. Да и к чему бы местному-то красться по задворкам, а не шагать по дороге?!
Кинулся в дом, где мерцал огонек. Унтер — караульный начальник — сидел возле лампы. На хозяйской кровати, на лавках и на печи похрапывали солдаты. Свиридов замахал руками, показывая: какой-то, мол, хрен прет из леса!
Немец балбес никак не мог взять в толк, зачем прибежал дозорный. Свиридов разозлился на него, крикнул в полный голос:
— Партизаны! Пу-пу!
Солдат как пружиной подбросило. Гавкали что-то по-своему, хватали оружие.
— Wo? Wieviel?[4] — спрашивал побледневший унтер. Свиридов пальцем показал: один партизан, не робейте. Шевелитесь живей!
Унтер выхватил пистолет и велел трем дюжим солдатам следовать за ним. Пошел и Свиридов, но малость позади.
Прячась за углом конюшни, фашисты разглядывали приближавшегося. Был он худ — узкоплечий подросток. На ногу спор и, наверно, решителен: шагал быстро, не озираясь по сторонам.
Все ближе скрип снега под каблуками. Вот уж и дыхание слышно. Унтер опять выглянул из-за угла. Человек возле стены наклонился.
— Halt![5] — ошеломляюще гаркнул унтер и одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние. Человек вскинулся, оттолкнул немца, но тот был сильнее. Рванул за плечо, вывертывая назад руку, и удивился, какая она тонкая, по-детски хрупкая.
Партизан дергался, бился, пытаясь освободиться, но солдаты уже скрутили его веревкой. Шапка слетела с головы, обнажив коротко постриженные темные волосы. Унтер глянул в лицо и не смог скрыть удивления:
— Frau![6]
Услышав этот возглас, подбежал Свиридов, для безопасности державшийся в стороне. Присмотрелся и аж плюнул с досады. Надеялся, что опасный партизан попался, немцы дополнительную плату дадут. А оказалось — девка, подросток. Откуда только ее принесло! Не разживешься!
Гитлеровцы потащили упиравшуюся пленницу в штаб, а Свиридов, шаркая валенками, поплелся следом. Может, все-таки перепадет что-нибудь от офицера за надежную службу?[7]
В вооруженных силах гитлеровской Германии имелась только одна кавалерийская дивизия. Использовалась она не целиком как боевое соединение, а отдельными подразделениями и лишь там, где возникала особая необходимость. Готовя новое наступление восточнее Можайска, фашистское командование перебросило сюда несколько эскадронов: кавалеристы должны были действовать в лесисто-болотистой местности, недоступной для техники. Один из этих эскадронов как раз и расположился в Петрищеве, заняв часть деревни, которая примыкала к колхозной конюшне. В остальных домах разместились офицеры и солдаты 332-го пехотного полка 197-й дивизии, выведенные с передовой для отдыха и пополнения, Пехотинцы были усталые, злые, к тому же и здесь в первую ночь их подняли по тревоге из-за проклятых партизан.
Обосновался в Петрищеве и командир полка подполковник Рюдерер вместе со своим штабом. Он был старшим начальником в гарнизоне, ему и доложили о поимке «фрау-партизанки», у которой имелось оружие и бутылка с горючей смесью. Несомненно, это была одна из тех, кто минувшей ночью поджег несколько строений.
В свою очередь, подполковник во время вечернего телефонного разговора с командиром дивизии сообщил о партизанке генералу и спросил, как с ней поступить.
— Мы имеем дело не с единичным случаем, а с организованной акцией, — сказал в ответ генерал. — Другая раненая партизанка захвачена возле совхоза Головково. Вероятно, в зоне дивизии действует диверсионный отряд русских. Вывод может быть только один: усилить посты. А пойманных партизан-диверсантов уничтожать.
— Но это женщина…
— Для нас нет женщин и нет мужчин, — желчно произнес генерал. — Есть только друзья и враги. А приказ о партизанах вам, надеюсь, известен.
— Так точно!
— Повесить, собрав жителей. И постарайтесь основательно допросить ее. Откуда она, много ли их, где база, какова задача? Возьмитесь за это сами, подполковник.
— Слушаюсь, господин генерал.
Судьба Зои была решена еще до того, как Рюдерер увидел ее своими глазами. Он вовсе не считал себя садистом, этот кадровый командир, умевший неплохо воевать. Однако неудачи последних недель ожесточили его. Чужая жизнь обесценилась. Он даже в своих соотечественниках, в подчиненных видел не людей, а только исполнителей: хороших или плохих офицеров, автоматчиков, пулеметчиков или минометчиков. До остального ему не было дела.
Приговор был вынесен, и пока пленница не стала бесчувственным трупом, из нее следовало вырвать признания, которые помогут в борьбе с партизанами. В штаб, в дом Ворониных, ее привели уже избитую и раздетую: в одной сорочке, босую. Это была совсем еще девчонка, и подполковник вначале предположил, что ее нетрудно запугать. Но взгляд у нее был такой твердый, такая ненависть горела в глазах, что Рюдерер подумал: она из тех фанатичных русских, которые держатся до конца.
Он считал себя воспитанным человеком, он даже к пленной обращался с холодной вежливостью:
— Ваше имя?
— Таня.
— Фамилия?
— Не имеет значения.
— Это вы подожгли вчера конюшню?
— Да.
— Ваша цель?
— Уничтожать вас.
Подполковник усмехнулся: каково самомнение у этой девчонки! Офицеры, переговаривавшиеся и обменивавшиеся шутками, смолкли.
— Кто вас послал сюда?
— Этого я не скажу.
— С вами были другие партизаны?
— Нет. Я одна.
— Где ваша база?
— Зачем для одной нужна база?
— Когда вы перешли фронт?
— В пятницу, — наобум сказала Зоя: она за последнее время даже числам счет потеряла.
— Вы слишком быстро дошли, — усомнился подполковник.
— Что же, зевать, что ли?! — переводчик с трудом перевел дерзкие эти слова.
— Мы не будем бить вас по-русски кулаками, — устало произнес Рюдерер, взглянув на часы. У него имелись более серьезные заботы, чем эта девчонка. — Бить кулаками нехорошо. Но мы заставим вас ответить на все вопросы. Мы будем пороть вас, — подполковник потянулся за сигаретой.
Двум солдатам ничего не стоило бросить партизанку на лавку, лицом вниз. Поднятая сорочка обнажила худенькое тело. Солдатская пряжка с размаху врезалась в него, оставляя сине-багровый след. Рыжий баварец бил с таким старанием, что, казалось, разрубит девушку. Она содрогалась при каждом ударе, прикусывала губы. Капельки крови падали на пол.
Молодой офицер-связист, закрыв ладонями лицо, пятился на кухню, где в темноте сидели хозяева избы. Ощупью нашел дверь, выскочил на крыльцо, и там его стошнило.
Рюдерер сделал знак, солдат опустил ремень.
— С кем ты была? Где твои товарищи?
Девушка с трудом подняла голову. В глазах — ненависть и укор.
— Не скажу.
— Значит, мало еще тебе, — буркнул подполковник, начавший терять терпение.
Снова засвистели ремни, оставляя после каждого удара кровавые клочья на теле девушки. Опять пауза.
— Где твои товарищи?
— Не скажу.
— Бейте!
Наконец подполковник Рюдерер устал. Он велел увести партизанку и прибрать в комнате. Подумав, сказал переводчику, чтобы поджигательницу отправили к солдатам. Пусть поспрашивают еще. Может, солдаты что-нибудь выколотят из нее.
Переводчик повел пленную в караульное помещение. Было уже около полуночи, небо вызвездило, мороз окреп по-зимнему. Холод пробирал переводчика под шинелью, а русская будто и не ощущала его: шла босая, почти обнаженная, оставляя за собой на снегу темные пятна крови.
Сопровождал переводчика унтер-офицер 10-й роты 332-го пехотного полка Карл Бауэрлейн. Они вместе привели партизанку в дом крестьянина Василия Кулика.
Удивление — вот что испытывал Бауэрлейн, глядя на девушку. Вся в синяках, в кровоподтеках, волосы слиплись. Перенесла такие побои, что крепкий мужчина взвыл бы. У нее же ребрышки, как у птицы. Прутики, а не ребра. Дышит хрипло. Но выражение лица такое, что даже развязать руки ей побоялись — не бросилась бы на кого-нибудь. Упорство и несгибаемость партизанки действовали раздражающе.
Измучена она была, конечно, до предела. Как ввели с мороза в избу, как села на лавку в тепле, так и обмякла. Голова с трудом держалась на высокой красивой шее, клонилась к правому плечу. Караульные солдаты пялили на нее глаза, слушая переводчика, объяснявшего, что это за птичка. Часовой, стоявший у двери, пригрозил:
— Мы ей добавим!
Девушка, сидевшая вроде бы в оцепенении, шевельнулась и тихо попросила пить. Солдаты заинтересовались: о чем она? Переводчик сказал. Потом пошутил:
— Керосином бы ее, поджигательницу, напоить.
Василий Кулик, не понимавший немецкого, взял кружку и направился к кадке с водой. Часовой остановил его, оттолкнул. Схватив лампу, поднес к подбородку девушки. Она откачнулась, глухо ударившись затылком о стену.
— Чего ты делаешь, басурман! — выругался Кулик. — Где это видно, чтобы человека огнем палить!
Фашист-часовой, ворча, отошел к двери. Портить отношение с хозяином дома ни он, ни другие солдаты не имели желания. Фронтовой опыт научил их кое-чему. Выгнать хозяев — проще всего. А кто принесет дров, истопит печь, согреет воду? Самим заниматься этим? Хлопотно, долго, да и попробуй разберись в русском хозяйстве. Загорятся дрова в печи — изба полна дыма, хоть на мороз беги.
Кулик беспрепятственно зачерпнул кружкой. Зоя выпила ее жадно, ни разу не оторвавшись. И вторую тоже.
Солдаты между тем разглядывали пленницу, отпуская шуточки насчет ее достоинств, и гоготали, радуясь: не часто бывает такое, чтобы среди ночи приводили женщину-партизанку. Неожиданное развлечение.
Один щипал ее сильными пальцами, щипал с оттяжкой, закручивая кожу. Другой толкал кулаком. Нашелся «сообразительный» — сходил за хозяйской пилой, предложил: «Распилим!» Но это было уже слишком. Карл Бауэрлейн сказал: партизанку приказано охранять. А переводчик воспользовался обстановкой, опять полез со своими вопросами: откуда она? Где товарищи? Но девушка даже не глянула в его сторону.
Переводчик плюнул и отправился к себе на квартиру. А солдат все же провел ржавой пилой по спине пленницы, оставив длинную, налившуюся кровью, полоску. Девушка застонала.
Бауэрлейну жаль было ее, но он предпочитал не вмешиваться, не связываться с молодыми солдатами. Человек среднего поколения, он побаивался этих взрощенных фюрером щенков, воспитанных на особый манер. С детства им давали лишь одно направление: служи фюреру, великой Германии, национал-социализму, сражайся за это — больше от тебя ничего не требуется. Ты представитель высшей расы, ты предан фюреру и партии — все остальное не имеет значения. Эти юнцы были страшны тем, что не знали, не понимали основных человеческих истин: доброй честности, щедрости, заботливости. Вместо этого в них развивали бездумную жестокость.
Немцы, наконец, легли спать. Лишь часовой топтался у порога, поглядывая на партизанку, что-то соображал. Это был рослый рыжий солдат со смазливым лицом и характером иезуита. Кольнув девушку штыком, часовой поднял ее и вывел на улицу.
Их не было долго. Минут пятнадцать. Карл Бауэрлейн тоже вышел во двор. Мороз был настолько крепок, что сразу прихватил уши. Потирая их, унтер-офицер огляделся. По тропинке приближались двое. Девушка в нижнем белье, почти невидимая на фоне снега. Как привидение. И черный солдат в шинели, русской шапке и русских валенках, с винтовкой наперевес. Под валенками солдата скрипел снег. Девушка ступала бесшумно, покачиваясь на тонких негнущихся ногах. Когда она замедляла шаги, штык упирался в ее спину.
— Es ist kalt,[8] — пожаловался солдат. — Sehr kalt.[9]
И первым вошел в теплые сени.
Этот негодяй уводил потом девушку еще несколько раз и на такой же срок. Согреется в доме и снова гонит ее на мороз. Как она закоченела, наверно! Какие же у нее ступни? Бауэрлейн напомнил новому, заступившему на пост часовому, что утром предстоит казнь, партизанка должна отдохнуть: не на руках же нести ее к виселице при всем народе.
Новый часовой был не из оголтелых молодчиков. Он понял Бауэрлейна. Разрешил девушке напиться и лечь на лавку возле стены. Жена Василия Кулика накрыла ее стареньким полушубком.[10]
Боли и холода она почти не чувствовала, все в ней онемело, одеревенело. Только очень хотелось пить, непрерывно хотелось пить, будто у нее горело внутри. Еще жгло ноги. Ступни были обморожены, она не ощущала ими ни пола, ни снега: очень трудно было ходить, сохраняя равновесие. Когда не двигалась, становилось легче. Зоя как легла, так и старалась не шевелиться, лишь вздрагивала от озноба.
Она очень ослабла. Забытье охватывало ее. И при всем том она помнила, ощущала, что находится среди врагов, отдыхать ей недолго. Горько было, что она бессильна и одинока, что никогда уж больше не увидит маму и брата, своих боевых друзей, но в то же время ее не покидала уверенность — все сделано правильно: свой долг она выполнила. Выдержала сегодня, выдержит и завтра…
Кто-то тряхнул ее за плечи, заставил сесть. Она увидела перед собой тусклые бронзовые пуговицы, серое сукно кителя, солдата с дымящейся сигаретой в углу рта. Солдат выдохнул ей в нос табачный дым. Смеясь, смотрел, как она кашляет. За спиной немца белесо светилось окно, перекрещенное черной рамой. Разгорался день, который не обещал ей ничего, кроме новых мук.
Зоя встала, и такая резкая боль пронзила ее, что замерло сердце и в голове помутилось. Но она не вскрикнула, не застонала, не доставила радости палачам.
Прасковья Кулик помогла ей умыться. Спросила негромко:
— Прошлый раз ты подожгла?
— Я. Немцы сгорели?
— Нет.
— Жаль.
— Сказывают, оружие сгорело.
— Ну и хорошо.
В избу вошли несколько офицеров с переводчиком. Подполковника Рюдерера среди них не было. Старший по званию разложил на столе бумаги.
— Назови свою фамилию, — предложил переводчик. — Иначе уйдешь на тот свет безымянной, старухи не будут знать, за кого молиться, — сострил он.
Зоя промолчала.
С улицы доносился стук топора.
— Слышишь? Виселица почти готова. Но ты еще можешь сохранить жизнь. Кто тебя послал? Сколько вас? Где база? Ответишь — отправим в лагерь до конца войны. Это обещал командир полка.
Зоя отвернулась к окну.
Переводчик лениво, сам сознавая бесполезность побоев, ударил ее. Показалось мало. Резким толчком сбил девушку на пол.
Офицер за столом недовольно произнес что-то. Зою подняли. Солдат с багровой рожей поддерживал ее. Офицер принялся читать вслух по бумажке и читал долго. Переводчик говорил торопливо, комкая слова. Зоя поняла только, что ее будут казнить как поджигательницу и партизанку.
Офицер сложил бумаги и ушел. Минут через десять в избу явились двое немцев, которых Зоя еще не видела. Один упитанный, улыбающийся, из-под его пилотки спускались на уши теплые клапаны. По сравнению с ним другой фашист выглядел дегенератом. Над плотным квадратным туловищем — непропорционально маленькая голова. Острый нос, как клюв, шинель без ремня, висит словно балахон, брюки навыпуск, ботинки. Этот и был, вероятно, главным палачом. Он делал все быстро и с явным удовольствием. Бросил Зое вещевой мешок, отобранный вчера. Жестом показал: одевайся.
В мешке сохранились два кусочка сахара и соль, взятые в партизанской землянке. Не понадобилось это фашистам. Но не было ни сапог, ни куртки, ни фуфайки, ни подшлемника, ни шапки. Успели поделить. Оставили Зое лишь кофточку, чулки и ватные брюки.
Натянуть чулки на распухшие ноги сама не сумела. Помогла Прасковья Кулик. Стоя перед девушкой на коленях, всхлипывая, она осторожно прикасалась к обмороженной, содранной во многих местах коже.
Солдаты покрикивали, торопили. На грудь Зое повесили доску с надписью на двух языках — «Поджигатель домов».
По деревне ее вели двое: дегенерат и напарник. Держали за локти, но Зоя резким движением оттолкнула солдат, пошла сама, стараясь шагать уверенней, тверже.
Из домов выбегали немцы. С оживленным говором валили сзади гурьбой.
Виселицу фашисты изготовили прочную. Свежеоструганная, она, как большая буква Г, высилась над толпой, над шапками и бабьими платками, над головами солдат и даже над кавалеристами, восседавшими на конях. Кавалеристы были одеты тепло, они прибыли сюда оцепить место казни. А многие пехотинцы выскочили поглазеть налегке, без шинелей. Теперь они мерзли, потому что казнь затягивалась. Появился лейтенант с «кодаком», принялся фотографировать. Подолгу «целился», искал выразительные позы.[11]
Девушку между тем подняли на ящики, палач накинул на шею петлю. Зоя, казалось, не заметила этого, взгляд ее был устремлен на людей, она видела не только любопытствующие, ухмыляющиеся ролей солдат, но и суровые лица крестьян, скорбные, — плачущих женщин. Не о себе — о них побеспокоилась она в эту минуту и крикнула неожиданно звонким и ясным голосом:
— Эй, товарищи, чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь с фашистами, жгите, травите их! Не страшно умирать мне! Это счастье — умереть за народ!
Палач замахнулся, хотел ударить, но побоялся, что она упадет с ящиков и задохнется преждевременно, до команды. Лейтенант продолжал фотографировать, а Зоя, держась рукой за веревку, говорила со своей жуткой трибуны, обращаясь к немецким солдатам:
— Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете. Нас двести миллионов! За меня вам наши товарищи отомстят! Пока не поздно, сдавайтесь в плен! Советский Союз непобедим и не будет побежден!
— Aber doch schneller![12] — скомандовал с коня какой-то начальник, но фотограф еще не кончил снимать, и палачи не знали, что делать. А Зоя продолжала говорить, подчиняя внимание собравшихся:
— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь…
Палач ударил по ящику.
Если бы смогла Зоя хотя бы на одно мгновение охватить взглядом, что происходило в тот день под Москвой, вблизи и вдали, ей, наверно, стало бы вдвойне тяжелей и горше, потому что совсем неподалеку, за лесом, увидела бы она золотоволосую подругу свою Веру Волошину, тоже с петлей на шее. Немцы там решили не утруждать себя сооружением виселицы, приспособили вместо нее деревянную арку у въезда в совхоз «Головково». Раненую Веру, не державшуюся на ногах, привезли в кузове грузовика. Задний борт был открыт.
В то самое время, когда палач выбил ящик из-под ног Зои, грузовик тронулся с места, а Вера осталась под аркой…
Но Зое стало бы не только горше. С радостью заметила бы она, что линия фронта проходит все там же, по реке Наре. Обратила бы внимание на длинные колонны советских войск, двигавшихся на помощь тем, кто отражал натиск фашистских дивизий. Взор ее приковала бы картина сражения, развернувшегося возле города Каширы. Грохотала там советская артиллерия, полосовали хмурое небо реактивные снаряды, горели вражеские танки, попавшие под удар «катюш». Краснозвездные самолеты пикировали на скопления автомашин. От дорог, подальше от взрывов бомб, бежали немецкие солдаты, падали замертво. Вслед за огневым валом двигались вперед цепи советских воинов, тесня противника, вышибая гитлеровцев из траншей и окопов, из блиндажей и подвалов.
В тот день, в день смерти Зои, бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса отбросили фашистов на четыре километра от Каширы. Всего на четыре. Но это были первые необратимые километры на том многотрудном пути, который предстояло преодолеть от Подмосковья до гитлеровской столицы.
Может, сумела Зоя увидеть все это, и не исказилось чело ее гримасой боли, и ушла она со строгим спокойным лицом!
Так, трагической осенью сорок первого года, начиналась победная весна сорок пятого.
ЭПИЛОГ
Борис Крайнов ждал трое суток, надеясь, что кто-нибудь из разведчиков возвратится в лагерь. Не осталось никаких продуктов. Последние сухари и крошки шоколада отдали Проворову, чтобы скорее окреп после болезни. Остальным — несколько мороженых картофелин в день: их удалось выкопать на неубранном огороде под носом у немцев.
Не пришла Зоя. Не возвратились Клава Милорадова и Лида Булгина. Не давала знать о себе Волошина.
Пора было уходить.
В лагере оставили на всякий случай котелок, сухие дрова для костра. В сумерках Борис построил людей, объяснил задачу. Изменив всегдашнему правилу, командир поставил на этот раз направляющим Павла Проворова. Он хорошо знал дорогу. А главное, темп в пути должен был задавать самый слабый. Борис же мог оказать помощь тому, кто начнет отставать, вот и пошел последним.
Короткая цепочка — шесть человек — углубилась в ночной лес.
Саперы 32-й дивизии Павлов и Карганов из числа тех, кто две недели назад переправлял через фронт отряд разведчиков, получили в самом конце ноября особое задание. Они дежурили возле электрофугасов, заложенных на шоссе Наро-Фоминск — Кубинка, на подступах к деревне Акулово, близ южного края обширной акуловской поляны. Приказано было сидеть, ждать. Появятся фашистские танки и машины — пропустить разведку и взорвать малый трехсоткилограммовый заряд. На шоссе возникнет пробка, вот тут-то и дать ток на главный, в полтонны, фугас.
Но, может, фашисты и не появятся, не прорвутся через передний край. Однако командир особо предупредил: никакие «может» не в счет. Следить за дорогой круглые сутки, чтобы не прозевать врага. Один отдыхает, другой смотрит. На третий день сквозь дальние выстрелы и разрывы стало слышно: гудит что-то в лесу. Все ближе и громче.
— Смотри! — толкнул Карганова приятель. — Идут!
Шесть черных танков осторожно выползли из-за поворота. Двигались медленно, будто прощупывали гусеницами дорогу. Люк головной машины был откинут. Офицер, высунувшись до пояса, разглядывал окрестности в большой бинокль.
Гул моторов усиливался. Из леса появилась голова колонны. Густо, с малыми интервалами, шли по шоссе танки, бронетранспортеры, грузовики с пехотой. Такая силища катилась на Акулово — не удержать!
Павлов сбросил рукавицы, по-плотницки плюнул на ладони, осторожно включил в аппарат провода малого фугаса. Побледневший Карганов вертел головой и кивал — торопил товарища: давай, мол, давай!
Малый фугас взорвался под первым танком, поставив его на дыбы. Офицер, выброшенный взрывом, далеко отлетел в сторону, как кукла с тряпичными болтающимися руками и ногами.
Второй танк, сунувшись носом в воронку, беспомощно задрал корму, над которой, густея, заклубился дым. Но саперы больше не смотрели туда. Они наблюдали за колонной. Головные танки и грузовики остановились, на них, замедляя ход, напирали другие: тормозили, сворачивали, застывали впритык. Колонна сжалась, будто пружина, как раз над тем местом, где лежали пятьсот килограммов взрывчатки.
— Чего ты! Давай! — не выдержал Карганов. Взрыв страшной силы потряс округу. Воздушная волна пригнула деревья. От зияющей ямы — воронки бежали в разные стороны вражеские солдаты.
Карганов сунул в ухо указательный палец — оглушило. У Павлова струилась из носа кровь.
Захватив аппаратуру, саперы через кустарник поспешили к лесу. Под прикрытием деревьев остановились, передохнуть. Раздвинув кусты, на прогалину вышел светловолосый парень. Чуть сзади — рослая девушка с наганом в руке. Лица темные, обмороженные. Щеки ввалились. Шинели прожженные, закопченные, изодранные в клочья. На ногах опорки, связанные бечевкой и проволокой. Но оружие держали крепко. Взгляд у парня проницательно-жесткий.
— Свои мы, — хрипло произнес он. — Проводите к командиру.
Павлов колебался. Откуда они вывалились, эти голодранцы? Как раз приведешь к штабу дивизии диверсантов переодетых! Вон и еще шевелятся в кустах. Сколько их там?
— Хлопцы, — ахнул рядом Карганов. — Да никак вы? Федька, не узнаешь? Мы же их с капитаном через болото вели!
Немногим из разведчиков, близко знавшим Зою, довелось дожить до конца войны. Это Клавдия Александровна Милорадова, Лидия Александровна Булгина, Наталья Трофимовна Самойлович, Наталья Михайловна Обуховская, Александра Федоровна Воронина, Валентина Федоровна Зоричева…
Не пройдет и двух месяцев после смерти Зои, еще и очерк Лидова не появится в «Правде», как сложит свою голову отчаянный, неунывающий парень — Павел Проворов. В сильный мороз группа разведчиков двигалась на лыжах к селению Пустой Вторник, что в Кармановском районе Смоленской области. И вдруг — засада! Место открытое — верная гибель! И тогда Проворов, на виду у немцев, поднялся и пошел в сторону, отвлекая на себя внимание и огонь гитлеровцев. Группа смогла отползти, оторваться от врага, укрыться в лесу. Не смог только Павел Проворов.
Долго воевал в немецких тылах Борис Крайнов. Возглавлял специальную разведывательную группу, которая действовала в глубоком тылу противника в районе Полоцк — Витебск — Невель. Трудно понять, каким образом Борис оказался в обычной воинской части.
Но факт остается фактом: командир отделения 2-го гвардейского воздушно-десантного полка Борис Крайнов погиб 5 марта 1943 года в бою за деревню Кошельки и погребен неподалеку, в селе Ефремово Новгородской области. На могиле небольшой памятник с надписью: «Здесь похоронен Б. Крайнов — командир партизанского отряда, под руководством которого сражалась Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская».
Вскоре после освобождения Можайска погиб в бою замечательный командир 32-й стрелковой дивизии полковник Виктор Иванович Полосухин.
На третьем этаже 201-й школы, в 10-м «А» классе, где должна была учиться Зоя, собрались после уроков ее друзья. Вокруг второй парты в среднем ряду, где несколько лет сидела она. Пришли Володя Титов и Коля Неделько, оба строгие и подтянутые, прямо хоть сейчас в армию, в строй. Пришел Юра Браудо, хороший музыкант, игравший на пианино и на скрипке. И самый юный среди них, сын учительницы Зои — Володя Юрьев, к которому она почему-то относилась с особым уважением и симпатией.
Февральский день близился к концу, начинало темнеть. Шура Космодемьянский, за последнее время очень повзрослевший, выглядевший старше своих шестнадцати лет, развернул газету. То, что было написано в ней о Зое, все знали почти наизусть. Но слова, которые произнес Шура, прозвучали совсем по-новому:
— Ребята, это ведь она о нас думала, когда сказала фашистам: вам отомстят за меня! Это она к нам обращалась! Как же мы теперь, а?
Ответили ему не сразу. Первым — Юра Браудо:
— Не только к нам, наверно. Ко многим. Но к нам, конечно, в первую очередь.
— Давайте вместе махнем на фронт, — загорячился Володя Юрьев. — Создадим свой отряд или взвод в армии под названием «Мстители за Зою». Шура будет командиром, верно?
— Фантазируешь, — произнес рассудительный Коля Неделько.
— А что же делать?
— К военным начальникам надо идти, вот что.
Прежде чем отправляться к начальникам, они все же посоветовались со своей учительницей, с Верой Сергеевной Новоселовой. Она в принципе одобрила такую идею: да, это правильно. Мстить за Зою всем вместе! Но лучше немного подождать. Близок конец учебного года, надо завершить образование. Знающие люди на войне нужны не меньше, чем в мирное время.
Учительницу свою ребята любили, мнение ее было веским, и все-таки на этот раз Веру Сергеевну не послушались. Пятеро друзей отправились в военкомат, попросили, чтобы их направили в танковые войска, чтобы они сражались вместе, плечом к плечу… Долго разговаривал с ними военком. Случай, конечно, особенный, но помочь он ничем не мог. Танковые экипажи здесь не формируются. И вообще: даже взять ребят на воинскую службу нельзя, они не достигли призывного возраста. Может, в Наркомате обороны найдут какой-нибудь выход?!
А в Наркомате им сказали почти то же самое, что говорила Вера Сергеевна. Заканчивайте школу, если сумете — сдавайте экзамены досрочно. Мы вас направим в танковое училище. Станете командирами. В одном танке воевать, конечно, не будете, но в одной части, в одном соединении — вполне возможно.
В мае 1942 года друзья прибыли в Ульяновск, надели военную форму. Предстояло в короткий срок получить знания, на освоение которых в мирное время требовалось несколько лет. Да и этот короткий срок для ребят был урезан, ведь они приехали в училище, когда занятия на их курсе уже шли полным ходом.
Учились друзья упорно, старательно. Это подтвердилось на госэкзаменах. Шура все предметы сдал на отлично. Ему даже предложили остаться в Ульяновске командиром учебного подразделения. Но он добился, чтобы отправили на фронт. Командиром учебного подразделения назначили другого отличника — Николая Неделько. А четверо друзей стали командирами тяжелых танков КВ.
По дороге на фронт Шура завернул в Москву: его отпустили на сутки. Он, пока не был дома, подрос, еще больше раздался в плечах: этакий синеглазый, круглощекий великан — Любовь Тимофеевна не могла на него насмотреться. А уехал Шура — и ни на час, ни на минуту не отпускали материнское сердце тоска и тревога. Где он теперь, что с ним? С надеждой и со страхом подходила каждый раз к почтовому ящику. Писем поступало много, со всех концов страны, из воинских частей, из-за границы. Люди сочувствовали, выражали свое восхищение подвигом Зои, клялись рассчитаться за нее с ненавистными гитлеровцами. Конечно, важна была для Любови Тимофеевна такая поддержка, но прежде всего она искала среди писем одно, долгожданное. А находила редко. Шуре, наверное, некогда было писать.
И вот — новая острая боль. Раскрыв 24 октября 1943 года газету, Любовь Тимофеевна увидела пять фотографий, найденных у немецкого офицера, убитого возле Смоленска. Зоя в последние минуты жизни. И палачи, казнившие ее.
Любовь Тимофеевна не выдержала, слегла. И, как знать, может, не поднялась бы после такого потрясения, да еще не имея известий от Шуры, если бы не новое газетное сообщение:
«Действующая армия. 27 октября (по телеграфу). Части энского соединения добивают в ожесточенных боях остатки 197-й немецкой пехотной дивизии, офицеры и солдаты которой в ноябре 1941 года в деревне Петрищево замучили и убили отважную партизанку Зою Космодемьянскую. Опубликованные в «Правде» пять немецких фотоснимков расправы над Зоей вызвали новую волну гнева у наших бойцов и офицеров. Здесь отважно сражается и мстит за сестру брат Зои, комсомолец-танкист, гвардии лейтенант Космодемьянский. В последнем бою экипаж танка КВ под командованием тов. Космодемьянского первым ворвался во вражескую оборону, расстреливая и давя гусеницами гитлеровцев. Майор Г. Вершинин».
Шура был жив, он уничтожал тех фашистов, которые казнили Зою! И Любовь Тимофеевна тоже должна была жить, продолжая дело, за которое погибла ее дочь, которое защищал в великом сражении ее сын!
В феврале 1945 года в полк, в котором служил старший лейтенант Космодемьянский, поступили с Урала новые машины СУ-152 (самоходные артиллерийские установки с мощными стопятидесятидвухмиллиметровыми орудиями). Эти установки, смонтированные на ходовой части танков КВ, называли «тяжелыми дредноутами». Механиком-водителем на свою машину Александр взял усатого немолодого сибиряка Подрезова, бывалого танкиста, который водил броневые машины с середины тридцатых годов, досконально знал технику и охотно, по-отцовски, заботился о быте своих молодых товарищей. В общем, экипаж подобрался умелый, надежный. Во многих боях отличились потом самоходчики. Скажу хотя бы об одном эпизоде, который упоминался в документах, когда Александра Космодемьянского представляли к званию Героя Советского Союза.
350-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский полк, входивший в состав 43-й армии, двигался на Кенигсберг. Впереди — довольно широкий канал Ланд-Грабен. Под сильным огнем противника саперы наводили бревенчатый мост. Торопливо, на скорую руку. Мертвые падали в воду, живые продолжали работать. Невыносимо было видеть эту картину. А самоходчики не могли помочь, не видели целей. Надо было переправиться на тот берег.
— Кто пойдет первым? — спросил командир полка.
— Разрешите мне, — шагнул вперед Космодемьянский. И хотя вызвались еще несколько офицеров, начать переправу было приказано Александру. Как-то само собой сложилось мнение, что быть первым — неотъемлемая привилегия брата погибшей героини. Хотя нет ему и двадцати лет, но командир он бывалый, опытный, везучий. Три машины были «выбиты» под ним, горел в танке, несколько раз был ранен, а вот жив, здоров, воюет расчетливо и смело.
Самоходка медленно вползла на мост. Затрещали бревна. Метр, еще метр. Подрезов с ювелирной точностью вел машину по узкой — на ширину гусениц — колее. Важно не дрогнуть под огнем, не «вильнуть» в сторону. Все ближе противоположный берег. Но сваи не выдерживали, мост рухнул. Машина осела кормой в воду.
Командир полка понял, что здесь форсирование может затянуться надолго, и повел колонну самоходных установок дальше, искать переправу в другом месте. Экипаж Космодемьянского остался с группой саперов и небольшим подразделением пехоты, удерживавшим плацдарм. Пока экипаж вытаскивал на сушу с помощью тросов засевшую машину, Александр прошел вперед, намечая путь для своей установки, чтобы не «утонула» в болотистой низине возле канала.
Старший лейтенант редко оставался под защитой брони самоходки. Из машины плохо видно, а бить противника надо наверняка. Мощный снаряд СУ-152 слишком дорого стоит, чтобы бросать попусту. Вот и на этот раз Александр поднялся на холм, определил, откуда ведут огонь немецкие пушки, стоявшие на закрытых позициях. Три находились вместе — батарея. И еще две — в стороне. Значит, пять стволов против одного. Есть над чем подумать.
Шагая перед самоходкой, осторожно провел Космодемьянский машину под прикрытием дамбы к намеченному месту. Забрался в люк. Теперь все зависело от мастерства и слаженности экипажа. Надо развернуться, стремительно выскочить на возвышенность и первыми, пока не засекли фашисты, нанести точный удар.
Самоходка сделала рывок. Резко затормозив, замерла.
— За Зою! — он всегда так начинал боевую команду. — Огонь!
Машина вздрогнула, лязгнул орудийный замок, выбросив дымящуюся гильзу. Заряжающий подал со стеллажа другой снаряд.
— За Зою!
На вражеской батарее взметнулся огромный столб пламени и дыма — взорвался склад боеприпасов. Там все было кончено. Механик Подрезов подал машину назад, в укрытие.
Огонь противника сразу ослаб. Саперы снова принялись возводить мост. А старший лейтенант Космодемьянский, оставив самоходку, подобрался ближе к немецким позициям, отмечая на карте, где у врага минометы, пулеметные точки, доты, чтобы ни один снаряд не пролетел мимо цели.
Лишь через трое суток, когда канал был форсирован советскими войсками, самоходная установка Космодемьянского догнала свой полк.
Он мечтал увидеться с мамой в Москве. Из Восточной Пруссии сообщил ей: «Дожди, дожди. Вода в море холодная, серая, так и веет ненастьем. Мрачно, холодно тут. Береги себя, береги свое здоровье и почаще пиши. За меня не беспокойся. Целую тебя. Твой единственный сын Александр».
Это письмо было отправлено 1 апреля 1945 года. Еще никто не знал, разумеется, сколько продлится война, но советские дивизии уже вступили в пригороды Берлина. У матерей, у жен, у детей крепла надежда дождаться своих…
Как обычно утром Любовь Тимофеевна достала из ящика почту. Сразу бросился в глаза конверт: хорошо знакомый номер воинской части, но адрес написан не рукой Шуры… Она поняла: это как раз то, чего боялась больше всего.
«14 апреля 1945.
Дорогая Любовь Тимофеевна!
Тяжело Вам писать, но я прошу: наберитесь мужества и стойкости. Ваш сын гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский погиб смертью героя в борьбе с немецкими захватчиками. Он отдал свою молодую жизнь во имя свободы и независимости нашей Родины.
Скажу одно: Ваш сын — герой, и Вы можете гордиться им. Он честно защищал Родину, был достойным братом своей сестры…
8 апреля он со своей установкой первым ворвался в укрепленный форт Кениген Луизен, где было взято 350 пленных, 9 исправных танков, 200 автомашин и склад с горючим. В ходе боев Александр Космодемьянский вырос из командира установки в командира батареи. Несмотря на свою молодость, он успешно командовал батареей и образцово выполнял все боевые задания.
Он погиб вчера в боях за населенный пункт Фирбруденкруг, западнее Кенигсберга. Населенный пункт был уже в наших руках. В числе первых Ваш сын ворвался и в этот населенный пункт, истребил до 40 гитлеровцев и раздавил 4 противотанковых орудия. Разорвавшийся вражеский снаряд навсегда оборвал жизнь дорогого и для нас Александра Анатольевича Космодемьянского.
Война и смерть — неотделимы, но тем тяжелее переносить каждую смерть накануне нашей Победы. Крепко жму руку. Будьте мужественной. Искренно уважающий и понимающий Вас
гвардии подполковник Легеза».30 апреля врачи, помогавшие Любови Тимофеевне оправиться после такого удара, разрешили ей вылететь в Кенигсберг. Там, у гроба сына, осененного гвардейским знаменем, увидела Любовь Тимофеевна молодого офицера, лицо которого показалось ей очень знакомым.
— Володя Титов, — негромко напомнил он. — А это вот экипаж моего тяжелого танка. Мы идем дальше. И Зоя всегда с нами!
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
1923, 13 сентября — Родилась в селе Осиновые Гаи Тамбовской области.
1929 — Семья Космодемьянских переехала в село Шнткино Красноярского края.
1930 — Космодемьянские переехали в Москву.
1931, сентябрь — Зоя и Шура Космодемьянские пошли в школу.
1938, октябрь — Зоя принята в ряды ВЛКСМ.
1941, июнь — Зоя окончила девятый класс 201-й средней школы г. Москвы.
1941, 31 октября — Комсомолка-доброволец Зоя Космодемьянская зачислена в воинскую часть 9903.
1941, 4–8 ноября — Первый поход в тыл немецко-фашистских войск в районе г. Волоколамска.
1941, 3-я декада ноября — Поход по тылам немецко-фашистских войск на Можайском направлении.
1941, 29 ноября — Гибель Зои в деревне Петрищево Московской области.
1942, 16 февраля — За отвагу и геройство, проявленные в борьбе против немецких захватчиков, Зое Анатольевне Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза.
1942, май — Прах Зои перенесен на Новодевичье кладбище г. Москвы. В мае 1945 года туда же доставлен прах се брата Александра. Там же погребена их мать — Любовь Тимофеевна Космодемьянская.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Лидов П. А. «Таня». — «Правда», 1942, 27 января; «Кто была Таня». — «Правда», 1942, 18 февраля.
Лидов П. А. «Таня». М., «Молодая гвардия», 1942.
Народная героиня. Сборник материалов. М., «Молодая гвардия», 1943.
Космодемьянская Л. Т. Повесть о Зое и Шуре. М., Дет-гиз, 1950.
Космодемьянская Л. Т. Зоя. М., Детгиз, 1955.
Аргутинская Л. А. Татьяна Соломаха. М., «Правда», 1958.
Вахрушев А. М. На Можайском направлении. М., Воениздат, 1959.
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. М., Воениздат, 1964.
Карпель Р., Швецов И. Музей в Петрищеве. М., «Московский рабочий», 1976.
Примечания
1
Один бетонный дот-бункер, возле которого тренировались добровольцы, сохранился до сих пор в лесу между станцией Жаворонки и новой окраиной Москвы, возле Кольцевой автодороги.
(обратно)2
Правнук поэта Г. Г. Пушкин после выполнения задания в тылу врага был назначен командиром одного из партизанских отрядов в районе Волоколамска.
(обратно)3
Старший лейтенант Клейменов был впоследствии членом комиссии по расследованию гибели Зои Космодемьянской.
(обратно)4
Где? Сколько?
(обратно)5
Стой!
(обратно)6
Женщина!
(обратно)7
Вина С. А. Свиридова, тесно сотрудничавшего с фашистскими оккупантами, была полностью доказана на суде. Согласно приговору, его расстреляли в 1943 году.
(обратно)8
Холодно.
(обратно)9
Очень холодно.
(обратно)10
Через некоторое время унтер-офицер Бауэрлейн был пленен советскими воинами. Он дал подробные показания, в которых писал: «Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство… Ока посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего…» От этого унтер-офицера впервые стала известна точная дата казни Зои Космодемьянской, подтвержденная в дальнейшем показаниями других пленных, захваченными у врага документами.
(обратно)11
Из письма, которое прислал автору в 1986 году ветеран войны А. В. Томм, проживающий в городе Сарань Карагандинской области.
«…Кроме Бауэрлейна, в конце войны в плен был взят еще один участник казни Зои Космодемьянской — Теодор Пельцер. Он содержался в лагере № 99 МВД СССР, где и давал показания. Это как раз тот лейтенант, который фотографировал «кодаком». Я тогда был переводчиком при допросе этого пленного…
Бауэрлейн не смог вспомнить фамилию солдата, который издевался над Зоей, гонял ее босиком по морозу. Как говорил Пельцер, фамилия этого рыжего немца была Мейер, по профессии мясник, до войны работал на мясокомбинате, на бойне, всю жизнь только тем и занимался, что убивал».
(обратно)12
Поскорее!
(обратно)



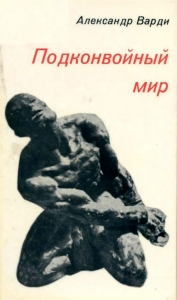

Комментарии к книге «Зоя Космодемьянская», Владимир Дмитриевич Успенский
Всего 0 комментариев