Хрущев Никита Сергеевич Время, Люди, Власть (ВОСПОМИНАНИЯ) Книга 1 ЧАСТЬ II ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
ТЯЖЕЛОЕ ЛЕТО 1941 ГОДА
Итак, мы приблизились вплотную к войне. То есть не мы шли к ней, а она на нас надвигалась. Мы говорили об этом и делали все для того, чтобы враг нас не застал врасплох; чтобы наша армия была на надлежащем высоком уровне по организации, вооружению и боеспособности; чтобы наша промышленность имела соответствующий уровень развития, который обеспечивал бы удовлетворение всех нужд армии по ее вооружению и боевой технике, если будет начата война, если на нас нападут враги. И вот война неумолимо надвинулась на нас. Что делалось в армии, конкретно сказать сейчас не могу, потому что не знаю. Не знаю, кто из членов Политбюро знал конкретную обстановку, знал о состоянии нашей армии, ее вооружения и военной промышленности.
Думаю, что этого, видимо, никто не знал, кроме Сталина. Или знал очень ограниченный круг людей, да и то не все вопросы, а те, которые касались их ведомства или ведомства, подшефного тому либо другому члену Политбюро. Перемещение кадров, которое имело большое значение для подготовки к войне, тоже осуществлялось Сталиным. На кадрах "сидел" Щаденко[1], человек, известный своим характером. Злобный у него был характер в отношении к людям. Потом на кадрах "сидел" Голиков[2], оттуда он перешел в разведку. Сейчас точно не могу припомнить, но он тоже был приближен к Сталину и занимался этими вопросами.
Очень сильное влияние на Сталина имел Мехлис, но главным образом в вопросах политработы. Он был начальником Главного политуправления РККА, однако часто выходил за рамки своих функций, потому что своим пробивным характером очень нравился Сталину. Он много давал советов Сталину, и Сталин считался с ним. Видимо, это было не на пользу армии. Незадолго до Великой Отечественной войны Тимошенко покинул Киевский Особый военный округ и стал наркомом обороны. Меня беспокоило, чтобы с уходом Тимошенко не ослабла военная работа.
Я очень высоко оценивал деятельность Тимошенко как командующего войсками КОВО. Он человек волевой и пользовался авторитетом среди военных, имел твердый характер, который необходим каждому руководителю, особенно военному. Авторитет у него был большой: герой Гражданской войны, командир одной из дивизий[3] Первой Конной армии, - и прочная слава, и заслуженная. После Тимошенко в КОВО пришел Жуков[4]. Я был доволен, даже очень доволен Жуковым. Он радовал меня своей распорядительностью и своим умением решать вопросы. Это меня успокаивало: хороший командующий, как мне казалось. Война подтвердила, что он действительно хороший командующий. Я так и считаю, несмотря на резкие расхождения с ним в последующий период, когда он стал министром обороны СССР, к каковому его назначению я приложил все усилия и старания. Но он неправильно понял свою роль, и мы вынуждены были освободить его с поста министра и осудили его замыслы, которые он, безусловно, имел и которые мы пресекли. Однако как военного руководителя во время войны я его очень высоко оценивал и сейчас ни в коей степени не отказываюсь от этих оценок. Я говорил об этом Сталину и во время войны, и после войны, когда Сталин уже изменил свое отношение к Жукову и Жуков был в опале.
Итак, у нас на Украине в 1940 г. командовал войсками Киевского Особого военного округа Жуков. В начале 1941 г. Жукова переместили, назначив начальником Генерального штаба, а нам прислали Кирпоноса. Генерала Кирпоноса я совершенно не знал до его назначения к нам. Когда он прибыл и принял дела, я с ним, конечно, познакомился, потому что был членом Военного совета КОВО. Но я ничего не мог тогда сказать о нем, ни хорошего, ни плохого. До Жукова и до Мерецкова начальником Генерального штаба был Борис Михайлович Шапошников. Это - безусловный авторитет для военных, высокообразованный военный человек, который очень ценился на своем посту. В то время в Генеральном штабе работали также Соколовский и Василевский[5], два способных специалиста. Но тогда среди военных шла молва, что это - бывшие офицеры старой армии, и к ним относились с некоторым недоверием. В то время я лично еще не знал ни Соколовского, ни Василевского и поэтому своего мнения о них не имел, но прислушивался к доброму о них голосу старых бойцов Красной Армии, участников Гражданской войны и относился к ним с доверием. Когда же сам узнал их во время войны, то никакого политического недоверия к этим людям у меня, конечно, уже не было, да и никогда не возникало. Я относился к ним очень хорошо - и к Василевскому, и к Соколовскому.
С Василевским у меня произошел, однако, случай в 1942 г., который не может изгладиться из моей памяти. Это было в связи с операцией, которую мы проводили в начале 1942 г. под Харьковом, у Барвенково[6]. Я дальше отдельно буду говорить об этой операции и там, безусловно, не смогу обойти своего разговора с Василевским. Он произвел на меня тогда очень тяжелое впечатление. Я считал, что катастрофы, которая разыгралась под Барвенково, можно было бы избежать, если бы Василевский занял позицию, какую ему надлежало занять. Он мог занять другую позицию. Но не занял ее и тем самым, считаю, приложил руку к гибели тысяч бойцов Красной Армии в Харьковской операции. Не знаю, как развернул свою новую работу в Наркомате Тимошенко, но думаю, что она была организована лучше, чем до него. Я не говорю о том, насколько глубоко Ворошилов знал военную работу и военное дело. Но шла слава о нем как о человеке, который больше позировал перед фотообъективами, киноаппаратами и в мастерской художника Герасимова[7], чем занимался вопросами войны. Зато он много занимался оперным театром и работниками театрального искусства, особенно оперного, завоевал славу знатока оперы и давал безапелляционные характеристики той или другой певице. Об этом говорила даже его жена.
Как-то в моем присутствии зашла речь о какой-то артистке. Она так вот, не поднимая глаз, и говорит: "Климент Ефремович не особенно высокого мнения об этой певице". Это считалось уже исчерпывающим заключением. Какие к тому имелись у него данные и почему появились такие претензии, трудно объяснить. Правда, Климент Ефремович любил петь и до последних своих дней, когда я с ним еще встречался, всегда пел, хотя уже плохо слышал. Пел он хорошо. Он рассказывал мне, что прошел школу певчего: как и Сталин, в свое время пел в церковном хоре. Перед самой Великой Отечественной войной, за 3 - 4 дня до ее начала, я находился в Москве и задержался там, буквально томился, но ничего не мог поделать. Сталин все время предлагал мне: "Да останьтесь еще, что вы рветесь? Побудьте здесь". Но я не видел смысла в пребывании в Москве: ничего нового я от Сталина уже не слышал. А потом опять обеды и ужины питейные... Они просто были мне уже противны. Однако я ничего не мог поделать.
Конечно, я не знал, что начнется война 22 июня, но в воздухе уже чувствовался треск разрядов предвоенного напряжения. Я понимал, что вот-вот начнется война. Я не знал, что докладывала разведка, потому что Сталин никогда не говорил о результатах ее работы. Вообще никаких заседаний на этот счет, никаких обсуждений готовности страны к войне не было. Это тоже было большим недостатком и, я бы сказал, большим злоупотреблением со стороны Сталина: он брал все на свои плечи и все решал сам. А решал он, как показало начало войны, плохо. Я видел, что делать мне в Москве нечего, а Сталин меня не отпускает потому, что боится одиночества, хочет, чтобы вокруг него было как можно больше людей. Наконец, в пятницу 20 июня я обратился к нему: "Товарищ Сталин, мне надо ехать. Война вот-вот начнется и может застать меня в Москве или в пути". Я обращаю внимание "в пути", а ехать-то из Москвы в Киев одну ночь. Он говорит: "Да, да, верно. Езжайте". Я сейчас же воспользовался согласием Сталина и выехал в Киев. Я выехал в пятницу и в субботу уже был в Киеве. Это говорит о том, что Сталин понимал, что война вот-вот начнется. Поэтому он согласился, чтобы я уехал и был бы на месте, в Киеве в момент начала войны.
Какие же могут быть рассуждения о внезапном нападении? Для кого и во имя чего сейчас создана и укрепляется эта версия? Это нужно только, чтобы оправдать себя. Эти авторы сами несут ответственность. Обстановка у нас была очень нервная, предвоенная. Стояло жаркое лето; парило, как парит перед грозой. Приехал я в Киев утром, как всегда. Сразу же пошел в ЦК КП (б) У, проинформировал работников о положении дел и вечером ушел домой. Вдруг мне в 10 или 11 часов вечера позвонили из штаба КОВО, чтобы я приехал в ЦК, так как есть документ, полученный из Москвы. В сопроводительной к нему сказано, чтобы с этим документом был ознакомлен секретарь ЦК КП (б) У Хрущев. Приехал я опять в ЦК. Туда же пришел не помню точно кто: или начальник штаба КОВО Пуркаев[8], или его заместитель. Мне кажется, что Пуркаев был в то время в Киеве, потому что командующий войсками несколькими днями раньше выехал на командный пункт под Тернополем. Там начали строить командный пункт, и, хотя он был не закончен, пришлось выехать, потому что чувствовалось, что война вот-вот разразится. Там же находились оперативный отдел штаба, начальник оперотдела Баграмян[9] и командующий войсками Кирпонос. Пуркаев (или его заместитель) прочитал документ. В нем говорилось о том, что надо ожидать начала войны буквально днями, а может быть, и часами.
Сейчас точно не помню содержания этого документа, помню только одно - тревожность его содержания и предупреждение. Тогда считалось: все, что нужно сделать, чтобы подготовить войска, уже сделано. Вплоть до того, что командующий выехал с оперативным отделом на командный пункт. Следовательно, мы к войне готовы. Потом позвонили с командного пункта из Тернополя и сообщили, что на нашем направлении перебежал немецкий солдат. Он заявил, что он был коммунистом, да и сейчас считает себя коммунистом; что он антифашист; что он против военной авантюры, которая затевается Гитлером, и предупредил, что завтра в три часа утра начнется наступление немецких войск. Это совпадало со сведениями, которые только что были сообщены нам из Москвы в упомянутом документе. Я не помню только, назывался ли в нем день и час. Видимо, назывался. Одним словом, это была для нас уже не новость, а более реальное, конкретное ее подтверждение. Солдат перебежал с переднего края. Его допрашивали, и все называвшиеся им признаки, на которых он основывался, когда говорил, что завтра в три часа начнется наступление, описывались логично и заслуживали доверия. Во-первых, почему именно завтра? Солдат сказал, что они получили трехдневный сухой паек. А почему именно в три часа? Потому что немцы всегда избирали в таких случаях ранний час. Не помню, говорил ли он, что было сказано солдатам именно о трех часах утра или они узнали это по "солдатскому радио", которое всегда очень точно определяло начало наступления.
Что нам оставалось делать? Командующий был в Тернополе, штаб тоже находился там. Войска были на месте, готовые встретить врага. Из этого мы и исходили. Я не возвращался домой и остался в ЦК ожидать упомянутого часа. И действительно, с рассветом около трех часов утра мы получили сообщение, что немецкие войска открыли артиллерийский огонь и предпринимают наступательные действия с тем, чтобы форсировать пограничную водную преграду[10], и сломить наше сопротивление. Наши войска вступили в бой и дают им отпор. Не помню, в какое время, но было уже светло, когда вдруг из штаба КОВО сообщили, что немецкие самолеты приближаются к Киеву. В скором времени они были уже над Киевом и сбросили бомбы на городской аэродром. Бомбы попали в ангар, начался пожар. В этом ангаре оставались только несколько самолетов У-2. Потом во время войны они использовались как связные, а тогда - как сельскохозяйственные. Боевой авиации на аэродроме не имелось, она вся была подтянута к границе, рассредоточена и замаскирована. Немцы не достигли первым налетом намеченной цели, не смогли вывести из строя наши аэродромы и самолеты, уничтожить их. Наши самолеты и танки целиком нигде не были уничтожены с первого удара.
В КОВО (хотя, может быть, от меня что-нибудь и скрывали; но так докладывали мне тогда, а я верил и сейчас верю, что это была правдивая информация) немцы нигде не смогли использовать полностью внезапность для нанесения удара по авиации, танкам, артиллерии, складам, другой военной технике. Позже нам сообщили, что немецкая авиация бомбила Одессу, Севастополь, еще какие-то южные города. Когда мы получили сведения, что немцы открыли огонь, из Москвы было дано указание не отвечать огнем. Это было странное указание, а объяснялось оно так: возможно, там какая-то диверсия местного командования немецких войск или какая-то провокация, а не выполнение директивы Гитлера. Это говорит о том, что Сталин настолько боялся войны, что сдерживал наши войска, чтобы они не отвечали врагу огнем. Он не верил, что Гитлер начнет войну, хотя сам не раз говорил, что Гитлер, конечно, использует ситуацию, которая у него сложилась на Западе, и может напасть на нас. Это свидетельствует и о том, что Сталин не хотел войны и поэтому уверял себя, что Гитлер сдержит свое слово и не нападет на Советский Союз.
Когда мы сообщили Сталину, что враг уже бомбил Киев, Севастополь и Одессу, что не может быть и речи о локальной провокации немецких военных на каком-то участке, а что это действительно начало войны, то только тогда было сказано: "Да, это война, и военным надо принять соответствующие меры". Да ведь так или иначе, но раз в них стреляют, они вынуждены отвечать. Война началась. Но каких-нибудь заявлений Советского правительства или же лично Сталина пока что не было. Это производило нехорошее впечатление. Потом уже, днем в то воскресенье выступил Молотов. Он объявил, что началась война, что Гитлер напал на Советский Союз. Говорить об этом выступлении сейчас вряд ли нужно, потому что все это уже описано и все могут ознакомиться с событиями по газетам того времени. То, что выступил Молотов, а не Сталин, - почему так получилось? Это тоже заставляло людей задумываться. Сейчас-то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Потом уже, после войны, я узнал, что, когда началась война, Сталин был в Кремле. Это говорили мне Берия и Маленков.
Берия рассказал следующее: когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление: "Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его про....... Буквально так и выразился. "Я, - говорит, - отказываюсь от руководства", и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. "Мы, - рассказывал Берия, - остались. Что же делать дальше? После того как Сталин так себя показал, прошло какое-то время, посовещались мы с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым (хотя был ли там Ворошилов, не знаю, потому что в то время он находился в опале у Сталина из-за провала операции против Финляндии). Посовещались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности, использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я (рассказывает Берия) по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию? Тут мы стали его убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность Организоваться, мобилизовать промышленность и людей, призвать их к борьбе, одним словом, сделать все, чтобы поднять народ против Гитлера.
Сталин тут вроде бы немного пришел в себя. Распределили мы, кто за что возьмется по организации обороны, военной промышленности и прочего". Я не сомневаюсь, что вышесказанное - правда. Конечно, у меня не было возможности спросить Сталина, было ли это именно так. Но у меня не имелось никаких поводов и не верить этому, потому что я видел Сталина как раз перед началом войны. А тут, собственно говоря, лишь продолжение. Он находился в состоянии шока. На участке КОВО в первые дни войны сложилось тяжелое, но отнюдь не катастрофическое положение. Не помню сейчас, на какой, первый или второй, день войны позвонил мне Сталин. Он сказал: "К вам прилетит Жуков, и вам следует вместе с Жуковым выехать к войскам, в штаб". Я ответил: "Хорошо, жду Жукова". Жуков прилетел в тот же или на следующий день. Я, конечно, очень обрадовался. Я знал Жукова и с большим доверием относился к его военному таланту. Я познакомился с ним, когда он был командующим войсками КОВО, и мне импонировало, что он приедет. Когда он прилетел в Киев, мы с ним решали, как нам получше добраться в штаб? Лететь ли на самолете? Железной дорогой - очень медленно, к тому же противник бомбит и разрушает ее. Этот путь вообще отпадал. Или же ехать автомашинами? И тот, и другой вид транспорта был небезопасен. Самолетами мы подлетали буквально к сфере фронтового огня и активного действия авиации противника. Тогда очень много говорили, что вокруг действуют парашютные десанты противника, что он высыпает их, как горох; и перерезает все коммуникации. Была опасность, что мы можем стать жертвой какого-нибудь военного десанта.
А путь был далеким. Из Киева нужно было добираться до Тернополя несколько часов. В это время года пшеница и рожь стоят высокие, противнику на полях легко можно укрыться, поэтому диверсанты и террористы могли, сколько им угодно, использовать заросли. Тем более что нам нужно было от старой границы ехать до Тернополя к районам, которые отошли к нам в 1939 г., после разгрома Польши. Местное население было сильно засорено украинскими националистами, которые сотрудничали с немцами. Мы это уже тогда знали. Но иного выбора не было, поэтому решили ехать автомашиной. Поехали. Много было тревоги, когда мы, проезжая, останавливались и расспрашивали, чтобы получить информацию о положении дел. В конце концов к вечеру приехали на командный пункт. Он находился северо-западнее Тернополя, но близко от него, в какой-то деревушке.
Посмотрел я, что же это за командный пункт? Была выкопана огромная яма и насыпана по ее краям вынутая земля. Больше почти ничего не было сделано. Работники штаба и канцелярия размещались в крестьянских хатах. Командующий войсками КОВО ютился в маленькой крестьянской халупе. Там же стояли средства связи, туда приходили люди и докладывали. Положение тогда на нашем участке фронта было следующим: пока что никакой катастрофы! Если взять направление на Перемышль и южнее, то положение было даже хорошим. Южнее Перемышля противник ничего не предпринимал. Там у нас тянулась граница с венграми, а те пока себя никак не проявляли. На самый Перемышль противник предпринимал довольно упорные атаки, но наши войска (там располагалась 99-я дивизия) дали отпор, выбили противника из тех районов, которые были им заняты в результате начальной атаки, и заняли прочное положение в городе. Об этой дивизии много потом писали, и заслуженно. Она первой из дивизий в войну за свои боевые действия получила орден Красного Знамени, буквально в первые же дни войны.
Не могу умолчать о том, что этой дивизией командовал до самой войны Власов[11], тот, кто потом стал предателем, изменником Родины. Он оказался очень способным командиром. В боевых соревнованиях соединений Красной Армии его дивизия занимала первое место, а уже перед самой войной Власов получил корпус, командовал корпусом, а дивизию сдал своему начальнику штаба[12]. Под его командованием она и проявила свой героизм и вошла в историю войны как самая боевая дивизия. Развернулись упорные бои вдоль шоссе в направлении на Броды. Как теперь известно из документации гитлеровского командования, это было направление главного удара немецких армий группы "Юг". На этом направлении она пробивалась к Киеву. Никак нельзя сказать, что гитлеровцы при первом же соприкосновении разбили там наши войска и обратили их в бегство. Вовсе нет! Наши войска упорно сражались и отбивали многочисленные атаки. Мне очень понравилось, что, когда мы туда приехали, Жуков сразу же принял "на себя" информацию из войск и доклады руководства, стал давать указания. Было приятно смотреть, как умело и со знанием дела все это он осуществлял.
Наше положение мы расценивали тогда даже как хорошее, считали, что можем дать должный отпор немцам. Не помню, сколько пробыл Жуков у нас: день, два или три. Потом был получен звонок из Москвы. Жуков сказал мне, что его вызывает Сталин: "Приказал все оставить и срочно прибыть в Москву". Правильные он нам давал тогда советы. Должен сказать, что в те дни у него вид был бодрый, уверенный. Еще он сказал мне тогда, что командующий войсками у нас слабоват. "Но что делать? Лучших нет. Надо его поддерживать". Я ему тоже откровенно сказал: "Очень жалею, что ты уезжаешь (мы с ним были на "ты"). Сейчас я не знаю, как у нас пойдет дело при таком положении и с таким командованием. Но другого выхода нет". Распрощались, и он уехал.
Вскоре у нас развернулись очень тяжелые события, опять же в районе Броды. Там наступали гитлеровские танковые войска. На этом направлении мы выдвинули помимо тех войск, которые там стояли еще перед войною, механизированный корпус, которым командовал Рябышев[13]. Не помню его номера. Хороший корпус, он имел уже и новые танки KB, несколько штук, и имел также несколько штук танков Т-34. И еще один мехкорпус[14], забыл фамилию командира этого корпуса. В тех боях он был контужен, и я не знаю, какое потом участие он принимал в войне. Это был тоже хорошо себя показавший командир корпуса. Вот эти два мехкорпуса мы выдвинули туда, считая, что их достаточно для того, чтобы сломить наступление противника и преградить путь его дальнейшему продвижению. Мы не знали об истинной концентрации войск противника, не знали, что тут у него было главное направление удара на юге, хотя он наступал здесь несколько меньшими силами, чем в центре фронта на Москву. Это естественно. В Белорусском Особом военном округе и наших войск было больше, чем в Киевском.
Правильно было определено, что главное направление, главная опасность - по дороге через Минск на Москву, хотя Сталин думал иначе. Но и в направлении Киева все-таки немцы сосредоточили много войск. Основное, что инициатива была у них. На этом направлении мы получили резервную армию. Командовал ею Конев[15]. Я его лично не знал, но перед войной однажды встретился с ним в Москве. Конев служил ранее где-то в Сибири. У него сложились плохие отношения с тамошним секретарем обкома партии. Отношения настолько обострились, что Сталин вызвал к себе руководство обкома и Конева и сам разбирался в этом конфликте, возникшем по каким-то бытовым вопросам. Тогда-то я и увидел Конева первый раз в жизни. Прибыл Конев в КОВО, его армия разгрузилась, мы были очень обрадованы, что получили резерв. Эту армию мы сейчас же нацелили в направлении на Броды. Но, как только его армия вошла в соприкосновение с противником, последовал звонок от Сталина: "Немедленно погрузить армию Конева и содействовать скорейшей отправке этих эшелонов в распоряжение Москвы". Тут я стал упрашивать оставить армию Конева нам - у нас было тяжелое положение - и сказал: "Если армия Конева останется, то у нас есть уверенность, что мы стабилизируем положение на направлении Броды и тем самым заставим противника перейти к обороне. А может быть, нам удастся его и разбить".
Да, мы думали тогда вскоре разбить немцев. Это было не просто желание, мы верили в это, хотя соотношение сил на нашем участке было бы и при наличии армии Конева, видимо, все-таки в пользу противника. Сталин выслушал меня и ответил: "Хорошо, оставляем резервную армию, но оставляем именно для нанесения удара". А спустя некоторое время - опять звонок от Сталина: "Немедленно погрузите армию Конева". Она уже вела боевую операцию, но дан приказ, и она убыла. Мы, таким образом, остались с тем, что имели у себя к началу войны. А перевес уже наметился в пользу противника, возникла тяжкая угроза в направлении на Броды и Ровно. А это значит, в направлении Киева. Наш левый фланг оставался таким образом в тылу врага. Стало видно, что немцы рвутся клином на юг, на Киев, оставляя нашу Карпатскую группировку за собой и не ведя против нее боев. Там стояла 6-я армия, а Карпаты занимала, кажется, 12-я армия. Нависала угроза (уже виден был замысел) окружения врагом этих войск.
Но я сейчас по этому вопросу специально высказываться не буду, а хочу осветить неприятный для нас эпизод, который произошел с членом Военного совета КОВО. Когда у нас сложились тяжелые условия в районе Броды, мы с командующим войсками приняли меры для перегруппировки войск и уточнения направления нашего удара против войск противника, который наступал на Броды. Чтобы этот приказ был вовремя получен командиром мехкорпуса Рябышевым и командиром другого корпуса, фамилию которого я забыл, мы решили послать члена Военного совета КОВО, чтобы он сам вручил приказы, в которых было изложено направление удара. Этот член Военного совета выехал в корпуса[16]. Я знал этого человека мало. Он прибыл к нам из Ленинграда перед самой войной и производил хорошее впечатление, да и внешность у него была такая, знаете ли: молодой еще человек, очень подтянутый, элегантный, одевался со вкусом и приковывал к себе внимание.
Ну, и характер у него тоже имелся. Мне говорили военные, что он человек с претензиями. Рассказывали, что он низко оценивал командующего войсками КОВО и считал, что сам он выше него и мог бы с большей пользой, чем тот, выполнять функции командующего. Конечно, вряд ли он кому-нибудь про это говорил. Это было умозаключение людей, работавших в штабе. Ну, мало ли что бывает и какие у него появляются желания. Это было его личное мнение. А пока он занимался своим делом. Я присматривался к нему: он был неглупый человек, поэтому ничего плохого я против него не имел да и не мог иметь. Перед отъездом в мехкорпуса он зашел вечером ко мне. Так как у нас очень плохо обстояло дело с помещением, то наши с командующим войсками рабочие и бытовые места были в одной комнате вместе с местами дежурных офицеров. Мы спали на ходу или сидя. Никакого дневного распорядка времени у нас еще не выработалось, мы еще не втянулись в военную обстановку. И когда член Военного совета зашел ко мне, то попросил меня выйти из комнаты, так как иначе нельзя было вести доверительный разговор. Я вышел. Он говорит мне. "Считаю, что вам надо немедленно написать товарищу Сталину, что следует заменить командующего войсками Киевского округа. Кирпонос совершенно непригоден для выполнения функций командующего". Я был поражен и удивлен.
Только началась война, а член Военного совета, военнослужащий профессионал, ставит вопрос о замене командующего. Отвечаю: "Не вижу оснований для замены, тем более что война только началась". - "Он слаб". Говорю: "Слабость и сила проверяются у людей на деле. Поэтому полагаю, что надо проверить, слаб ли он". Командующего я тоже знал не лучше, чем члена Военного совета. Знал по фамилии и в лицо, но о деловых качествах не имел представления. Прибыл новый человек и занял такой большой пост. Но я не хотел сразу же при первых выстрелах заниматься чехардой, сменой командного состава. Говорю далее: "Это произведет очень плохое впечатление, да я и не вижу оснований, я против". Потом спросил: "Кого же вы считаете тогда лучшим? Кого можно было бы назначить вместо Кирпоноса?" Он отвечает: "Начальника штаба генерала Пуркаева". Я был очень хорошего мнения о Пуркаеве, однако говорю: "Я Пуркаева уважаю и высоко ценю, но не вижу, что изменится, если мы Кирпоноса заменим на Пуркаева. К умению принимать решения относительно ведения войны чего-либо не добавится, потому что Пуркаев - начальник штаба и тоже принимает участие в разработке тех решений, которые принимаются (напомню, что начальник штаба входил в состав Военного совета КОВО). Знания и опыт генерала Пуркаева мы уже полностью используем и будем использовать далее. Я против". Член Военного совета уехал в войска, а вернулся рано утром и опять пришел ко мне. Вид у него был страшно возбужденный, что-то его неимоверно взволновало. Он пришел в момент, когда в комнате никого не было, все вышли, и сказал мне, что решил застрелиться. Говорю: "Ну, что вы? К чему вы говорите такие глупости?". "Я виноват в том, что дал неправильное указание командирам механизированных корпусов. Я не хочу жить". Продолжаю: "Позвольте, как же это? Вы приказы вручили?" - "Да, вручил". - "Так ведь в приказах сказано, как им действовать и использовать мехкорпуса. А вы здесь при чем?" - "Нет, я дал им потом устные указания, которые противоречат этим приказам". Говорю: "Вы не имели права делать это. Но если вы и дали такие указания, то все равно командиры корпусов не имели права руководствоваться ими, а должны выполнять указания, которые изложены в приказах и подписаны командующим войсками фронта и всеми членами Военного совета. Другие указания не являются действительными для командиров корпусов" - "Нет, я там...".
Одним словом, вижу, что он затевает со мной спор, ничем не аргументированный, а сам - в каком-то шоковом состоянии. Я думал, что если этого человека не уговаривать, а поступить с ним более строго, то это выведет его из состояния шока, он обретет внутренние силы и вернется к нормальному состоянию. Поэтому говорю: "Что вы глупости говорите? Если решили стреляться, так что же медлите?" Я хотел как раз удержать его некоторой резкостью слов, чтобы он почувствовал, что поступает преступно в отношении себя. А он вдруг вытаскивает пистолет (мы с ним вдвоем стояли друг перед другом), подносит его к своему виску, стреляет и падает. Я выбежал. Охрана ходила по тропинке около дома. Позвал я охрану, приказал срочно взять машину и отправить его в госпиталь. Он еще подавал признаки жизни. Его погрузили в машину и отправили в госпиталь, но там он вскоре умер[17]. Потом мне рассказывали его адъютант и люди, вместе с которыми он ездил в корпуса: когда вернулся с линии фронта, то был очень взволнован, не отдыхал, часто бегал в туалет. Полагаю, что он делал это не в результате жизненной потребности, а, видимо, хотел там покончить жизнь самоубийством. Бог его знает. Не могу сейчас определить его умонастроение. Ясно, что он нервничал. Потом пришел ко мне и застрелился. Однако перед этим разговаривал с людьми, которые непосредственно с ним соприкасались, и они слышали его слова. Он считал, что все погибло, мы отступаем, все идет, как случилось во Франции. "Мы погибли!" - вот его подлинные слова. Полагаю, что это и завело его в тупик, и единственный выход, который он увидел, покончить жизнь самоубийством. Так он и поступил. Потом я написал шифровку Сталину, описал наш разговор.
Существует документ, который я сейчас воспроизвожу по памяти. Думаю, что говорю точно, за исключением, возможно, порядка изложения. Самую же суть описываю, как это и было тогда в жизни. Вот, даже член Военного совета, который занимал столь высокое положение, дрогнул. Не физически струсил, нет, он морально дрогнул, потерял уверенность в возможности отразить гитлеровское нашествие. К сожалению, это был тогда не единственный случай. Происходили такие случаи и с другими командирами. Вот какая была обстановка. А мы ведь еще и десяти дней не находились в состоянии войны. Возвращаюсь к ситуации, о которой говорил перед описанием случая с членом Военного совета. Итак, мы увидели, что против 6-й армии Музыченко и 12-й армии Понеделина почти никаких активных действий со стороны противника не ведется[18]. Было явное игнорирование нашего левого фланга со стороны немцев. Но они надеялись после вклинения танковыми войсками повернуть направо, окружить наши войска и уничтожить эти две армии. Поэтому мы с командующим решили вывести 6-ю армию, штаб которой находился во Львове, а сама она располагалась на границе, севернее Перемышля. Ее войска стали отходить. Не помню, на сколько километров они отошли, но противник их даже не преследовал. И вдруг мы получаем резкое указание из Москвы - нахлобучку за то, что отвели войска. Поступил приказ - вернуть войска, чтобы они заняли линию границы, как занимали ее раньше. Мы ответили: "Зачем же ее защищать? Ведь не ведется военных действий против этих двух армий. Противник сосредоточил главные силы на направлении Броды, уже виден его замысел. Он может окружить наши войска, и они потом не смогут выйти из-под флангового удара". Но нам приказали вернуть армии, и мы это сделали.
Мне было очень обидно и горько так поступать. У меня сложилось впечатление, что эти две армии могут погибнуть. Они будут драться в окружении, но уже не будут использованы с тем эффектом, как если бы мы расположили их на направлении главного удара врага. Однако ничего не поделаешь, приказ есть приказ, и мы его выполнили. Я полагал тогда (сейчас не помню, не сам ли Жуков звонил из Москвы по этому вопросу?), что Жуков тут неправ. Я носил при себе свою мысль все годы, и когда Жукова освобождали от должности в 1957 г., а я выступал с критикой его деятельности, то вернулся к этому моменту первых дней войны, к запрещению отвести армии из района Перемышля и Львова. В результате 6-я армия погибла потом в окружении, как погибла и 12-я армия. Я сказал: "Вот такой способный военачальник, как Жуков, а тоже совершил ошибку". Он ответил: "Это не моя инициатива, это было указание Сталина". Сейчас я не могу вступить с ним в спор, было ли это указание Сталина. Возможно, конечно, что так и было, но на основе доклада Жукова, потому что Жуков только что прибыл в Москву с нашего фронта и, думаю, был в этом вопросе главным советчиком. Если бы он сказал, что приказ Военного совета КОВО верен, то Сталин, во избежание окружения этих армий, может быть, и не дал бы своего указания возвратить армии назад. А сейчас я не знаю конкретного инициатора того приказа и, следовательно, реального виновника гибели этих двух армий, попавших затем в окружение.
Можете ли вы представить себе то тяжелое для нас время, когда Гитлер двинул против нас полнокровные высокомеханизированные соединения, а мы лишились такой солидной силы, как две армии, 6-я и 12-я? Они потом отступали, немцы на них наседали и в конце концов в районе Умани окружили их. Обе они со штабами и командующими попали в плен. Если бы 6-ю армию мы могли раньше использовать, то могли бы взять часть ее дивизий, чтобы организовать удар во фланг врагу в районе Броды. Неизвестно, что произошло бы. Если бы даже мы не задержали его полностью и не разбили эту группировку, то во всяком случае мы бы значительно ее обескровили и задержали на какое-то время. Сложилась бы совершенно другая обстановка на нашем направлении. Но мы были лишены такой возможности. Почему тут я это говорю?
Мало к нам было доверия. Частым оказывалось вмешательство сверху, и не всегда оно было разумным. Вмешательство, которое стоило многих жизней и большой крови. Тут - первый случай, но дальше я приведу еще много таких случаев, которые тоже стоили тысяч и тысяч жертв, совершенно ненужных, которых можно было бы избежать, если бы больше было доверия к командующим фронтами и их Военным советам. Через несколько дней[19], опять не по своей инициативе, а по указанию из Москвы, мы снялись со своего командного пункта. Нам приказали перенести штаб в Проскуров, то есть мы отходили на большую глубину. Мы были удивлены, так как на нашем направлении обстановка была еще не такая плохая, которая вынуждала бы принимать такие меры: отойти и расположить штаб в большой глубине за, нашими войсками. Но это было указание из Москвы. Не помню, ссылались ли на имя, но все считали, что раз звонят из Москвы, значит - указание Сталина. Снялись мы с места и стали перемещаться. Это была ужасная картина. Сотни машин двигались от линии фронта в тыл с семьями офицеров. Имелось много семей офицеров во Львове, Дрогобыче, Перемышле.
Вместе с ними двигались беженцы. Но крестьян среди них не было. Западноукраинские крестьяне не уходили от немцев. Видимо, тут сказался результат агитации украинских националистов, которые ожидали немцев с другими чувствами, чем мы. Крестьяне были обмануты обещанием того, что Гитлер несет освобождение Украине. Так морочили голову крестьянам Западной Украины националисты, бандеровцы. Как только мы прибыли в Проскуров и развернули штаб, тут же позвонил Сталин. Я разговаривал с ним. Сталин говорит: "Вы сейчас же переезжайте в Киев и в Киеве немедленно организовывайте его оборону". Мы так и сделали, хотя не знали, что делается у нас на правом фланге фронта в целом. Каково положение на Западном фронте, нам было неизвестно. Прибыли мы в Киев, а противник двигался за нами буквально следом, только по другому шоссе: мы - по Тернопольскому, а он, разбив наши силы на направлении Броды - Ровно - Коростень, продвигался севернее на большой скорости. И под Киевом сложилось буквально безнадежное положение.
Когда отошли мы к Киеву, то немцы сожрали остатки наших войск. Мы потеряли артиллерию и танки, у нас не было пулеметов. Основные наши силы два механизированных корпуса - были разбиты, главным образом с воздуха. Немцы летали безнаказанно, и у нас не было ничего, чем можно было бы защищаться. Войска 6-й и 12-й армий, когда противник вплотную взялся за них, стали отступать неорганизованно. Он все время держал их в полукольце, и они не имели маневренности. А это - самое главное для войск. Но эти армии, конечно, не распались. Они защищались и даже нанесли удар противнику в направлении на Броды. Они отступали южнее Киева, в район южнее Умани. Там их окружили. Сошлись два штаба: Понеделина и командующего 6-й армией. Командующий 12-й армией был ранен. Когда подъехали немцы, Понеделин вышел из помещения и сказал, что он сдается в плен. В то время мы еще не знали фашистов и зачастую пытались вести войну "по всем правилам". Это была, конечно, глупость, что фронт лишили инициативы в использовании войск по своему усмотрению. Вмешательство Генерального штаба получилось таким же, как у бравого солдата Швейка: все было хорошо, пока не вмешался генеральный штаб. Вот так и погибли наши войска.
Постепенно стали выходить из окружения генералы. Пришел Попель[20]. Пришел небезызвестный Власов, с кнутом, без войск. Попель вернулся недели через две или через три. Он прошел лесами Полесья, там немцев еще не было, они шли большими дорогами. Попель даже вывез раненого полковника и вывел из окружения небольшое количество войск. Сейчас не могу сказать, какой тогда был день войны. Войск у нас фактически не имелось, фронт был прорван. Противник вырвался вперед подвижными войсками, а наши войска остались далеко в его тылу и там вели бои. Противник подошел вплотную к Киеву, вышел на Ирпень. Река Ирпень небольшая, но заболоченная. Перед этой рекой еще в 1928 - 1930 гг. был сооружен Киевский укрепленный район. Там имелись железобетонные доты с артиллерией, но я уже говорил, что они были разрушены по предложению Мехлиса. Сталин приказал разоружить их с тем, чтобы наше командование не оглядывалось назад, а устремило свои взоры на укрепление новой границы, которую мы получили в результате разгрома немцами Польского государства. А теперь, когда нам так был бы нужен этот укрепленный район, он разоружен. Железобетонные сооружения сохранились, но оружия в них не было: ни артиллерии, ни пулеметов и не было войск. Поэтому мы начали собирать буквально все, что только могли: винтовки, пушки и прочее с тем, чтобы как-то построить оборону. Назначили командовать этим участком генерала Парусинова[21].
Сейчас я о нем ничего не знаю. Он уже тогда был в летах. У меня сложилось о нем хорошее впечатление. Но он занимался в тот момент тылами. Я не помню, как называлась тогда его должность. По-моему, начальник тыла фронта, но неуверен. Ноу нас другого человека не было, и мы назначили его. Он как-то распределял то, что мы имели и что собирали, и строил оборону города. А немцы расположились на западном берегу реки Ирпень. Никаких попыток перейти Ирпень они не предпринимали. Мост там был такой паршивенький, деревянный. Мы его взорвали, конечно. Думаю, что немцы прорвались все же небольшими передовыми танковыми частями, но пехоты у них не имелось, и форсировать эту преграду (я бы сказал, не реку, а болото) они не стали. Отложили на более позднее время. Обстановка у нас была тяжелейшая. Шутка ли сказать, противник подошел к Киеву, вышел на Ирпень! В городе началась паника. Это естественно. Помню, как ночью (я сидел на лавочке) ко мне подошел командующий воздушными силами КОВО генерал Астахов[22]. Очень порядочный, добросовестный человек, внешне степенный и тучный. Он своей внешностью как бы олицетворял само спокойствие. Говорит: "Лишились мы в этих боях почти всей авиации. А сейчас противник не дает нам и носа показать". И разрыдался. Мимо проходили военные, и я его начал успокаивать, а потом прикрикнул на него: "Успокойтесь, товарищ Астахов! Посмотрите, ходят люди, увидят, что генерал в таком состоянии. Нам воевать надо и, следовательно, надо владеть собой". На него это как-то подействовало, но он долго еще не мог прийти в себя. Астахов вел себя так вовсе не из-за трусости. Нет, это был кадровый военный и очень знающий свое дело человек. Но прежде он был уверен, как и все другие, что мы неприступны, что наша граница "на замке", как в песнях пели, и что воевать мы будем на чужой территории.
И вдруг мы оказались через несколько дней с начала войны под Киевом[23]. Оказались в таком положении, что Киев и держать нечем, нет сил: ни вооружения, ни солдат. Все, что могли, мы направили на организацию обороны Киева. Не сдать Киев! Дать отпор врагу! Строили оборону с запада по течению Днепра левее Киева, то есть на левом фланге, выше города. А к югу от Киева было довольно большое пространство, которое занимали наши войска. Прежде всего, в этом направлении отступали 6-я и 12-я армии. Они уже попали в окружение, но вели бои и наносили противнику довольно большой урон. Мы стали организовывать дело так, чтобы с востока разорвать кольцо и помочь этим армиям выйти из окружения. Уже в ходе отступления штабы этих двух армий объединились. Для защиты Киева мы решили создать новую армию и назвали ее 37-й[24]. Стали искать командующего. Нам с Кирпоносом предложили ряд генералов, которые уже потеряли свои войска и находились в нашем распоряжении. Среди них очень хорошее впечатление производил Власов. И мы с командующим решили назначить именно Власова. Отдел кадров КОВО тоже его рекомендовал и дал преимущественную перед другими характеристику. Я лично не знал ни Власова, ни других "свободных" генералов, даже не помню сейчас их фамилий.
Если обратиться к свидетелю, то у меня есть свидетель, который сейчас жив, здоров и желаю, чтобы он жил еще тысячу лет, - Иван Христофорович Баграмян. Он был тогда в звании полковника начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. Очень порядочный человек, хороший военный и хороший оперативный работник, сыгравший большую роль в организации отпора гитлеровскому нашествию на тех участках, где ему поручали заниматься этим делом. И все-таки я решил спросить Москву. Мы находились тогда под впечатлением того, что везде сидят враги народа, а особенно в Красной Армии. И я решил спросить Москву, какие имеются документы о Власове, как характеризуется он, можно ли доверять ему и назначить на пост командующего армией, которая должна защищать Киев. Войск-то нет, их еще надо собрать, и все это должен делать новый командарм. Позвонил Маленкову, больше звонить было некому. Но так как Маленков занимался в ЦК кадрами, то это был вопрос и к нему тоже. Правда, он сам ничего о Власове не знал, но люди, которые в Генеральном штабе занимались кадрами, должны были сказать ему свое мнение. Я спросил его: "Какую характеристику можно получить на Власова?". Маленков ответил: "Ты просто не представляешь, что здесь делается. Нет никого и ничего. Ни от кого и ничего нельзя узнать. Поэтому бери на себя полную ответственность и делай, как сам считаешь нужным".
При таком положении дел, хотя у нас никаких данных на Власова не имелось, мы знали, что военные рекомендовали именно его. Поэтому мы с Кирпоносом решили назначить его командовать 37-й армией. Он начал принимать бойцов из отступающих частей или выходящих из окружения. Потом пополнение получили кое-какое. Вскоре прибыл целый пехотный корпус[25] под командованием генерала Кулешова. Этот корпус пришел с Северного Кавказа. Хороший корпус, но неподготовленный. Морально он не был подготовлен, не обстрелян, что естественно, ведь война только началась. Мы вывели его в Киевский укрепленный район и поставили на самый угрожаемый участок - защиту Голосеевского леса, непосредственных подступов к Киеву с юга[26]. Мы ожидали удара не с севера. Там трудные природные условия, мы прикрывались Ирпенем. Потом тут была 5-я армия в довольно хорошем состоянии. Ею командовал генерал Потапов. Его соседом по фронту был командарм-6 Музыченко.
На Музыченко лежала перед войной тень: не является ли он предателем в рядах Красной Армии? В результате чего так думали? Перед войной он выехал в войска, то ли проводить учения, то ли просто проинспектировать свои части на границе. Штаб 6-й армии стоял во Львове. Дома осталась у него одна жена. И еще у него была домработница. Какой-то молодой человек ухаживал за ней, и тут ничего такого противоестественного не было. Видимо, так же относились к этому Музыченко и его жена. Но, как оказалось, это ухаживание было не простым увлечением. Здесь преследовались политические, разведывательные цели. Этот "ухажер" выбрал момент, когда Музыченко выехал в войска (а к тому времени он уже завоевал себе право приходить в дом и приучил домашних положительно относиться к его появлению), и появился ночью. Жена Музыченко спала. Вдруг открывается дверь, заходит он в спальню и требует ключи от сейфа. Она испугалась. Потом она так вспоминала: "Я спала. Раздетая была. Он подошел, бесцеремонно сел на постель и в довольно вежливом тоне, как бы играючи, начал вести разговор.
Никаких поползновений на мою честь он не проявлял и разговаривал любезно, но требовал ключи. Я сказала ему, что ключей у меня нет. Командующий никогда ключей не оставляет, тем более у меня, он берет их всегда с собой или же сдает. Куда, мне неизвестно. Я же никакого отношения к ключам не имею и никак не могу выполнить ваше требование. Он долго и настойчиво требовал ключи, хотя пересыпал разговор шутками и игривой беседой, чтобы не запугать, а может быть, расположить к себе с тем, чтобы я отдала ключи. Кончилось тем, что он ушел". Подробно это описано, видимо, в архивах органов госбезопасности: жена Музыченко давала показания. Сбежала и девушка-домработница. Тогда стало ясно, что домработница была подослана украинскими националистами. Она-то и привела этого агента немецкой разведки, который хотел завладеть ключами, но не получил их. Когда Сталин узнал об этом случае, то спрашивал меня насчет Музыченко. Я ответил, что у нас нет абсолютно никаких данных для недоверия к генералу. Я опрашивал многих военных, и все дают ему очень положительную характеристику и как военному, и как человеку, и как члену партии. Здесь, видимо, налицо просто наглость чужой разведки. Жена его тоже не может быть агентом. Никаких данных к этому нет. Люди, знающие ее, тоже говорят, что она женщина порядочная. Это просто имела место доверчивость. Вопрос о Музыченко стоял на острие ножа: оставить его или освободить от командования армией? Долго обдумывали и все-таки решили оставить его на месте. Музыченко продолжал командовать 6-й армией. Ему было оказано полное доверие, и хотя этот инцидент, безусловно, оставил свой след, но на службе, я думаю, это не отразилось. Я, например, к нему относился после этого по-прежнему с доверием. Теперь его армия сражалась южнее Киева.
Главная опасность для Киева была как раз с юга, со стороны Белой Церкви. Развернулось и тут строительство обороны. Через какое-то время немцы подтянули свои войска и приступили непосредственно к операции по захвату Киева. Помню, что, когда сложилась тяжелая обстановка в направлении Белой Церкви, мы с Кирпоносом решили выехать в войска, оценить обстановку и принять меры к тому, чтобы наши войска не бежали. В это время командный пункт фронта находился в Броварах, то есть на восточном берегу Днепра, километрах в 25 от Киева в направлении Чернигова. Железобетонный командный пункт, который был фундаментально сделан в мирное время для штаба КОВО в Святошино, занимал теперь штаб 37-й армии. Я сейчас не помню имени начальника штаба армии[27], но он на меня тоже произвел хорошее впечатление. Приехали мы в штаб армии вместе с Кирпоносом и встретились сперва с начальником штаба. Почему-то отсутствовал командующий армией Власов. Потом и он приехал. Власов доложил обстановку, говорил довольно спокойно, и мне это понравилось. Тон у него был, вселявший уверенность, и говорил он со знанием дела. Мы предложили сейчас же поехать в Голосеевский лес, где был расположен прибывший к нам стрелковый корпус из трех дивизий. Мы и раньше выезжали в корпус Кулешова. При первой встрече с войсками противника солдаты этого корпуса показали себя очень плохо. Началась паника, корпус отступил. Возникла опасность, что люди разбегутся. Тогда мы выехали туда, чтобы восстановить порядок. Был поставлен на ноги военный трибунал. Развернуты заградительные отряды. Приняты все меры, которые принимались в таких случаях для восстановления порядка и дисциплины. Строгие меры! Имели место суды на поле боя. Тут же приводились в исполнение суровые приговоры, которые необходимы только в такой тяжелой обстановке. Мы увидели, что Кулешов плохо управляет войсками.
Может быть, тогда мы погорячились, потому что у него не было опыта, как и у его солдат. Он был тоже необстрелянный человек. Но, так или иначе, мы его освободили и назначили нового командира корпуса. Сейчас не помню его фамилию, по национальности он был еврей. Когда мы приехали туда во второй раз, то командовал корпусом уже этот, новый командир. Приехали мы с Власовым. Обстановка была такой: немцы вели артиллерийско-минометный огонь и бомбили этот район с воздуха. Когда мы подошли к командиру, он сидел на каком-то полевом стуле, а стол перед ним был накрыт кумачом. Стоял телефон. Тут же была отрыта щель-убежище. С ним были какие-то люди. Он стал докладывать нам обстановку. В это время немцы обстреливали нас из минометов и строчили их пулеметы, но их самих не было видно, только шел гул по лесу. Бомбили и с самолетов. Потом усилился орудийный огонь. Власов держался довольно спокойно (я поглядывал на него). У него была вырезана трость из орешника. Он этой тростью похлопывал себя по голенищу. Потом он предложил, во избежание неприятностей, залезть в щель. Нас мог поразить какой-нибудь осколок. Мы послушались его совета, залезли в щель. Там заслушали ком-кора. Командир корпуса произвел на меня очень хорошее впечатление своим спокойствием, уверенностью и знанием обстановки. Мы уехали, пожелав ему успеха. Буденный приехал к нам в ходе упорных боев за Киев. Я спросил: "Что делается на других фронтах? Я ничего не знаю, никакой информации мы не получаем. Вы, Семен Михайлович, из Москвы. Ведь вы знаете?". "Да, говорит, - знаю и расскажу вам". И он, один на один, рассказал мне, что Западный фронт буквально рухнул под первыми же выстрелами и расчленился. Там не сумели организовать должного отпора противнику.
Противник воспользовался нашим ротозейством и уничтожил авиацию фронта на аэродромах, а также нанес сильный урон нашим наземным войскам уже 22 июня, при первом же ударе. Фронт развалился. Сталин послал туда Кулика, чтобы помочь комплектованию. Но от маршала Кулика нет пока никаких сведений. Что с ним, неизвестно. Я выразил сожаление: "Жалко, погиб Кулик". Буденный же сказал: "А вы не жалейте его". И это было сказано таким тоном, который давал понять, что Кулика считают в Москве изменником; что он, видимо, передался противнику. Я знал Кулика, считал его честным человеком и поэтому сказал, что мне его жалко. "Ну, вы не жалейте его, не жалейте", повторил Буденный. Я понял, что, видимо, он имел какой-то разговор об этом со Сталиным. Зачем Буденный приехал, трудно сказать. Пробыл у нас недолго. А вечером спросил: "Где мы будем отдыхать? Давайте вместе ляжем спать". Я согласился. "А где? У вас? Где вы отдыхаете?" Говорю: "Вот тут я и отдыхаю". Вышли из дома. Снаружи была разбита палатка, и в ней набросано сено. "Вот здесь, в палатке я и сплю" - "Да вы что?" Я объяснил ему: здесь, где наш штаб, - болото, нельзя рыть щели, появится вода. Поэтому я спасаюсь при авиабомбежке в палатке. Буденный: "Ну, ладно. Раз вы здесь, то я тоже с вами". И мы легли, поспали несколько часов, отдохнули. Рано утром нас разбудила немецкая авиация. Самолеты на бреющем полете летали над поселком и бомбили его. Наши зенитки вели огонь. Никакого попадания в самолеты в поле зрения не было видно. А наши самолеты не появлялись. Я рассердился и возмутился этим. Обращаюсь к Астахову: "Ну, что же это такое? Почему они безнаказанно летают и бомбят, а мы не можем ничего сделать?". Немцы уже отбомбились и улетели. Астахов докладывает: "Столько-то самолетов было сбито". Я спросил: "А где сбитые? Я не видел, чтобы они падали". - "А они упали за Днепром". - "Ну, если они упали за Днепром, то можно докладывать, что сбито их даже больше". Думаю, что Астаховым был взят грех на душу. Может быть, и сбили что-то, но меня очень обескуражило его заявление, и я сказал: "Бойцы видят, как безнаказанно летают немцы, а мы не наносим противнику урона".
Буденный вскоре уехал от нас. В войска он не ездил, вернулся в Москву. С какими заданиями приезжал (а иначе и быть не могло - это же не экскурсия), мне было неизвестно, он мне этого не сказал. Просто поговорили с ним, он заслушал обстановку, заслушал командующего войсками и начальника оперотдела штаба Баграмяна. Его беседа с Баграмяном произвела на меня тяжелое впечатление. Я ее хорошо запомнил и до сих пор не могу забыть. Дело было после обеда. Буденный слушал Баграмяна, который докладывал об обстановке. Баграмян - очень четкий человек, доложил все, как есть, о всех войсках, которые у нас тогда были: их расположение, обстановку. Тут Буденный насел на Баграмяна. Отчего, не знаю конкретно. Я особенно не придавал тогда значения этой беседе. На военном языке это означает: разбираться в обстановке. Начальник оперативного отдела штаба докладывал обстановку Маршалу Советского Союза, присланному из Москвы. Помню только, что закончился разбор обстановки такими словами: "Что же у вас такое? Вы не знаете своих войск". "Как не знаю, я же вам доложил, товарищ маршал", - отвечает Баграмян. "Вот я слушаю вас, смотрю на вас и считаю - расстрелять вас надо. Расстрелять за такое дело", - этаким писклявым голосом говорит Семен Михайлович. Баграмян: "Зачем же, Семен Михайлович, меня расстреливать? Если я не гожусь начальником оперативного отдела, вы дайте мне дивизию. Я полковник, могу командовать дивизией. А какая польза оттого, что меня расстреляют?".
Буденный же в грубой форме уговаривал Баграмяна, чтобы тот согласился на расстрел. Ну, конечно, Баграмян никак не мог согласиться. Я был даже удивлен, почему Семен Михайлович так упорно добивался "согласия" Баграмяна. Конечно, надо учитывать, что такой "любезный" разговор происходил между Маршалом Советского Союза и полковником после очень обильного обеда с коньяком. И все-таки, несмотря на это обстоятельство, форма разговора была недопустимой. Он велся представителем Ставки Верховного Главнокомандования и, конечно, никак не отвечал задачам, которые тогда стояли, и не мог помочь делу и нашим войскам. Это тоже свидетельствует о том, какое было состояние у людей. Семен Михайлович совершенно вышел тогда за рамки дозволенного. Но мы просто посмотрели тогда на этот разговор несерьезно. Хотя он и касался жизни человека, однако обошелся без последствий. Семен Михайлович уехал, а мы остались в прежнем тяжелом положении, которое после его приезда не улучшилось и не ухудшилось.
ЛЮДИ И СОБЫТИЯ ЛЕТОМ - ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА
Сегодня - 23 февраля 1968 года. Это великий день, славный юбилей нашей Советской Армии, всех наших Вооруженных Сил, которые были созданы под руководством Ленина и одержали победы в первые же годы революции над белогвардейцами, нашими классовыми врагами. Позднее выдержали фашистское нашествие, удар против Советской страны и народа. Все выдержали с честью, разбили всех наших врагов и высоко держат Красное Знамя, наше знамя, обагренное кровью рабочего класса в борьбе с врагами. Большой путь прошли Советские Вооруженные Силы, и я горжусь этим. Горжусь тем, что мне тоже довелось быть в составе наших славных Вооруженных Сил - Красной Армии. Я находился в Красной Армии в самые тяжелые времена для нашей молодой Советской республики, с января 1919 года. Мне в ее рядах довелось пройти тяжелые испытания и длинный путь, пришлось служить в составе 9-й стрелковой дивизии, которая сначала отступала с боями за Орел, под Мценск; потом с этой же дивизией проделал путь наступления. Мы промаршировали, буквально гоня противника. Рождество 1920 г. мы встречали уже в Таганроге. Говорю - в Таганроге, потому что наша стрелковая дивизия в это время была придана 1-й Конной армии, которой командовал, как всем известно, Буденный. 1-я Конная наступала на Ростов, мы же пошли на Таганрог.
Это очень длинный путь из-под Орла. Но белые так быстро отступали, что нам надо было буквально поспевать за ними. В 1920 г. мне довелось в составе той же дивизии проделать иной маршрут: 1 марта мы наступали на селение Кошкино (оно имело двойное название: Кошкино-Крым). У меня отложилось в памяти, что именно Кошкино-Крым. В начале апреля мы дошли до Черного моря, заняли Анапу и торжествовали победу, с полным разгромом белогвардейцев. Мы их там сбросили в Черное море. Зимой была создана кавалерийская группа для преследования белых. Мы мобилизовали лошадей у кубанских казаков и посадили на коней наших бойцов, потом участвовали в освобождении Новороссийска. Но не вся дивизия была там: часть ее заняла Анапу и остановилась. Спустя пять дней отдыха, проведенных в Анапе, двинулись на Таманский полуостров и заняли его в том же апреле, а 1 Мая праздновали уже в Тамани. Ну, это - лирическое отступление в моих воспоминаниях. Действительно, воспоминания есть воспоминания, даже если, к сожалению, они излагаются непоследовательно. Впрочем, это не имеет особого значения. Возвращаюсь к тому, как из-под Киева уехал от нас Буденный. В июле 1941 г. меня вызвали в Москву. Мне было интересно приехать именно тогда в Москву, проинформироваться и узнать истинное положение вещей, В каком состоянии находится наша страна? Какие соображения имеет Сталин относительно задержания наступления противника, а потом нашего перехода в наступление? Мы не могли даже занять твердую оборону, находились в стадии отступления, в стадии поражений на фронте. В это время Сталин нигде "не вылезал" со своей фамилией как Верховный Главнокомандующий, каковым он вскоре был назначен[28]. Распоряжения отдавались Ставкой. Нигде не говорилось - Командующий (или Главнокомандующий) Сталин. Это тоже свидетельствует об определенном настроении Сталина, который не хотел, видимо, связывать свое имя с поражениями наших войск. Итак, меня вызвали в Москву, но не сказали, по каким вопросам.
Думаю, что Сталин вызвал меня, чтобы узнать, как я оцениваю положение дел на нашем участке фронта. Я занимался тогда только территорией Киевского Особого военного округа[29], то есть северной частью Украины. Южная часть Украины - это Южный фронт. Он был создан на основе Одесского военного округа. На те войска я никакого влияния не имел. Когда я приехал в Москву, мне сказали, что Сталин находится на командном пункте. Москву тогда бомбили очень часто, и штаб был перенесен к Кировским воротам, в помещение Наркомата легкой промышленности СССР. Это помещение было занято под штаб, а для Сталина и руководства партии был организован командный пункт Ставки там же, на станции метро "Кировская". Когда я встретился со Сталиным, он произвел на меня удручающее впечатление: человек сидел как бы опустошенный и ничего не мог сказать. Он даже не смог сказать мне несколько подбадривающих слов, а я в этом нуждался, потому что приехал в Москву, прибыл к Сталину, в центр, к руководству страной и армией. И вот я увидел вождя совершенно морально разбитым. Он сидел на кушетке. Я подошел, поздоровался. Он был совершенно неузнаваем. Таким выглядел апатичным, вялым. Лицо его ничего не выражало. На лице было написано, что он во власти стихии и не знает, что же предпринять. А глаза у него были, я бы сказал, жалкие какие-то, просящие.
Сталин спросил: "Как у нас дела?". Я ему откровенно обрисовал обстановку, которая у нас сложилась. Как народ переживает случившееся, какие у нас недостатки. Не хватает оружия, нет даже винтовок, а немцы бьют нас. Собственно говоря, мне и не требовалось ему рассказывать, потому что он сам знал по докладам, которые делал Генеральный штаб: армия бежала, немцы превосходили нас и на земле, и в воздухе, у нас не хватало вооружения, а к этому времени уже не хватало и живой силы. Все рассказал, в каком мы находимся положении. Помню, тогда на меня очень сильное и неприятное впечатление произвело поведение Сталина. Я стою, а он смотрит на меня и говорит: "Ну, где же русская смекалка? Вот говорили о русской смекалке. А где же она сейчас в этой войне?". Не помню, что ответил, да и ответил ли я ему. Что можно ответить на такой вопрос в такой ситуации? Ведь когда началась война, к нам пришли рабочие "Ленинской кузницы" и других заводов, просили дать им оружие. Они хотели выступить на фронт, в поддержку Красной Армии. Мы им ничего не могли дать.
Позвонил я в Москву. Единственный человек, с кем я смог тогда поговорить, был Маленков. Звоню ему: "Скажи нам, где получить винтовки? Рабочие требуют винтовок и хотят идти в ряды Красной Армии, сражаться против немецких войск". Он отвечает: "Ничего я не могу тебе сказать. Здесь такой хаос, что ничего нельзя разобрать. Я только одно могу тебе сказать, что винтовки, которые были в Москве у Осоавиахима (а это винтовки с просверленными патронниками, испорченные), мы приказали переделать в боевые, велели заделать отверстия, и все эти винтовки отправили в Ленинград. Вы ничего не сможете получить". Вот и оказалось: винтовок нет, пулеметов нет, авиации совсем не осталось. Мы оказались и без артиллерии. Маленков говорит: "Дается указание самим ковать оружие, делать пики, делать ножи. Станками бороться бутылками, бензиновыми бутылками, бросать их и жечь танки". И такая обстановка создалась буквально через несколько недель! Мы оказались без оружия. Если это тогда сказать народу, то не знаю, как отреагировал бы он на это. Но народ не узнал, конечно, от нас о такой ситуации, хотя по фактическому положению вещей догадывался. Красная Армия осталась без должного пулеметного и артиллерийского прикрытия, даже без винтовок. Под Киевом мы на время немцев задержали. Уверенности, что выдержим, однако, не было, потому что у нас не было оружия, да не было еще и войск. Мы собрали, как говорится, с бору по сосенке, наскребли людей, винтовок и организовали очень слабенькую оборону. Но и немцы, когда они подошли к Киеву, тоже были слабы, и это нас выручило. Немцы как бы предоставили нам время, мы использовали его и с каждым днем наращивали оборону города. Немцы уже не могли взять Киев с ходу, хотя и предпринимали довольно энергичные попытки к его захвату. Я сказал Сталину, что Киев еще наш и мы твердо держимся, построив прочную оборону. Это были первые серьезные достижения в создании обороны. Против наших войск неоднократно предпринимались атаки, и мы их с успехом отбили. И я ему сказал: "Сейчас у нас есть уверенность, что наступление на Киев в лоб вряд ли будет иметь успех". Вот я говорю сейчас: "Вряд ли". Думаю, что для людей, которые имеют хоть какое-то понятие об обстановке в то время, это "вряд ли будет иметь успех" - слишком оптимистическое заявление.
В Красной Армии тогда, к сожалению, больше рассказывали, как мы бежали, а не как давали отпор. Хотя в процессе бегства наши войска останавливались и наносили довольно чувствительные удары по врагу. Это я теперь ясно вижу, когда прочел книгу "Совершенно секретно! Только для командования!". В ней для меня особенно интересны были подлинные документы из стана врага. С комментариями в книге я не во всем согласен: они недостаточно глубоки и недостаточно объективны. Дальше, видимо, я выскажу свое мнение, в чем конкретно я считаю их недостаточно глубокими и недостаточно объективными. Но вражеские документы доставили мне, я бы сказал, наслаждение. Запоздалое по времени, но наслаждение.
Я читал эту книгу (издательство "Наука". 1967) и видел, как этот бесноватый Гитлер корчился, как извивался он под ударами наших доблестных советских войск и на тех направлениях, где я был членом Военного совета (ни в какой степени я не приписываю этот факт своим личным качествам. Упоминаю об этом, чтобы меня никто не подозревал или тем более не обвинял в нескромности). Сейчас, объективно делая выводы на основе заключений врага, вижу, что наибольшее сопротивление оказывали и наибольший урон наносили немецким войскам именно мы, на Юге. В первые дни войны я был в КОВО, затем в Военном совете Юго-Западного фронта, затем Южного фронта, потом Сталинградского и Юго-Восточного, затем опять Южного, далее Воронежского, потом 1-го Украинского фронта. Мне было приятно читать. Сейчас мы перешагнули 20 с лишним лет после разгрома гитлеровских войск. Документы, которые были совершенно секретны, стали доступны всем, кто желает познакомиться с тем, как организовывалась и как протекала эта великая борьба народов против фашистской чумы, против гитлеровских сумасбродных идей господства нацизма над всем миром и прочих бредней, которые Гитлер высказывал и в которые верил.
Нужно прямо сказать, что Гитлер увлек немецкий народ. Изображать, что его никто не поддерживал, глупо. Если бы Гитлер не имел опоры в немецком народе, то не смог бы добиться того, чего достиг. Он обманул немцев, это верно. Но все-таки даже рабочие поддерживали его. Я это знаю по допросам пленных. Да и внутренней широкой антигитлеровской борьбы рабочих и крестьян в Германии не чувствовалось. Если бы это было, то, видимо, такой стойкости, которую показали немецкие войска во Второй мировой войне, не проявилось бы. Если бы немецкая армия, которая состояла из рабочих и крестьян, если бы эти люди выступали против нацизма и против Гитлера, то они не проявили бы такой стойкости. Поэтому-то нам и приходилось каждую пядь земли брать с боем и проливать очень много крови. Все наши военные знают, что когда мы готовились к наступлению, то место для удара выбирали наиболее выгодное в стратегическом отношении, которое отвечало бы нашим стратегическим замыслам: не с немецкими солдатами, а румынскими или итальянскими. Эти войска были малоустойчивы к нашим ударам. При первом же ударе оборона, которую занимали эти войска, разваливалась. Иное положение складывалось на тех участках, где в обороне находились мадьяры. Мадьяры оказывали очень упорное сопротивление. Видимо, я несколько отвлекся, так как то, что я говорю, скорее всего, должно относиться к заключительной части моих воспоминаний.
Поэтому возвращаюсь к беседе со Сталиным. Сталин меня расспрашивал, и я рассказал ему о положении на нашем участке фронта. Его голос и выражение лица были не сталинскими. Я привык видеть его уверенность, твердое такое выражение лица и глаз. А здесь был выпотрошенный Сталин. Только внешность Сталина, а содержание какое-то другое. Я уже говорил, что меня неотвязно преследует его упрек в отношении русского народа. Он сказал: "Ну вот, говорили: русская смекалка! Где же это сейчас русская смекалка? Где она? Почему не проявляется?". Не помню, что ответил ему. Наверное, ничего.
Потому что ответить я ничего не мог. Русскую смекалку из кармана не вытащишь. Я был внутренне возмущен. Когда уехал из Москвы, меня просто распирало. Как же так? Он возлагает сейчас ответственность на всю русскую нацию. Русские, дескать, не проявляют смекалки... Так как же ты можешь так думать о людях, русских ли, украинцах, белорусах, узбеках или других народах нашей великой Родины? Обвинять их в том, что они не проявили смекалки в то время, когда первая смекалка - вооружение, вооружение и еще раз вооружение! Вот что прежде всего, а потом уже проявление смекалки в том, как правильно и более эффективно использовать это вооружение. Наши войска твоей волею, именно твоей, Сталин, были поставлены в такие условия, когда они не имели даже достаточного количества винтовок. Я уже не говорю о противотанковой артиллерии; не говорю, что мы сначала и понятия не имели о противотанковых ружьях. Не было у нас и автоматического оружия. Потом появились автоматы ППШ. Эти автоматы были изобретены нашими конструкторами-оружейниками вскоре после Финляндской войны, но не изготавливались. В Финляндии мы на практике познакомились с этим оружием. Финнами оно широко применялось против наших войск, и мы несли очень большой урон. Несмотря на это, такого оружия у нас не было в начале Великой Отечественной войны.
В то время рассуждали так, что это оружие неприцельное и очень расточительное по количеству употребляемых боеприпасов. Этот вопрос - святая святых Сталина, он был тут судья. Поэтому в Красной Армии оставили винтовку. Но жизнь показала обратное. Мы вынуждены были вернуться к этому оружию. Быстро и в достаточном количестве стали делать автоматы и снабжать ими нашу армию. А если бы это сделали раньше? Если бы это правильно было оценено? Кто в этом виноват? Сталин виноват. Сталин и Сталин! Могут сказать: не Сталин же занимался вопросами вооружения. Именно Сталин! Я уже раньше говорил, что старался несколько раз приоткрыть глаза Сталину на маршала Кулика, чтобы он более трезво оценил его. А он все-таки он не стал меня слушать. Наоборот, упрекнул меня, что я не знаю этого человека, а он его знает. Такая самоуверенность в оценке людей и, следовательно, в знании дела вот к чему теперь привела. Стоила стольких жизней, такой крови советским людям... Вот какой промах был допущен по вине Сталина.
Сегодня утром мне звонили многие товарищи и поздравляли с днем 50-летия Советских Вооруженных Сил. Звонил мне и мой товарищ, давний друг Сердюк. Я его знаю много лет как партийного работника. Он вместе со мною уехал из Москвы на Украину, стал потом вторым секретарем Киевского городского партийного комитета и я был избран первым. Мы жили и работали с ним вместе. Когда началась война, я порекомендовал его членом Военного совета 6-й армии. Он был утвержден в должности, а потом оставался членом Военного совета армии до полного разгрома немцев под Сталинградом. Там он был членом Военного совета 64-й армии, которой командовал Шумилов замечательный генерал и замечательный человек[30]. Он сейчас находится на пенсии.
Я уже говорил, что 6-я и 12-я армии отступили после того, как немцы зашли глубоко во фланг этим армиям, а потом они их окружили и разгромили где-то в районе Умани. Эти две армии попали в плен. И их штабы попали в плен вместе с командующими Музыченко и Понеделиным. Вот тогда снова возник в моей памяти довоенный инцидент с Музыченко, но уже, как говорится, последствий никаких не было. Допускали только, что мы, видимо, прозевали, и он, может быть, действительно был нечестным человеком, хотя его поведение и управление войсками оставались до конца безупречными. 12-я и 6-я армии, борясь в окружении, наносили, как теперь известно по немецким документам, довольно большой урон немецким войскам и дрались до последнего. Музыченко был взят в плен раненым; кажется, он лишился ноги. Музыченко попал в такой переплет, который вроде бы давал все основания верить, что он нечестный человек, что он немецкий агент. Это было умозаключение, которое не подтвердилось. Хотя косвенные показатели вроде бы имелись.
Эти генералы, попав в плен, числились у нас как предатели. Тогда все, попавшие в плен, считались по приказу Сталина предателями, а семьи их подлежали высылке в Сибирь. Это было применено, конечно, и против семей Музыченко и Понеделина. Потом эти люди вернулись домой. Я даже помню, что Музыченко возвратился на какую-то работу в ряды Советской Армии, Понеделин - тоже. Потапов тоже попал в плен и тоже вернулся. Он потом занимал какую-то командную должность в Советской Армии. Вот в такие сложные переплеты попадали порой наши командиры[31]. Хотел бы рассказать еще о таком случае. Думаю, что организовал эту подлость Сергиенко[32]. Сергиенко был наркомом внутренних дел УССР. Такой длиннющий и хитрый человек. Оборотистый человек. Потом оказалось, что это был очень нечестного склада, коварный человек. В Киеве сложилась тяжелая обстановка, и мы вынуждены были перенести штаб Юго-Западного фронта в Бровары. Мы сделали это вместе с командующим войсками. И вдруг я получаю телеграмму от Сталина, в которой он несправедливо обвинял нас в трусости и угрожал, что "будут приняты меры". Обвинял в том, что мы намереваемся сдать врагу Киев. Сталин верил своим чекистам, считал, что они безупречные люди. В телеграмме, конечно, ссылки на них не было.
Но я убежден, что никто не мог сделать это, кроме Сергиенко. Это была подлость! А когда Киев был немцами обойден, он остался в их тылу и выбрался из окружения, переодевшись в крестьянскую одежду. После этого случая я его не уважал и ему не доверял. Рассматривал его как подлого человека, способного на клевету. Чтобы выставить себя героем, он мог других людей обвинить в самых смертных грехах. Но теперь история знает, что мы не только не намеревались сдавать Киев, а нанесли немецким войскам очень большой урон и отбили у них охоту атаковать город в лоб. Киев пал не в результате того, что он был оставлен нашими войсками, которые его защищали, а в результате обходных маневров, предпринятых немцами с севера и с юга, из районов Гомеля и Кременчуга. Это я просто попутно припомнил неприятный эпизод, который глубоко переживал. Однажды, в конце июля или в начале августа 1941 г., мне позвонил из Москвы в Киев Сталин и сказал, что создан штаб Юго-Западного направления.
Командующим войсками Юго-Западного направления назначили Буденного[33]. Буденный будет сидеть под Полтавой со своим небольшим оперативным штабом по управлению и координации действий двух фронтов: Юго-Западного, войсками которого командовал Кирпонос, а я был там членом Военного совета, и Южного фронта, войсками которого командовал в то время, кажется, Тюленев[34]. Там имела место быстрая смена командующих. Сначала командовал Тюленев, потом - Рябышев, затем - Черевиченко, потом, в конце концов, был назначен Малиновский[35]. Он был наиболее стабильным командующим и довольно долго находился в должности командующего войсками Южного фронта. Ему, как говорится, достались и шишки, и пышки. Шишки - оттого, что в 1942 г. он вторично сдал врагу Ростов. Его войска были разгромлены, как и войска Юго-Западного фронта. Малиновский попал в опалу и был снят с командования. Потом, спустя полгода, опять вернулся в должность и вновь командовал войсками Южного фронта. Далее он командовал, кажется, войсками Юго-Западного, 3-го Украинского и 2-го Украинского фронтов и в этой должности закончил войну на западе, дошел до Вены и Праги и торжествовал вместе с другими полный разгром гитлеровских войск...
Итак, Сталин сказал мне: "Буденный в Полтаве один, и мы считаем, что Вам надо было бы к нему поехать. Мы утвердим Вас членом Военного совета Главного командования Юго-Западного направления, и Вы с Буденным будете командовать двумя фронтами: Юго-Западным и Южным". Отвечаю: "Если мне нужно поехать на Юго-Западное направление, в штаб к Буденному, то вместо меня можно назначить товарища Бурмистенко - второго секретаря ЦК Коммунистической партии Украины[36]. Очень хороший товарищ, умный человек, и он вполне справится с обязанностями. Он знает людей и они его знают. Отношение к нему очень хорошее. Командующим же оставить Кирпоноса". "Хорошо, - говорит. - Вы тогда вызывайте Бурмистенко и скажите, что он утверждается членом Военного совета Юго-Западного фронта. А Вы немедленно снимайтесь и выезжайте к Буденному. Будете там командовать вместе с Буденным". Я вызвал Бурмистенко. Штаб находился в Броварах, в 27 километрах от Киева на восток за Днепром. Бурмистенко же был в ЦК партии в Киеве. Он тогда по решению ЦК занимался закладкой боеприпасов, продовольствия и подбирал подпольных партийных руководителей. Одним словом, закладывал технические и материальные средства будущего подполья в лесах, там, где считалось более надежным. Были созданы школы, в которых обучались подрывники - люди, которые умели бы минировать железные дороги, шоссейные дороги и здания. Приехал Бурмистенко.
Я ему сказал: "Звонил Сталин. Вы будете членом Военного совета фронта. Сталин сказал, чтобы Вы сейчас же вступали в эту должность, приказ будет отдан позже. Мне он приказал немедленно выехать в Полтаву, к Буденному. Я буду там членом Военного совета Главного командования Юго-Западного направления". И в тот же день, раз Сталин сказал, что дело срочное, я передал командующему, что Сталин дал указание назначить вместо меня членом Военного совета Бурмистенко, и теперь Кирпоносу нужно будет все вопросы решать с ним. Кирпонос был очень покладистым человеком, поэтому с ним было легко работать. Он проявлял себя не так, как, к сожалению, некоторые генералы, которые очень болезненно относились к замечаниям членов Военных советов, если те стремились участвовать в решении вопросов не формально, а по существу. Официально командующие без них ничего не могли поделать, потому что имелся приказ, что член Военного совета отвечает наравне с командующим за принятые решения. Без подписи члена Военного совета любой приказ командующего был недействителен и не подлежал к исполнению нижестоящими войсками, которым был отдан этот приказ. Это уже такая форма дела, от которой никуда не уйдешь, если же член Военного совета проявлял инициативу и хотел участвовать в решении вопроса, а не только скреплять его своей подписью, то некоторые командующие встречали это в штыки.
Особенно болезненно относился к этому Конев. Один из его членов Военного совета[37] жаловался: "Невозможно работать, третирует". Толковый член Военного совета, военный по профессии, так что он знал свое дело, хороший человек. Сейчас мне неизвестно, жив ли он. К сожалению, и многие другие генералы (я сейчас не называю их) были "тяжелы". Нелегок был и Жуков. Однако я считаю, что вместе с Жуковым можно было действовать более свободно. Это был очень властный человек, но когда мне приходилось с Жуковым (а так часто случалось) рассматривать те или другие вопросы, то мне нравились его взгляды, его решения и его товарищеское отношение. Я уважал его, и уважение это сохранилось доныне, несмотря на то, что мы разошлись с ним в конкретных вопросах. Я сожалею, что он это допустил. Сдав дела Бурмистенко, я сейчас же отправился в Полтаву. Прибыл в Полтаву и нашел штаб направления. Он располагался западнее Полтавы (километрах в 15 или 20 в каком-то совхозе или загородном хозяйстве). Удобное было место. Можно было выезжать в войска, минуя Полтаву, за исключением Харькова. Но Харьков у нас тогда был в тылу, и не Харьков нас интересовал.
Интересовали нас тогда Киев, Днепропетровск и другие города на юго-западе. Когда я подъехал к штабу Буденного, меня удивил стоявший у крыльца танк. Заметив мое недоумение, Буденный пояснил: "Сейчас не то, что в Гражданскую. У немцев техника, самолеты, вот я от них в танке и укрываюсь, езжу на нем вместо автомашины". Я приступил к обязанностям члена Военного совета Юго-Западного направления. Что же это был за штаб, что за организация - штаб направления? Чем она конкретно занималась, я и сейчас сказать не могу. Командование направления никакими вопросами обеспечения, боеприпасами, материальным снабжением, боевым обеспечением не занималось. Этими вопросами занимались сами штабы фронтов, у них имелась непосредственная связь со Ставкой, и они решали все со Ставкой, минуя нас. Командование направления взаимодействовало с фронтами только в вопросах оперативного характера. Нам докладывали обстановку, перед нами отчитывались командующие, но отчитывались как бы на равных: мы могли давать им советы, те или другие. Командующие принимали от нас эти советы, указания и, если они им нравились, то выполняли. А если не нравились, то по своим каналам (а таких каналов у них было сколько угодно) апеллировали в Генеральный штаб. С Буденным у меня сложились очень хорошие отношения. Характер у него, с одной стороны, положительный, а с другой - очень задиристый.
Однажды мы с ним возвращались поздно вечером из Днепропетровска. Обстановка была тяжелая: наши войска оставляли Днепропетровск[38]. Часовой, охранявший подъезды к нашему штабу, задержал нас. Буденный начал с ним говорить и оскорблять его. Солдат стал отвечать ему согласно уставу. Тут Буденный начал ему более настойчиво "разъяснять", и разъяснение это кончилось тем, что он ударил солдата по лицу. Я был просто поражен. Как так? Маршал Советского Союза ударил человека, совершенно невиновного, действовавшего согласно уставу, ударил в нарушение всех уставных норм. Мы там ехали, и он нас задержал, это была его обязанность, он ведь для этого и поставлен. Чистый произвол! Я объясняю этот случай вспыльчивостью маршала. Потому что в принципе Буденный не таков, но он сохранил, видимо, прежнюю привычку как старший унтер-офицер, которым он был в царской армии. Вот и проявилась такая несдержанность. Мы потом разговаривали с Семеном Михайловичем по этому поводу, и я чувствовал, что он сам переживал случившееся. К сожалению, Буденный не однажды позволял себе такие выходки.
Начальником штаба был у нас генерал Покровский[39]. По-моему, генерал-майор. Потом (не знаю, правда, в какой должности он служил после войны) он сидел над материалами по истории этой войны. Считаю, что эта его деятельность была полезной, потому что он профессиональный военный и знает свое дело. Очень кропотливый, на редкость пунктуальный человек. Я бы сказал, до тошноты въедливый человек. Сначала я рассматривал это как его большую работоспособность, а потом увидел, что это идет в тех условиях во вред делу. С ним ничего нельзя было поделать, потому что он, пройдя школу штабной работы, в интересах штабной работы и организации проверки исполнения приказов просто парализовал штабы фронтов и армий. Он не давал возможности работать начальникам штабов и даже командующим войсками, держал их у телефонов и требовал, чтобы они непрерывно докладывали о состоянии войск, положении на том или другом участке фронта, положении в том или другом соединении. Это совершенно невыносимо, но люди ничего не могли поделать. В подтверждение сошлюсь на такой случай. На Днепропетровском направлении сложилась очень тяжелая обстановка. Немцы вплотную подошли к Днепропетровску и обстреливали город. Днепропетровск защищала армия (или группа войск), которой командовал генерал Чибисов[40]. Это был солидный, толстый, уже в летах человек, бывший офицер царской армии. Он прошел школу гражданской войны в Красной Армии. Сталин знал его лично, знал еще по Царицыну, и доверял ему.
Я сказал Семену Михайловичу, что поеду в Днепропетровск послушать Чибисова и секретаря обкома партии. Там был тогда секретарем обкома Задионченко. Я уважал его, он заслуживал этого: дельный и энергичный человек. Поехал я. Приехал уже поздновато: смеркалось или даже было уже темно. Меня провели в расположение штаба, и я поднялся по лестнице. Штаб находился на втором или третьем этаже. Когда я зашел, командующий был на ногах, ходил по комнате. Тут же, у стола, стоял буквально на коленях и держал телефонную трубку, прижимая ее плечом, начальник штаба. Он что-то записывал в блокнот и давал ответы по телефону. Я спросил Чибисова о положении дел. "Положение? Да вы сами видите, какое". В это время раздавались взрывы немецких снарядов. Немецкая артиллерия обстреливала район расположения штаба.
Не знаю, случайно ли, но артиллерийский огонь был особенно интенсивным. Может быть, немцы знали, что тут находится штаб? В плен к ним попадали и такие наши офицеры, которые знали место расположения штаба. Может быть, у кого-то не хватило выдержки, и он проговорился? А Чибисов мне сдержанно отвечал, но я чувствовал, что он раздражен. Он говорил, что организует оборону, но это было лишь заявление общего характера. Я много раз уже слышал от разных командиров: как приедешь к ним, говорят, что организуем оборону, а потом, как уехал, смотришь, а командир следом за тобой убыл, да и бросил оборонять этот участок. К сожалению, так бывало. Я далек от того, чтобы обвинять этих людей в умышленно неправильных докладах. Нет, просто складывалась такая обстановка, что командир не мог сказать, что сдаст обороняемый пункт. Это было исключено, потому что он мог поплатиться за это. А выразить какую-то надежду или, может быть, даже уверенность в том, что немцы тут не пройдут, а уже потом сказать, что под натиском превосходящих сил противника наши войска оставили данный район, - стандартная формулировка, и я к ней в ту пору привык.
Спрашиваю Чибисова: "Как обстановка?". А обстановка была такая, что немцы вплотную подошли к Днепропетровску. "Вот, - отвечает, - видите картину?". Я не понял: "Какую?". "А вот сидит полковник, начальник штаба. Он уже сидит так час или больше и отвечает вашему начальнику штаба генералу Покровскому про обстановку у нас на фронте. Он совершенно парализован, потому что не работает. Если он перестанет разговаривать по телефону, то его через 10 - 15 минут опять вызовут и будут держать час или два. Он даже не сидит, а стоит на коленях, потому что у него места, на которых сидит человек, заболели". Да так зло говорит это! К сожалению, все это отвечало действительности. Но нужно сказать, что в то время опыт в военном деле у меня был очень небогатый. Поэтому я не знал, насколько Чибисов прав. Казалось, что он прав, но, с другой стороны, я относился к Покровскому с уважением, он ведь тоже руководствовался хорошими, честными побуждениями, хотел знать истинное положение дел в войсках. Позже, когда много месяцев находясь в войсках, я уже привык к военной жизни, то понял, что, хотя бы и из хороших побуждений, Покровский объективно наносил вред. Действительно, из-за таких непрерывных вопросов парализуется вся работа.
Взаимоотношения военных людей вообще весьма своеобразны и часто непонятны штатскому человеку. В этой связи мне запал в душу один более поздний разговор с Малиновским. Мы уже, кажется, освободили Ростов, наш штаб фронта стоял на хуторе Советском. Я этот хутор знал еще по 1941 году. После освобождения Ростова проводилась операция с целью выбить противника из Таганрога. Штаб армии находился тоже в хуторе Советском. Я хотел поехать в Ростов и узнать, что же делается в городе, как идет восстановление хозяйства, налаживается жизнь, организуется партийная работа. Секретарем обкома партии тогда был Двинский[41]. Хотел я и послушать Двинского, что он скажет о настроениях ростовчан? Поехал я, провел совещание партийных работников Ростова, проверил, как восстанавливается жизнь, как функционируют партийные комитеты и органы Советов. Оттуда вернулся уже ночью. У меня возник какой-то вопрос к командующему войсками фронта Малиновскому, я решил поговорить с ним по телефону. Звоню: "Родион Яковлевич, у меня к вам вопрос. Вы сейчас на ногах или в постели?". Он замялся: "Я, знаете ли, в постели сейчас. Если что нужно срочно, могу сейчас же одеться и прийти". Говорю: "Нет, что вы, отдыхайте, раз легли. У меня не срочный вопрос, завтра обменяемся мнениями".
Какой был вопрос, теперь уже не помню. Видимо, текущего порядка. Может быть, возникли какие-то просьбы со стороны Двинского - помочь городу чем-нибудь из трофейного имущества. Были тогда такие нужды у местных партийных и советских органов. Ответ Малиновского мне понравился. Некоторые другие военные, с которыми приходилось совместно работать и быть у них членом Военного совета, всегда изображали, что они не спят, что всегда на ногах и все время обдумывают военные проблемы, как им разгромить противника. Бывало, иной раз зайдешь неожиданно к командующему, он сидит, а глаза у него заспанные. Он спал, адъютанты же, увидев меня, тотчас его разбудили. Вот он и "в бодром состоянии", а на самом деле спал.
Мне это очень не нравилось, но сказать об этом и обидеть человека, занимавшего высокий пост, я не мог. Поэтому мне был известен такой недостаток у командующих. Нет же вообще людей не спящих, потому что человек имеет органическую потребность в отдыхе. Если он не будет спать, это просто больной человек. А если он лишился сна по болезни, то лишился и трудоспособности, тем более такой трудоспособности, которая требуется от командующего по руководству войсками, ведению операций, боев с врагом. Малиновский был не таким человеком, и это мне очень нравилось. Он мог даже прямо сказать, вроде как бы наговаривая на себя, что он "не так" относится к делу, как надо, поскольку позволяет себе спать во время войны.
Мы с ним много раз беседовали по всяким вопросам, и однажды он в беседе со мной высказался по поводу отдачи приказов. Его слова мне тем более интересны, что это говорил именно Малиновский, командующий войсками фронта, очень опытный военный человек, который всю жизнь проходил в мундире и много раз бывал в боях: и в Первую мировую войну, и в Испанскую народно-революционную, и во Вторую мировую. Он сказал: "Товарищ Хрущев, порядок дела такой. Когда мы принимаем решения и отдаем приказы по фронту, то надо заранее рассчитать время. Чтобы эти приказы были переданы в армии, требуется столько-то времени; чтобы приказы, полученные армиями, передали бы в корпуса, столько-то времени; чтобы корпусные командиры передали эти приказы в дивизии - столько-то времени и т.д. В целом довольно длительное время. Если мы сейчас же, как только издали приказ, начнем проверять его выполнение, то вместо того, чтобы содействовать скорейшему доведению этого приказа войскам, будем отрывать людей от дела, и они, докладывая нам, не скажут, что приказ не выполняется, а скажут что-нибудь другое.
Так иной раз мы заставляем людей выдумывать и парализуем их работу. Поэтому, если отдал приказ, надо дать расчетное время, чтобы приказ был доведен до боевых единиц. Тогда офицеры начнут, каждый по своей линии, проверять правильное разъяснение приказа и соблюдать уставной порядок, которому обучают каждого офицера". Вот почему я теперь полагаю, что Чибисов был прав, когда выражал недовольство тем, что Покровский сидел на беспрерывном контроле выполнения приказов, отданных командованием, и тем самым лишал людей возможности ведения работы по организации войск на основе полученных приказов. В ту пору события в районе Днепропетровска развивались очень бурно, но не в нашу пользу. Мне несколько раз приходилось выезжать к Днепру, знакомиться с тем, как организована оборона по предотвращению его форсирования врагом.
Когда я поездил и посмотрел, то понял, что эта оборона очень неустойчива. То была не сплошная оборона по берегу, а просто курсировали вооруженные речные катера Днепровской военной флотилии. Отдельные подразделения были размещены в определенных местах, наблюдали за берегом и в случае попытки форсирования должны были дать отпор. Такая оборона не внушала надежд. Если противник сосредоточит усилия на определенном направлении, то без особого труда сможет форсировать Днепр. В те дни немцы не предпринимали каких-либо особых попыток ворваться в Киев. Мы успокоились и считали, что противник потерял охоту ворваться в Киев в лоб. Зато очень активные действия развивались севернее Киева, в сторону Гомеля. Недавно я слушал передачу, связанную с подготовкой празднования 50-летия Советских Вооруженных Сил. Выступал по радио маршал Еременко. Он рассказывал, как вел бои на Гомельском направлении. Отсюда я сделал вывод, что там тогда командовал войсками Еременко. Какой же это был фронт? Западный? Или к тому времени уже был создан Брянский фронт? Мне это неизвестно. Знаю только, что Гомель для нас, то есть для Юго-Западного фронта, послужил тем каналом, через который к нам прорвался противник и создал угрозу окружения наших войск под Киевом. На участке фронта у Днепропетровска завязались упорные бои. Враг форсировал Днепр. Нами был наведен понтонный мост, по которому отходили наши войска, но саперы, видимо, недостаточно хорошо затем разрушили его, и враг им воспользовался.
Трудно было толком разобраться, как это случилось, потому что командование докладывало, что мост взорван, а быстрота, с которой враг оказался на левом берегу реки, свидетельствовала, что мост цел. Беженцы с левого берега сообщали, что мост взорван, но сохранил способность держаться на воде. Использовать его под тяжелые грузы было нельзя, а пехота могла пройти. Видимо, враг этим и воспользовался: перебросил пехоту, а потом восстановил мост и перебросил технику. Вновь завязались очень тяжелые бои. Мы с Буденным выехали к Малиновскому. Вместо погибшей в окружении прежней 6-й армии была создана новая, и ей был присвоен тот же номер. Командующим этой-то армией и был назначен Малиновский. Прежде Малиновский мне был неизвестен. Раньше он командовал корпусом[42]. Штаб армии располагался, по-моему, в школе города Новомосковска.
Приехали мы. Была очень тяжелая обстановка, противник все время держал дорогу под бомбежкой, чтобы нам нельзя было подбрасывать подкрепления. Но у нас нечего было и подбрасывать. Вошли мы с Буденным в школу и увидели такую картину: кругом все гудит, гремит; докладывает обстановку командующий 6-й армией Малиновский, и в это же время принесли на носилках командующего войсками Южного фронта Тюленева. Рана у него была несерьезная, но ходить он не мог, так как был ранен в ногу (повреждена мякоть). Тюленев для вдохновления бойцов сам пошел в их рядах, повел их в атаку на противника и при разрыве мины был ранен. С ним же пришел секретарь обкома партии Задионченко. После ранения Тюленева командующим войсками Южного фронта был назначен казак, который до того командовал танковым корпусом, по фамилии Рябышев. Было сделано все, что в наших силах, чтобы отбросить противника и не позволить ему создать опорный плацдарм на левом берегу Днепра.
Но наши усилия не увенчались успехом. Реальных сил, реальных возможностей у нас не имелось. В это же время мы обнаружили, что противник, концентрируя войска, пытается форсировать Днепр севернее Днепропетровска, в районе Кременчуга. Опять было предпринято все, что в наших силах: направили туда авиацию, бомбили на подходах к реке танковые войска и пехоту противника, чтобы не позволить ему форсировать Днепр. Но противник все-таки форсировал реку и создал плацдарм, помимо района Днепропетровска, еще и в районе Кременчуга и занял левобережную часть этого города. Когда мы стали разгадывать, какие же дальнейшие намерения имеет противник, то вырисовалась достаточно ясная картина. Его замысел нам представлялся таким: ударом с юга, с плацдарма у Кременчуга, и ударом с севера, где противник вышел почти что к Курску, прорваться по нашим тылам (войск там у нас не было) и замкнуть окружение наших войск, расположенных по Днепру у Черкасс и за Днепром в Киеве. Мы обсудили сложившуюся обстановку. Дополнительных сил в нашем распоряжении не было. Даже разгадав вражеский замысел, мы не могли парализовать его осуществление. У нас созрело такое решение: взять некоторое количество войск, артиллерии и прикрыться на фланге в направлении от Киева к Кременчугу, с тем чтобы здесь, в украинских степях, было чем преградить немцам путь на север и не дать им возможность сомкнуть кольцо. Что мы могли взять? Было видно, что войска, которые имелись в Киеве, пока не используются.
Там создалась тихая обстановка, и противник никаких усилий против Киева не предпринимал. Мы с Буденным подготовили соответствующий приказ и послали текст в Москву, чтобы получить согласие. Сами же осуществить такую перегруппировку не имели права. Москва отреагировала очень быстро, но своеобразно. Никакого ответа нам не дали, а вместо того вдруг прилетел маршал Тимошенко с предписанием Буденному сдать главное командование Юго-Западным направлением. В обязанности главнокомандующего войсками Юго-Западного направления вступил Тимошенко. Мы с Буденным распрощались. Буденный сказал мне: "Вот каков результат нашей инициативы", - и уехал. Переменили главнокомандующего, но обстановка не изменилась, так как новый главнокомандующий приехал с голыми руками. Следует отдать должное Тимошенко. Он отлично понимал обстановку, все видел и представлял, что для наших войск здесь разразится катастрофа. Но каких-либо средств, чтобы парализовать это, не было. Несколько раз выезжали мы с Тимошенко в войска, как ездили раньше с Буденным. Выезжали, например, как помню, западнее Полтавы. Там у нас была механизированная группа, командовал ею генерал Фекленко.
Когда Фекленко увидел нас, буквально глаза вытаращил от какого-то не то изумления, не то страха. Мы попросили, чтобы он доложил обстановку. Он кратко доложил и тут же попросил: "Поскорее уезжайте отсюда!". Обстановка была такая тяжелая, что он не был уверен в нашей безопасности. Действительно, там, кроме остатков войск Фекленко, ничего не было. Над ними совершенно безнаказанно летал похожий на У-2 итальянский самолет-разведчик. Враг пользовался безнаказанностью, и даже в дневное время спокойно летал такой тихоход. В конце августа[43] или в начале сентября соединения противника ударами с юга и с севера соединились восточное Киева. Наша группировка оказалась в окружении[44]. В том числе в окружении оказался штаб Юго-Западного фронта во главе с командующим войсками фронта Кирпоносом и первым членом Военного совета Бурмистенко. Кроме Бурмистенко, были еще два члена Военного совета. Один из них - молодой комиссар Рыков, очень хороший товарищ и очень деятельный человек. Он все время мотался по войскам и делал все, что было в его силах, для улучшения обстановки. Начальник оперативного отдела штаба фронта полковник Баграмян в это время находился в районе Кременчуга и избежал окружения. Мы вызвали его в штаб Юго-Западного направления, разобрались в обстановке, предложили ему немедленно вылететь в расположение штаба Юго-Западного фронта к Кирпоносу и дали устные указания (так как он мог попасть в руки противника). Никаких письменных документов при нем не было.
Указания были: пробиваться из окружения! Баграмян правильно понял наш приказ и понимал также, что ему нужно возвратиться в штаб. Он сказал: "Штаб находится там, и я как начальник оперативного отдела должен быть вместе со штабом". Но в это время командующий войсками Юго-Западного фронта Кирпонос получил из Генерального штаба приказ вернуться в Киев и там организовать оборону. Иными словами, ему приказали не пробиваться из окружения, а, наоборот, идти в тыл противнику. Штаб фронта располагался в это время километрах в 150, если не больше, к востоку от Киева. Это был очень длинный путь для штаба с его хозяйством при отсутствии горючего и боеприпасов и невозможности получить их по воздуху. Такие обстоятельства игнорировались наверху. Кирпонос отдал приказ, и штаб двинулся на запад[45]. Не знаю, какое расстояние они успели пройти, как получили из Москвы новый приказ - пробиваться на восток. Баграмян уже после выхода из окружения докладывал нам, что в штабе было принято решение повернуть назад. Но штаб был всем этим дезорганизован. Решили, что группы штабных работников должны пробиваться на восток разными путями севернее Полтавы.
Была организована группа, которая будет идти впереди работников штаба и ломать сопротивление противника. У противника войск там было мало, он не рассчитывал столкнуться в своем тылу с нашими воинами, поэтому у командующего имелась надежда пробиться. Началось движение. Однако вырваться из окружения всему штабу не удалось, а Баграмян с группой бойцов вышел. Возник разрыв. Штаб фронта отстал от своей передовой группы, которой командовал Баграмян. А мы тогда уже потеряли связь со штабом фронта. Ранее того Бурмистенко послал своего помощника на самолете У-2 к нам с секретными партийными документами, в которых упоминалось о том, где заложены тайники с вооружением, обмундированием, питанием и боеприпасами для партизанского движения. Так прилетел от него Шуйский[46]. Потом он стал моим помощником и оставался им до конца моей партийной, политической и государственной деятельности. Очень честный, исполнительный и добропорядочный человек. Шуйский рассказал, что вылетел перед рассветом, под пулеметным огнем, вместе с летчиком, полковником Рязановым (тот потом командовал авиакорпусом).
Немцы уже сжимали кольцо вокруг штаба со всех сторон. Вот и все скудные сведения. Затем стали выходить оттуда, поодиночке и группами, из окружения генералы, офицеры и бойцы. Каждый выносил свои личные впечатления и давал потом свою информацию об обстановке, в которой непосредственно сам находился. Спустя какое-то время мы получили сведения, что Кирпонос погиб. Какой-то работник особого отдела штаба фронта докладывал мне, что видел труп Кирпоноса и даже принес его личные вещи: расческу, зеркальце. Я не сомневался в его правдивости. Он рассказал, что есть возможность еще раз проникнуть в те места. И я попросил его, если есть такая возможность, вернуться и снять с френча Кирпоноса Золотую Звезду Героя Советского Союза. Он всегда носил ее. И этот человек пошел! Там были болота, труднопроходимые для техники. А человек их преодолел, вернулся и принес Золотую Звезду. Когда он передавал ее мне, я спросил: "Как же так? Там, наверное, действуют мародеры?". Он ответил, что френч командующего был залит кровью, клапан нагрудного кармана отвернулся и прикрыл Звезду так, что ее не было видно. "Я, - говорит, - как Вы мне сказали, отодрал от френча Звезду".
Совершенно бесследно исчез Бурмистенко, секретарь ЦК КП(б) Украины и член Военного совета Юго-Западного фронта. Мы предприняли очень много усилий, чтобы найти его следы. От людей из охраны Бурмистенко стало известно только одно: они ночевали последнюю ночь в копнах сена. Вечером они заметили, как Бурмистенко уничтожал все документы, которые у него были, - рвал их и закапывал. Зарылись в копны на ночь и расположились спать. Утром, когда они подошли к той копне, в которой ночевал Бурмистенко, его там не было. Потом они нашли закопанные им документы, включая удостоверение личности. Секретные же документы он отправил со своим помощником Шуйским, и мы их получили. Я сделал такой вывод: Бурмистенко уничтожал документы, удостоверявшие его личность. Он считал, что если попадет в руки немцев, то будет установлено, кто он и какое занимает положение. Все такие следы он уничтожил. Мы думали, что он все-таки выйдет из окружения. Много ведь генералов вышло, но Бурмистенко не появился. Думаю, что он или сам застрелился, чтобы не попасть в руки врага, или был убит при попытке выйти из окружения. Никаких документов, удостоверявших его личность, при нем не было. Поэтому он и погиб бесследно. Долго мы ждали его, но наши ожидания, к сожалению, оказались напрасными.
Многие вышли тогда из окружения. Вышел из окружения генерал Костенко[47] с группой войск. Вышел в одиночку начальник связи фронта[48]. Пришел Попель. Попель вернулся недели через две или через три. Он прошел лесами Полесья, там немцев еще не было, они шли большими дорогами. Попель даже вывез раненого полковника и вывел из окружения небольшое количество войск. Вышел генерал Москаленко (прежде он командовал, по-моему, противотанковой бригадой)[49]. Мы со штабом располагались севернее центра Харькова, в Померках[50]. Это когда-то было дачное место, любимое харьковчанами. Там произошел неприятный эпизод с генералом Москаленко. Он был очень злобно настроен в отношении своих же украинцев, ругал их, что все они предатели, что всех их надо выслать в Сибирь. Мне, конечно, неприятно было слушать, как он говорит несуразные вещи о народе, о целой нации в результате пережитого им потрясения. Народ не может быть предателем. Отдельные его личности - да, но никак не весь народ! И я спросил его: "А как же тогда поступить с вами? Вы, по-моему, тоже украинец? Ваша фамилия Москаленко?". "Да, я украинец, из Гришино". - "Я-то знаю Гришине, это в Донбассе[51]. Я совсем не такой". "А какой же вы? Вы же Москаленко, тоже украинец. Вы неправильно думаете и неправильно говорите". Тогда я первый раз в жизни увидел разъяренного Тимошенко.
Они, видно, хорошо знали друг друга. Тимошенко обрушился на Москаленко и довольно грубо обошелся с ним (с моей точки зрения): "Что же ты ругаешь украинцев? Что они, предатели? Что они, против Красной Армии? Что они, плохо с тобой поступили?". А Москаленко, ругая их, приводил такой довод: он спрятался в коровнике, пришла крестьянка-колхозница, заметила его и выгнала из сарая, не дала укрыться. Тимошенко реагировал очень остро: "Да, она правильно сделала. Ведь если бы ты залез в коровник в генеральских штанах и в генеральском мундире. А ты туда каким-то оборванцем залез. Она разве думала, что в ее коровнике прячется генерал Красной Армии? Она думала, что залез какой-то воришка. А если бы ты был в генеральской форме, она бы поступила с тобой по-другому". Мне это понравилось. И я сказал Москаленко: "Сейчас в окружении находится генерал Костенко с группой войск. Я убежден, что он выйдет из окружения. Послушаем, что он расскажет об отношении украинских колхозников к тем нашим войскам, которые остались в окружении в таком бедственном положении". Часто приходилось тогда слышать, что украинцы проявляют недружелюбие к отступавшей Красной Армии.
Я разъяснял: "Вы поймите: почему это крестьяне-украинцы должны приветствовать наше отступление? Они огорчены. Сколько труда затрачено. Ничего не жалели для укрепления армии, для укрепления нашей страны. И вдруг разразилась такая катастрофа. Армия отступает, бросает население, бросает территорию. Естественно, они проявляют недовольство по отношению к тем, кто оставляет их в беде. Это не предательство, а большое огорчение". Прошло несколько дней. Я заболел и лежал в том домике в Харькове, где располагались члены украинского правительства, когда столицей Украины был Харьков. Этот дом[52] занимал в то время и первый секретарь ЦК КП(б) Украины Косиор. Очень хороший особняк, со всеми службами и гаражом, окруженный железобетонным забором. Там-то мне и сообщили, что Костенко вышел из окружения. Я попросил передать Костенко, чтобы он немедленно приехал ко мне и доложил о событиях.
Я знал Костенко и с большим уважением относился к нему. Он приехал, и я его спросил: "Ну, как дела?". Он говорил всегда с юмором. "Да, ничего, - отвечает, - люди плакали, когда мы отступали". Спрашиваю его дальше: "А как люди, охотно ли вам помогали, когда нужно было кормить вашу конную группу?" "Да что вы! Только скажи, так резали кур, и телят, и свиней, и овес давали для лошадей. Все отдавали. Люди, как люди. Сильно плакали, жалели, что так вот сложилось, что Красная Армия вынуждена отступать". Мне очень приятно было слышать, как он развенчивал заявления некоторых людей, у которых под влиянием личных переживаний сложилось неправильное представление об украинцах. Это тоже были честные люди, я ни капли не сомневаюсь в преданности товарища Москаленко и других лиц. Я только сравниваю, как в тот момент реагировал украинец Москаленко и как реагировал украинец Костенко. И тот, и другой основывались на фактах. Только один основывался на том, что украинская крестьянка выгнала его из коровника, а другой - на том, как он выходил из окружения с группой войск в форме советского воина. Украинцы все делали для того, чтобы способствовать выходу из окружения группы, которую вел генерал Костенко!
Когда мы стояли под Полтавой (еще до окончательного окружения Киевской группировки), у нас был подготовлен командный пункт в районе Ахтырки, между Харьковом и Сумами. Поэтому когда мы потом вынуждены были оставить Полтаву, то перебазировали свой штаб в Ахтырку. Ахтырка находилась в таком географическом пункте, что бойцы, офицеры и генералы, выходившие из окружения от течения Сулы на Псел и Ворсклу, попадали потом как раз в район Ахтырки. Позднее создали командный пункт в Померках. Часть людей, которая выходила из окружения на Харьков, попадала теперь в Померки. Сюда пришел Москаленко, сюда же пришел и Костенко. Не знаю сейчас, сколько дней прошло после того, когда закончилась эта катастрофа и наши войска были пленены или перебиты. Мне доложили, что член Военного совета Рыков[53] был ранен и попал в госпиталь, который остался на территории, занятой противником. Но туда можно проникнуть, потому что там работают советские врачи и медсестры.
Я хотел выручить Рыкова, но понимал, что, если кто-нибудь проговорится насчет него, он будет врагом уничтожен. И я послал людей выкрасть Рыкова и переправить его на территорию, занятую советскими войсками. Они ушли, однако скоро вернулись, сказав, что Рыков скончался в госпитале и был похоронен. Сейчас я хотел бы вернуться к главной мысли - к итогам борьбы на Киевском направлении. Мы с Буденным предложили тогда произвести перегруппировку: взять артиллерию с Киевского направления и использовать для предупреждения главной опасности на левом фланге, на Кременчугском направлении. Северное направление, откуда противник двинулся на окружение наших войск, лежало на территории вне нашего влияния, влияния Юго-Западного направления. Там командовал войсками генерал Еременко[54]. Противник прорвался от Гомеля на юго-восток. А мы не получили разрешения на перегруппировку. Приехал Тимошенко удерживать те позиции, на которых были расположены наши войска. Не прошло и недели[55], как противник отрезал их. Наши предположения, как показала история, были правильными.
Я не могу сейчас сказать, что если бы мы провели эту перегруппировку, то катастрофы не случилось бы. Нет, наверное, она тоже произошла бы. Но, во всяком случае, может быть, не столь сильная, потому что мы кое-что вытащили бы из киевской артиллерии и усилили свой левый фланг в направлении Кременчуга. Там завязались бы тяжелые для противника бои и, может быть, у него не хватило бы войск для завершения операции. Даже когда он уже окружил наши войска, их группы довольно свободно проникали через линию фронта туда и сюда. Это свидетельствует о том, что линия наступления противника была очень жиденькой. В результате ложного понимания лозунга "Ни шагу назад!" войска часто оставались на невыгодных рубежах и в конце концов погибали, не принеся ощутимой пользы. Если вернуться ко Львовской операции, то ведь и тогда 6-ю и 12-ю армии мы хотели отвести с тем, чтобы использовать в нужных нам направлениях. Нам запретили. В результате эти войска потом были окружены и попали в плен. Мы отступили к Киеву, штаб наш располагался в Броварах. Вдруг приезжает к нам генерал Тупиков (я его до этого не знал) и привозит предписание вступить ему в должность начальника штаба КОВО, а Пуркаеву сдать дела и прибыть в распоряжение Генерального штаба. Так и было сделано. Познакомился я с генералом Тупиковым. К нам он попал из Турции, в которой оказался после начала Великой Отечественной войны как наш военный атташе в Берлине[56].
Когда Гитлер напал на СССР, все советские дипломаты были переправлены в закрытых вагонах из Германии в Турцию. Тупиков произвел на меня хорошее впечатление. Хотя я был очень хорошего мнения и о Пуркаеве. Новый начштаба был помоложе[57] и позадористей. Не знаю, кто из них более достойный. Сейчас я об этом не хочу говорить, потому что я и того, и другого высоко ценил и уважал. Приступил Тупиков к работе. Мне нравились его четкость и оперативность. С ним произошел такой случай. Мне рассказал об этом Баграмян, который был его заместителем, начальником оперативного отдела. Когда однажды налетели немецкие бомбардировщики на расположение нашего штаба (а это повторялось каждый день), Баграмян, очень уставший, прилег на кушетке и закрыл глаза, но не уснул. Спать было невозможно, потому что земля дрожала и гудела. Тупиков же в это время расхаживал по комнате и напевал себе под нос: "Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?". Доставал бутылку из-под стола с чем-то, наливал себе бокальчик, выпивал и опять продолжал расхаживать, видимо, обдумывая какие-то вопросы. Так потом происходило не раз. Не трус был Тупиков. Увы, когда штаб фронта попал в окружение. Тупиков не возвратился. По-моему, даже и трупа его не нашли. Для нас он остался без вести пропавшим.
А вот вам еще один пример такого же характера - о Киевской группировке. Штаб 37-й армии, которая обороняла Киев, тоже попал в окружение со многими генералами, офицерами и бойцами. Часть их осталась в плену, часть вышла. Командующим 37-й армии был Власов, который стал потом предателем Родины и которого заслуженно повесили после разгрома Гитлера. Он вышел тогда из окружения (не знаю, спустя какое время). Мы с Тимошенко, конечно, рады были встретить его. Он пришел в крестьянском одеянии и доложил, что вышел с палочкой под видом крестьянина. И мы готовили ему тогда новый пост. Он приобрел славу хорошего генерала, умеющего командовать войсками, строить оборону и наносить удары по противнику. Но нам не дали его использовать.
Как только узнали, что Власов вышел, немедленно позвонил лично Сталин и приказал отправить его в Москву. Мы не знали, что тогда готовилось контрнаступление на немцев под Москвой[58]. Потом уже мы узнали, что в этой операции Власов командовал одной из армий. Сталин его очень хвалил. Этот генерал был награжден и считался одним из самых боевых генералов, которые показали свое умение на фронте в наступлении против немецких войск под Москвой. Но вернусь к вражескому прорыву на Киевском направлении, к окружению этой группировки и гибели 37-й армии[59]. Потом погибла и 5-я армия[60], которой командовал генерал Потапов. Он попал в плен. Там погибли и другие войска, включая штаб фронта со всеми тылами. Тылы были отрезаны противником, так как он довольно глубоко охватил окруженную группу, восточное Киева километров на 200. Можете себе представить, какую боевую технику мы там потеряли! Все это было неразумно, безграмотно с военной точки зрения. Мне трудно подобрать нужное слово. Существовало неправильное, ложное понимание "Ни шагу назад!".
Вот вам и ни шагу назад. Мы не спасли эти войска, не отвели их и в результате просто лишились. Лишились боевой техники и образовали огромную дыру в линии фронта, которую не смогли заткнуть. У нас не стало ни живой силы, ни техники - боевой, хозяйственной, транспортной. А ведь этого можно было не допустить. Напрашивается некоторая аналогия с фашистами. Посмотрите документы, которые опубликованы в книге "Совершенно секретно! Только для командования!". Методы обороны сильно перекликаются. Когда немцы под конец войны попали в такое же положение, то допускали такие же глупости. Как наша нераспорядительность содействовала нашему врагу, так и Гитлер потом как бы содействовал нам, облегчая наши усилия по разгрому его войск. Работники штаба Юго-Западного направления напрягали в ту пору все усилия для обороны Харькова. Люди трудились героически и делали все, лишь бы не допустить дальнейшего продвижения противника на восток. Харьковский завод ? 75, где до войны изготовлялись танки Т-34, теперь ремонтировал их.
Дело было поставлено хорошо, и танки быстро восстанавливались. Имелись запасные части, работали квалифицированные специалисты. Но те танки, которые мы ремонтировали у себя, нам приказывали отправлять в Москву. Это нас, конечно, обижало и даже раздражало: нам тут нечем держать немцев, а у нас танки забирают. Взяли у нас тогда довольно большое количество танков... Стали мы приспосабливать к войне тракторы: надевали на них броню и вооружали пулеметом, чтобы использовать в таком виде против врага. Несмотря на непригодность трактора к боевым операциям, это было все же лучше, чем ничего: все-таки металлическая броня. Мы хотели использовать все, что было под рукой, и использовали, как могли. Потом нам сообщили из Москвы, что применяется так называемая "катюша" - реактивный миномет. Сталин даже упрекнул нас: "Есть такое оружие, и надо больше его применять". Я попросил: "Дайте нам чертежи, мы в Харькове быстро организуем производство". Дали нам чертежи, и мы сейчас же организовали производство на заводе им. Шевченко на Лопани[61]. Я хорошо знал этот завод. До революции он принадлежал Берлизову, в 1912 г. я короткое время работал там слесарем. Его рабочие и инженеры срочно освоили производство "катюш".
Мы выезжали в поле и стреляли из них, опробовали конструкцию. Мин к ним мы не делали. Где их изготовляли, я не знаю. Нам же прислали очень ограниченное количество мин. Мы не знали тогдашнего замысла противника - с форсированием Днепра и разгромом нашей группировки под Киевом и Днепропетровском сосредоточить силы для удара на Москву. Поэтому-то у него силы на Харьковском направлении, видимо, и были небольшие. Для отпора врагу на Московском направлении Ставка брала все и отовсюду, что можно было взять, даже у нас из-под Харькова, который сам нуждался в каждой боевой единице. Имелось у нас резервное кавалерийское соединение. Командовал им Белов[62]. Его тоже взяли. Соединение было нетронутым, и мы возлагали на него большие надежды. Оно прибыло и наше распоряжение, но еще не вступило в соприкосновение с противником, как мы получили приказ немедленно направить его в распоряжение командования, которое занимало оборону под Москвой. Это соединение потом хорошо действовало под Тулой.
Противник продолжал продвигаться в направлении Харькова, но не так быстро, как в первые дни войны. Хотя и небольшими силами, однако мы давали отпор. На Харьковском направлении командовал 38-й армией генерал Цыганов[63], тучный человек с причудами. Я рассказывал о нем Сталину, и Сталин иной раз за обедом возвращался к одному случаю, происшедшему с этим генералом. Когда противник угрожал Харькову, Цыганов вышел на дорогу, по которой отступали наши войска, поставил стол, на нем - самовар и стал пить чай. К нему подбежали и говорят, что фашисты подходят к этому месту. А он - ни шагу назад. Потом он говорил, что таким способом старался внушить уверенность своим бойцам. Следовательно, никакой особой опасности нет. Довольно своеобразный, я бы сказал, метод убеждения в неприступности обороны. Несмотря на это, противник продвигался на восток. Помню те месяцы: дождь, слякоть - условия, тяжелые для использования противником его техники.
У нас к тому времени боевой техники было мало. Мы ремонтировали танки, а их у нас забирали. Вот мы и пользовались тракторами. Потом нам дали легкие танки Т-50. Это очень даже легкие танки: броня не свыше 20 мм толщины, а может быть, даже меньше. Одним словом, немцы без особых затруднений уничтожали эти танки своей артиллерией. Мы получили приказ подготовить Харьков к эвакуации и сосредоточили все усилия на том, чтобы вывезти станочное оборудование тракторного завода. И нам удалось это, хотя не берусь сказать, что вывезли абсолютно все оборудование. Вряд ли такое вообще когда-нибудь удавалось, но мы действительно очистили все пролеты Харьковского тракторного и вывезли его станки на восток. Там наша промышленность использовала эти станки для того, чтобы организовать производство боевой техники. Потом мы получили приказ уже с конкретными сроками оставления Харькова, Купянска и отступления к Дону. Не помню сейчас, на какой рубеж, но мы действовали согласно плану Генерального штаба. Когда мы оставили Харьков, все эшелоны скопились в Купянске.
Мы с Тимошенко тоже расположились в вагонах. Не знаю, почему противник не воспользовался и не разбомбил там все. Если бы налетели бомбардировщики, то не знаю, что бы там осталось. Может быть, немцы уже были истощены или, самое главное, поставили задачу захвата Москвы и повернули все силы, которые были в их распоряжении, туда. Гитлер считал, что с захватом Москвы он закончит войну и добьется капитуляции СССР. Когда наши войска оставили Харьков и отошли к Северскому Донцу восточное Харькова, мы далее не чувствовали давления противника. Он, заняв Харьков, тоже вышел передовыми отрядами к Донцу и стал занимать оборону, не пытаясь продвигаться вперед.
Мы подумали: зачем же нам отступать дальше, как было указано в директиве, если противник нас не преследует? Тогда мы обратились в Москву с предложением организовать оборону по Донцу и не отступать дальше. Ну, конечно, мы получили подтверждение своим предложениям. Мы же перенесли свой штаб в Валуйки, вылезли из вагонов и расположились в крестьянских хатах. Осень 1941 г. на Украине была очень дождливой. Грязища была невероятной, просто непролазной. Сложились особенно трудные условия для наступавшей стороны (когда армия отступает, бездорожье в какой-то степени затрудняет продвижение противника и, я бы сказал, облегчает оборону). Потом рано выпал снег и ударили довольно сильные морозы. Мы стали готовить по Донцу оборону. Чувствовали, что противник устраивается тут на зиму и, в свою очередь, строит зимнюю оборону. Об этом нам доносила наша войсковая разведка и перебежчики - наши люди, которые проживали на занятой противником территории.
После гибели Туликова нам прислали начальником штаба молодого, очень интересного, ученого и умного генерала Бодина[64]. Я полюбил этого человека за его ум, за ясное понимание им обстановки. Он был интересен и как человек, и как военнослужащий. Мне нравилось и то, что они сдружились с Баграмяном. Я питал к Баграмяну с самой нашей первой встречи большую симпатию. А теперь оба они работали дружно. Трезвые были люди. Трезвые и по части питейных дел, и умом, разумным пониманием военной обстановки. Помню, как однажды пришли ко мне Бодин с Баграмяном изложить свою точку зрения относительно потери нами Ростова. В то время Юго-Западный фронт действовал под командованием маршала Тимошенко.
Он же был и командующим войсками всего Юго-Западного направления, и ему было подчинено поэтому командование Южного фронта. Я тоже являлся членом Военного совета Юго-Западного направления и одновременно Юго-Западного фронта. Это я говорю для того, чтобы было понятно, почему Бодин и Баграмян докладывали мне по вопросу о Ростове. Ростов всегда лежал в полосе Южного фронта, созданного еще в начале войны. Начали они доказывать с цифрами в руках, что противник занял Ростов в результате очень неграмотного, никчемного командования войсками Южного фронта. Южный фронт располагал такими силами, которыми он мог не допустить захвата Ростова и отбить натиск противника. Ростов заняла тогда танковая армия под командованием немецкого генерала Клейста[65]. Он занимал высокое положение среди немецких генералов по умению вождения танковых войск. Такая о нем шла слава. Бодин и Баграмян говорили: "Мы считаем, что, несмотря на то, что у нас сейчас очень слабые силы, можно собрать их в ударный кулак, сконцентрировать его в направлении Ростова и ударить по Клейсту. Можно освободить Ростов. Мы совершенно убеждены в осуществимости этого, но при одном условии: чтобы операцию эту проводил бы не командующий Южным фронтом, а маршал Тимошенко. Мы маршалу своих соображений не докладывали. Хотели сначала изложить свои соображения вам, с тем чтобы вы поставили этот вопрос на Военном совете".
Не помню, почему они не пошли сразу к Тимошенко. Может быть, в это время Тимошенко выпивал? Он довольно изрядно выпивал (Бог его знает, чем это объяснить). Насколько я смог разобраться в их доводах и понять их - убедился, что они рассуждают реально и такая возможность у нас, видимо, есть. Надо было эту возможность использовать, тем более в столь тяжелое время. Пока еще не было случая, чтобы мы, сдав противнику какой-то крупный город, потом отбили его. Это имело бы не только военное, но и большое политическое значение как для наших войск, так и для гражданского населения. Важно было показать, что Красная Армия тоже может наносить удары. Тут представлялся хороший случай, на котором можно было конкретно продемонстрировать эту возможность и выбить противника из Ростова. И я заговорил об этом с Тимошенко. Тимошенко хорошо принял предложение и ответил: "Да, давайте поставим вопрос, послушаем Бодина и Баграмяна. Пусть они нам доложат". Они, докладывая, предложили, откуда и какие соединения взять и куда направить главным образом, оттуда же. с Южного фронта, чтобы сконцентрировать удар по Ростову, оголив при этом некоторые участки, на которых, как мы считали, противник будет продолжать занимать оборону. Доложили в Москву.
Москва санкционировала эту операцию. Подготовительная работа была проведена. Подтянули и перебросили туда все, что могли: и боеприпасы, и артиллерию, и танки, какие у нас тогда были. Пришел день, на который мы назначили наступление. Мы улетели с Тимошенко на юг и расположились в каком-то населенном пункте под Ростовом. Началась операция. Но задачу, которую мы поставили, сразу решить не смогли. Противник оказал упорное сопротивление, а у нас не имелось достаточно сил, чтобы вынудить его оставить Ростов. Мы вынуждены были прекратить наступление, с тем чтобы не истреблять свои войска. Однако не отказались от операции, а прервали ее на какое-то время, чтобы подтянуть новые войска, взяв их с отдельных участков Южного фронта. Все-таки мы верили, что сможем освободить Ростов. Прошло еще какое-то время, и операция продолжилась. Мне очень нравилась распорядительность Тимошенко. Он, как говорится, блеснул при проведении этой операции толковым использованием войск и умением заставить людей выполнять приказы. Ростов мы взяли![66].
Противник вынужден был откатиться к Таганрогу, то есть на довольно приличное расстояние. Тут же я выехал в Ростов. Мне хотелось посмотреть на разрушения в городе и тот ущерб, который нанес ему враг. Наше население переживало случившееся. Трудно было даже выразить словами его радость по поводу освобождения их любимого города от немецких войск. На улицах валялось много трупов солдат, а также людей, расстрелянных немцами. Враг бросил и некоторую боевую технику. Тогда-то я и увидел немецкие пулеметы и легкую артиллерию на полугусеничном ходу, о чем рассказывал ранее. Но особенного мы ничего не захватили, чем нам можно было бы воспользоваться. Все, что немцы бросили, было не на ходу, а выведено из строя было, видимо, еще во время боев. Итак, противник был отброшен к Таганрогу. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды: мы решили с ходу взять Таганрог. Однако у нас не хватило сил. Потом мы предприняли там еще несколько атак, но безуспешных, и приостановили наступление. Зато захват Ростова произвел очень сильное впечатление на всю страну. Передовая газеты "Правда", поздравляя нас, выставляла напоказ наши успехи.
На этом примере морально мобилизовывались как военные, так и гражданские силы СССР, демонстрировалась возможность бить врага. Когда я прилетел в Москву, то увидел, что Сталин тоже был очень доволен. Он хвалил Тимошенко и меня. В "Правде" были упомянуты наши фамилии. Одним словом, все это произвело большое впечатление, и потом, я считаю, заслуженно. Я не говорю тут о собственной персоне. Но факт освобождения Ростова показал, что Красная Армия имеет возможность не только оказывать сопротивление, а и наступать. Конкретная демонстрация этой возможности - освобождение Ростова. В данной операции хотел бы отметить также особую роль генерала Бодина, который погиб потом под бомбежкой на Кавказе, и ставшего впоследствии Маршалом Советского Союза Баграмяна. Это они были инициаторами и душой операции, показали в ней свое умение анализировать ситуацию и правильно нацеливать войска на разгром врага. Хочу отдать должное и маршалу Тимошенко, который блестяще провел всю операцию.
1942 ГОД: ОТ ЗИМЫ К ЛЕТУ
Хочу вспомнить о никому практически не известном эпизоде войны. Мне рассказывали Маленков и Берия об одном сугубо секретном шаге, который был предпринят Сталиным. Он относится к осени 1941 г., когда немцами уже была занята территория Украины и Белоруссии. Сталин искал контакта с Гитлером, чтобы на основе уступки немцам Украины, Белоруссии и районов РСФСР, оккупированных гитлеровцами, договориться о прекращении военных действий. У Берии имелась связь с одним банкиром в Болгарии, который являлся агентом гитлеровской Германии. По личному указанию Сталина был послан наш человек в Болгарию. Ему было поручено найти контакты с немцами, начать переговоры и заявить им, что уступки со стороны Советского Союза - такие-то. Но ответа от Гитлера не было получено. Видимо, Гитлер настолько был тогда убежден в своей победе, что считал: дни существования Советского Союза сочтены и ему незачем вступать в контакт и переговоры, когда его войска и так уже вон где. Он планировал дальнейшее развитие наступательных действий, захват Москвы, сокрушение всей России и уничтожение ее государства. Конечно, можно объяснять так, что Сталин просто хотел выиграть время за счет каких-то уступок.
Но не знаю, какое при прекращении военных действий потребовалось бы нам время и какие усилия, чтобы потом наверстать упущенное. Потерять Украину, Белоруссию и западные районы Российской Федерации по договоренности - очень существенная утрата с точки зрения возможности собраться потом с силами, порвать договоренность и вернуть утерянное. Впоследствии я никогда более не слышал об этом эпизоде ни от кого. А тогда это было сказано мне на ухо шепотом Берией и Маленковым. Я сейчас даже не помню, было ли это сказано еще при жизни Сталина или после его смерти. Однако точно помню, что такой разговор состоялся. Конечно, данный разговор проходил, когда мы были втроем. Не знаю, было ли известно об этом Молотову как наркому иностранных дел. Может быть, даже и он не знал, потому что контакт устанавливался не через Наркомат иностранных дел, а через нашу разведку, то есть через Берию. Постепенно зима вступала в свои права. Когда мы наступали на Ростов, земля была уже замерзшей, скованной. Было холодно, хотя по южным условиям еще пока не наступила стойкая зима. Температура там колеблется довольно часто, случаются большие оттепели и зимой.
Но в 1941 г. зима была очень ранняя, морозная и снежная. Мы получили распоряжение перенести штаб фронта в Воронеж. Расположились в Воронеже. Потом получили приказ, что к нашему фронту прирезали и территорию севернее, так наш фронт расширился: мы получили район Ельца. А потом, после ликвидации Брянского фронта, получили новый приказ: что наш фронт доходит правым флангом чуть ли не до Каширы. После успешной операции по освобождению Ростова у нас зародилась мысль провести еще одну операцию: освободить Ливны (это уже севернее). Противник занял Ливны, но силы там у него были небольшие и не существовало сплошной линии фронта, немецкие группировки были расположены очагами. Если сосредоточить свои силы в кулак, то можно устроить немцам неприятность, выбить их из Ливен и расстроить оборону, приготовленную ими для зимовки. Начали мы готовиться. Тоже стянули, что могли, как говорится, с бору по сосенке, все, что было возможно, потому что каких-то подкреплений получить ниоткуда не сумели. За счет внутренних ресурсов сколотили оперативную группу войск и подготовились проводить операцию.
Командовать группой поручили генералу[67] Федору Яковлевичу Костенко. Он потом погиб при Харьковской операции. Очень хороший был человек и хороший генерал. Этот генерал получился из солдата Первой мировой войны, родом он из крестьян, украинец по национальности, но происходил из Мартыновки[68] на притоке Дона. Когда мы наступали из Сталинграда на Ростов и освобождали эту станицу, то его уже не было в живых. Начали проводить Елецкую операцию[69]. Она была успешной, мы сразу захватили много пленных. Когда наши войска подступили к Ливнам, немцы оставались восточное них. Боясь окружения, они дали команду на отвод войск. Отходившие навалились на нас с востока. Перевес был на стороне немцев, и Костенко стал просить помощи. А мы говорили ему еще до начала операции, что резервов у нас нет никаких, и поэтому рассчитывали на внезапность удара и на панику у противника.
Подбодрили мы Костенко и сказали, чтобы он отбивался теми силами, которые у него имеются. В целом операция прошла успешно и противник был разбит. Но так, как мы хотели, все же не вышло: мы хотели полностью уничтожить противника, а он частью сил прорвался на запад. Потом часто шутили у Сталина, что Костенко выступил в этой операции, как персонаж известного анекдота. Я слышал такой анекдот охотник говорит: "Я сейчас пойду и поймаю медведя", пошел; прошло какое-то время, а охотника все нет; потом он кричит, что медведя поймал. Ему говорят, чтобы привел его. А охотник отвечает, что Медведь не идет. "Так ты сам иди". - "Да он не пускает". Костенко тоже поймал медведя, но полностью разбить его не смог. И все же это была уже вторая победа на нашем Юго-Западном направлении. Конечно, мелкая победа. Но на фоне прежнего отступления Красной Армии и такая маленькая победа была для нас дорога, и мы радовались ей.
Я думаю, меня правильно поймут. Может быть, этот эпизод в истории Великой Отечественной войны и не будет особо отмечен. Однако я о нем рассказываю, потому что, знаете ли, плоды первых побед - это самое вкусное блюдо. Первый пирожок - он самый вкусный и значительно вкуснее последнего, когда человек уже привыкнет к его вкусу, а может быть, даже насытится. Вот почему мы глубоко переживали происходившее и поздравляли Костенко с победой. Такой была в конце 1941 г. вторая наша победа после Ростова. Конечно, освобождение Ростова - более значительное событие. Кто не знает в Советском Союзе или даже за границей этот знаменитый город на Дону! Елец не Ростов. Но обстановка, которая сложилась той зимой, победа восточное Ливен и освобождение Ельца стали для нас большим праздником. В той операции много немцев было убито, а часть их взята в плен.
Я приехал тогда к Костенко. Меня интересовали немецкие пленные: что за люди? Их состав по социальному положению? Их моральная устойчивость? Хотелось также посмотреть на пленных, которые испытали удары наших войск и наш русский мороз. Эти гитлеровские солдаты производили жалкое впечатление, в том числе их одежда и обувь. Все у них было холодное, шинели - довольно легкие, головные уборы тоже. Поэтому они были укутаны, кто во что. Я встретил среди пленных одного внешне особенно безобразного человека. Его фотографию потом опубликовали в "Огоньке". Его физиономия выделялась своей безобразностью. Опубликовали мы фото потому, что немцы размножали и распространяли фотографии некоторых красноармейцев. Пугали европейцев. Мол, вот эти хотят владеть миром, хотят господствовать. И часто показывали наших людей с неприглядной внешностью. Тут наши журналисты, считаю, тоже хорошо использовали фотографию этого немца.
Стал я спрашивать, кто из пленных откуда и чем занимался до войны? Один немец, лет так 35, может быть, чуть больше, огромного роста, а по физиономии простой человек, говорит: "Я литейщик". Я ему: "Ну, как же вам не стыдно? Вы литейщик, рабочий и пошли против Советского Союза, против Страны Советов, против рабочего класса. Где же у вас пролетарская солидарность?". Он довольно нервно, но откровенно и не сдерживаясь, с раздражением отвечает: "Черт его знает! Не разберешь, кто что высказывает и за кого воевать... Вот вы заявляете, что тут - Страна Советов, страна рабочего класса и трудового крестьянства. И у нас тоже говорят вроде этого. А мы воюем и кровь проливаем". Сказал это с таким надрывом... Решили мы с командующим войсками фронта маршалом Тимошенко выехать под Ливны и на месте познакомиться с руководством этого города и с военными, их освободившими. Мы уже чувствовали по донесениям разведки, что противник, в свою очередь, замышляет операцию против Ливен.
Мы тоже готовили ударную группировку в районе Ливен, но наша подготовка запаздывала. Мы считали, что противник может нас упредить и на день-два раньше ворваться в Ливны. Поэтому мы поехали туда поговорить с партийными и советскими руководителями и предупредить их, чтобы они при отступлении ничего не разрушали, буквально ничего: ни мостов, ни дорог, ни коммуникационных сооружений, ибо мы полагали, что вернемся в Ливны не больше чем через день-два, у нас была полная уверенность в своих силах. Приехали мы туда, провели такую беседу и уехали. И действительно, противник через день захватил Ливны. Мы, как и обещали руководителям города, снова ударили, и немцы опять выскочили из Ливен, как пробки. Мы с Тимошенко опять туда приехали, вторично встретились с местными работниками. Действительно, они не произвели никаких разрушений. Да и немцы больших разрушений при своем отходе не учинили. Не знаю, почему.
Некогда им было, видимо. А может быть, тоже были уверены, что вскоре вернутся в Ливны? Все это совпало по времени с подготовкой и проведением нашего контрнаступления на Московском направлении. Мы не были тогда информированы, что такое контрнаступление состоится. Оно держалось в тайне. Когда мы подключили в полосу нашего фронта Елец и линию обороны севернее Ельца до Тулы, то мы уже зимою получили в состав Юго-Западного направления заново сформированную 10-ю армию. Командовал этой армией генерал Попов, молодой, энергичный и способный человек[70]. Я с ним и позже встречался и относился к нему с большим уважением. Это интересный, культурный человек. Единственный его недостаток, о котором я сожалел, но ничем не смог ему помочь, - большая склонность к выпивке. Больше, чем можно было бы себе позволить на войне. К сожалению, это было несчастьем не только его; оно поражало и других. А в общем-то я с уважением относился к нему тогда, да и сейчас вспоминаю с уважением этого генерала и его хорошую работу. С приходом 10-й армии (сначала ею командовал Голиков[71]) мы получили известие, что там готовится наступление, и нам сообщили в этой связи о направлении действий нашего правого фланга, где как раз и стояла 10-я армия. Там же находился кавалерийский корпус Белова и другие соединения. 10-я армия должна была наступать на Мценск. Удар 10-й армии и корпуса Белова[72] совпал по времени с наступлением немцев на Тулу. Но Тулу противнику взять не удалось. В некоторых мемуарах их авторы объясняют это тем, что туляки сами сорганизовались и отстояли свой город.
Это не совсем верно. Да, туляки героически защищали свой город. Но главным образом сказалось то, что, во-первых, то было последнее усилие уже ослабевшего под Москвой противника; во-вторых, тулякам помог удар нашего фронта. Вскоре противнику стало уже не до Тулы, лишь бы унести свои животы. Враг покатился на запад. Мы преследовали немцев до Мценска, однако Мценск захватить не сумели. Затем у нас 10-ю армию забрали вместе с упомянутым участком Юго-Западного направления, и мы уже не имели возможности знать в деталях, как развивались бои на этом направлении при отступлении немцев от Москвы. Это было знаменитое наступление Красной Армии и крупнейшее поражение немецких войск. Они были отброшены на большую глубину, потеряли много техники и живой силы. Но подробностей битвы под Москвой мы уже не знали. 10-я армия вошла в состав войск соседнего. Западного фронта. На этом операции 1941 г. были на нашем направлении закончены. Противник перешел к обороне, а мы не имели сил для того, чтобы продолжать наступление, ограничились пока достигнутым и строили оборону, надеясь на то, что нам будут подброшены резервы, с тем чтобы мы могли опять перейти в наступление. Вскоре после завершенного удачно контрнаступления под Москвой, которому Юго-Западный фронт помогал своим правым флангом, я был вызван в Москву для беседы со Сталиным.
Здесь я увидел уже "другого" Сталина. Не того, которого встречал в начале войны, когда прилетал в Москву раза два или три. Сейчас он выпрямился и ходил, как солдат, хотя и в это время, по-моему, еще все распоряжения и приказы издавались Ставкой без упоминания фамилии Сталина, а просто от имени Верховного Главкома: распоряжения Главкома, указания Главкома и т. п., Сталин как бы отсутствовал. Это было, конечно, не случайно, потому что Сталин ничего случайно не делал. Он все делал продуманно, соизмерял все свои шаги, и хорошие, и плохие. Я решил тогда съездить за город и узнать, до какой линии дошли немцы у Москвы. Мне порекомендовали проехать в направлении Солнечногорска. Солнечногорск был ранее взят противником, а лежит он километрах в 50 от Москвы. Поехал туда. Недалеко от Москвы увидел следы боев. Когда же приехал в Солнечногорск, там красноармейцы вскрывали могилы убитых немецких солдат. Это было делать не трудно, потому что трупы зарывались в мерзлую землю, неглубоко, и земля не успела уплотниться, а кое-где в спешке немцы хоронили погибших в снегу. Смотреть было, конечно, неприятно, но и удовольствие тоже доставляло. У видевшего страдания нашего народа трупы врагов вызывали чувство какого-то удовлетворения. Вот, мол, вы хотели нас похоронить, а сами отыскали себе могилу под Москвой. Если уж человек втянут в войну, то он выполняет свой долг воина, состоящий в наказании противника и уничтожении его, особенно когда враг вторгается на твою территорию, идет разрушить твой дом, убить тебя и твоих близких. О сугубо человеческих качествах вроде жалости трудно рассуждать и трудно рассчитывать, чтобы они проявились в таких условиях.
Думаю, что подобное настроение человека естественно. Я видел на лицах красноармейцев удовлетворение: вот первый результат наших побед, результат усилий народа и Красной Армии - разгром и уничтожение больших сил противника. Вернулся я к себе на фронт. В это время штаб фронта располагался в Воронеже. Противник иной раз наведывался туда разведывательными самолетами, летая высоко над городом, проводил рекогносцировку. Особенных бомбежек не помню. Правда, другой раз он бросал бомбы, но это не производило впечатления. Видимо, противник не хотел бесцельно тратить боеприпасы. Он перешел зимой к обороне и производил пока разведку, а активных действий с воздуха не предпринимал. Мы в ту пору тоже строили оборону, укрепляли, пополняли и вооружали войска. Впрочем, мы задумали провести некоторые мелкие операции, например, в районе города Тим. Тогда Тим был в руках противника, и мы пытались его вернуть. Было предпринято несколько таких попыток, но они не принесли результатов, и мы были вынуждены прекратить эти бои. Вскоре у нас зародилась идея провести наступательную операцию в районе Барвенково[73]. Наш штаб и разведка работали над тем, чтобы узнать силы противника, их расположение и взвесить наши возможности, определить, какие нужны силы для операции.
Одним словом, начали разработку операции. Когда она была разработана, понадобилось доложить Москве - Сталину и Генеральному штабу, чтобы получить "благословение", а главное - нужное количество войск и средств. Нас с командующим вызвали в Москву, Сталин нас выслушал. Сделали доклад Тимошенко и начальник штаба фронта Бодин. Мы получили "благословение", но, к сожалению, обеспечение, которое мы просили для наступления, получили далеко не полностью. Операция была утверждена к проведению, однако неполным составом войск по сравнению с тем, который требовался по расчетам нашего штаба. Наметили операцию на январь 1942 года. Для ее проведения мы перенесли оперативный штаб поближе к линии фронта, чтобы иметь лучшую связь с войсками. Расположились в большом селе Сватово-Лучко. Я знал это село, потому что в 1919 г. Красная Армия отбивала это село у белых, и я тогда побывал в нем. Богатое село, хорошее, крепкое. Для проведения операции нам дали, как помнится, три кавалерийских корпуса. Одним корпусом[74] командовал генерал Бычковский, человек уже в летах и с опытом. Он воевал в кавалерии еще в Гражданскую войну. Другим корпусом[75] командовал Гречко, позже он стал министром обороны СССР. Это был самый молодой из корпусных командиров в то время. Третий командир корпуса[76] тоже был человек в летах. Я его фамилию сейчас забыл, хотя раньше хорошо его знал.
Перед операцией мы выслушали их. Говорили о задачах, поставленных Тимошенко перед каждым кавкорпусом. Закончилось это, как полагалось тогда, обедом. Тогда на меня произвел лучшее впечатление генерал Гречко. Он только что принял корпус, а до этого командовал отдельной 34-й кавалерийской дивизией, и я знал его в этом качестве, поэтому охотно согласился на назначение его командиром корпуса. Других командиров я еще не узнал. Но неблагоприятное впечатление произвел на меня Бычковский. Он, видимо, воин был действительно боевой, но мне показался недостаточно современным, довольно-таки примитивным и отсталым человеком. Это проявлялось и в боях, и в повседневном поведении, и во взаимоотношениях с партийными и советскими органами. Там, где располагался его корпус, на него постоянно обижались. Он даже позволил себе, например, поместить лошадей в школе. Наверное, своих, командирских лошадей, потому что не мог же он весь корпус разместить в школе. Был подан плохой пример. На него очень жаловались тогда местные организации, на территории которых он допустил такую глупость. Началась операция. Был взломан передний край противника, двинулась вперед наша кавалерия. Я сейчас точно не помню, какой состав группировки был тогда создан. Имелись ли у нас танки? Видимо, были, но твердо я сейчас не помню[77].
Главной пробивной и подвижной силой оказалась кавалерия. И мы, достаточно быстро продвинувшись вперед, заняли Лозовую, затем пошли дальше на северо-запад и юго-запад, на довольно большую глубину. К сожалению, свои фланги противник удержал. На левом фланге нашей наступавшей группировки немцы удержались в районе Славянска. Свой левый фланг, у Балаклеи, они тоже удержали. Таким образом, получилась вдававшаяся в позиции противника дуга с небольшим разводом концов при значительной ее глубине на запад. Мы тогда радовались, что получили такие возможности, и надеялись эту дугу, как говорится, разогнуть, чтобы расширить плацдарм. У нас появилась заманчивая идея к весне 1942 г. освободить Харьков. Но операция была приостановлена, потому что мы уже выдохлись и не могли дальше наступать. Мы захватили также большие трофеи, однако несерьезного значения. Много было медицинского инструмента. Потом мы захватили офицерские склады с деликатесами, винами, коньяком, всяческими консервами. Из вооружения и боевой техники, кажется, ничего особенно дельного не приобрели. Тогда мы много шутили над кавалеристами Гречко, которые захватили эти склады и добрались до шампанского. Случилось ли так на самом деле или же кто-то выдумал, не берусь судить.
Но тогда нам всем очень нравилась эта шутка. Потом я ее рассказал Сталину, и он любил повторять ее. Дело заключалось в следующем. Когда красноармейцы захватили винный склад и стали пробовать, они не знали, что это - шампанское. Да и вообще многие не знали, что такое шампанское. В том корпусе служило много украинцев. Они пьют и разговаривают между собой: "Да шо цэ такэ? Шосту бутылку пью, шыпыть, а не бэрэ". Этот анекдот о настроении наших бойцов, о хорошем их духе. Перешли мы к обороне, прекратив наступательную операцию. Штабные работники - Бодин, Баграмян и другие - стали подсчитывать итоги и примерять наши возможности для дальнейшего наступления, с тем чтобы освободить Харьков. Был намечен такой план: главный удар нанести противнику весною на дуге, которую мы создали южнее Харькова, а вспомогательный удар меньшими силами - севернее Харькова, и таким образом, взяв Харьков в клещи, освободить его. Когда планировали, мы были уверены, что эта операция у нас получится, что мы решим задачу и откроем весенне-летние военные действия таким эффектным результатом, как освобождение крупнейшего промышленного и политического центра Украины.
Мы понимали, что проведению такой операции грозит опасность, так как противник имеет, с одной стороны, довольно глубокие на нашем фронте вклинения, достаточно беспокоящие, потому что они могут быть использованы для ударов во фланг нашим наступающим войскам. С другой стороны, имелась вражеская группировка, которая находилась у Славянска. Немцы очень упорно держались за эти пункты. Нами там предпринимались неоднократные усилия освободить центр узла обороны - село Маяки или же прощупать противника, но все попытки, оканчивались безрезультатно: мы теряли войска, но не могли продвинуться и ликвидировать немецкие укрепления. Там какая-то речонка впадала в Северский Донец[78], на южном ее берегу имелся выступ, где сосредоточились силы противника. Мы опасались этого их участка. Помню операцию, которую проводил Малиновский по захвату села Маяки. Там стояла 9-я армия, как раз на стыке Южного и Юго-Западного фронтов.
Командовал этой армией Харитонов. Он потом во время войны, как мне говорили, умер[79]. Неплохой был генерал и неплохой человек. Когда подготовили наступление, я сказал Тимошенко, что поеду к Малиновскому разобраться в обстановке и останусь на месте проведения операции. Поехал. Передвигаться тогда было очень трудно: лежали глубокие снега, дороги были плохо расчищены. Поэтому часть пути я преодолел на автомашине, а потом пересел на сани. Встретились мы с Малиновским в условленном месте и отправились вдвоем, тоже на санях, в село Богородичное, где стоял штаб 9-й армии Южного фронта, очень близко к переднему краю. Там же находилась артиллерия полковника Ратова - тяжелые орудия. Я с ним был знаком с первых дней войны, и мне было приятно встретиться с Ратовым. Он очень нравился мне своими хозяйственными наклонностями. Не потерял ни одной пушки, строго следил за снарядными гильзами. Это были медные гильзы, и их берегли. Даже снаряды получали в обмен на сданные гильзы. Когда мы приехали к командующему армией, он доложил, что наступление должно начаться через несколько часов, сказал, что к наступлению он не готов, но есть приказ наступать. Тогда Малиновский тут же взялся за карандаш и циркуль, промерил расстояние подвоза боеприпасов (снарядов не хватало), рассчитал, что снаряды не прибудут к началу наступления, и сказал, что наступление надо отложить. Я согласился. Наступление отложили, пока не подвезут боеприпасы.
Операция началась на следующий день. И опять не имела успеха. Противник оказал упорное сопротивление, мы зря теряли людей и прекратили проведение операции на этом участке, хотя вместе с Тимошенко и Малиновским были прежде уверены, что эта операция удастся. Казалось, чего проще взять населенный пункт? Но мы его не взяли. Видимо, плохо была изучена оборона противника и недостаточным оказалось усиление наступавших войск артиллерией. Вообще-то нет таких крепостей, которые нельзя было бы взять, если соответственно подготовиться и иметь средства для того, чтобы предварительно подавить противника. Видимо, наш расчет был плох. В результате мы потеряли людей, но не решили основной задачи, которая была поставлена. После того предпринимался еще ряд наступлений на том же участке, и тоже без успеха. Явная неопытность наших командующих сказалась и в том, что хотя мы не смогли взять этот вражеский плацдарм, было все же решено начать наступление на Харьков, пренебрегая возможностью флангового удара противника. Мы считали, что, когда ударим на запад и окружим Харьков, данный участок просто потеряет свое значение и падет сам собою в результате продвижения наших войск на главном направлении. Как потом показала жизнь, это оказалось роковой недооценкой значения вражеского плацдарма. Противник, удерживая фланги, имел свои планы по окружению группировки наших войск, которая была введена в дугу, образованную в ходе зимнего наступления.
Образовалось короткое расстояние между его флангами, откуда можно было начать окружение наших войск. Но тогда мы недооценили опасность и спокойно начали готовиться к весенне-летней операции. Основные силы на этом направлении у нас составляли 6-я армия под командованием Городнянского и 57-я армия, куда мы назначили новым командующим Подласа[80]. Это был очень интересный человек и с интересной судьбой. Его жизнь сложилась трагично... Я уже упоминал, что во время Хасанских событий он находился на Дальнем Востоке и действовал там против японцев. Ему не повезло: приехал туда Мехлис, и Мехлису он не понравился: тот посчитал его предателем и изменником. Его сняли с должности и посадили в тюрьму. Выпустили его, когда началась война. К нам он явился, когда мы еще были в Киеве. Он пока не был переаттестован и носил старую форму с ромбами на петлицах. Сначала, когда он представился и назвал свою фамилию, я спросил, кто он по национальности? Дело в том, что фамилией недостаточно была выражена его национальность. "Я украинец из Брянской области", - отвечает. Мы его использовали сначала для поручений.
Это очень организованный человек: куда его ни посылали, он всегда толково разбирался в деле и произвел очень хорошее впечатление. В результате его назначили теперь командующим 57-й армией. Армия эта была укомплектована неплохо, потому что к моменту ее формирования мы получили для нее дополнительно дивизию и несколько маршевых рот и батальонов. Кроме 6-й и 57-й армий мы создали там довольно сильную армейскую группу. Командовать назначили генерала уже в летах, старого вояку Гражданской войны. Фамилию его я не помню сейчас. Он погиб. Остался в окружении и погиб[81]. С ним был подросток, его сын. Он тоже погиб. Кроме того, мы получили тогда танковые бригады и противотанковые бригады. Все, что потому времени могли нам дать, дали, хотя и далеко не все, что мы просили. Мы согласились проводить операцию и с этими средствами. Да и никогда ведь Верховное Главнокомандование не удовлетворяло фронты полностью силами и средствами для проведения той или иной операции. Всегда одна сторона просит как можно больше, а другая сторона дает меньше.
Начало своей операции мы планировали на апрель. К тому времени земля подсохла, и можно было использовать дороги. Мы много раз выезжали в войска вместе с Тимошенко, заслушивали на месте командующих 6-й и 57-й армиями. На данную операцию мы возлагали большие надежды, так как были подбодрены удачным наступлением в конце гола на Ростовском направлении, операциями в районе Ливен, Ельца и, главное, победой под Москвой. Мы не сомневались, что и эта операция пройдет у нас удачно. Когда был назначен день начала наступления, мы с Тимошенко обсуждали, где будем находиться сами. Я предложил расположиться у Городнянского, в штабе 6-й армии. Это был пункт, наиболее глубоко вклинившийся в немецкую оборону в результате зимнего наступления. Тимошенко предложил другое: "Нет, я считаю, что не следует туда идти. У нас две группировки: южная главная, сильная, а другая - севернее Харькова. При охвате клещами Харькова оттуда затруднено будет иметь связь с северной группировкой". Поэтому он сказал: "Давай мы все-таки останемся в Сватово, на старом командном пункте. Отсюда нам будет проще связаться с той и с другой группировкой. А на участок 6-й армии пошлем влиятельного представителя командования, например, члена Военного совета Гурова".
Был такой очень хороший военный товарищ. В Сталинграде он потом стал членом Военного совета у генерала Чуйкова. Заняв с Чуйковым Сталине, он умер. Ему там поставлен памятник[82]. Операция началась весьма удачно. Мы быстро взломали передний край противника, и наши войска двинулись вперед. Но нас озадачило, что против ожиданий мы слишком легко преодолели этот передний край. Мы вскоре убедились, что против нас почти нет вражеских сил. Следовательно, мы сами лезли в какую-то расставленную нам ловушку. Начали мы обсуждать, какая сложилась ситуация? Противник имел, видимо, какие-то свои планы, поэтому его войск и не оказалось перед нашим лобовым ударом. Дело в том, что противник тоже готовился к весенне-летней кампании. Мы предположили, что противник сосредоточил свою группировку на нашем левом фланге, на участке, который входил в состав Южного фронта в районе Славянска, и ждали, что отсюда он ударит нам во фланг. Это было очень опасное направление. Стало ясно, что не случайно немцы, несмотря на большие потери, твердо защищались зимой и не уступили в этом районе ни одного населенного пункта. Видимо, уже тогда они имели свой план ликвидации ударом во фланг выступа, который мы образовали в ходе зимней кампании. Главный контрудар нависал с юга. Мы решили приостановить наше наступление, потому что оно отвечало планам врага: чем глубже мы будем вклиниваться, продвигаясь на запад, тем больше растянем линию фронта и разжижим свои войска, ослабим и обнажим свой левый фланг и создадим условия для более легкого прорыва немцев, для окружения и уничтожения наших войск. Итак, мы остановили наступление, отдали приказ перебросить на юг танковые и противотанковые бригады, артиллерию.
Одним словом, стали перекантовывать свои войска на открытый врагу левый фланг. Мы считали, что это единственная возможность отразить его, единственно правильное решение при сложившихся обстоятельствах. Севернее же Харькова пока ничего нового не предпринимали и продолжали там операцию. Но она успеха не имела. Да, мы раскрыли замысел противника, но, к сожалению, поздно. Пришлось принимать меры, чтобы застраховать себя от флангового удара, приостановить наступление и перегруппировать противотанковые части, танки и артиллерию на левый фланг. Это было для нас необходимо, так что среди нас и споров не возникало на этот счет. Не помню, кому принадлежала инициатива в организации всей операции.
Потом Сталин обвинял меня, говорил, что инициатива была проявлена мной. Не отрицаю. Возможно, это я проявил инициативу. Я Сталину отвечал: "А командующий? Мы же вместе с командующим принимали решение". - "Ну, командующий вам поддался". "Командующий поддался? Вы же знаете Тимошенко. Тимошенко - очень трудный по характеру человек, и чтобы он вдруг согласился с другим, если придерживается иного мнения? У нас, как говорится, решение было принято тихо и гладко". Да, командующий был того же мнения, что и я. Штабные работники и начальник оперативного отдела штаба Баграмян тоже были такого же мнения. Баграмян и разрабатывал в деталях операцию. Она рассматривалась потом в Генеральном штабе и там тоже была одобрена. Так что это был плод размышлений не только руководства Юго-Западным направлением: решение было апробировано и специалистами Генерального штаба. Здесь сложились единая линия мероприятий, единое понимание дела и единая вера в успех. И вот мы прекратили проведение операции и стали предпринимать шаги к построению обороны. То есть от наступления перешли к обороне. Отдали необходимые распоряжения, и я пошел к себе. Это было, наверное, часа в три утра. Стало светать. Пришел я к себе, но еще не разделся, как вдруг открывается дверь, заходит ко мне Баграмян, очень взволнованный, и говорит: "Я к вам, товарищ Хрущев". Он был так взволнован, что даже заплакал. "Вы знаете? Наш приказ о переходе к обороне отменен Москвой. Я уже дал указание об отмене нашего приказа". - "А кто отменил?" "Не знаю, кто, потому что с Москвой разговаривал по телефону маршал.
После окончания разговора он отдал мне распоряжение отменить наш приказ, а сам пошел спать. Больше маршал ничего не сказал. Я совершенно убежден, что отмена нашего приказа и распоряжение о продолжении операции приведут в ближайшие дни к катастрофе, к гибели наших войск на Барвенковском выступе. Я очень прошу вас лично поговорить со Сталиным. Единственная возможность спастись, если вам удастся убедить товарища Сталина утвердить наш приказ и отменить указание об отмене нашего приказа и о продолжении операции. Если вам не удастся это сделать, наши войска погибнут". В таком состоянии я Баграмяна еще никогда не видел. Он человек разумный, вдумчивый. Он нравился мне. Я, как говорится, просто был влюблен в этого молодого генерала за его трезвый ум, его партийность и знание своего дела. Он человек, я бы сказал, неподкупный в смысле признания чужих авторитетов: если не согласен, то обязательно выскажет это.
Я замечал это несколько раз, когда мы обсуждали ту или другую операцию. Если вышестоящие люди, занимавшие главное положение в штабе фронта, начинали доказывать то, с чем он не был согласен, то он очень упорно отстаивал свое мнение. Мне нравилось такое его качество. Из других военачальников, с кем я встречался в течение войны, подобное качество наиболее резко проявилось также в генерале Бодине. Я его тоже очень любил. Это был способный и трезвого ума генерал. Его характер отличали партийность, настойчивость, умение возражать даже вышестоящим лицам, если он считал, что они рассуждают неправильно, неверно определяют задание войскам, так что оно может нанести им ущерб. Я об этом говорил много раз Сталину и давал этим двум товарищам отличную характеристику. Выслушал я Баграмяна. Меня его сообщение буквально огорошило. Я полностью был согласен с ним. Мы же, приняв решение, исходили как раз из тех соображений, которые мне сейчас повторял Баграмян. Но я знал Сталина и представлял себе, какие трудности ждут меня в разговоре с ним. Повернуть его понимание событий надо так, чтобы Сталин поверил нам. А он уже нам не поверил, раз отменил наш приказ. Не поверил, следовательно, теперь следует доказать, что он не прав, заставить его усомниться и отменить свой приказ, который он отдал в отмену нашего приказа. Я знал самолюбие Сталина, его, я бы сказал, зверский характер в таких вопросах. Тем более при разговорах по телефону.
Мне не раз приходилось вступать в спор со Сталиным по тому или другому вопросу в делах гражданских и иногда удавалось переубедить его. Хотя Сталин метал при этом гром и молнии, я настойчиво продолжал доказывать, что надо поступить так-то, а не эдак. Сталин иной раз не принимал сразу же моей точки зрения, но проходили часы, порою и дни, он возвращался к той же теме и соглашался. Мне нравилось в Сталине, что он в конце концов способен изменить свое решение, если убеждался в правоте собеседника, который настойчиво доказывал ему свою точку зрения, если его доказательства имели под собой почву. Тогда он соглашался. Со мной бывало и до войны, и после войны, когда по отдельным вопросам мне удавалось добиваться согласия Сталина. Но данный случай был просто бесперспективным, роковым, и я не питал никаких надежд на удачу. Кроме того, не мог и отказаться от самых настойчивых попыток не допустить катастрофы, ибо понимал, что выполнение приказа Сталина станет катастрофой для наших войск. Не помню, сколько минут я обдумывал дело.
Тут же со мною рядом все время находился Баграмян. Я решил позвонить сначала в Генеральный штаб. Была уже поздняя ночь, совсем рассвело. Звоню. Мне ответил Василевский. Я стал просить его: "Александр Михайлович, отменили наш приказ и предложили выполнять задачу, которая утверждена в этой операции". "Да, я, - говорит, - знаю. Товарищ Сталин отдал распоряжение. В курсе дела". "Александр Михайлович, вы знаете по штабным картам и расположение наших войск, и концентрацию войск другой стороны, более конкретно представляете себе, какая сложилась сейчас у нас обстановка. Конкретнее, чем ее представляет товарищ Сталин". А я видел, как Сталин иной раз, когда мы приезжали к нему в Ставку, брал политическую карту мира. Даже однажды с глобусом вошел и показывал, где проходит линия фронта. Это убийственно! Это же просто невозможно так делать. Он порою не представлял себе всего, что происходило. Он только видел в таких случаях, где и в каком направлении мы бьем врага. На какую глубину мы продвинулись, каков наш замысел - это все, конечно, он хорошо знал. Но в результате выполнения принятого замысла этой операции в осложнения, которые возникали, он мог и не вникнуть, не проанализировать конкретные события, не взвесить, почему мы отменили первоначальный приказ. Как показала жизнь, он в данном случае этого как раз не сделал.
Я продолжал разговор: "Возьмите карту, Александр Михайлович, поезжайте к Сталину". Тот отвечает: "Товарищ Сталин сейчас на ближней даче". "Вы поезжайте туда, он вас всегда примет, война же идет. Вы с картой поезжайте - с такой картой, где видно расположение войск, а не с такой картой, на которой пальцем можно закрыть целый фронт. Сталин увидит конфигурацию расположения войск, концентрацию сил противника и поймет, что мы поступили совершенно разумно, отдав приказ о приостановлении наступления и перегруппировке наших главных сил, особенно бронетанковых, на левый фланг. Сталин согласится". - "Нет, товарищ Хрущев, нет, товарищ Сталин уже отдал распоряжение. Товарищ Сталин!" Люди, которые с Василевским встречались, знают, как он говорил - таким ровным, монотонно гудящим голосом. Мы перестали разговаривать с Василевским, я положил трубку и опять стал думать, что же делать? Брать вновь телефонную трубку и звонить Сталину?
Она меня обжигала, эта трубка. Обжигала не потому, что я боялся Сталина. Нет, я боялся того, что это может оказаться для наших войск роковым звонком. Если я ему позвоню, а Сталин мне откажет, то не останется никакого другого выхода, как продолжать операцию. А я был уже абсолютно убежден, что тут начало конца, начало катастрофы наших войск на этом участке фронта. Поэтому я, знаете ли, прикладывался к этой трубке, как кот к горячей каше, и рефлекторно отдергивал руку. У меня были очень хорошие отношения с Василевским. Я к нему относился с уважением. Да и характер у него такой мягкий. Не знаю вообще, были ли у него враги, кто они и какие. Наверное, были у него враги, но по другим мотивам. К нему очень плохо относились некоторые военные. Это я знаю, но сейчас не стану говорить об этом. Решил я позвонить Василевскому еще раз. Позвонил и опять стал просить: "Александр Михайлович, вы же отлично понимаете, в каком положении находятся наши войска. Вы же знаете, чем может это кончиться. Вы представляете себе все. Поэтому единственное, что нужно сейчас сделать, это разрешить нам перегруппировку войск, претворить в жизнь наш последний приказ, который отменен Ставкой. Иначе войска погибнут. Я вас прошу, Александр Михайлович, поезжайте к товарищу Сталину, возьмите подробную карту".
Одним словом, я начинал повторять те же доводы, других у меня не было, настойчиво повторять просьбу поехать и доложить Сталину, убедить его в том, что наш приказ - это единственно правильное решение, которое при сложившихся условиях можно было принять. Но все доводы, которые я приводил при телефонном разговоре, моя настойчивость, апелляция к его сознанию, долгу и ответственности - ничто не возымело действия. Он тем же ровным голосом (я и сейчас хорошо представляю себе тон голоса) ответил: "Никита Сергеевич, товарищ Сталин дал распоряжение. Товарищ Сталин вот то-то и то-то". Не мог же я по телефону доказывать Василевскому, что в данном случае для меня Сталин не является авторитетом. Это уже само собой вытекало из того, что я говорил, раз апеллирую к Василевскому и прошу взять соответствующую карту, пойти и доложить Сталину. Очень опасный был для меня момент. В то время Сталин уже начинал рассматривать себя таким, знаете ли, военным стратегом. После того, как он очнулся от первых неудач, когда он в первые дни войны отошел от руководства и сказал: "Государство, которое создано Лениным, мы про.....", - он начал теперь ощущать себя героем. Хотя я знал, какой он герой и по первым дням войны, и по предвоенному периоду, я его наблюдал в месяцы, когда надвигалась война со стороны Германии.
А у меня что же? У меня не было никаких других возможностей изменить дело, кроме тех доводов, которые я высказывал, повторяя их вновь и вновь Василевскому и рассчитывая на его долг военного. Он был в тот период уже заместителем начальника Генерального штаба. Правда, в те дни это не имело особого значения. Было время, когда никакого начальника Генерального штаба вообще не имелось, а сидел на соответствующих делах Боков[83], который не пользовался никаким авторитетом у командующих фронтами. Он отдавал распоряжения, принимал доклады, как-то их комментировал, как-то докладывал в Ставку. Это был тяжелый для Генштаба период. Помню, как Сталин спросил меня, что говорят о Бокове? Это было уже тогда, когда мы проводили Сталинградскую операцию и когда Бокова из Генштаба убрали. Я ответил: "Советские войска одержали крупную победу над врагом". "Какую?" "Убрали Бокова из Генерального штаба и посадили туда человека, с которым можно разговаривать и который понимает оперативные вопросы. Это уже большая победа для Красной Армии". Такая шутка Сталину не понравилась...
Василевский наотрез отказался что-либо предпринимать в ответ на мои просьбы. Своего мнения он не высказывал, а ссылался на приказ Сталина. Я, признаться, сейчас несколько переоцениваю свое мнение о том инциденте. Тогда я объяснял это некоторой податливостью и безвольностью Василевского. Он был в данном отношении не очень характерным военным. Это добрый человек, даже очень добрый и очень положительный. Я считал его честнейшим человеком. С ним легко разговаривать. Я много раз и до этого случая встречался с ним. Одним словом, это уважаемый человек. Но в сугубо военных вопросах я, конечно, всегда значительно выше ставил Жукова. А сейчас у меня возникло сомнение: была ли это вообще инициатива Сталина в деле отмены нашего приказа? Теперь я больше склоняюсь к тому, что это была инициатива самого Василевского. Возможно, Василевский (у меня не было тогда никаких возможностей проверить это, тем более нет их сейчас) получил наш приказ первым, потому что мы послали его в Генеральный штаб, и сам не был с ним согласен, не разобрался: ведь шло успешное наступление наших войск, а нам приносили большую радость редкие наши победы, было очень приятно открыть победами 1942 год. Каждому было приятно. Возможно, Василевский получил наш приказ, взвесил его и, наверное, возмутился, сейчас же доложил Сталину и соответственно прокомментировал. Сталин согласился с Василевским и отдал контрприказ или же сам позвонил Тимошенко.
Я и сейчас не знаю, о чем тогда разговаривал по телефону Тимошенко и с кем он разговаривал. То ли с Василевским, то ли со Сталиным. Из слов Баграмяна следовало, что со Сталиным. Мне неудобно было спросить Тимошенко. Мы сошлись с ним наутро, смотрели друг на друга и буквально сопели. Оба были недовольны. Недовольны не друг другом, а обстоятельствами, которые сложились у нас. Возвращаюсь к тому разговору. Все больше прихожу к выводу, что это решение было навязано Сталину Василевским. Потому-то Василевский упорно не слушался меня, не посчитался с положением дел, с моими доводами. Он же не мог поехать к Сталину, поскольку сам давал совет по этому вопросу и на основе этого совета было принято решение. Мне такое заключение пришло в голову лишь в последнее время, когда я, уже сейчас, обдумываю события того лично для меня самого тяжелого времени, поворотного для положения дел в 1942 году. Если бы в штабе сидел в то время не Василевский, а Жуков, я и Жукову сказал бы это, и, если бы он не согласился, то Жуков тоже впал бы в ошибку, как Василевский. Но разница заключалась в том, что Жуков категорично стал бы мне возражать: не ссылаться на Сталина, а сам стал доказывать, что я не прав, что эта операция принесет успех и надо ее только решительно проводить в жизнь. Однако если бы Жуков поверил мне, разобрался в деле и увидел, что я прав, проявляя настойчивость в определении судьбы нашего фронта, то он, я уверен, не остановился бы, сейчас же сел бы в машину, поехал к Сталину и начал энергично и настойчиво докладывать насчет необходимости отмены своего указания и утверждения принятого нами приказа.
Так спустя много лет оцениваю я сей вопрос. О нем я помню постоянно. Это - веха в моей жизни, и тяжелая веха. Как только заходит речь о войне или когда я сам начинаю мысленно пробегать страницы военного времени, особенно до Курской дуги (потому что тогда был самый ответственный, самый напряженный момент для нашей Родины), то Харьковская операция 1942 г. всегда у меня стоит перед глазами, я тотчас начинаю думать: а что, если бы наш приказ был утвержден? Как развивались бы события? Когда Василевский наотрез отказался ехать к Сталину, я вынужден был ему сам позвонить. Я знал, что Сталин находится на ближней даче, хорошо знал ее расположение. Знал, что и где стоит и даже кто и где сидит. Знал, где стоит столик с телефонами, сколько шагов надо пройти Сталину, чтобы подойти к телефону. Сколько раз я наблюдал, как он делает это, когда раздавался звонок. Ответил на мой звонок Маленков. Мы поздоровались. Говорю: "Прошу товарища Сталина".
Слышу, как он передает, что звонит Хрущев и просит к телефону. Мне не было слышно, что ответил Сталин, но Маленков, выслушав его, сообщил мне: "Товарищ Сталин говорит, чтобы ты сказал мне, а я передам ему". Вот первый признак, что катастрофа надвигается неумолимо. Повторяю: "Товарищ Маленков, я прошу товарища Сталина. Я хочу доложить товарищу Сталину об обстановке, которая сейчас складывается у нас". Маленков опять передает Сталину и сейчас же возвращает мне ответ: "Товарищ Сталин говорит, чтобы ты сказал мне, а я передам ему". Чем был занят Сталин? Сидел, пил и ел. Ему нужно было затратить полминуты или минуту, чтобы подняться из-за обеденного стола и подойти к столику, где стоял телефон. Но он не захотел меня выслушать. Почему? Видимо, ему доложил Генеральный штаб, что командованием фронта решение принято неправильное: операция проходит успешно, наши войска, не встречая сопротивления, движутся на запад и, следовательно, надо продолжать наступление, а приказ о перегруппировке вызван излишней осторожностью командующего фронтом и члена Военного совета, и на них надо нажать. Во время моего разговора через Маленкова со Сталиным там находилась обычная компания: Микоян, Молотов, Берия, Маленков и я не знаю, кто еще.
Когда я просил, чтобы Сталин взял трубку, он проворчал: "Хрущев сует свой нос в военные вопросы. Он же не военный человек, а наши военные разобрались во всем, и решение менять не будем". Об этом мне рассказал Анастас Иванович Микоян, который там присутствовал. Спрашивается, кто же эти знающие дело военные советники, которые дали такой совет Сталину? Видимо, прежде всего Василевский и Штеменко[84]. Что же, мне еще и в третий раз просить? Это не метод достижения положительного решения. Раз Сталин уже два раза ответил мне, то на третий раз вообще перестанет со мной разговаривать, и моя настойчивость будет приносить только вред. Тогда говорю Маленкову, что уже не прошу передать товарищу Сталину просьбу утвердить наш приказ, а объясняю обстановку, которая сейчас осложнилась на фронте и что дальнейшее наше продвижение на запад отвечает замыслам противника: наши войска, продвигаясь на запад, сокращают себе путь в немецкий плен.
Говорю: "Мы растягиваем фронт, ослабляем его и создаем условия для нанесения нам удара с левого фланга. Этот удар неизбежен, а нам нечем парировать". Маленков передал все Сталину. Тут же возвращает ответ: "Товарищ Сталин сказал, что надо наступать, а не останавливать наступление". Опять говорю: "Мы выполняем этот приказ. Сейчас наступать легче всего. Перед нами нет противника. Это-то нас и тревожит. Мы видим, что наше наступление совпадает с желанием противника. Прошу утвердить наш приказ. Мы, принимая свое решение, все взвесили". Маленков: "Да, решение было принято, но товарищ Сталин говорит, что это ты навязал его командующему". - "Нет, мы единогласно приняли решение. У нас не было даже спора, поэтому не было и голосования. Мы изучили обстановку и увидели, какое сложилось тяжелое положение. Поэтому и приняли такое решение". "Нет, это было твое предложение".
Не знаю, действительно ли сказал Тимошенко в разговоре со Сталиным, что это я навязал решение прекратить наступление. Я, признаться, сомневаюсь, чтобы Тимошенко так сказал. Он человек волевой и самолюбивый. Командующий принял решение, с которым он же не согласен? Этого не могло быть. Но все же могло ли быть, чтобы Тимошенко сказал так в разговоре со Сталиным? Мне трудно с этим согласиться. Маленков мне так говорил, а значит, так сказал ему Сталин. Думаю, что Сталин просто хотел меня несколько уколоть и осадить мою настойчивость. Продолжаю: "Вы знаете характер командующего Тимошенко. Если он не согласен, то навязать ему решение невозможно, да я никогда такой цели и не преследовал". Маленков опять повторяет: "Надо наступать". Разговор окончился. При этом присутствовал Баграмян. Он стоял рядом со мной, из глаз его катились слезы. Если же я тогда не плакал, то лишь потому, что менее конкретно представлял трагедию, которая надвинулась на нас.
А он как военный человек отлично представлял обстановку. Его нервы не выдержали, вот он и расплакался. Он переживал за наши войска, за нашу неудачу. И эта катастрофа разразилась буквально через несколько дней, как мы и предполагали. Ничего мы не смогли тогда поделать, несмотря на все усилия, которые я предпринял. Не знаю, как защищал свой приказ Тимошенко перед Сталиным. Я его и спрашивать не стал, потому что видел, что он тоже переживает. Он представлял себе надвигавшуюся катастрофу, и я не хотел возвращаться к неприятному разговору. Назавтра встретились мы с Тимошенко и обменялись мнениями, но уже не возвращались к его разговору с Москвой. И я ему тоже не говорил о своем разговоре с Василевским. Не сказал об этом потому, что ко мне приходил Баграмян. Приход Баграмяна ко мне, а не к маршалу, как я ожидал, может наложить отпечаток на отношение Тимошенко к Баграмяну. Я не хотел сталкивать людей. Наоборот, я покровительствовал Баграмяну. Это очень спокойный, трезвый и вдумчивый человек...
Позавтракали мы с Тимошенко и решили поехать в район переправы через Донец. Это была единственная переправа, через которую шло питание наших наступавших войск. Переправа находилась на близком расстоянии от авиационных баз противника. Противнику никаких трудов не составляло все время висеть над ней бомбардировщиками и истребителями. Немцы страшно бомбили этот пункт, и мы решили поехать туда, потому что считали, что от удержания нами этой переправы, от нашей способности сохранить ее и не дать возможности прервать поток снабжения боеприпасами и горючим наступавших частей в решающей степени зависит устойчивость и сопротивляемость наших войск. Приехали мы. Там имелись какие-то укрытия полевого характера. Эшелон за эшелоном подлетали бомбардировщики врага и "разгружались" над этой переправой, но переправа не была разрушена и продолжала работать. Потом мы получили сведения, что неподалеку от этой переправы появился на своем участке командующий войсками Южного фронта. Тимошенко предложил: "Давай поедем туда, обсудим дальнейшие действия и согласуем их с командованием Южного фронта. Эта армия входит в состав Южного фронта, а противник как раз будет прорывать оборону и окружать наши войска ударом с юга, то есть через позиции 9-й армии". Мы вышли из укрытия, пробрались туда, где стояли наши машины, и поехали на встречу с Малиновским. В деревушке на Донце встретились.
Зашли в домик, стали разбираться в обстановке. Обстановка была очень напряженной, тяжелой. Я видел, что Малиновский и Тимошенко оба смотрели на эту операцию, как на обреченную. Но ее надо было проводить, потому что был дан приказ сверху и ничего нельзя было сделать. Когда мы обсуждали ситуацию, вдруг кто-то ворвался из охраны и крикнул: "Бомбардировщики летят прямо на нас". Мы хотели выйти, но тут крикнули, что бомбы уже сброшены. Малиновский дал команду: "Ложись!". Все легли. На меня навалился командующий бронетанковыми войсками. Не помню сейчас его фамилию. Кажется, Штевнев[85]. Хороший генерал. Он потом погиб, бедняга. Взорвались бомбы около самого домика. Домик не пострадал. Следовательно, не пострадали и мы. Кончилась бомбежка, мы вышли, закончили обмен мнениями.
Не помню конкретно, что наметили. Трудно было полностью определить наши действия при сложившихся обстоятельствах. Оттуда мы не то вернулись к переправе, не то поехали в Сватово на свой оперативный командный пункт. На второй или третий день противник предпринял энергичное контрнаступление на нашем левом фланге, взломал оборону, которая у нас там имелась, и замкнул кольцо окружения наших войск внутри дуги. Случилось то, что мы считали неизбежным при проявлении неразумного упорства в продолжении наступления и выполнении задачи, которая была поставлена нами при начале операции. События развивались очень быстро. Боеприпасы и горючее мы уже не могли туда доставлять, и наша боевая техника стала неподвижной. Вот как раз те условия, которые необходимы противнику, чтобы разгромить войска. Потом, выехав поближе к Донцу, мы встречали там людей, которые прорывались из окружения. Плотного прикрытия у противника не было, и наши прорывались поодиночке и группами.
Вышел из окружения Гуров, который был при штабе 6-й армии на главном направлении наступления. Он прорвался в танке сквозь кольцо, которое уже замкнул противник. Как люди выходили из окружения, хорошо рассказано и генералами, и писателями. Я, видимо, лучше описать это не смогу, чем это уже сделано в военной литературе. Гуров доложил, что он вынужден был сесть в танк и прорываться. Другого выхода не было. Если бы он этого не сделал, то тоже остался бы в тылу у немцев. Тогда раздавались отдельные голоса, которые осуждали его. Их обладатели смотрели на меня: может быть, судить Гурова Военным трибуналом за то, что он на танке вырвался из окружения? Но я относился к Гурову с уважением, высоко ценил его честность и военную собранность. Я ответил этим людям: "Нет, хватит уже того, сколько там погибло генералов. Хотите добавить еще и того, кто вырвался оттуда? Это дом сумасшедших. Одних немцы уничтожили, а тех, кто вырвался, мы будем уничтожать? Возникнет плохой прецедент для наших войск: все равно, где гибнуть, то ли под пулями немцев, то ли тебя уничтожат свои". Все было кончено!
Городнянский, командующий 6-й армией, из окружения не вышел. Его штаб весь погиб. Командующий 57-й армией Подлас погиб. И штаб его тоже погиб. Командующий опергруппой погиб, и его сын-подросток с ним вместе. Погибло много генералов, офицеров и красноармейцев. Вышли оттуда очень немногие, потому что расстояние между концами дуги было небольшим, и противник плотно его перекрыл. Окруженные войска находились на большой глубине. Технику они не могли использовать: не было горючего, не было боеприпасов. А уйти пешком - далеко. Они были частично уничтожены, основная же масса взята в плен. Не помню, на какой день после катастрофы раздался звонок из Москвы. Вызывают в Москву, но не командующего, а меня. Можете себе представить? У меня было очень подавленное настроение, когда я летел в Москву. Вряд ли нужно даже говорить, что я чувствовал. Мы потеряли много тысяч солдат, утратили надежду, которой жили: надежду, что откроем страницу общих наступательных действий против оккупантов в 1942 году. А закончилось катастрофой.
Инициатива наступления была наша с Тимошенко. Это тоже накладывало на меня ответственность. То, что мы хотели изменить ход боевых действий и предотвратить катастрофу, было слабо доказательно. Особенно перед теми, от кого зависело приостановление операции. Ведь согласиться с правильностью наших доводов - значит, согласиться с неправильностью своих решений. Не для Сталина такое благородство. Это был человек вероломный. Он на все пойдет, но никогда не признает, что допустил ошибку. Поэтому я ясно представлял себе трагичность своего положения. Но у меня не было другого выхода. Я сел в самолет и полетел, а сам морально был подготовлен ко всему, вплоть до ареста. Но как тогда быть с командующим? Значит, арестовать и командующего? Но командующий, видимо, вел разговор другого характера, не проявил сопротивляемости и согласился со Сталиным. Я же очень настаивал на своем, и довольно упорно.
Кроме того, не знаю, в чьем присутствии Сталин разговаривал с Тимошенко. Когда разговаривал я, то там, за столом, передатчиком слов Сталина и моих слов Сталину был Маленков. Я уверен, что там находились Берия, Микоян, Молотов. Возможно, был и Ворошилов, но тут уверенности не имелось. В это время Ворошилов уже был в большой опале у Сталина. Данное обстоятельство - и в мою пользу, и не в мою пользу: такие свидетели - неприятные свидетели. Обернулось же так, что оказались неприятными для Сталина. Да, я оказался прав, когда настойчиво добивался через Маленкова отмены приказа Сталина. Сталин меня не послушал. Но какое это имеет значение при том положении, которое возникло? Все, что сказал Сталин, гениально. Все, против чего выступал Сталин, никчемно, а люди, которые на этом настаивали, - нечестные, а может быть, и враги народа. Тогда очень широко гуляла по стране надуманная Сталиным теория дальнейшего обострения классовой борьбы в СССР. Она запутала умы честных людей и в партии, и вне партии. Сталин извратил все понятия. Действительно имелись враги народа - настоящие, озлобленные враги Советской власти. Но в ходе репрессий полетели головы честнейших людей, преданных революции и рабочему классу, доказавших это и в Гражданской войне, и при строительстве социализма. Они-то и сложили головы как "враги народа". Одной головой больше, одной меньше.
Какое это имело значение для Сталина? А как быть с совестью? Совесть у Сталина? Его совесть? Да он бы сам первый посмеялся: это - буржуазный пережиток, буржуазное понятие. Все оправдывается, что говорит Сталин. То, что он говорит, - все лишь в интересах революции, в интересах рабочего класса. Поэтому я ехал, летел и шел к Сталину, как говорится, отдаваясь на волю судьбы: что станет со мною, не знал. Встретились. Когда я вошел в кабинет, Сталин двинулся ко мне; точнее, не двинулся, а сделал шаг в моем направлении. Поздоровался. Сталин - это актер. Он умел владеть собой, никогда не выдавал: не то он кипит, не то относится с пониманием. Он умел носить маску непроницаемости. Поздоровались, и он говорит мне: "Немцы объявили, что они столько-то тысяч наших солдат взяли в плен. Врут?". Отвечаю: "Нет, товарищ Сталин, не врут. Эта цифра, если она объявлена немцами, довольно точная. У настам было примерно такое количество войск, даже чуть больше. Надо полагать, что частично они были перебиты, а другая их часть, названная немцами, действительно, попала в плен".
Сталин ничего мне не ответил. Я видел, как он кипит, и не знал, куда прорвется этот котел. Но он сдержался: ничего мне не говорил больше, не упрекал ни меня, ни командующего. Помалкивал. Перешли в разговоре на другие дела: что мы предпринимаем? Какая есть возможность построить оборону по Донцу, с тем чтобы противник не перешел Донец на этом направлении? Как задержать его продвижение при наших очень ограниченных возможностях? Потом пошли обедать. Не помню, сколько дней пробыл я в Москве. Чем дольше, тем более томительно тянулось время, которое должно было чем-то кончиться для меня лично. Но чем оно кончится, я был в неведении. Думал, что Сталин не пройдет мимо такой катастрофы после нашей победы под Ростовом и громкой победы под Москвой, не простит и захочет найти козла отпущения, продемонстрировав свою неумолимость, принципиальность и твердость: не останавливаться, не колебаться насчет судьбы личности, как бы она ни была известна или даже близка ему, если это касается интересов страны.
Тут имелась возможность продемонстрировать это. Вот, мол, катастрофа разразилась по вине такого-то или таких-то. А правительство и Сталин ни перед чем не останавливаются и строго наказывают виновных людей. Я даже догадывался, исходя из прежнего опыта, как Сталин может формулировать. Он был большой мастер на такие формулировки. Да и в общем-то он человек был очень одаренный, умный. Вопрос заключается в том, как ум надо оценивать в разных случаях. Одно дело, когда ум направлен на соблюдение интересов революции, ее развития и укрепления; другое, - когда против революции под прикрытием горячих лозунгов защиты ее интересов. А в результате гибли люди, до глубины души преданные делу Ленина, делу марксизма-ленинизма. В один из этих мучительных дней сидели мы за столом, обедали.
У Сталина в то время обедов без того, чтобы не напились люди, хотят они этого или не хотят, уже не бывало. Он, видимо, хотел залить совесть свою, одурманить себя, что ли. Не уходил из-за стола трезвым и тем более не отпускал трезвыми близких людей и тех из генералов и командующих войсками, которые приезжали едок-ладами, если готовилась какая-нибудь операция. За обедом завел он разговор о Харьковской операции довольно монотонным, спокойным тоном. Но я знал эти кошачьи сталинские лапы. Смотрит он на меня и говорит: "Вот, в Первую мировую войну, когда одна наша армия попала в окружение в Восточной Пруссии, командующий соседней армией, удравший в тыл, был отдан под суд. Его судили и повесили". Я говорю: "Товарищ Сталин, помню этот случай. По газетам, конечно. Русские войска там раньше попали в плен к немцам.
Власти вынуждены были осудить Мясоедова, и его повесили. Он был предателем, немецким агентом. Правильно сделал царь, что его повесил как предателя России. Но только он был жандармским полковником, а не командармом". Сталин ничего больше не сказал и дальше свои мысли не развивал. Но и этого было для меня достаточно. Можете себе представить, как я себя чувствовал после такой аналогии? Первая мировая война. Восточная Пруссия, крах русских войск и затем казнь Мясоедова. И вот вам теперь 1942 г., операция с разгромом наших войск. Член Военного совета, член Политбюро ЦК партии находится здесь и Сталин ему напоминает, что в истории уже был "такой же случай"[86]. Я, признаться, прикидывал тогда так: это Сталин морально меня подготавливает, чтобы я с пониманием отнесся, что в интересах Родины, в интересах Советского государства и для успокоения общественного мнения надо показать, что все виновные в поражениях строго наказываются.
Тому уже был пример в первые дни войны, когда немцы прорвались на Западном фронте, уничтожили нашу авиационную технику и вообще смяли весь фронт. Фронт пал. Если бы не пал, может быть, по-другому и протекала бы война. Тогда Сталин арестовал, судил и казнил командующего войсками фронта генерала Павлова, его начальника штаба и других лиц. Был уже такой прецедент. А тут и я, как говорится, ожидал своей судьбы. Единственным затруднением для Сталина, как я считал, был мой телефонный звонок к нему при свидетелях. Разговор велся через Маленкова. Присутствовали, вероятно, и другие. Как бы ни близки были эти люди к Сталину, он понимал, что просто так не обойдется. Возникнут разные мнения, которые могут просочиться, сейчас же или потом, и это обернется против Сталина. Пробыл я в Москве некоторое время, и Сталин сказал, что я могу уезжать опять на фронт. Я обрадовался, но не совсем, потому что знал случаи, когда Сталин ободрял людей, они выходили из его кабинета, но тут же отправлялись не туда, куда следовало, а туда, куда Сталин указывал тем, кто этим делом занимался и хватал их.
Я вышел. Ничего. Переночевал. Наутро улетел и вернулся на фронт. Там положение было очень тяжелым. Когда мы проводили зимой Барвенково-Лозовскую операцию, обязанности распределялись так: командующим войсками Юго-Западного направления был Тимошенко, командующим войсками Юго-Западного фронта - Костенко, начальником штаба у него был Бодин, а начальником штаба Юго-Западного направления с весны стал Баграмян. Я уже говорил о Костенко. Это очень хороший и приятный человек, боевой и исполнительный генерал. Но, чтобы справиться с ответственными обязанностями командующего войсками фронта, ему не хватало военной культуры. Мы тогда считали, что если при командующем Костенко будет начальником штаба Бодин и если Костенко станет внимательно относиться к своему начальнику штаба, то промахов ожидать не придется. Я особенно надеялся на Бодина в смысле его способности понимать обстановку. При любых ситуациях он всегда сможет прийти на помощь своему командующему. А членом Военного совета утвердили Кириченко[87].
Не помню, по какому случаю Бодин прилетел к нам в Сватово, где находился штаб Юго-Западного направления. Но он тогда рассказал мне об обстановке в штабе фронта и пожаловался: "Я хотел бы, чтобы вы знали. Когда мы переехали из Воронежа и стали штабом Юго-Западного фронта, то стали злоупотреблять питейными делами: и Костенко, чего я за ним раньше не замечал, и особенно Кириченко. Сложилась для меня лично довольно тяжелая обстановка. Если я как начальник штаба что-либо предлагал, то встречал при обсуждении вопросов сопротивление. Я не чувствую поддержки со стороны Кириченко. Ужасно трудно стало работать, я не гарантирую, что будут приняты разумные решения". Эти его соображения меня очень обеспокоили. Я в честности Костенко не сомневался, но больше ценил Бодина, считая, что он лучше разбирается в военных вопросах. Я полагал, что Костенко без Бодина не сумеет справиться с управлением фронтом. Когда производили назначения, я думал, что Кириченко будет поддерживать Бодина. А тут Бодин сказал мне, что все обстоит наоборот. Костенко с Кириченко вместе пьют и все вместе решают без Бодина. Мы обсудили это с Тимошенко и решили, чтобы он по совместительству стал командующим войсками Юго-Западного фронта. Так было нами доложено Сталину и им утверждено.
Потом я сказал Кириченко: "Как вам не стыдно? Почему вы стали прислушиваться в чисто военных вопросах больше к Костенко, чем к Бодину? Бодин - и более образованный человек в военных вопросах, и более располагающий к себе и своими знаниями, и умением, и тактом. Почему вы повернулись к нему спиной и не стали его поддерживать? Начали злоупотреблять винными делами?". А когда я приехал к ним, то застал такую картину: выходит ко мне Кириченко в светло-серой шинели (а как раз в то время ввели генеральские шинели такого светло-серого тона). В царские времена генералы носили шинели такого цвета. Полиция, офицеры, приставы, надзиратели тоже ходили в шинелях такого цвета. Я - к нему: "Как вам не стыдно? Какой вы генерал? Нарядились, как павлин. Зачем вам это нужно? Разве вас это украшает или поднимает в глазах военных? Все равно военные знают, что вы не военный человек. Вы здесь - представитель партии, член Военного совета. Недостаточно вам этого? Чем партия вас наделила, тем и дорожите. Проводите нашу политическую линию на пользу армии и на пользу партии". После этого я уже никогда не видел его в такой шинели.
Вот тоже характерная черта. Ведь мишура для человека стала тут главнее, чем политическая суть дела. Возвращаюсь к периоду, когда мы разделились на командование Юго-Западного фронта и Юго-Западного направления. Мы потерпели жестокое поражение. Люди выходили из окружения. Тимошенко, пользуясь опытом Гражданской войны, приказал: "Ну, и что? Разбежались войска? Поставьте кухни. К кухням солдаты придут: им деваться больше некуда". Действительно, к кухням приходили солдаты. Сколько-то в совокупности набралось. Еще кое-какие соединения мы получили из резерва Верховного Главнокомандования: танковые корпуса и стрелковые части. Стали возводить оборону. Более или менее построили. Когда противник попытался переправиться через Донец, мы отразили все его атаки. Видимо, у него к тому времени возникли уже другие планы. Потом это стало ясно, хотя атаки на данном направлении он проводил жестокие. Затем они прекратились, и вскоре вырисовался замысел противника. Он готовил главный удар не тут, а севернее Харькова в направлении Воронежа. Немцы стали подбрасывать туда пехоту и авиацию.
Не помню, в мае или в июне немецкий самолет приземлился на нашем аэродроме. Он потерял ориентировку. Самолет перевозил штабные оперативные документы - карты и прочее. По этим документам выходило, что противник имеет намерения (и существует уже разработанный и оформленный документ) наступать на Воронеж. Через какое-то время один за другим приземлились на наших аэродромах еще два немецких истребителя. Конечно, мы взяли летчиков в плен, допрашивали их и выяснили, что они тоже потеряли ориентировку. "Мы, - говорят, - летели на такой-то аэродром и сели сюда. Думали, что это наш аэродром, а оказалось, что сели в вашем расположении". Мы, конечно, докладывали в Москву, что идет подготовка наступления противника, он стягивает войска, авиацию: вот летчики-истребители попали к нам в плен, приземлились на нашем аэродроме, сообщили то-то и то-то. Надо делать соответствующие выводы. Помню в этой связи звонок Сталина. Разговаривал он со мной в такой манере - иронически и с издевкой: "Ну, что там вам немцы подбрасывают? А вы принимаете всерьез намерения противника? Они вам карту подбросили. Самолет сел; истребители, вы докладываете, тоже садятся. Это делается для того, чтобы ввести вас в заблуждение, дезориентировать".
Одним словом, сказал, что мы не понимаем, что это противник делает сознательно. А ведь в том самолете помимо карт был еще и генерал! Тоже нарочно подбросили? Сталин не понял намерений немцев. Он поверил в другую версию, которую они создавали, распуская слухи (говорю это теперь на основе документов, которые опубликованы в книге "Совершенно секретно!.."), что готовят удар в направлении Москвы, то есть еще раз в том направлении, где потерпели поражение зимой 1941 - 1942 года. Это им было нужно для дезориентации нашего Верховного Главнокомандования, и им это удалось. И вместо того, чтобы правильно разобраться в деле и создать мощную группировку войск восточное Харькова, чтобы быть готовыми к отражению врага, мало что было сделано. Наоборот, Сталин-то и клюнул на провокацию, которую задумал Гитлер, а никаким данным, которые сообщали ему мы, не верил. Одернул нас, что мы, дескать, слишком доверчивы, наивны. Он считал, что удар будет нанесен в другом месте, и соответственно, мало что было предпринято, с тем чтобы усилить наше направление. Какими силами располагал враг, я сейчас не скажу.
Но теперь это все известно. Если бы был правильно разгадан замысел Гитлера, если бы правильно оценили наше предложение и усилили наше направление, то мне кажется, что тогда сдержать там немцев было возможно, ход войны был бы другим: наступление немцев, по всей вероятности, ограничилось бы Донцом. Они бы дальше на Восток не продвинулись. Что ужасно? То, что мы потеряли тысячи людей, что мы опять отдали часть нашей территории, что мы продлили войну, может быть на год, а может быть, и на два. Итак, приближался срок, назначенный врагом. Мы с Тимошенко сами приняли меры, какие могли, на нашем направлении. Выехали на командный пункт. Там стояла наша 21-я армия. Командовал ею Гордов[88]. Противник точно в упомянутый им срок начал проводить операцию. Как всегда, развернулась артиллерийская подготовка. Мы с командармом-21 и Тимошенко находились на командном пункте: на чистой поляне было вырыто какое-то квадратное углубление. Вот и все оборудование КП. Это похоже на Гордова. Он пренебрегал опасностью и демонстрировал свою храбрость, да и действительно был храбрым человеком.
Сидели мы в этой яме у телефонов, а через нас летели, завывая, снаряды. Завязались бои. Но соотношение сил оказалось неравным. Мы и не рассчитывали на свой успех, если противник реально избрал это направление для нанесения главного удара. У нас не имелось подкреплений, которые могли бы дополнительно преградить путь противнику, хотевшему отсюда развивать свой успех на Воронеж. Наши войска были смяты, хотя и не сразу. Полная дезорганизация нашего фронта наступила в середине или, может быть, уже к концу июня. Помню лишь, что когда наши войска отступали, то уже стояли высокие рожь и пшеница. Пехота и танки - все это бежало на восток по посевам. К нам в штаб прилетел тогда Василевский.
Усиленный нажим противника ощущался на направлении 38-й армии, которой командовал Москаленко[89]. Поговорив с Василевским, мы условились: давайте сядем на автомашину и проедем к Москаленко. Там теперь главное направление боев. Когда мы приехали в расположение войск Москаленко, то застали ужасную картину. Самолеты противника безнаказанно летали на бреющем полете и расстреливали все, что видели: отходящие автомашины, танки, пехоту. Мы застали какое-то неорганизованное бегство. Василевский говорит: "Давайте проедем в "хозяйство" командующего". Стали мы его искать. Знали, где он находился раньше, и направились сначала туда. Когда подъехали, то там уже снимались с места кухня и военторг. Мы поняли по обстановке, что здесь-то и был штаб. Навстречу попался здоровый такой парень, лицо у него - кровь с молоком.
Солдаты о таких говорили: "По физиономии видно, что из военторга". Не выходя из машины, Василевский подозвал его. У Василевского (я уже упоминал) был мягкий характер и деликатное обращение с людьми. Он говорит: "Послушайте, послушайте, товарищ! Это не Москаленко ли хозяйство?". Тот отвечает: "Да, Москаленко". "А где сам Москаленко?". Солдат сказал, что в таком-то селе, неподалеку отсюда, не дальше чем в 10 километрах. Мы направились было туда. Вдруг этот солдат закричал: "Стой! Стой!". Остановились. Этот краснорожий нахал, глядя на Василевского, говорит ему: "Товарищ генерал, вы вчера у меня отобедали и не заплатили за обед". Василевский перевел взор на меня, потом на него: "Послушайте, батенька, что вы говорите? Как это могло случиться? Я же здесь не был, только что приехал". И обращается ко мне, вроде бы за подтверждением: "Вы же знаете, что я только что приехал?" Тот нахал тут же отвернулся и ушел. Это, видно, тренированный был рвач: позволил себе обратиться к незнакомому генералу с заявлением, что тот ему не заплатил за обед.
А Василевский стал оправдываться. Другой бы генерал иначе реагировал. Недаром я с уважением относился к Василевскому, хотя никак не мог забыть разгром наших войск южнее Харькова, и мой разговор с ним перед этим по телефону, его реакцию на мою просьбу. Видимо, до конца жизни не забуду, не смогу примириться, найти разумное объяснение поведению Василевского. Поехали мы в указанном направлении, прибыли в то село, и еще не развернулся штаб, как встретили Москаленко. Москаленко - человек очень нервный, даже более чем нервный. Он встретил нас словами: "Вот, опять вы ко мне приехали в такую минуту, когда я не могу голову поднять. Противник не дает покоя". Так же он меня встречал и в других случаях, когда я у него бывал.
Потом он рассказал нам о расположении своих войск, хотя точно и не мог знать это, потому что противник как раз в то время подавлял его бегущие войска. Так началась новая катастрофа, уже восточное Харькова, в направлении Воронежа, а потом и Сталинграда. Здесь мы уже отступали, как говорится, без задержки. Как только закреплялись, враг опять сбивал нас с занятых позиций, и мы вновь отходили. Тут у нас и не было сплошной линии фронта. Сражались отдельные очаги сопротивления, а противник отгонял нас все дальше к Дону. И оказались мы на воронежской земле. Не помню названия села, где расположился наш штаб. Но помню, что у нас тогда не было сил, чтобы держаться на месте. Разведка доложила, что на северо-запад от нас сконцентрированы танки врага. Видимо, этой ночью он войдет с танками в село, где расположен наш штаб. Знал ли противник, что здесь расположен штаб фронта, или нет, не могу сказать. Мы предупредили всех работников штаба, чтобы, когда стемнеет, они переправились через Дон.
Село от Дона было не более чем в 20-ти километрах. Мы рекомендовали никому на ночь не задерживаться в этом селе, потому что люди могут попасть в плен к немцам. А мы с Тимошенко выжидали, пока смеркалось: хотели использовать сумерки, чтобы проехать в полутемноте, но до наступления ночи, потому что ночью ехать без фар невозможно, а, завидев фары, противник расстреливал все машины. Приехали на переправу. Вражеские самолеты бомбили ее. Не думаю, будто враг знал, что именно сейчас переправляется командующий войсками и член Военного совета фронта. Нет, любая переправа интересует противника. Там всегда концентрируются транспортные средства, люди, и там их легче уничтожить. Переправились мы на каком-то катере, не то лодке на левый берег Дона, отъехали неподалеку и расположились в каком-то селе просто отдохнуть. Войск у нас не было. Остались разрозненные части. Боеспособными единицами мы не располагали. Такая вот была "веселая картина". Назавтра получили указание из Москвы перенести штаб фронта в Калач-на-Дону, что западнее Сталинграда.
Начальником штаба направления стал Бодин, Тимошенко опять командовал Юго-Западным направлением и Юго-Западным фронтом, а Костенко к тому времени погиб в Харьковской операции вместе со штабом 6-й армии. Когда мы получили указание из Москвы переместиться в Калач, я уехал туда с Бодиным и Баграмяном. Тимошенко же сказал, что останется с членом Военного совета Гуровым здесь, чтобы организовать те войска, которые сумеют переправиться через Дон. Мы уехали. Это было, на мой взгляд, очень странное решение командующего. Мне оно было непонятно. Позднее я даже не спросил Тимошенко, чем же оно было вызвано, и только сам сделал вывод, что, видимо, Тимошенко морально подавлен, хочет как-то оправдаться перед самим собой. Несколько дней не имели мы с ним связи. Он не имел связи и со штабом. Мы его просто не могли найти.
Когда Сталин обращался к нам, то мы не могли ответить, где находится командующий. Получалось, что вроде бы мы его где-то бросили. Можете себе представить? Это в сталинские-то времена, когда любому мерещилось на каждом шагу - измена, предательство! В тяжелейший период для нашей армии и уже дважды подряд на направлении, где командует Тимошенко и где я являюсь членом Военного совета, подвергаются такому жестокому разгрому наши войска. А командующего вообще нет. Значит, он сбежал? Нет вместе с ним и члена Военного совета дивизионного комиссара Гурова. Ей-богу, появилась у меня тогда такая мысль. Хотел ее отогнать, но она как бы сама нанизывалась на факты. При Сталине он свое понимание вещей буквально вбивал в сознание каждому, с кем соприкасался. Естественно, зародились нехорошие мысли и в отношении Тимошенко.
Получаем новый приказ - переместить штаб в Сталинград. Там находилась какая-то группа лиц, которая должна была проинформировать нас, что входит в наше распоряжение и в состав нашего нового. Сталинградского фронта. Мы с Бодиным поехали на автомобиле и в дороге встретили Тимошенко! Позднее Гуров рассказывал мне, что они отсиделись в стоге сена. Разостлали под собой бурки и командовали теми, кто был вокруг. Никакой связи не имели, никого близко не знали. "У Тимошенко, - говорил Гуров, - было такое настроение: что же поеду я сейчас и буду сидеть в штабе? Что я смогу сказать Сталину? Войск нет, управлять некем. Мне будут указывать, как отражать натиск противника, а отражать-то нечем. Одним словом, все сразу: и уязвленное солдатское самолюбие, и огорчение. Он, конечно, переживал не меньше, чем я. Его (теперь уже не меня) обвиняли в этом поражении, а виноваты были Генеральный штаб и лично Сталин. Между собою мы не обменивались мнениями по данному вопросу. Я был, конечно, настороже, потому что Тимошенко в разговоре со Сталиным согласился, как сказал мне Сталин при телефонном разговоре через Маленкова, что это я нажал на Тимошенко в ходе Харьковской операции. А мне уже достаточно было, что я назойливо добивался утверждения решения нашего штаба и тем самым вызвал в мае недовольство и раздражение со стороны Сталина.
Уехали мы в Сталинград вдвоем с Бодиным. Тимошенко же опять не поехал, хотя имелось прямое указание Сталина прибыть туда, и даже было указано время. Ехали мы с Бодиным вдвоем на автомашине. Настроение, конечно, хуже некуда. Переносим свой штаб в Сталинград и знаем, что на всем пространстве между Доном и Сталинградом у нас почти нет войск. Есть какие-то дезорганизованные их остатки, не представляющие боевой силы, на которую можно положиться, чтобы задержать противника. Помню даже такую мелочь. Перебрались через реку Хопер. Бодин говорит: "Давайте искупаемся". Роскошь для того времени. Не до того было. Но мы под влиянием южного солнца решились и искупались. Прибыли в Сталинград. Я впервые попал в этот степной город. На меня он произвел впечатление большой деревни, за исключением той его части, где расположен тракторный завод. Там виднелись современные постройки кирпичной кладки, четырех- и пятиэтажные. Там же заводы "Баррикады" и "Красный Октябрь", мельница, другие сооружения. Преобладали деревянные строения. Я был поражен, что в степи, где вообще нет леса, за исключением Дубовой рощи на левом берегу напротив Сталинграда, в нем сплошь деревянные постройки. Потом понял, что Волга посылала сюда на своей груди плоты, поэтому лес был тут дешевый.
Нас встретил генерал Толбухин[90]. Он был назначен начальником укрепрайона Сталинграда и занимался строительством укреплений: рытьем траншей и противотанковых рвов. Мало еще было сделано. Видимо, не так давно началось строительство. Боевых единиц у Толбухина имелось тоже очень мало. Нам доложил представитель Генерального штаба (не помню, кто это был), что здесь находятся армии 62-я и 57-я неполного состава. 57-й армией потом командовал Толбухин, 64-й Чуйков, 62-й - Колпакчи[91]. Стояли там и соединения, в частности, механизированная бригада[92]. Командовал ею полковник Бурмаков, а членом Военного совета был хорошо известный мне человек: когда я был секретарем Бауманского райкома партии Москвы в 1931 г., он являлся секретарем парткома мясо-молочного комбината имени Микояна. Очень задорный такой был паренек, еврей, энергичный и хороший секретарь партийной организации, инициативный человек. Прекрасно вел себя и, будучи комиссаром этой мехбригады, имел звание полкового комиссара. Находились там также другие воинские части, но мелкие. Вскоре после того, как мы с Бодиным прибыли в Сталинград, меня вызвали в Москву. Приехал я в столицу, ожидал опять всяческих неприятностей. Неудачи на фронте не могли сулить мне каких-то приятностей в Москве.
Но Сталин никаких упреков на этот раз мне не делал. Я даже подумал, что, может быть, он как-то осознал свою неправоту в том, что не послушал меня, когда я добивался утверждения нашего приказа перейти к обороне на Барвенковском направлении? Сталин это, конечно, сказать не мог. Если он даже так думал, у него язык не повернется признать, что он был не прав, а кто-то прав. Я ничего такого не слышал от него никогда, не мог ожидать и не ожидал этого и теперь. Но то, что он встретил меня довольно спокойно, хотя создавшееся положение было очень тяжелым, позволило мне тогда так думать. Сталин расспрашивал меня о событиях, но я мало что мог сказать, потому что пока не знал ни города, ни обстановки. Рассказывал больше он, какие там находятся армии и как нужно организовать оборону города. Вдруг он ко мне обернулся и сказал: "Кого назначить туда командующим?". А насчет Тимошенко молчит. Тимошенко командовал тем Юго-Западным фронтом, который теперь превращался в Сталинградский. Поэтому, естественно, возникал прежде всего вопрос о его кандидатуре. Я тоже не стал говорить о Тимошенко. А только спросил: "А вы как считаете?". Он мне: "Можно назначить командующим войсками фронта Еременко, но он лежит в госпитале и не может сейчас приступить к командованию".
Я о Еременко тогда только слышал, но лично его не знал и с ним никогда не встречался. Поэтому ничего не мог толком сказать о Еременко. Однако раз Сталин хорошего о нем мнения, то у меня не имелось оснований возражать. Для меня фамилия Еременко была свежей. Я знал только, что он дрался с немцами в районе Гомеля и на подступах к Курску. Как раз с этого направления враг ударил на юг и замкнул в окружении нашу группировку в районе Киева. Сталин опять начал нажимать, чтобы я назвал командующего войсками Сталинградского фронта. Называть мне Тимошенко? Для Сталина это была бы тогда не находка. Сталин сам знал Тимошенко, и лучше, чем я. Еще по Первой Конной армии Буденного. Тимошенко вообще был на виду, особенно после репрессирования командного состава Красной Армии в 30-е годы. На фоне оставшихся командиров Тимошенко выглядел довольно заметно. Когда еще я уезжал из Москвы в Киев первым секретарем ЦК КП(б)У, командующим войсками округа в то время был Тимошенко, и Сталин дал мне о нем благоприятный отзыв и хорошую характеристику. Правда, характеристика заключалась главным образом в том, что это честный человек, на которого можно положиться. Конечно, Сталин глубокого доверия никогда и никому не оказывал.
Всегда у него было заложено внутренне какое-то подозрение к любому человеку. Он мне как-то сказал в пылу откровения: "Пропащий я человек, никому не верю. Я сам себе не верю". Это он сказал мне в 1952 г., в Сухуми, в присутствии Микояна. Вот характерная черта Сталина. Не знаю, что тогда на него нашло, если он набрался вдруг духу и откровенно сам дал себе характеристику. А в 1942 г. я сказал ему: "Товарищ Сталин, я могу назвать кандидатов только из числа тех людей, которые командовали войсками на нашем направлении. Других я не знаю. Поэтому командующего на Сталинградский фронт должны назвать вы. Вы больше людей знаете, у вас шире горизонт" - "Да что вы? Что вы? Я уже сказал вам про Еременко. Очень хорошим был бы там командующим Власов, но Власова я сейчас не могу дать, он с войсками в окружении. Если бы можно было его оттуда отозвать, я бы утвердил Власова. Но Власова нет. Называйте вы сами, кого хотите!"[93]. Крепился я, крепился, но был поставлен в такие условия, что не мог выйти из помещения, пока не назову командующего войсками Сталинградского фронта. Говорю: "Из людей нашего фронта я назвал бы Гордова, даже при всех его недостатках (недостаток его заключался в грубости. Он дрался с людьми). Сам, - продолжаю, - очень щупленький человечек, но бьет своих офицеров. Однако военное дело он понимает. Поэтому я бы назвал его".
В то время он командовал 21-й армией и был в нашем распоряжении. Я уже знал его поближе по участку фронта, который он занимал на Донце. Членом Военного совета у него был Сердюк. Я от Сердюка имел характеристику на Гордова - и хорошую, и плохую. Хорошую - в смысле знания дела, его энергии и храбрости; плохую - насчет его грубости вплоть до избиения людей. Это, правда, в то время считалось в какой-то степени положительной чертой командира. Сам Сталин, когда ему докладывал о чем-либо какой-нибудь командир, часто приговаривал: "А вы ему морду набили? Морду ему набить, морду!". Одним словом, набить морду подчиненному тогда считалось геройством. И били! Потом уже я узнал, что однажды Еременко ударил даже члена Военного совета. Я ему потом говорил: "Андрей Иванович, ну как же вы позволили себе ударить? Вы ведь генерал, командующий. И вы ударили члена Военного совета?!". "Знаете ли, отвечает, - такая обстановка была". "Какая бы ни была обстановка, есть и другие средства объясняться с членом Военного совета, нежели вести кулачные бои". Он опять объяснил, что сложилась тяжелая обстановка.
Надо было срочно прислать снаряды, он приехал по этому вопросу, а член Военного совета сидит и играет в шахматы. Я говорю ему: "Ну, не знаю. Если он играл в шахматы в такое трудное время, это, конечно, нехорошо, но ударить его не украшение для командующего, да и вообще для человека". Потом этот член Военного совета стал секретарем Астраханского обкома партии, уже после смерти Сталина. Порядочный был человек, заслуживающий уважения[94]. Давал в морду и Буденный. Я уже рассказывал, как он ударил солдата. Бил подчиненных и Георгий Захаров[95]. Потом он стал заместителем командующего войсками Сталинградского фронта. Я его ценил и уважал как человека, понимающего военное дело. Он преданный Советскому государству и Коммунистической партии воин, но очень не сдержан на руку. На Сталинградском фронте я, правда, уже никогда не видел, чтобы Еременко позволил себе рукоприкладство. Я только знал о таких фактах его жизни в прошлом. А пока что, одним словом, я назвал Сталину Гордова. Сталин говорит: "Хорошо, утвердим Гордова". Тут же, как обычно, сидел Молотов. Сталин и говорит ему: "Бери блокнот, карандаш и пиши приказ о назначении Гордова". Вскоре Гордов приступил к исполнению обязанностей командующего войсками фронта[96]. Начали мы возводить оборону. Спустя какое-то время Бодина отозвали в Москву и назначили заместителем Василевского. Он получил таким образом большое повышение. На это назначение повлияли и мои характеристики, которые я давал на него неоднократно Сталину.
Я просто очарован был Бодиным. И сейчас не отказываюсь от всего того, что говорил хорошего в адрес этого человека. Он погиб уже давно, в 1942 году[97]. Это был замечательный генерал. Сейчас не помню, кто же был на первых порах начальником штаба фронта в Сталинграде. Баграмян уже был отозван в Москву. Я даже несколько волновался: не отозван ли он по соображениям, угрожающим его персоне? Он уехал, и после этого я на фронте уже никогда с Баграмяном не встречался. Только слышал о нем и радовался, что он по заслугам оценен и занимает высокие посты. Он крепко отличился во время войны. Противник стал подтягивать войска к Сталинграду, и наши армии вошли с ним в соприкосновение. Было это в июле, жарища стояла жуткая. Поехали мы с Гордовым в 62-ю армию, к Колпакчи. Докладывает он нам о положении дел, как вдруг слышим стрельбу. Эти артиллерийские выстрелы были для нас неожиданностью. Мы выскочили из дома, смотрим: наши танки отходят как раз в нашем направлении и ведут огонь, и по ним тоже стреляют. Одним словом, непонятная какая-то картина. Что же творится на фронте? Командующий армией Колпакчи нам ничего тревожного не докладывал, и вдруг неожиданно противник подошел к расположению штаба армии?
Вышли мы с Гордовым. Там лежала копна сена. Небольшая, но все-таки возвышенность. Забрались на нее и стали смотреть в бинокли, что случилось? Ничего нельзя было понять. Оказалось, что противник прорвался и начал теснить нас. Немцы форсировали Чир, южнее заняли Цимлянскую и стали непосредственно угрожать нам. Произошло что-то невероятное на Южном фронте. Сведений оттуда мы не получали и поэтому не знали, что там делается, к югу от нас. Потом уже узнали, что катастрофа разразилась в значительно большем масштабе, чем можно было предположить. Не только наш Юго-Западный фронт был разгромлен, но и Южный фронт был врагом смят. Довольно солидной обороной вокруг Ростова мы даже и не воспользовались. Противник обошел Ростов, дезорганизовал оборону, и я не знаю, сколько наших взял в плен, сколько перебил, а другие бежали от него через Дон. Я бывал там раньше, когда строили укрепленный район под Ростовом. Строил его непосредственно Кулик[98], имевший полномочия от Сталина.
В Ростове у него был свой штаб, и он довольно упорно вел нужные работы. Было сделано много: отрыты противотанковые рвы, возведены земляные укрепления, расставлена артиллерия. Все это строилось километрах в 20 - 30-ти от Ростова, и имелась надежда, что противник никак не сможет с ходу взять Ростов. Море и Дон прикрывали фланги, а с севера были построены укрепления. Командование этими укреплениями было подчинено Южному фронту. Как противник вышел на Дон восточное Ростова, мы не могли понять. Что же случилось с Ростовом? Позже мы узнали, что наши войска бежали, и противник занял Ростов без боя: немцы сначала вышли восточное Ростова к Дону и стали форсировать его. В результате Ростов просто был оставлен[99]. Малиновского сняли с должности. Над ним нависла угроза немилости Сталина. После разгрома наших войск под Ростовом противник быстро занял Цимлянскую. Падение Цимлянской - это непосредственная угроза Нижней Волге.
От Цимлянской до Волги рукой подать. Цимлянская, Калач-на-Дону и Волга километров 150. Я сейчас стал уже забывать расстояния, хотя тогда измерял их довольно часто на своей автомашине. Из-за плохой распорядительности командующего 62-й армией Колпакчи мы с Гордовым освободили его от должности и в следующем месяце назначили Лопатина[100]. Завязались бои с немцами уже на подступах к Дону, у Калача. А в Цимлянской они вообще уже были на Дону. Однажды мы с Гордовым решили поехать в 64-ю армию и познакомиться с ее командующим Чуйковым. Я Чуйкова прежде не знал, а только слышал, что это боевой генерал, который был нашим военным советником у Чан Кайши. Он только что приехал из Китая и сразу принял резервную 64-ю армию. Армия эта стояла южнее. Поехали мы к ней по степи. Тревожных донесений с этого фланга тогда не имели. Но когда приехали туда, увидели ужасную картину. Там тянутся калмыцкие полупустынные степи. Много земель, непригодных для обработки. По ним, как белые лебеди на буром фоне, рассыпанным строем тянулись от Дона на восток бойцы 64-й армии. Они были прижаты противником к Дону и вплавь, сбросив обмундирование, в нижнем белье переплывали, кто мог, реку и отступали на восток.
Приехали мы в расположение штаба. В небольшом кустарнике стояли машины и все остальное, что нужно для штаба. Никаких строений не было. Дорожки были хорошо распланированы, убраны и почищены. Там познакомились мы с новым командующим армией. Чуйков был элегантно одет. Необычно, не так, как другие наши генералы одевались во время войны. Ходил со стеком в руке. Производил впечатление человека с претензией. Создалось не особенно-то приятное впечатление. Гордов набросился на него со всей своей грубостью и руганью. И действительно: ведь армия потеряла управление. Учитывая тяжелую обстановку того времени и то, что Чуйков только что прибыл из Китая и внешне выглядел довольно вычурно, он производил невыгодное впечатление. Мы вынуждены были поставить вопрос о его замене. Освободили Чуйкова, передвинули его в опергруппу, а назначили взамен на 64-ю армию Шумилова. Шумилов прежде замещал командующего 21-й армией. Чуйкова мы взяли в резерв фронта. Шумилов, когда принимал армию, попросил, чтобы перевели вместе с ним и члена Военного совета Сердюка. Он говорил, что они привыкли друг к другу и уважают друг друга. Мы уступили и перевели Сердюка членом Военного совета в 64-ю армию. Так Шумилов с Сердюком и продолжали управлять этой армией, вплоть до разгрома войск Паулюса под Сталинградом.
Потом, после разгрома Паулюса, я встретился с Шумиловым и Сердюком уже тогда, когда они пришли к нам на Курскую дугу и заняли участок по Донцу. Их армия называлась уже 7-й Гвардейской: 64-я в результате успешных боев под Сталинградом была названа Гвардейской. Она пришла в полном составе и заняла участок фронта севернее Белгорода. А пока что мы с Гордовым поручили Чуйкову собирать отставших бойцов, организовать из них отряды и действовать против врага. Чуйков занялся этим делом. Он быстро организовал отряд, не помню, какого состава, отличился, хорошо наносил удары по врагу, который рвался к Волге. Это было уже перед осенью. Между тем получилось так, что командующий 62-й армией[101] обманул командующего войсками Сталинградского фронта, которым стал в то время уже Еременко[102]. Возник вопрос, кого же назначить командующим 62-й армией, которая отходила прямо к Сталинграду и должна была защищать его? К этому времени у меня сложилось уже очень хорошее впечатление о Чуйкове.
Мы позвонили Сталину. Он спросил: "Кого же вы рекомендуете назначить на 62-ю армию, которая будет непосредственно в городе?". Говорю: "Василия Ивановича Чуйкова". Его почему-то всегда называли по имени и отчеству, что было в рядах армии редко. Не знаю, почему так повелось. Сталин спрашивает: "А не пропьет он армию?". Отвечаю: "Товарищ Сталин, я никогда не слышал, что он пьяница и может как-то пропить армию. Не знаю, откуда у вас такие сведения о Чуйкове. Чуйков себя очень хорошо показал как командующий отрядом, который он сам организовал. Думаю, что он и впредь будет хорошим организатором и хорошим командующим 62-й армией". Сталин: "Хорошо, назначайте. Утвердим его". Это произошло уже при Еременко. Тогда противник прижал нас. Не помню точно, когда к нам прибыл с фронтовым штабом Еременко. Сначала ему был отведен особый участок и выделены для него войска. Он находился в составе Сталинградского фронта с какими-то особыми полномочиями. Это было мне и тогда непонятно, и сейчас я никак не могу разобраться, что это значило. Пришел он, представился. Я с ним тогда и познакомился, но не понимал его полномочий. Но раз доложил, то и ладно. На войне приветствуется вс? и все, кто может стрелять. Так он начал действовать там. Кончалось жаркое лето 1942 года. Жаркое во всех отношениях.
У РУИН СТАЛИНГРАДА
Противник сосредоточил свои усилия в направлении Калача-Сталинградского[103]. На наших реках, текущих к югу, правый берег господствует над левым. Если противник подойдет к Дону и займет его правый, высокий берег, то сможет создать благоприятные условия для форсирования реки: он сумеет подавлять оборону на большую глубину артиллерийским и пулеметным огнем и под его прикрытием форсировать Дон или здесь, у Калача, или в другом месте. Мы делали все, что только было в наших силах, чтобы не допустить этого. Сталинградский тракторный завод оказывал нам очень большую помощь ремонтом поврежденных в бою танков. Мы, опираясь на эту помощь, собрали все подбитые и изношенные боевые машины, которые у нас были, стащили их на тракторный завод и мобилизовали рабочих на ремонт. Я говорю: мобилизовали. Можно понимать так, будто мы приложили какие-то усилия, чтобы как-то заставить рабочих и инженеров приступить к ремонту. Ничего этого не было. Рабочие, инженеры, служащие, все жители Сталинграда отдавали фронту все, что могли. И как только мы сказали, что обращаемся с такой просьбой, сейчас же рабочие и инженеры, взявшись за дело, начали ремонтировать танки.
Таких танков набралось немало. Из них мы потом создали материальную часть для танковой армии и назвали ее 1-й танковой армией. Не знаю сейчас точно, сколько имелось в ней танков и какой системы. Т-34 числились единицами. Основную часть машин составляли устаревшей конструкции танки, которые и по вооружению, и по броне не находились на уровне требований, стоявших перед танковыми войсками. Слабы были эти танки. Но, все-таки, это танк! Все-таки, это броня, а не человеческая кожа. Поэтому мы возлагали большие надежды на эту танковую армию. Помню нашу радость, когда мы закончили ремонт и организовали армию. Командующим этой армией назначили генерала Москаленко[104]. Он стал первым из командующих танковыми армиями в СССР. Мы вывели его армию в направлении Калача. Перейдя Дон, она вышла на его правый берег, с тем чтобы преградить путь противнику, который рвался к Калачу. Должен сейчас признать, что мы тогда несколько переоценили надежды, которые возлагали на эту танковую армию. Когда она переправилась через Дон, мы вздохнули несколько посвободнее, поскольку считали, что она не позволит противнику подойти с ходу к Дону.
Мы с командующим войсками фронта Гордовым перенесли фронтовой командный пункт под самый Калач, в какой-то хутор на левом берегу Дона. Заняли там домик буквально у самого берега реки, второй с краю в западной части хутора. Заняли его потому, что все время летали немецкие бомбардировщики и бомбили наши позиции. Там стояла батарея, которая прикрывала переправу и привлекала внимание бомбардировщиков. Они всегда разворачивались в воздухе над этим хутором, как раз над нашим домиком. А мы надеялись на то, что противник никогда не подумает, что именно в этом месте находятся командующий войсками и член Военного совета фронта. Здесь же был расположен пункт связи. Все это было замаскировано, а жили мы в домике.
Был и такой случай. Приехал к нам на фронт Василевский[105], начальник Генерального штаба. Поговорили, он познакомился с обстановкой. Пришло время ночного отдыха. Мы с ним расположились на сене. Постлали его, а сверху положили жерди: прикрылись, одним словом, и от росы, и от солнца. Долго не могли уснуть. Только задремали, как я услышал шум. Проснулся и Василевский. Оказалось, приехал Москаленко. Приехал очень нервный и возбужденный. Говорю: "В чем дело?". Москаленко вообще человек легко возбудимый. Это я знал. Но тут он был особенно не в себе, ругал танкистов: "Такие они сякие, не хотят воевать. Я револьвером угрожаю, заставляю их продвигаться вперед". Я ему: "Вы успокойтесь прежде всего". А он опять начал волноваться, не может никак себя сдержать. "Да в чем же дело?". Отвечает: "Вот столько-то потеряли мы танков и так-то вот ведут себя танкисты". Очень неодобрительно он о них отзывался. Да, несдержанный был человек по характеру. Но я ценил его за беспредельную преданность Родине и безграничную храбрость. И тогда я предложил Василевскому: "Давайте поедем и посмотрим танковую армию".
Ночь была лунная. Знаете, как бывает на юге? Хоть газеты читай при луне. Сели мы на машину и поехали. Ехать нужно было обязательно через Калач, ибо там была переправа. Мы быстро поднялись в гору, так как я считал, что танковая армия находится западнее Калача, оказалось же, что она отошла к берегу Дона. Ехали мы при луне без фар. Было тихо, никакой перестрелки. Как бы мирная, спокойная украинская ночь, воспетая великим Гоголем. Вышли мы из машины, смотрим. Москаленко подвел нас поближе: "Вот, - говорит, - мы танками раздавили пушку". Действительно, пушка противника выведена из строя, тут же лежит перебитый обслуживающий персонал - артиллеристы.
Одним словом, танки уже поработали. Всюду разбросаны немецкие мины противотанковые и противопехотные. То есть мы увидели, что противник подтянул сюда даже саперов. Одним словом, подготовился к форсированию Дона. Но наша танковая армия быстро была выведена из строя. Что могли, мы оттаскивали в промоины у берега Дона. Промоины, как правило, зарастают кустарником. Поэтому создавались благоприятные условия для маскировки, укрытия подбитых танков. Решили мы танки тут же и ремонтировать. Не тащить же их в Сталинград. Лучше ремонтировать на месте. Тем более что завод был близко. Рабочие приехали сюда сразу с инструментами, расположились в прибрежных расщелинах и начали ремонт. Члену Военного совета Кириченко мы поручили, чтобы он все время оставался с рабочими и помогал им организовать ремонт.
Противник быстро нащупал нас. С воздуха было видно все-таки, и маскировка оказалась недостаточной. Это ведь не лес был, а кустарник. Враг принялся бомбить и очень досаждал нам упорной бомбежкой. Мы несли потери и в людях, и в танках. Враг, конечно, считал, что там находились не только ремонтируемые, а и замаскированные целые боевые машины. Кое-что все-таки сумели отремонтировать, но танковая армия уже для сил фронта не имела первоначального значения. Возможностей у нее теперь не было, она потеряла большую часть своего состава. Кроме того, танки были старые, с изношенным ресурсом. Одним словом, остались мы практически без танков. Враг же вплотную подошел к Дону. Хотя на правом берегу мы еще имели войска, но противник уже стрелял по нашему аэродрому на левом берегу. Невдалеке от нас мы расположили аэродром для самолетов связи. Там базировались У-2. Врагу это было видно с высокого берега, и он стрелял как раз через наш домик.
Мы уже привыкли к артогню и к непрерывной бомбежке с воздуха батарейного прикрытия переправы. Батарея стояла там мелкого калибра, по-моему, 37-мм пушки. Но однажды мы чуть не пострадали. Когда противник сделал очередной налет, нас предупредили, что два самолета летят прямо на наш домик. С земли всегда кажется, что именно на тебя летит самолет и как раз в тебя стреляет пушка. Зная это, мы с командующим спокойно продолжали свою беседу на крыльце дома. Там у нас был столик. Вдруг нам крикнул Божко из охраны, что самолеты сбросили на нас бомбы, мы соскочили с крылечка и легли, раздался взрыв. Божко сообщил, что разбита наша машина, ранен шофер Журавлев. Я подошел к автомобилям. Шоферы в ту пору как раз завтракали, было еще утро. Замаскированные машины стояли в вишневом саду. Видимо, противник заметил их и сбросил бомбы. Нам повезло, что домик остался невредим. Пострадал Журавлев: его сильно посекло. Когда противник сбросил бомбы, шоферы и охрана прижались к земле, взрыв конусовидным веером раскидал осколки и зацепил Журавлева. Машину тоже очень сильно побило. А больше никто не пострадал. Живучесть же соседней батареи была удивительной. Сколько раз на нее налетали немцы, все перемешалось с пылью после бомбежки, а батарея живет и ведет огонь! Ее бойцы очень упорно несли свою тяжелую ратную службу.
Я уже говорил раньше о том, что к нам прибыл Еременко, и ему выделили какой-то участок в составе фронта. Но так продолжалось недолго. Позвонил Сталин и сказал, что решили назначить новым командующим войсками Сталинградского фронта именно Еременко, а Гордова - его заместителем. Таким образом, Еременко вступил в командование[106], а Гордов сдал командование и приступил к исполнению новых обязанностей. Положение под Сталинградом в это время ухудшалось. Противник имел превосходство в силах и настойчиво стремился, форсировав Дон, прорваться к Волге. Нами же делалось все, чтобы использовать такую сильную преграду, какой являлся Дон. Но при явном превосходстве в артиллерии и особенно в авиации форсировать Дон не представляло для противника особенно большой трудности. Завязались бои непосредственно на подступах к Сталинграду и южнее города. Упорные бои длились днем и ночью. Должен сказать, что новый командующий нравился мне своей распорядительностью и, я бы сказал, военной четкостью в управлении войсками. Я поддерживал Еременко. Хотя я неплохо относился к Гордову, но считал, что Еременко, безусловно, как военный руководитель и как командир стоял выше Гордова. Мы с Еременко использовали далее Гордова для направления на особо опасные участки, с теми чтобы он там помогал командирам оказывать противнику более упорное сопротивление. И Гордов делал все, что мог. Я не чувствовал особого его недовольства. Или же он просто умел подавлять в себе такое чувство после того, как был смещен с поста командующего. Но в скором времени Гордов вышел из строя, был ранен. Когда мне доложили обстоятельства его ранения, меня они обеспокоили. Я был удивлен, как Гордов оказался в такой ситуации, которая кончилась его ранением и вывозом его с места поражения случайными связистами, оказавшимися там в то время. Если бы их не оказалось, то он попал бы в плен.
Я не хотел допустить мысли, что здесь имели место какие-то преднамеренные действия со стороны Гордова. Но, с другой стороны, обстановка, при которой он оказался там, была для меня необъяснимой. Не мог же не понимать сам Гордов, какой опасности он себя подвергал. А произошло, как мне потом доложили, следующее. На том направлении, куда мы с Еременко его послали, шли очень тяжелые бои. Когда он был ранен, на этом участке наших войск почти не было. Отходили один или два танка, и танкисты его предупредили, что наших войск там уже нет. Он не обратил на это внимания и продолжал оставаться со своим адъютантом на возвышенности. Потом налетел самолет противника и сбросил бомбу. Этой бомбой Гордова ранило и контузило, он стал беспомощным. Безусловно, противник схватил бы его. Но отходила также повозка наших связистов, которые сматывали телефонный провод, и наткнулась на генерала. Его погрузили на повозку и вывезли с переднего края. Сейчас же Гордова поместили в госпиталь, а госпиталь быстро направил его в Куйбышев, где находилась его семья. Там он и лечился, а потом вернулся на фронт, но на Сталинградский уже не попал[107]. Я с ним вновь встретился уже, по-моему, в 1944 г., когда он командовал, кажется, 3-й Гвардейской армией и вышел с ней на границу с Польшей. Он хорошо повоевал и успешно закончил войну. Погиб же он уже после окончания войны, в 1951 г., в результате сталинского произвола: был арестован и казнен.
Такой вот неприятный произошел в 1942 г. случай с Гордовым. У меня осталась о нем память, как о генерале двойственного характера. Я очень ценил его за оперативность, неутомимость, пренебрежение опасностью. Буквально на грани безрассудства он рисковал своей жизнью там, где этого не требовалось от командующего, - вертелся под бомбами или под снарядами. Несколько раз я наблюдал, как он, сняв фуражку, расхаживает себе под пулями. Однажды, помню, поехали мы с ним к Шумилову. Вели бои части его 64-й армии и механизированный корпус Танасчишина[108]. Очень храбрым человеком был этот Танасчишин. И я видел, как Гордов вел себя равным образом в такой же тяжелой обстановке, и сожалею о незаслуженном конце этого человека, который всю свою жизнь, все свои знания отдал Родине, отдал Красной Армии. Он все отдал для Победы, а когда борьба с врагом завершилась нашей полной победой - был арестован и казнен по распоряжению Сталина! Чтобы далее не возвращаться к этому вопросу, скажу, что стало мне известно о причине его казни.
Я узнал об этом из разговора Сталина с Берией. Гордое и бывший Маршал Советского Союза Кулик (в то время он был генералом, его в войну разжаловали и сняли с него звание маршала) приехали в Москву. Они служили где-то за пределами Москвы. Они расположились, кажется, в гостинице "Москва". Подвыпили (и тот, и другой не прочь были изрядно выпить. Особенно здорово пил Кулик. Гордов тоже пил, но мне казалось, что он был менее привязан к выпивке). Так как они были в опале у Сталина, а война уже кончилась, то они были, видимо, очень недовольны и возбуждены. Напились и повели разговор о том, как война проходила и как она кончилась. Видимо, анализировали, почему вначале наша армия отступала. Протягивали при этом Сталина. Я запомнил из разговора между Сталиным и Берией такие слова Кулика: "Рыба начинает вонять с головы". Ясно, что голова - это Сталин. Сталин, конечно, не мог терпеть людей, которые так выражались. А стало это известно по очень простой причине: за ними наблюдали и их везде преследовали подслушиванием. Когда они приехали в Москву, то их поселили в номерах, которые были оборудованы техникой подслушивания. Поэтому весь их разговор тут же стал известен, и о нем доложили Сталину, что и погубило этих людей.
Я считаю, что это было бесчестно со стороны Сталина. Сталин, наверное, сам себя готов был подслушивать, не говоря уж о тех, кому он начинал не доверять[109]. Они были честными, преданными Советской власти людьми. Я оценивал их по-разному: очень плохо расценивал командирские достоинства Кулика и с уважением относился к Гордову. Считал, что он обладал хорошими качествами командира. Это он доказал на деле и в Сталинграде, и после Сталинграда, когда командовал армиями. Каждый человек имеет недостатки. Кулик, при всех его командирских недостатках, был честным человеком. Он всю свою жизнь отдал Красной Армии, служил ей так, как позволяли его силы, его умственные способности. Перед войной Сталин его переоценивал как артиллериста и поручил ему вопросы артиллерийского обеспечения всей Красной Армии.
Это было неправильно. Кулик не был способен на это. Сам Сталин несет ответственность за то, что доверил этому человеку пост, который был ему не по плечу. Но уже после войны казнить его? Это было и жестоко, и несправедливо. Здесь проявилось злоупотребление властью. Раз Сталин у власти, может все сделать, это и делал: и казнил, и миловал. Возвращаюсь к тому, о чем говорил... Сталинград. Август 1942 года. Противник продолжает атаки против наших войск. Они оказывают упорное сопротивление. Нашего бегства либо отступления, граничащего с бегством, которые характеризовали положение в 1941 г., не было уже и в помине. Наши войска, если и отходили, то лишь в результате давления более крупных войсковых соединений противника, в результате сильного артиллерийского огня, вражеского превосходства в самолетах и другой боевой технике. Мы были еще очень слабы и по качеству вооруженных сил, и по наличию вооружения. Не хватало нам и полевой артиллерии, пулеметов, зенитных средств.
Условия поединка были далеко не равными. Несмотря на это, наши войска героически вели сражения и отходили только тогда, когда создавалось безвыходное положение. Это было уже не бегство, а отход с рубежа на рубеж. Противник (не помню числа, трудно все удержать в памяти, с тех пор прошло много лет) подверг жесточайшему налету Сталинград[110]. Самолеты, волна за волной, бомбили город. Он был весь в огне. Мы с командующим решили переправить штаб и все, что не требовалось держать в городе, на левый берег Волги, сами же с командующим и оперативной частью штаба остались в Сталинграде. Штаб размещался у реки Царицы. Там образовался глубокий овраг в результате многолетней работы дождевых и талых вод. Получилась большая промоина. Эта-то промоина с высоким краем была использована под размещение командного пункта. Я не знаю, когда конкретно он был сооружен.
Когда мы туда пришли, пункт был уже готов. Думаю, что этот командный пункт готовился для какого-то другого штаба, не фронтового, а более высокого. Уж слишком там было все сделано на манер сталинских вкусов: фанерой облицованы стены (все дачи Сталина облицовывались Дубовой фанерой, и там было сделано так же), устроен длинный коридор, а от коридора в глубь горы проведены штольни. Все выполнено было очень хорошо. Был оборудован даже туалет. Военные в полевых условиях не могли и думать об этом. Но я никогда не слышал разговоров ни до того, ни тем более позднее, для каких целей и для кого готовился этот командный пункт. Напротив входа в подземелье располагалась старая ватная фабрика, метрах в 100 - 150 от него. Вход защищали от взрывной волны преграды. Чтобы не выбило дверей, были устроены надолбы, довольно толстые и крепкие.
Когда началась бомбежка, весь город оказался в огне. Гражданские лица и городской совет обороны (организация под председательством первого секретаря обкома партии Чуянова[111]) делали все, что могли. Но что они могли реально сделать? Столько было огня! Не могло хватить никаких городских средств тушения пожаров. Противник бомбил почти безнаказанно. Зенитные средства вели по нему огонь, но это его не останавливало, ибо зенитный огонь был малоэффективным. Враг подошел к городу уже близко, прорвал нашу оборону и вышел танками к Волге с северной стороны, в районе поселка Рынок. Создалось очень опасное положение. У нас не было ни подвижных войск, ни резервов, чтобы не дать врагу войти в город с севера. В этом случае он сразу захватывал заводы, прежде всего тракторный. Потеря его была бы очень ощутимой. Потом враг ворвался бы в старую часть города с хорошими каменными постройками. Да и сам тракторный завод с его цехами занимал крупную территорию.
Это была, собственно говоря, крепость. Выбивать оттуда врага было бы очень трудно. Тут армии оказали большую помощь рабочие Сталинградского тракторного. На нем ремонтировались танки и имелись рабочие, которые на месте испытывали эти танки. Были там и военные, которые принимали танки после ремонта. Пришлось использовать и эти силы. Рабочие, которые занимались испытанием танков, и военные контролеры преградили врагу путь прорыва в город и организовали оборону на первых порах. Потом мы стащили туда части с других участков фронта и построили оборону, которая была повернута к северу. Выйдя на Волгу, немцы достигли той цели, что прервали навигацию по Волге. Хотя к тому времени и навигации-то, собственно говоря, уже не было. Но все-таки еще можно было пользоваться водным путем. Когда мы только еще приехали в Сталинград, там располагался территориальный штаб. Этим районом командовал генерал Герасименко[112]. Я хорошо знал Герасименко по Киеву. Он там был до войны заместителем командующего войсками КОВО. Я считал, что это хороший генерал, который сделает все, что только можно сделать.
А когда мы прибыли в Сталинград, упомянутая штабная организация была превращена в армейское командование, и Герасименко предложили принять 28-ю армию в Астрахани. Он решил перебазироваться из Сталинграда в Астрахань на корабле по Волге и добрался с большим трудом, потому что не один раз подвергался бомбежке. Но все-таки добрался, кажется, даже без потерь, и расположился в Астрахани. Противник очень упорно вел наступление с северной стороны. Он, видимо, считал, что оттуда скорее прорвется и замкнет окружение войск, находившихся непосредственно в Сталинграде. Особенно серьезные бои завязались в районе Рынок. Помню, к этому времени прилетел к нам генерал Крылов[113], позднее - Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения. Он прибыл к нам из-под Севастополя. Незадолго до того мы сдали Севастополь. Штабисты Приморской армии улетели оттуда в Турцию, турки их отпустили, и они смогли прибыть в наше распоряжение.
Мы назначили тогда Крылова в группу войск для организации обороны в районе Рынок, где сложилась очень тяжелая обстановка. В это же время к нам прилетел писатель Константин Симонов. Пришел он ко мне и спросил, куда бы поехать ему на линию фронта, на передний край? Я сказал, что сейчас самый опасный участок, где противник настойчиво рвется в город, лежит в районе поселка Рынок; наша группировка там небольшая, и мы туда послали генерала Крылова, который должен организовать оборону, чтобы не дать противнику на этом направлении достигнуть цели. Симонов говорит: "Хорошо, я туда и поеду". И уехал. Крылов организовал хорошую оборону, и этот участок противник не смог занять, хотя ему удалось ценой больших потерь вклиниться кое-где в нашу оборону. А севернее он прорвался к Волге. Мы оказались в полуокружении, с северным участком не имели связи по железной дороге, нашим тылом была Волга, а у нас не было серьезных переправочных средств. Эти средства были отведены оттуда раньше или потоплены. Мы располагали только мелкими плавучими средствами, через Волгу переправлялись на лодках и катерах. Когда сложилось столь тяжелое положение, мы организовали переправу на левый берег Волги и в районе Рынок.
Но после того как противник прорвался к берегу в этом районе, мы напрягли все силы, что было нелегко, и разрушили собственную переправу. Не то враг мог бы ее использовать и выскочить на левый берег реки. Потеря переправы тяжело сказалась на нас. Фактически была нарушена возможность получать боепитание и пополнение для расположенных в городе войск. Наплавной мост был разрушен. В те дни к нам приехал и Малышев[114]. Я хорошо знал Малышева и уважал его. С какой целью он был прислан и что он должен был делать, мне не было понятно тогда и непонятно сейчас. Мы встречались, разговаривали. Но конкретно могли он нам помочь? Ничем, конечно. Однажды произошел такой эпизод. Хочу рассказать о нем, так как он характерен для поведения Сталина, особенно в ту пору. Звонит мне вдруг Сталин и довольно нервно, в грубой форме задает вопрос: "Что это вы приступили там к эвакуации города?". И начал резко высказывать свое неодобрение. Отвечаю: "Товарищ Сталин, кто вам докладывал? Никакой эвакуации города нет и ничего такого не делается. Не знаю, откуда вы получили такие сведения, но эти сведения совершенно неверны". Он положил трубку. Я задумался, кто мог сказать ему такую пакость и подбросить ее лично мне?
Решил позвонить уже уехавшему от нас Малышеву, хотя и не думал, что Малышев может пойти на такую низость. Да и разговора у меня с ним на эту тему никакого не было. Ни он не поднимал такого вопроса, ни я. Говорю: "Вот, товарищ Малышев, звонил мне товарищ Сталин". И рассказываю, зачем он мне позвонил. "Да, - отвечает Малышев, - мне он тоже только что звонил и буквально в таких же выражениях высказал свое негодование. Сам не знаю, кто мог сочинить такую ложь". Тут я подумал: "Черт его знает, Чуянова. Не он ли? Вряд ли Чуянов пошел на такую низость". Позвонил Чуянову. Спрашиваю: "Товарищ Чуянов, вы не знаете, ставил кто-либо вопрос об эвакуации города? Сталин звонил по этому вопросу". Чуянов: "Он и мне звонил тоже и очень возмущенно выражал свое негодование". Когда я опросил этих людей, то больше уже ни к кому не обращался. Понял, что это была проверочная выдумка Сталина, видимо, для профилактики. Никто об эвакуации не думал и никто ничего не делал для нее, хотя и нужно было бы подумать, нужно бы! Но я уже знал, что проявить такую инициативу - значит нарваться на очень неприятные последствия. Инициативу проявил сам Сталин, но поздно. Снова Сталин позвонил уже тогда, когда была утрачена всякая возможность эвакуации оборудования заводов Сталинграда: "Нам нужно пустить завод на востоке, нельзя ли станочное оборудование тракторного, оружейного и других заводов эвакуировать?". Отвечаю: "Товарищ Сталин, сейчас уже совершенно невозможно эвакуировать что-либо. У нас нет никаких наплавных средств. Мы с трудом питаем армию, переправляем только нетяжелые грузы". "Ну, тогда что сможете". Я говорю: "Попытаемся".
Начали мы было кое-что демонтировать из станочного оборудования, подтащили к Волге, в район переправы, но, кажется, так ничего и не вывезли. Потом это оборудование лежало там. Его забрали уже после разгрома группировки Паулюса. Вот такой имел место эпизод. Да ведь поступить иначе было не в наших интересах. Если бы действительно мы смогли вывезти из Сталинграда станочное оборудование, как сделали это в Харькове, то эти станки ох как пригодились бы! Много станков эвакуировали мы из Запорожья, буквально под носом у противника. Мы поручили провести эту операцию Корнийцу. Он был в те дни либо членом Военного совета Южного фронта, либо, кажется, представителем правительства Украины[115]. Корниец сыграл большую роль в эвакуации оборудования, и это оборудование сейчас же пошло на восток, что очень положительно сказалось на создании оборонной промышленности на новом месте. В Сталинграде же это не было сделано в результате неправильного понимания дела Сталиным. Он связывал, сковывал нашу инициативу, хотел все регламентировать из Москвы, а такая регламентация выходила нам буквально боком, потому что она парализовывала инициативу и не предоставляла возможности маневра даже в вопросах передвижения войск.
Я уже не говорю об эвакуации оборудования. Тут был приоритет Центра, мы не могли ничего делать без указаний свыше. Прилетел в Сталинград Маленков. Не знаю, зачем он тогда прилетел и чем мог нам посодействовать. Но прилетел ведь из Москвы, а Москва, как говорится, видит выше и дальше. Вот и находился он у нас, проводил дни и ночи без всякой пользы для себя и без пользы для нас. Потом, когда противник вплотную подошел к Сталинграду и стал просачиваться в город, усилилась бомбежка и начались пожары, прилетели Василевский, командующий Военно-Воздушными Силами Новиков, начальник артиллерии Воронов[116]. Воронов и раньше прилетал к нам и бывал по нескольку дней, а потом улетал. Я был не очень высокого мнения о людях, которые приезжали из Ставки. Конкретно они ничем нам помочь не могли за исключением только тех случаев, когда Воронов или Новиков, или еще кто-либо, приезжавший по поручению Ставки, привозил что-нибудь реальное.
Реальное - это боекомплекты, авиация, пехотные или артиллерийские части и т. п. Если же они приезжали сами по себе, так сказать, своими собственными персонами, которые мы себе и без того наглядно представляли, потому что все эти люди были хорошо нам известны, то это нас не радовало. Просто они отнимали у нас время, не принося никакой пользы делу. Вот и собрались тогда Василевский, Маленков, Воронов, Новиков, другие представители Ставки. Одним словом, очень много народу. Так как город горел и находился все время под бомбежкой, то городское руководство тоже перебралось в наш командный пункт. Возникла там теснота. Как говорится, не повернуться. А обстановка все ухудшалась. Как раз в то время (а это всегда бывало в самый критический момент) я чувствовал обостренное внимание к себе со стороны Сталина. Я не раз видел, как при острых поворотах событий шушукаются между собой Василевский с Маленковым. Они, видимо, выгораживали собственные персоны. Видимо, готовили сообщение, чтобы при неудаче свалить вину на кого-то другого. На кого же? Конечно, на командующего войсками и члена Военного совета фронта в первую голову. Правда, со стороны Василевского я не чувствовал неправильного понимания нашего положения. Когда они шушукались, я считал, что проявлял инициативу Маленков. Сам-то он в военных вопросах ничего не понимал, но в вопросах интриганства обладал шансами на успех. Ведь ему надо было вернуться в Москву и что-то доложить Сталину: зачем он поехал и что он сделал. А вернется, не решив задания, и противник прорвется в Сталинград, надо будет как-то это объяснить.
А как? Конечно, те лица, которые командуют войсками, они-то и виновны. Я, может быть, утрирую, рассуждая за него, но примерно в таком духе докладывалось в Центр о ходе событий у нас. Потом Василевский и Маленков сказали мне, что получили указание из Москвы и улетают. Переправились через Волгу на левый берег и поехали на аэродром Гумрак. Затем все уехали. После такой толчеи, которая была на командном пункте, у нас наступила, я бы сказал, жуткая тишина, какая бывает порой в лесу. Никого не осталось! Остались только мы с Еременко, а с нами - небольшой оперативный штаб. Штаб фронта расположился на левом берегу, с тем чтобы получать сводки, иметь связь с армиями, обеспечивать их боеприпасами и другими видами снабжения войск. Все это было расположено на левом берегу. Следовательно, там были и все люди. Противник продолжал теснить наши войска и по-прежнему старался ворваться в город. Наши войска упорно держали оборону. Был как-то такой момент, когда я подумал, что Сталин примирился с тем, что немцы займут город. Поэтому он и приказал вывезти оттуда всех, кто не был там нужен и не приносил пользы. Остались только мы с командующим. Мы понимали, что наше место - тут. Уже в конце лета (было еще тепло) приехал к нам генерал Голиков. Сталин позвонил, заранее предупредил, что приедет Голиков. Голиков был на хорошем счету у Сталина, и он на него возлагал какие-то особые надежды. Считал, что сможет помочь организовать бои в самом городе. Голиков был назначен первым заместителем командующего войсками Сталинградского фронта[117]. Функции его заключались в том, что мы с командующим посылали его туда, где ощущались необходимость в глазе и подбадривании войск присутствием командования фронта.
Я был знаком с Голиковым. Познакомился еще в 1939 г., когда Красная Армия подступила к Львову и готовилась вести бой по его захвату. Но оказалось, что, когда мы подошли к Львову, противника польской армии - там уже не было. Немцы тоже вплотную подошли к Львову. Следовательно, могли столкнуться наши войска с немецкими. Мы повели переговоры с немцами. Вот тогда-то я и познакомился с Голиковым. Помнится, под скирдой сена у него расположился наблюдательный пункт. Туда я и подъехал к нему, и там мы ожидали результата переговоров с немцами. Они закончились благоприятно, и наши войска свободно вошли во Львов. Я встречался также с Голиковым, когда он был начальником Главного управления кадров Красной Армии. Возглавлял он и Главное разведывательное управление Красной Армии. Но тогда имели место наши встречи у Сталина, поэтому они не давали возможности лично поближе познакомиться и узнать Голикова и как человека, и как коммуниста. Знал я, конечно, что он состоял в партии почти с первых дней Гражданской войны. Плохого я ничего о нем не слышал. Бои между тем продолжались. Враг наседал. Тут уже наши воины отстаивали, как говорится, каждую пядь земли. Противник оплачивал свое дальнейшее продвижение большой кровью. У нас напрямую действовали лозунги: "Ни шагу назад!", "За Волгой территории для нас нет", "Стоять насмерть, но Сталинград не сдать!". Мы получали систематически небольшое пополнение в виде маршевых частей. Получали и вооружение. Когда нас замкнули в полукольцо, на артзаводе осталось много стволов полевой артиллерии. Ее невозможно было отправить по назначению. Тогда мы с командующим решили вывести эти орудия на огневые позиции. У нас не было тяги для орудий, но мы решили их просто вытянуть на передний край, поставить там и стрелять, пока возможно. А если придется отходить, то обязательно их взорвать.
И мы их неплохо использовали, организовали много артиллерийских расчетов, а боеприпасы у нас имелись. Эти орудия сыграли полезную роль. Другого же выхода у нас не было: ни отправить по назначению, ни оставить на заводе, куда мог ворваться противник и захватить их как трофеи. Как раз в это время к нам прибыла дивизия под командованием Родимцева, очень хорошая по составу и сплоченная[118]. Но она была крайне плохо вооружена: артиллерии и даже пулеметов у нее не имелось. В составе этой дивизии воевал наряду с другими сын Долорес Ибаррури. Дивизия, вступив в бой, понесла тяжелые потери. Она могла бы сыграть большую роль, если бы была лучше вооружена. Мне доложили, что погиб Рубен Ибаррури. О нем у меня сохранились в памяти такие эпизоды. Он был ранен еще в первые дни войны. Мой сын Леня тоже был ранен. Они лежали вместе в одной палате в Куйбышевском госпитале. Второй эпизод - здесь, когда сообщили, что он убит. Потом меня известили, что погиб и сын Анастаса Ивановича Микояна, летчик. Он был подбит в одном из воздушных боев. Да, это мне было знакомо. Шла война. Как и на любой войне, гибли люди, очень многие люди, особенно в том отчаянном положении, в каком оказалась наша Красная Армия, не подготовленная как следует к войне и при недостаточном количестве вооружения. Помню такую тяжелую картину. Мы с Гордовым выехали в район боев возле одной балки у селения Нариман, юго-западнее Сталинграда[119]. Туда же отправились командарм Шумилов[120] и его член Военного совета Сердюк[121]. Там-то я и наблюдал картину, которая для меня была весьма неприятна. Налетели на позиции врага наши бомбардировщики ПЕ-2. Они были похожи на немецкие МЕ-110. Наши самолеты подлетели к линии фронта, как вдруг появились "мессершмитты" и буквально на наших глазах стали поджигать одного за другим "петляковых". Их пилоты выбрасывались с парашютами.
Больно было наблюдать, как, когда они спускались, советская пехота вела огонь по нашим летчикам: пехотинцы считали, что это вражеские бомбардировщики и что спускаются на парашютах немцы. До сих пор помню, как один летчик, уже находясь близко от земли, кричал: "Я свой, свой!". И вдруг протарахтела автоматная очередь - и ему конец... Что касается самолетов ПЕ-2, то наши летчики, как мне докладывали, были о них невысокого мнения. Эти самолеты обладали хорошими летными качествами, но у них так были расположены баки с горючим, что, буквально куда ни попадет пуля, возникал пожар. Итак, повторюсь, все представители Ставки покинули нас, и мы с Еременко остались одни. Единственное, что у нас сохранилось, как шутили мы с Андреем Ивановичем, - шикарный туалет. Правда, в туалетную, которая была до того в образцовом состоянии, после того, как уехали представители, стало невозможно зайти. Не помню, когда это случилось (а ведь полезно было бы записать тогда и время), позвонил мне Сталин (я даже удивился, как спокойно, что было редкостью для той поры, он говорил): "Как там? Сможете еще продержаться дня три?". Это произошло вскоре после отлета Василевского, Маленкова и других представителей Ставки. Отвечаю: "Товарищ Сталин, не знаю, почему вы берете такой срок для нас. Мы считаем, что продержимся не только три дня, но значительно больше. Точно не могу сказать, потому что на войне нельзя ручаться, но мы теперь, во всяком случае, ощущаем, что наши войска уже получили боевое крещение, которое дает уверенность, что они и дальше будут упорно защищать свои позиции". "Вот и хорошо! - продолжает. - Вы продержитесь три дня. Мы сейчас организуем удар с северной стороны, чтобы освободить вас, а левое крыло противника, которое с севера вышло к Волге, либо отсечь, либо отбросить от Волги. Когда начнутся бои севернее вас, вы организуйте теми силами, какие у вас есть, удар из Сталинграда, с тем чтобы немцы не могли перебросить подкрепления против тех войск, которые будут наносить удар с севера". Отвечаю: "Хорошо, мы все это сделаем".
Ударили с северной стороны. Но наши усилия не завершились разгромом той группировки немцев, и вообще никакого отбрасывания их от Волги не получилось. То есть основная задача, которая ставилась перед войсками, не была выполнена. Мне неизвестно, какими силами располагало тогда наше северное направление, но желанного результата не было. После этого на северный участок были подброшены Ставкой новые войска, с тем чтобы противник не мог развить свой успех вверх по Волге. Эти войска в принципе входили в состав Сталинградского фронта: туда были подтянуты армии под командованием Москаленко и Малиновского[122]. Опять готовился удар с целью отсечь северное крыло немецкой группировки, которое вышло на Волгу, и восстановить предшествующее положение. Когда там был сосредоточен такой, довольно солидный кулак, мы с Еременко поехали на командный пункт руководить операцией. Для проведения этой операции приехали из Ставки Жуков, Новиков, Маленков, командующий авиацией дальнего действия Голованов[123], начальник артиллерии Красной Армии Воронов и другие лица. Мы надеялись на успех. В назначенный час началась артиллерийская подготовка, и мы предприняли наступление. К сожалению, и это наступление было неудачным, несмотря на очень хорошие сконцентрированные там войска. Говорили, что эти войска взяли с Дальнего Востока. Это были свежие, молодые, хорошо обученные люди. Но наше наступление захлебнулось, противник даже не попятился. Чем можно это объяснить? Все мы знаем, не раз повторяем, и правильно повторяем, что нет таких крепостей, которые нельзя было бы взять.
Но если иметь соответствующие средства! Правда, полевые укрепления, которые возвели немцы, не были такими уж могучими крепостями. Видимо, не все было нами учтено и недостаточно было подтянуто войск, главным образом артиллерии. Не сказал бы, что артиллерия недооценивалась нами. Нет, артиллерию еще до войны мы называли "богом войны"[124]. Не знаю, кто первым высказал эту мысль и откуда она к нам пришла. Кажется, дошла из старых. Наполеоновских времен. Наполеон ведь особенно ценил артиллерию. Во всяком случае, и Сталиным, и нашими военными ее значение оценивалось по достоинству. Если же ее недостаточно сосредоточили, значит, артиллерии просто не было в нужном количестве. Поэтому-то наступление, которое не поддержали хорошими артиллерийскими усилиями, не имело успеха. К чему я это говорю? Я очень высоко ценил, да и сейчас ценю (повторяю не единожды) Георгия Константиновича Жукова. Уважаю его за трезвость ума, смелость, простоту и напористость. Считаю, что он обладает высокими командирскими качествами. Ценил его и как боевого товарища. Тогда у меня с ним были наилучшие отношения. И вот все же, несмотря, казалось бы, на все благоприятные условия, наличие там Жукова и представителей всех родов войск, других сильных командиров, мы не решили задачи. Дело заключается в том, что одних личных качеств недостаточно. Нужны, и война это показала, средства истребления вражеской боевой техники, средства уничтожения живой силы противника, средства разрушения его укреплений.
А это - артиллерия, это танки, это пулеметы, это зенитные орудия и зенитные пулеметы для прикрытия с воздуха наших войск, чтобы противник не мог безнаказанно дезорганизовывать ведущих наступление. Всего этого мы еще не имели. Жуков рассказал мне тогда (мы по-товарищески делились впечатлениями; он поехал на какой-то участок фронта, возвратился оттуда и делился увиденным): "Ты знаешь, ехал я к линии фронта, а раненые шли оттуда. Двигалась в тыл группа раненых, и я выругался: "А, леворучники!" (тогда гуляло такое слово: подставляли левую руку под пули, чтобы получить ранение и уйти в тыл. К сожалению, довольно широко гуляло это, порой незаслуженное, оскорбительное выражение в адрес наших бойцов). Один из них глянул на меня да говорит: "Товарищ генерал, леворучники идут потому, что они еще могут ходить, а вот те, которые получили пули в голову, они все там лежат. Я-то видел, сколько их там лежит". И так глянул на меня выразительно. А ведь правду он сказал. Не могу забыть, как он на меня посмотрел пронзительно. Сильное произвел этот боец впечатление на Жукова. Захлебнулось наступление, а в скором времени забрали у нас этот участок фронта. И это было правильно, потому что мы находились в Сталинграде, а сей участок лежал к северу за Сталинградом, и с ним была очень плохая связь. Кроме того, перед теми войсками ставилась обособленная задача - не дать возможности противнику развивать успех вверх по Волге. Создали там новый фронт. Донской.
Командующим назначили Рокоссовского[125]. Непосредственная связь у нас с ним прервалась, и мы имели с ним контакт лишь как с соседом. Членом Военного совета Донского фронта стал Кириченко, который до того был членом Военного совета Сталинградского, а потом Южного фронтов. Не помню, кто был у них первым членом Военного совета, а Кириченко являлся вторым. Второй занимался вопросами тыла и обеспечения войск, оперативные же вопросы решал первый член Военного совета. В это время я опять был вызван в Москву. То, что я услышал там, было сочинено безусловно Маленковым. Мол, командующий и командный состав войск Юго-Западного и Южного фронтов, которые отходили от Дона на Сталинград и тут заняли оборону, с 1941 г. привыкли только к отступлению. Поэтому, мол, они организуют оборону недостаточно стойко, поддаются панике и отступают. Надо заменить весь этот командный состав. Стали заменять. Заменили многих. Но это была совершенно ни на чем не основанная, просто обывательская точка зрения. Она была пущена в ход Маленковым для того, чтобы оправдать его поездку в Сталинград, чтобы снять с себя ответственность и взвалить ее на других. Он изобрел столь никчемную теорию, а потом она гуляла повсюду.
Среди военных возникли и другие нехорошие настроения. Вот мы отступаем. Почему отступаем? Потому, что солдат не чувствует, за что он должен воевать, за что же должен умирать. Возьмем Первую мировую войну. Тогда у солдата была земля, было свое хозяйство. Он воевал за всю Россию, но воевал и за свой дом. А сейчас - все общее, все колхозное. Нет конкретного стимула. Это уже, на мой взгляд, была теория антисоветская, антисоциалистическая. Она взваливала ответственность за наши неудачи на советский строй, на социалистические начала, которые были заложены в СССР. Конечно, это подмоченная теория, теория людей, которые начали страдать упадничеством и выдумывать неправильные объяснения нашим поражениям. Потом жизнь опровергла эти утверждения. Если кое-кому, кто сейчас носит довольно высокие воинские звания, напомнить, что им были присущи в свое время такие рассуждения, то они, наверное, возмутятся и скажут, что это клевета. К сожалению, такое было! Было, и ничего тут не сделаешь. Но мы это пережили. А конец подобным "объяснениям" был положен разгромом войск Паулюса под Сталинградом. Пока же продолжались упорные бои, противник шаг за шагом теснил наши войска, которые с запада отходили глубже в город. Враг стал вползать за городскую черту. Наша оборона уже строилась непосредственно в городе, используя его строения - и дома и иные сооружения. В командном пункте, который располагался на р. Царице, теперь стало небезопасно. Мы искали возможность перейти несколько глубже в тыл.
Но в городе ничего подходящего не нашли, кроме места, которое находилось на самом берегу Волги (там теперь устроена набережная, и не осталось никаких следов нашего командного пункта). В береговом откосе были вырыты две траншеи. Это убежище строили для себя сталинградские чекисты, но не успели закончить, а только сделали углубления. Под землей эти два тоннеля должны были соединиться и образовать подкову. Но этого сделано не было, просто пробили две дыры, раскрепили их деревом. Как ямы были брошены в процессе их строительства, такими мы их и заняли. Одну дыру тоннеля взяли мы с Еременко, во второй расположили небольшой обслуживающий штабной персонал. Там были очень плохие условия для работы. Стоял элементарный столик, за ним сидели мы с командующим, а рядом с нами находился с рацией связной, молодой парнишка в летней грязной гимнастерке. Сидел он и монотонно повторял: "Я ландыш, я ландыш. Перехожу на прием".
Так, не останавливаясь ни на минуту, повторял он все время эти слова, чтобы непрерывно поддерживать связь на случай, если потребуется отдать какое-то распоряжение. С нами тогда же был заместитель командующего авиацией дальнего действия генерал Скрипко[126]. Он получал задания, какие бомбить районы, и сейчас же передавал задания в авиачасти, которые и посылали к нам свои бомбардировщики. Раскладывались сигнальные костры, указывавшие, в каком месте наносить удары. Это очень помогало нашей пехоте. Мы широко использовали там 85-мм зенитные пушки. Они хороши были и как зенитные, и как противотанковые орудия. Часть артиллерии находилась у нас на левом берегу, укрытая в лесу. Так как немцы подступили уже близко, она оказывала существенную помощь нашей пехоте, которая вела бои непосредственно в Сталинграде. У нас имелись кое-какие фронтовые средства в Волжской военной флотилии. Ею на нашем участке командовал контрадмирал Рогачев[127].
Потом мы нашли два дальнобойных орудия, которые были изготовлены артиллерийским заводом, но не вывезены в результате подхода немцев к Волге. Мы решили дать задание Рогачеву, чтобы он нашел обслуживающий персонал к этим двум пушкам и подвез снаряды из Камышина, с тем чтобы можно было вести огонь по противнику прямо с местонахождения пушек - на территории завода. Пушки были неподвижными и стреляли прямо с завода, пока не были выведены из строя авиацией противника. Помню и такой эпизод. Потом мы часто шутили по этому поводу. Днем Скрипко приходил отдыхать. У нас стояла там железная кровать. Он располагался на этой кровати и спал, потому что он "ночной человек", связанный с дальней бомбардировочной авиацией: ночью работал, а днем отсыпался. Как-то мы с Еременко вызвали Рогачева и поставили задачу, куда открыть огонь из тех двух пушек. Он привел к нам командиров этих орудий. Когда все указания были даны, контрадмирал, не знаю зачем, скомандовал матросам: "Кру-гом!". Там в тоннеле лежала доска, они стояли на ней и "дали шаг".
Загудел тоннель. Тут Скрипко вскочил, сразу надел планшет на шею, смотрит на нас, что же мы сидим спокойно? Я его успокоил: не разрыв бомбы, дескать, а так звучат в тоннеле матросские сапоги. Скрипко молча снял планшет, повалился на кровать и мгновенно заснул. Он был крайне утомлен. Дальнейшее наше с командующим пребывание в Сталинграде мы считали нецелесообразным. Мы были отрезаны от "большой" связи, а связь с левым берегом Волги была очень слабой, настоящего кабеля у нас не имелось. Лежал там какой-то легкий, который мы проложили подручными средствами через Волгу. Он обеспечивал крайне неустойчивую связь. А самим уехать на левый берег нам было просто невозможно, потому что для участия в работе штаба требовалось бы всякий раз преодолевать Волгу. Да и приезд к нам с докладами командующих и посыльных был бы сопряжен с такими же трудностями. Поэтому мы решили перенести весь свой командный пункт на левый берег. И когда составляли очередное боевое донесение, то приписали, что просим разрешить перенести командный пункт на левый берег.
Там у нас был оборудован настоящий командный пункт и имелся пункт связи со всеми армиями фронта. Послали донесение. Прошел день, ни слуху ни духу. Мы повторили, и уж не знаю, сколько раз еще повторяли, но ответа все не поступало: ни запрета, ни разрешения. Вот типичная тактика Сталина. Он был, наверное, против, но прямо о том не говорил. А ведь мы сами без его разрешения не могли оставить прежний командный пункт и перейти на левый берег. Потом Сталин позвонил по иному вопросу. Я в разговоре с ним сказал: "Товарищ Сталин, мы уже не раз просили вас разрешить нам перейти на левый берег. Генштаб ответа не дает. Я прошу разрешить нам это, потому что интересы командования требуют, чтобы мы перешли туда". Он отвечает: "Нет, это невозможно: если войска узнают, что командующий со штабом уехали из Сталинграда, то Сталинград падет" - "Нет, товарищ Сталин, я смотрю на это не так, потому что сражаются ведь войска, а не штаб фронта.
Тут же рядом с нами находится штаб 62-й армии, которой командует Чуйков. 62-я армия обороняет Сталинград. Мы назначили члена Военного совета фронта Гурова членом Военного совета этой армии, с тем чтобы усилить руководство ею. Мы абсолютно уверены, что Чуйков и Гуров вполне справятся со своей задачей и все сделают для того, чтобы не допустить противника занять Сталинград". Сталин: "Ну, хорошо. Если вы так уверены, что фронт будет держаться и оборона не будет нарушена, то разрешаю вам перейти на левый берег. Только оставьте в Сталинграде представителя штаба фронта, который докладывал бы вам, чтобы вы знали о положении дел через своего человека, а не только через командующего армией Чуйкова". Отвечаю: "Хорошо. Мы оставим первого заместителя командующего войсками фронта генерала Голикова". Сталин хорошо знал Голикова и согласился. Стали мы готовиться к переезду. Подготовились за сутки и на рассвете переправились на лодках на левый берег.
С нами было очень мало людей. Начальник штаба фронта уже давно находился на левом берегу. Начальником штаба тогда был Захаров[128]. Он приехал к нам вместе с Еременко. Еременко относился к нему с уважением. Я его тоже уважал. Он заслуживал уважения за исключением одного своего порока: дрался, бил подчиненных ему офицеров. Этот порок поощрялся и со стороны Сталина, и со стороны Еременко, который знал настроения Сталина. Сталин, беседуя с Еременко, часто говорил, что надо "бить по морде". Когда такие указания выполняли недалекие люди, то это одно дело; но Захаров был образованный человек, имел хорошее военное образование[129] и толково разбирался в военных вопросах. Если поговорить с ним, то он производил впечатление дельного человека, верно рассуждающего. Однако имелся за ним такой вот порок. Воздушной армией[130] командовал на фронте у нас Хрюкин. Молодой, высокий такой, очень приятный человек. Герой Советского Союза. Я считал, что он находится на своем месте, уважал его и поддерживал.
Звание Героя он получил за участие в освободительной войне Китая против Японии. Он сражался в небе Китая на стороне Чан Кайши (мы тогда поддерживали Чан Кайши). Человек он был опытный, прежде служил летчиком-истребителем. Но воздушные силы у него в армии были ограниченные, самолетов имелось малое количество. Однако он самоотверженно дрался с врагом. Заместителем у него был тоже очень хороший летчик, Нанейшвили, грузин[131]. Сам прежде тоже истребитель, но уже в летах, полный человек, летать он, конечно, был уже не способен. Как организатор он был очень хорош, к тому же порядочный и добросовестный человек и толковый генерал. Мы с Еременко, вызвав Голикова, сказали ему, что получили разрешение перенести командный пункт фронта на левый берег Волги и хотим, чтобы вы остались здесь, на прежнем командном пункте, сохранили связь с командующим 62-й армией и докладывали нам отсюда о положении дел.
Сказали также, что он тут останется ненадолго. Мы полагали, что длительное пребывание его на правом берегу ничем не будет оправдано. Кроме того, это могло быть плохо расценено Чуйковым как командармом-62: он мог подумать, что оставлен человек, который был бы ему пилой от штаба фронта. Командующие не любят таких. Они производят впечатление надоедливых соглядатаев. Чаще же всего о них говорят, что они попросту мешают работать. Тем более я уже увидел, что характер у Чуйкова крутой, и можно было ожидать всяческих эксцессов. Наше предложение вывело Голикова из себя. Он страшно изменился в лице, однако сдержался и вышел из помещения, а потом улучил момент, когда я остался один, и обратился ко мне, буквально умоляя не оставлять его здесь. Я никогда еще никого не видел в таком состоянии за всю войну, ни одного человека - ни военного, ни гражданского.
Он просил не оставлять его тут, мотивируя просьбу тем, что все погибло, все обречено: "Не бросайте меня, не оставляйте, не губите, разрешите мне тоже выехать", - умолял он, просто в недопустимом тоне. Я ему: "Послушайте, что вы говорите? Поймите, товарищ Голиков, здесь стоит целая армия, которая ведет упорные бои. Вы видите, как стойко она держится. Как же вы смеете говорить, что все обречено, что все погибло? Это не вытекает из обстановки, которую мы сейчас имеем на фронте. Вы видите твердость, с которой ведут бои наши войска. Это ведь не то прежнее положение, когда мы за день оставляли врагу добрый десяток километров территории. Здесь этого нет, да и не предвидится. Что же вы?". А он опять повторял одно и то же. Тогда я сказал: "Как вы себя держите?" Но на него ничто не действовало. Тогда я добавил, что есть решение Ставки, товарищ Голиков, которое должно выполнить. "Делайте, что приказано!"
На этом разговор окончился. Разговор произвел на меня ужасное впечатление. А потом Голиков то же самое повторил при Еременко. Одним словом, мы его оставили, а с ним - офицеров связи, сами же переехали на левый берег реки. Не помню, сколько дней прошло, как получили мы записку от офицера, который находился при Голикове и сообщал, что Голиков совершенно потерял голову и не владеет собой, ведет себя, как человек, утративший рассудок, лезет на стенку, поэтому его пребывание в армии не только не приносит пользы, а даже вредно: он заражает таким своим состоянием других. Этот офицер просил нас принять соответствующие меры. Получив такое сообщение, мы приказали Голикову, чтобы он покинул прежний командный пункт и переправился к нам. После этого у нас с Еременко отношение к Голикову резко изменилось: его состояние и такое его поведение наложили на это свой отпечаток. Вскоре произошел еще один случай, не благоприятный для Голикова.
Сложились тяжелые условия с переправой в войска боеприпасов и пополнения. Связь со Сталинградом через Волгу была очень трудной. Переправа обстреливалась вражеской артиллерией и подвергалась авиабомбежке на всех участках. Нами принимались особые меры, чтобы обеспечить нормальный подвоз боеприпасов, продовольствия и пополнения. Однажды мы приказали Голикову, чтобы он поехал туда и сам обеспечил переправу. Да, условия были тяжелые, это я понимал. Однако он, поехав, не выполнил задания, вообще ничего не сделал, потом приехал и доложил, что противник очень сильно бомбил или обстреливал переправу, так что ничего не получилось. Раньше мы посылали туда с тем же заданием офицеров, и те хотя и с трудом, но что-то делали. И мы вынесли Голикову выговор за невыполнение указания о перевозке боеприпасов. Голиков, видимо, пожаловался на нас Сталину, но тогда ни я с ним, ни он со мной не вели бесед на эту тему и не объяснялись.
Однажды случилось еще и так. Мы с Еременко выехали на берег Волги, к речной флотилии. Прибыли в район Рынок и наблюдали, как используется артиллерия флотилии. Она там особой роли не играла из-за своей малочисленности. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Мы считали, что это одна из наших опор - артиллерия речной флотилии. Когда возвращались обратно, смотрим - едет Голиков навстречу. Мы остановились, и он вышел из машины. "Куда едете?". "Еду на аэродром, улетаю в Москву. Хорошо, что встретились, я хочу с вами попрощаться". "Как это вы вдруг уезжаете?". "А вот, я получил предписание товарища Сталина прибыть в Москву". "Да ведь мы случайно с вами встретились. А то бы вы уехали, а мы и не знали бы, где искать вас, где вы находитесь". "Я получил приказ и уезжаю!". И уехал. Конечно, мы посудачили потом отнюдь не в пользу Голикова. Ведь если бы он был на месте командующего войсками, то тоже остро реагировал бы на человека, который так поступил. Ну, что ж теперь, уехал, так уехал, и нечего больше разговаривать. Мы ведь беседовали с ним только о форме поведения, а по существу ничего не имели против его отъезда.
Спустя какое-то время нам прислали нового заместителя командующего, генерала Попова Маркиана Михайловича[132]. Раньше Попов командовал армией; какой номер этой армии, сейчас не помню. О Попове у меня остались наилучшие воспоминания. Я с ним вместе много работал, когда было принято решение подготовить наши войска для окружения группировки Паулюса. Сосредоточение войск, поездки в эти войска - все это мы делали вместе с Поповым. Еременко никак не мог оправиться от давнего ранения, у него постоянно болела нога, ездить и ходить ему было трудно, поэтому он на дальние расстояния не выезжал. А когда выезжал, то я видел, что это для него затруднительно, и не хотел побуждать его ездить туда, где можно было обойтись без его поездки. А Попов - здоровый, еще молодой человек. Ему, как говорится, и карты в руки. Человеком он был знающим военное дело. Позвонили из Москвы, чтобы я приехал. Прибыл в Москву, встретился со Сталиным. Сталин начал меня упрекать, что я допускаю неправильное отношение к генералам, что не защищаю их и т. п. Говорю: "О чем и о ком идет речь? О каком именно генерале? Что Вы имеете в виду? Я, собственно, таких случаев не знаю". - "Вот, например. Голиков. Мы вам послали Голикова, а к Голикову вдруг такое отношение".
Главным образом Сталин напирал при этом на Еременко: такой он сякой, и прочее. Я был поражен. Прежде Сталин буквально боготворил Еременко, носился с ним, выставлял его как самого хорошего боевого генерала, сам мне об этом говорил, когда мы искали, кого назначить командующим войсками Сталинградского фронта. И вдруг - такое! Правда, прошло уже немало времени после того разговора, противник вполз в Сталинград, бои велись в самом городе. Но это были упорные бои: мы несли потери, и противник тоже нес потери, Сталинград не взял и не возьмет, если нам, конечно, будут оказывать помощь. Отвечаю: "Товарищ Сталин, я не знаю, что вам рассказывал Голиков, я же должен вам сказать, что если Голиков говорил, что к нему сложилось такое отношение, тогда и я обязан рассказать о причинах нашего плохого отношения к Голикову". И я рассказал о событиях в связи с оставлением фронтового командного пункта в Сталинграде: как мы с ним беседовали, как Голиков держал себя, как выражал абсолютную неуверенность в нашей победе, выказывал даже обреченность и буквально со слезами умолял не оставлять его там. Сталин посмотрел на меня с удивлением.
Я понял, что он не допускал такой мысли, не знал этого. Я продолжал: "Поэтому наказание, которое мы наложили на Голикова, было обосновано. Я, собственно, и не понимаю, почему вы так обрушились на Еременко и на меня. Я защищаю, кого следует; но не могу защищать тех, кто заслуживает осуждения". - "Ну, вот, а мы решили снять Еременко". - "Если, товарищ Сталин, Вы решили отменить наше решение, вы, конечно, сделаете это, но это будет неправильно". - "Почему?". "О Еременко существуют разные мнения. Как почти у каждого человека, у него много противников, которые не уважают его. Я же, будучи членом Военного совета, прошел с ним через ответственный момент и считаю, что он как командующий войсками (не буду говорить о других качествах, потому что на войне главное - военные качества) вполне отвечает своему назначению и положению. Он оперативен, со знанием дела руководит войсками. Вы посмотрите, как организована оборона Сталинграда, и осуществляется она сейчас тоже хорошо. Это ведь заслуга командующего".
Привел я и другие доводы. Сталин сначала наседал, но потом стал сдавать, отступать и в конце концов прекратил нападать на меня. Пора мне уезжать, и он сказал: "Можете лететь". Когда мы прощались, он пожал мне руку: "Хорошо, что мы вас вызвали. Если бы мы вас не вызвали, то сняли бы Еременко. Я уже решил снять его. Ваши доводы, ваши возражения убедили меня. Надо его оставить". Отвечаю: "Очень правильно делаете, товарищ Сталин, очень правильно". Я сейчас не стану рассказывать, как я противопоставлял военные качества Еременко тем другим, которые как плохие называл Сталин. "Ладно, оставим его". И я улетел. Таким образом, оказалось, что все это было навеяно рассказами Голикова. Я был просто удивлен. Я высоко ценил партийные качества Голикова, и у меня не было оснований сомневаться в них. Но, когда он допустил такую вещь, доложил о своей деятельности очень субъективно, я изменил свое мнение и о его партийных качествах.
Если бы он рассказал Сталину хотя бы десятую часть того, что говорил мне и Еременко, когда мы его оставляли на правом берегу, то Сталин и разговаривать с ним не стал бы. А Голиков, вместо того чтобы правильно оценить свою слабость, все свалил на командующего войсками и на меня. Думаю, что Сталин спросил его: "Ну, ладно, Еременко, а как Хрущев?" - "А Хрущев тоже не защищал меня. Он с Еременко заодно". Если он так ответил, то это было верно, в этом вопросе мы были заодно с Еременко. Тут каждый честный человек мог занять только такую позицию. Я вернулся на Сталинградский фронт. У нас продолжалась подготовка к окружению группировки немцев. Как возникла мысль об окружении там противника? Не говорю, что она возникла только у нас, то есть у меня и Еременко, нет, она, возможно, возникала и у других. Но в целом этот вопрос назрел. Чем это было вызвано? А вот чем. Бои на Сталинградском фронте затянулись. Противник сосредоточил усилия на довольно узком направлении. Это говорило о его слабости: на широком фронте он наступательных операций вести не мог и бросал живую силу в город, как в мясорубку. Самые тяжелые бои велись в самом городе. А там обороняющимся было легче, чем тем войскам, которые наступали. От наших войск мы получали донесения, что у противника на флангах его группировки - очень жиденькая оборона. Мы посылали туда разведку.
Наша разведка переправлялась через Дон и довольно глубоко забиралась в тыл к немцам. Не всегда она докладывала правильно. Мы ловили их на слове, когда разведчики просто врали и не были в тех пунктах, о которых докладывали. Но это являлось исключением. Как правило, разведка работала добросовестно и докладывала правильно. Она сообщала, что за Доном войск противника нет. На левом фланге фронта у нас стояла 51-я армия. Там тоже была слабая оборона у противника. Главным образом, там находились румыны - очень неустойчивое войско. Командующий 51-й армией докладывал, что там у врага слабые силы, и он мог бы разделаться с ними. Мы решили проверить боем, насколько устойчиво это направление у противника, и приказали командующему 51-й армией провести такое испытание, а кроме того, специально вызвали командира одной из дивизий, перед которым поставили задачу - на каком направлении нанести удар и какими силами. Строго приказали ему, если удар окажется успешным, чтобы он не продвигался вглубь больше, чем на такую-то глубину. Если появятся пленные, то вести себя с пленными корректно, чтобы не оставить "следов", которые мог бы использовать затем противник. Командир дивизии, хороший такой человек лет 45, коренастый и полный, основательно поседевший, но бодрый и крепкий, отвечает: "Хорошо, я все выполню".
Он быстро организовал удар и легко смял противника, углубился в его оборону более даже намеченного, "перевыполнил" план, хотя мы его предупреждали, чтобы он этого не делал. Он захватил много пленных и расстрелял их. Потом противник это использовал в целях агитации против нас. Когда мы это узнали, то раскритиковали его. А он отвечает: "А куда я их дену?". Это, конечно, были неправильные действия. Противник позднее взял представителей солдат из разных своих дивизий, приводил их на это место и показывал: вот, мол, русские, не берут в плен, а расстреливают пленных. Немцы утрировали этот случай, усиливали его значение, пугая свои войска, чтобы те не сдавались в плен. В целом наши войска прочно держали линию обороны, она была уже подоборудована. Это вновь нас подбодрило. Мы видели, что имеем возможность нанести удар на флангах противника и изменить положение дел под Сталинградом. Тогда мы с Еременко написали Сталину докладную, где высказали свое мнение. Это мнение сводилось примерно к следующему: по нашим данным, включая данные той разведки, которую мы забрасывали в тыл противника, и разведки боем, которой мы прощупывали устойчивость обороны противника, - у немцев за Доном пусто; сил, на которые они могли бы опереться, там нет.
Мы не знаем, чем располагает Ставка, но если найти войска, которые можно было бы сосредоточить восточное Дона и ударить отсюда к Калачу, а нам с юга ударить по южному крылу противника, то можно было бы окружить врага, который ворвался в город и ведет бои в самом Сталинграде. Чем располагала Ставка и были ли у нее такие возможности к тому времени, мы просто не знали. Знали только, что нам очень тяжело и что нам дают подкреплений очень мало. А если нам дают мало, значит, давать нечего. Так мы думали. И у нас даже возникла мысль - не запрашиваем ли мы лишку, потому что не знаем реального положения, которое сейчас сложилось в стране? Спустя какое-то время к нам приехал Жуков. Он рассказал, что в Ставке имеется замысел, аналогичный тому, который мы с Еременко изложили в своей докладной, и предупредил нас, что об этой операции не должен никто знать и что он прилетел специально предупредить нас об этом.
В данном случае подозрительность Сталина была полезна: чем меньше знает людей о готовящейся операции, тем лучше для самой операции. Жуков показал по карте, на каком участке должен будет нанести удар Сталинградский фронт. Это было как раз направление действий 51-й армии. Мы тоже считали, что нам ударить надо оттуда, где мы уже провели успешную разведку боем. Там лежит озеро Цаца. Южнее него вдоль линии обороны, которую занимала 51-я армия, есть возвышенность. Ее занимали румыны, у восточного же подножия располагалась наша оборона. Это нас не смущало: возвышенность была небольшой, там протянулись прикалмыцкие степи, равнина. Кто бывал в тех местах, знает, что там простым глазом можно видеть вдаль на 20 километров, все просматривается насквозь. И я спрашиваю Жукова: "А что нам дадут для выполнения задачи?". Жуков: "Вы получите механизированный корпус в составе 100 с лишним танков, пехоты на автомашинах и артиллерии по штату, что положено. Потом получите кавалерийский корпус, он сейчас на подходе, им командует генерал Шапкин[133].
Еще есть боеприпасы. И что-то дадут из пехотных частей, но очень мало". Все это он рассказывал нам с Еременко. Потом мы с ним поехали в район намечаемого наступления, ознакомиться с условиями рельефа. Там все проглядывается, все видно, и нигде ни дерева, ни кустика. Я говорю: "Если будут войска, которые вы нам даете, плюс то, что мы имеем у себя, то у меня складывается полная уверенность, что мы прорвем оборону, сомнем противника и выполним свою задачу". Мы должны были сначала занять хутор Советский, неподалеку от Калача-на-Дону. Советский я хорошо знал, мы еще не так давно сами были в Советском. С севера Ватутин[134] должен был спуститься со своими войсками по Дону и занять Калач. Мы же ударом на Советский облегчали выполнение задачи Юго-Западного фронта. Вот такой сложился план. Успех операции не вызывал сомнений. Мы были уверены, что немцы в Сталинграде будут окружены. С Жуковым у меня были, повторяю в который раз, очень хорошие отношения, и я ему сказал: "Товарищ Жуков, мы-то сделаем свое дело и окружим немцев. Надо полагать, что войска противника, когда окажутся в окружении, захотят вырваться. Куда им идти? Они не пойдут прорываться из окружения на север, они пойдут на юг.
Чем мы их будем держать? У нас удержать их нечем. Они нас раздавят, вырвутся и уйдут". Жуков улыбнулся, посмотрев на меня, и отреагировал русской словесностью довольно крепкого концентрата и резкого содержания, добавив: "Пусть уходят, нам-то нужно, лишь бы они ушли, нам бы только Сталинград и Волгу высвободить". Я ему: "Это верно, это наша первая задача, но если бы нам дали больше средств, то можно было бы и перемолоть силу, которая навалится на нас и будет прорываться". - "Больше, отвечает, - дать мы вам ничего не сможем", "Ну, хорошо". Жуков уехал. Об операции знало очень ограниченное число людей, буквально считанное количество. Мы продолжали готовиться и ожидали механизированный корпус генерала Вольского[135]. Корпус был на подходе. Я познакомился с Вольским. На меня он произвел очень хорошее впечатление: знающий человек. Мне хорошо отрекомендовали его и другие лица. О нем говорили, что это большой сторонник использования танковых войск и разбирается в методах применения танков в современной войне; что на него можно положиться; что он покажет себя здесь с должной стороны. Вот подошел корпус. Мы назначили ему место переправы у большого села с высоким берегом, там были приготовлены съезд и паромная переправа. Переправившись, корпус мог оттуда двигаться к месту сосредоточения у Сарпинских озер. Потом к нам прибыл Тимофей Тимофеевич Шапкин, старый русский воин, человек уже в летах, среднего роста, с окладистой бородой. У него сыновья уже были не то генералы, не то полковники. Сам он служил в царской армии, воевал в Первую мировую войну.
Еременко говорил мне, что он имел четыре Георгиевских креста. Одним словом, боевой человек. Когда он нам представлялся, на его груди Георгиев не было, но три или четыре ордена Красного Знамени украшали его грудь. Я встретил его с большим уважением и почтением, умиленно смотрел на него и слушал рассказы старого воина. С ним пришел и его заместитель, молодой, красивый и очень подготовленный человек, туркмен по национальности. Это был уже современный человек, он был душой кавкорпуса, но не успел повоевать, был убит. Когда начались главные бои, он был уже мертв: при подготовке операции разъезжал по своим частям, и на одном переезде его с воздуха расстрелял в автомашине "мессершмитт". Я очень жалел этого генерала. Однако не он был первым, не он и последним. Многих поубивал противник таким образом. Как же готовилась эта операция? Прилетел к нам Василевский. К тому времени прибыл уже и Вольский, прибыл Шапкин с кавалерийским корпусом. Накапливались боеприпасы, артиллерия. Одним словом, то, что должны были получить, мы уже в основном получили. Мы с Василевским и Поповым поехали втроем к Вольскому. То была наша главная сила. Поехали мы проинформироваться и посмотреть, как обстоят у него дела.
Наступила осень. На юге, под Сталинградом, осень, оказывается, бывает очень холодной и дождливой, с пронизывающим ветром. Части Вольского уже переправились через Волгу и разместились в указанном селе. Противник бомбил их, но не сильно. Видимо, не заметил, когда Вольский переправлялся со своими танками. Иначе враг мог бы нанести при переправе довольно существенный урон. Волга там широкая, берега крутые, не так-то легко перебраться на правый, высокий берег. Доклад Вольского произвел на нас приятное впечатление. Мы поговорили с танкистами. Было видно, что люди готовы к делу и рвутся в бой. На обратном пути мы, замерзнув, заехали погреться к Попову. Попов имел свой командный пункт невдалеке от места высадки, справа от мехкорпуса. Как раз тогда у него был день рождения. Мы с Василевским ехали в принципе к Толбухину, в 57-ю армию[136]. В штаб фронта я не поехал потому, что это было далеко. Штаб фронта тогда находился на левом берегу Волги, в районе Ахтубы, в местечке Райский Сад. Я редко бывал в то время в штабе фронта, больше у Толбухина, как раз неподалеку от переправы. Войска, которые сосредоточивались для удара, тоже находились в этом районе. Поэтому удобнее всего было расположиться у Толбухина.
Но Попов стал уговаривать нас: "Ну, хоть на полчаса заезжайте, у меня день рождения, я очень хотел бы, чтобы вы зашли сегодня, потом поедете". Ну, мы и заехали. Известное дело, раз день рождения, да еще в обстановке предстоящего наступления! Мы поздравили его и довольно много выпили. Я видел, что Маркиан Михайлович доволен своим днем рождения. К сожалению, он увлекался выпивкой больше, чем позволяли его здоровье и интересы дела. Если бы у него не было этого недостатка, то он с большей пользой смог бы приложить свои способности на благо Вооруженных Сил. Я считал его очень одаренным человеком. Чудесным, интересным человеком. Но он выпивал. Он сам знал этот свой недостаток, да и все это знали. Мы действительно недолго задержались у Попова, сели в машину, завернулись в бурки (хорошее средство защиты от сталинградских ветров) и поехали к Толбухину. Приехали поздно, обогрелись. У Толбухина была вырыта в речном берегу хорошая баня.
Развернулась подготовка к наступлению. С каждым днем у нас вырастала уверенность в успехе. Мы ждали дня наступления, как торжества. Абсолютно были убеждены, что это наступление принесет нам радость, хотя еще не вполне конкретно представляли себе глубину радости. А это стало потом радостью для всего прогрессивного человечества, которое прилагало свои усилия для победы над Гитлером. Я был удивлен ранними заморозками. Рано, очень рано начали появляться льды на Волге. Было холодно, особенно ночью и по утрам. Днем же пригревало солнце и становилось тепло. Наступление должно было начаться 19 ноября, но потом для нашего фронта начало было перенесено на 20 ноября. Так потом и случилось. Вечером 7 ноября мы с Василевским приехали к Толбухину и узнали, что утром 7 ноября состоялось торжественное заседание в Москве и что на нем выступил Сталин с докладом. Это нас приободрило. Мы радовались, что жизнь в столице нормализуется, что столица чувствует себя уверенно и что доклад был сделан именно Сталиным. Подготовка к наступлению шла полным ходом.
Торопились, сосредоточивали войска, лучше овладевали техникой, особенно в танковых войсках. Обучали солдат практическим действиям, однако не в поле, а на картах, потому что в поле выводить танки было невозможно. Вывести их - значит привлечь внимание авиации противника и понести потери, а главное - преждевременно насторожить противника. Главным условием успеха была внезапность нашего удара. Каждый род войск, каждая воинская часть готовили себя, чтобы задача, которая была поставлена, была бы решена как можно быстрее, эффективнее и с меньшими потерями. Мы неоднократно выезжали в части вместе с Поповым. Ездили и с Еременко, несмотря на трудности, которые он с больной ногой встречал при поездках. Мы отправились с ним даже в самое отдаленное место, 51-ю армию. Командовал ею генерал Труфанов[137]. Я потом встречался с ним уже после войны, когда мы с Микояном и Булганиным летали на Сахалин. Труфанов командовал там войсками. Приехав, мы опять же занимались разбором предстоящей операции. Труфанов докладывал план того, как он будет действовать. Мы проверяли, какие части прибыли и в каком состоянии. Одним словом, разбирали все вопросы, которые связаны с успешным решением задач, поставленных перед фронтом. Труфанов должен был нанести удар в юго-западном направлении и прорвать румынскую линию обороны.
Основные наши силы в 51-й армии механизированный корпус Вольского, пехотные дивизии Труфанова и кавалерийский корпус. Этого недостаточно, чтобы удержать противника в кольце после окружения, если тот навалится на нас для прорыва на юг. Но вполне достаточно, чтобы, прорвав оборону, решить основную задачу: выйти механизированным корпусом на Советский и там соединиться с войсками Ватутина - войсками Юго-Западного фронта, которые должны были спуститься на юг по правому берегу Дона. Все было четко рассчитано. Сейчас уже не помню, сколько отводилось нам времени на артиллерийскую подготовку. Может быть, два часа, может быть, и меньше. Не помню также, сколько мы имели боекомплектов снарядов для этого, но мы считали, что выделенного достаточно для решения задачи. Отвлекающий удар был организован на участке 57-й армии Толбухина. Здесь наших сил имелось очень мало. Задача заключалась в том, чтобы сковать, а если удастся, то и ввести противника в заблуждение. Главное, чтобы он не перебросил с этого участка войска на направление нашего главного удара. Решили, что я и генерал Попов выезжаем в 51-ю армию, на участок главного удара, а Еременко выедет к Толбухину: его армия была ближе других по отношению к штабу фронта. Правда, она наносила вспомогательный удар. Начальник штаба Захаров выедет в 28-ю армию, в Астрахань[138].
Там тоже намечалось провести демонстрацию наступления, с тем чтобы сковать противника. Мы много тогда думали и беседовали с Василевским об этой операции. Он был приятным собеседником. С ним можно было говорить по всем вопросам. Вдруг за день до начала операции позвонил Сталин. Мы должны были ночью 19 ноября выехать в пункты, каждый в свой, откуда будет начато наступление каждой из групп войск. Сталин спросил меня: "Куда поедет начальник штаба Захаров?". "Мы решили, что он поедет в Астрахань. Это спокойный участок, но нужно все-таки поехать к Герасименко, с тем чтобы на месте все проверить и начать успешно действовать. Я с Поповым выезжаю на участок главного удара, в 51-ю армию, к генералу Труфанову. Еременко выезжает к Толбухину, на участок вспомогательного удара". Сталин не сделал никаких замечаний и только сказал: "Вы предупредите генерала Захарова, чтобы он там не дрался". Мне было довольно странно услышать от Сталина такое замечание. Он так сказал впервые, а больше я от него этого не слышал. Видимо, у него тогда наметился какой-то поворот. Он ведь всегда говорил, что надо "бить морду". "Что вы его слушали? Морду бы ему набить!". Этот мордобой прививался командному составу. Пользовались этой рекомендацией Сталина и Еременко, как я уже рассказывал, и Захаров, и другие лица. Многие пользовались. И вдруг Сталин говорит: "Вы ему скажите, чтобы он там не дрался". И я рассказал Василевскому, что, вот, Сталин так сказал. Мы посмеялись над этим, потому что Василевский тоже хорошо знал позицию Сталина в этом вопросе. Сталин не любил, чтобы такое его указание рекламировали, хотя и толкал всех, с кем соприкасался, на это. Потом мы стали думать, как же сказать про это Захарову? Как преподнести ему эту пилюлю? Я предложил: "Товарищ Василевский, давайте порекомендуем, чтобы это сказал Еременко. Не вы и не я, а пусть Еременко. Еременко сам толкал его на такие действия и сам этим пользовался, поэтому пусть он сам и скажет". Захаров был большим любимцем у Еременко. Нужно заметить, что как военнослужащий Захаров заслуживал уважения. Я к нему тоже хорошо относился, за исключением этого недостатка, который знал за ним и который возмущал меня. И я сообщил Андрею Ивановичу: "Сталин позвонил и спросил, куда мы разъезжаемся. Он, наверное, и с Вами разговаривал?". "Да, он со мной тоже разговаривал". - "Не знаю, говорил ли он вам, мне же сказал еще и о том, чтобы предупредить генерала Захарова, чтобы Захаров не позволял себе драться, когда поедет в 28-ю армию, а если позволит это себе, то будет наказан. Лучше всего, Андрей Иванович, именно вам сказать это Захарову и предупредить его".
Еременко принял от меня такой совет очень настороженно. Говорил ли с ним Сталин и говорил ли об этом, не знаю. Может быть, и не говорил. Может быть, он только мне сказал это. Какие соображения были у Сталина, не знаю. Вечером мы сошлись в землянке Еременко: он, Захаров, Василевский и я. Вносились последние уточнения в план. Докладывал Захаров. Все вопросы обсудили, надо было разъезжаться. Ехать всем, особенно Захарову, было далеко. Я смотрю на Еременко. Осталось только одно: чтобы Еременко сообщил условленное Захарову. А он не говорит, у него язык не поворачивается. Я ему: "Ну, Андрей Иванович, надо разъезжаться". - "Да, надо разъезжаться". Я: "Так мы поехали. По-моему, все ясно?". "Да, все". Одним словом, тянет он. Я стал уже беспокоиться. "Ну, Андрей Иванович, нам надо разъезжаться и следует сказать товарищу Захарову, как же?". "Да, да". И Еременко вдруг принял официальную позу и повернулся к Захарову. А они были большими приятелями. "Смотрите, товарищ генерал, вот вы поедете в 28-ю армию, так не позволяйте себе бить там людям морды. Иначе дело для вас плохо обернется". Тут Захаров немного приподнял голову, но глаза опустил: "Да что же я, уговаривать буду, что надо наступать?". Опять Еременко: "Товарищ генерал!". Тогда и я реплику подал, и Василевский поддержал, что, мол, товарищ Захаров, нужно вести себя сдержанно, иначе это может обернуться для вас неприятностью. Он пробурчал в ответ что-то невнятное. Трудно ему было такое замечание пережить. Я понимал, что это унижает человеческое достоинство и достоинство генерала, но вызвано это замечание было действиями, которые он себе позволял. А ведь такие действия и унижают больше всего достоинство человека и достоинство воина.
СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОВОРОТ
Перед началом нашего контрнаступления настроение у нас резко поднялось. Мы распрощались, пожелали друг другу успеха и разъехались. Я сел в машину с Поповым, Василевский поехал к Толбухину. Добрались мы к рассвету. Дороги были хорошие, ровные. Степь. Путь был нам знаком, и мы мчались на большой скорости. Приехали к Труфанову[139]. Все было готово, строго расписано, люди находились на местах, каждая часть получила свою задачу. Следовало только выждать время, которое намечено для начала операции, и потом начинать. Мы решили ограничиться артиллерийской подготовкой. Авиацию использовать не могли, потому что утром стояли густые туманы и летать было невозможно. Мы боялись, что авиация разбомбит наши же войска. Для нас было, конечно, большим уроном, что не смогли нанести авиационный удар по переднему краю противника. Это еще больше дезорганизовало бы его, создало панику в румынских войсках[140] и облегчило задачу прорыва их линии обороны. Но не возникло такой возможности. Однако мы считали, что и артиллерией сможем способствовать прорыву линии обороны, потом тотчас введем в прорыв танковые войска, а за танками, когда они развернутся, пустим кавалерию - бросим кавалерийский корпус по тылам противника, чтобы дезорганизовать его тылы. Наступило 20 ноября. Мы с командующим армией сидели на его командном пункте.
Все было подготовлено. Артиллерия, как говорится, на взводе; пехота, механизированный корпус и кавалерийский корпус заняли позиции. Вот дан сигнал ракетой, и артиллерия открыла огонь. У меня создалось впечатление, что земля загудела. Мы вели очень интенсивный огонь. Но не помню сейчас, сколько у нас стояло орудий на один километр линии фронта. Позже, когда вели бои под Киевом, мы поставили на главном направлении более 300 стволов на километр. Потом и это количество было превзойдено. Тут и наполовину не было. Но по тому времени считалось, что много, что это большая артиллерийская мощь. И действительно, противник был дезорганизован. Кончили артподготовку и приказали пехоте занять окопы противника. Пехота, сейчас же начав продвигаться, особого сопротивления со стороны румынских войск не встретила. Румыны занимали там довольно выгодные позиции. Во-первых, они своевременно окопались. Во-вторых, находились на возвышенности. Небольшая, но все-таки возвышенность, так что они лучше нас просматривали местность перед передним краем, нашим же войскам нужно было преодолеть подъем, чтобы занять их позиции.
Выгода по рельефу была на стороне противника, и он имел возможность выбора, когда возводил оборону. Наши войска ворвались в окопы и повели рукопашный бой. Противник отходил. Мы приказали Вольскому[141] вводить механизированный корпус в прорыв. Ждем, а танков все нет да нет. Мы стали уже волноваться. Как же? Мы ведь теряем время. Враг может сорганизоваться и построить новую оборону на каком-то удалении в тылу, оставив передний край. Мы предполагали, что у него имеются там заранее оборудованные позиции. А танков нет. Что такое? Уже рассвело. Солнце взошло. Его самого не видно, потому что стоял туман, но все предвещало, что туман скоро рассеется. А механизированный корпус никак не может войти в прорыв! Мы с Поповым[142] решили: сядем на машину и поедем к Вольскому. Мы знали, где он находился. Проедем по его бригадам и буквально, как говорится, будем подталкивать их в спину или в другое место, чтобы ускорить выступление.
Когда мы с Поповым приехали в расположение танковых войск, то их организация произвела на меня неприятное впечатление, такой там был базар. Все хорошо видно, в поле ни кустика, и танки, и автомашины, и люди в открытую. Нам повезло, что стояла нелетная погода и самолеты врага не поднялись в воздух. Если бы авиация противника летала, то я не знаю, что бы она нам наделала в танковом корпусе, а уж о кавалерии и говорить нечего. Конечно, противник не сорвал бы наше наступление и задача все равно была бы решена, но урон он нанес бы нам немалый. Там была просто Сорочинская ярмарка, базар какой-то. Ведь коня и обоз не зароешь в землю, все в чистом поле. Картина была, я бы сказал, ужасная. Вольский все еще возился с командирами бригад, ставя им задачу. Мы начали его торопить пора кончать, задачи следовало поставить раньше. Разъехались мы по частям, стали выталкивать в наступление механизированный корпус. Я тогда считал, что это недосмотр Вольского, что он не подготовил своих командиров бригад. Позже я понял, что там, видимо, дело заключалось в другом, комбриги были проинструктированы, и каждый командир получил свою задачу вовремя. Такое потом наблюдалось не только у Вольского, а и у других командиров танковых войск.
Они нарочно медлили, выжидая, когда пехота расчистит путь, чтобы им не подставлять танки под огонь и не терять их при прорыве. Ждали, чтобы был развернут прорыв и легче было бы войти в него танковым войскам. К сожалению, такие рассуждения я потом слышал часто, да и не только слышал, а и сталкивался с ними у многих танкистов. Не буду называть фамилии. Сейчас эти люди занимают довольно высокое положение. Они прекрасно воевали и хорошо закончили войну. Но за многими мною замечался этот грех. Наконец, Вольский сдвинулся. А мы все ездили по полю, по его базару. Солнце стало пробиваться сквозь серость, туман рассеивался и поднимался. Смотрю, летают два самолета над передним краем противника и бомбят его. Я говорю: "Смотри, товарищ Попов, что же это такое? Чьи это самолеты? Вроде как наши. Да ведь там сейчас нет противника, он выбит, как же так? Может быть, это противник бомбит наши войска?" Мне было непонятно, Попову тоже. Конечно, в общем и целом мы радовались. Хорошее было настроение, что наша берет! Мы передний край прорвали, пошла в дело пехота. Но нас беспокоили эти два самолета. Потом, смотрим, эти самолеты поворачивают в нашем направлении и летят на бреющем полете над этим базаром, над танками и лошадьми.
А все открыто, как на ладони. Вот самолеты заметили наш виллис и летят прямо на него. Вроде бы Ваши самолеты? Попов: "Давайте-ка выскочим, разбежимся и заляжем. А то черт его знает, что получится". Выскочили из виллиса, он в одну сторону, а я в другую. Самолеты прострочили по нам из пулеметов. Попов потом говорил, что очередь близко легла от него. Около меня тоже, но не в непосредственной близости, потому что я не слышал чмоканья пуль о землю. Улетели самолеты. Я говорю: "Все-таки наши. Почему же они нас обстреляли? Как они могли спутать? Этот район обозначен на всех картах, какими могли пользоваться наши летчики, район сосредоточения танковых войск и кавалерии для броска в прорыв". Вытолкнули мы корпус вперед и вернулись на командный пункт к Труфанову. Там он нас уже порадовал первыми пленными. Сперва захватили десятка два, потом их стало больше. Среди пленных, помню, был один с фамилией Чайковский, русский, как он сказал мне, из Кишинева. Еще один пленный - очень интересный румын. Я его допрашивал. Из него ничего не надо было выжимать. Он сам понимал, насколько ложно положение румынских войск, понимал, что война идет не в интересах Румынии, а в интересах Германии, что Антонеску принес свою страну в жертву немцам.
Мне его не приходилось пропагандировать. Он сказал, что он сын священника и что его настроения не только лично его, такие же настроения присущи многим командирам, с которыми ему приходилось общаться. Я ему: "Вы, может быть, согласитесь написать тогда листовку или письма к этим командирам, чтобы они отказались от сопротивления советским войскам, сдались бы в плен и помогли тем самым и Румынии в борьбе против общего врага, против Гитлера?". "Да, охотно соглашусь. Дайте мне бумагу, и я это сделаю". Чайковский же по части листовок меня не интересовал. Он ведь был русский, так что фамилия Чайковский не произведет на румын впечатления, если он даже станет призывать их сдаваться в плен. А вот коренной румын, офицер румынской армии, кажется, ротой командовал, сын священника. Все это на румын, особенно на верующих людей, могло произвести впечатление. А Чайковскому я говорю: "Как же вы позорите такую громкую фамилию?". "Да я, - отвечает, - понимаю, я знаю принадлежность фамилии, которую ношу. Но и вы поймите: не только я, а и другие русские были мобилизованы. Мы воевать не хотели. Свидетельство этому - мы у вас в плену в первые же часы боев. Это само гласит о том, что я не хотел воевать и при первой возможности сделал все, чтобы сдаться в плен. Другие действуют так же". Потом пленные поступили в распоряжение разведки, а мы пошли в войска.
Надо было не только продвигаться вперед, но и сделать все, чтобы ускорить продвижение. Нас прежде всего интересовали подвижные войска Вольского, и мы снова поехали туда. Теперь рассказывать по дням, в хронологическом порядке, что происходило (думаю, каждый понимает мое положение), невозможно. Я помню сейчас только общую картину или отдельные яркие события. Вольский двинул танки. Сопротивление противником оказывалось слабое. Можно сказать, что вообще не было организованного сопротивления. На участке, где действовали наши главные силы, Вольский взял много пленных, много у врага было и убитых, очень много. Мы предупреждали Вольского, чтобы ни в коем случае не допускалось какого-либо насилия по отношению к пленным. Во-первых, это аморально. Во-вторых, опасно, потому что враг использует это против нас в своей агитации: советским войскам нельзя сдаваться в плен, они расстреливают пленных! Однако, когда мы стали продвигаться, я увидел много больших групп расстрелянных. Рядом стоят наши люди. И я сказал Вольскому: "Странное дело. Я наблюдал такую картину, что лежат расстрелянные". - "Нет, - говорит, - все убитые в бою". Я не исключаю того, что, может быть, кое-где имело место нарушение нашей директивы под влиянием ненависти и озлобленности. Причины того были очень большие, и у каждого нашего бойца.
Мы, отступая, видели, что оставляем врагу. К тому же располагали сведениями, как свирепствует враг на территории, которую занял. На Советской Украине, на территории РСФСР, Белоруссии и на Северном Кавказе - всюду, где появлялся враг, он беспощадно уничтожал всех "ненужных" и не признавал никаких моральных факторов. Гитлер издевался над этими факторами, победителю все было дозволено! Надо уничтожить русских, деморализовать их, запугать. Это наши солдаты знали. И если где-то были допущены злоупотребления и нарушения приказа, то, как говорится, пусть будет прощено этим людям. Тут не проявилось какое-то органическое свойство наших людей. Это был результат навязанной нам войны, которая обострила человеческие чувства. Все это, конечно, понятно людям, которые воевали и хотят с точным пониманием отнестись к акциям, которые иной раз применялись в те дни. Приходят мне на память и какие-то забавные случаи. Как и во всякой трагедии, так и в ходе войны тоже происходили комические явления. Помню, раз после проведенного наступления мы ехали поздно ночью. Степь. Дорог нет. Ездить было опасно, потому что всегда можно было наткнуться на шальную мину, закопанную в неожиданном месте. Вот едем мы и не уверены, что в правильном направлении. Нет никаких ориентиров, ни кустиков, ни населенного пункта.
Голая степь. Ориентироваться надо по звездам. Но по звездам воевать даже в степи невозможно. Видим, мерцает какой-то огонек. Сейчас же взяли направление на этот огонек на своих виллисах. Выскакивает из машины Попов. Он был человек с жизнерадостным характером и хохочет во все легкие: "Товарищ Хрущев, идите сюда, взгляните, живых чертей увидите". Я вышел из виллиса, подошел. Сидят наши солдаты, развели небольшой костер. Большой костер там не разведешь, нет дров. Они все, что могло гореть, собрали в степи. Достали где-то воду и кипятят чай, склонившись над костром. Закоптились - просто страх. У них только, как у негров, сверкают зубы и глаза. Действительно, черти, да еще ночью! А молодые парни улыбаются, видят, к ним приехали генералы. Я тогда не имел еще воинского звания, но был в военной форме. Они-то сразу увидели, что приехала какая-то военная "шишка". Мы расспросили их. Что-то у них сломалось в машине, не то горючее кончилось. "Вот, ждем, когда нам помогут". Это были артиллеристы противотанковых орудий - одной или двух пушек. Мы с ними слегка пошутили. Нам же они что-либо толковое сказать не могли, сами не знали событий, ответили лишь, из какой они воинской части.
На следующий день мы опять разъезжали по фронту и натолкнулись на другую забавную картину. Я о ней много раз рассказывал Сталину. Трясется арба. Сидят человек пять-шесть румынских солдат, один погоняет лошадей. Едут на восток. Попов спрашивает: "Куда едете? Кто такие?". Один румынский солдат сует нам записку в руки, Попов взял и читает: "При сем следует столько-то румынских солдат, лошадей и арба. Едут на восток, к Волге, для сдачи в плен". И подпись: лейтенант такой-то. Мы посмеялись. Румыны смотрят, что мы настроены не злобно, и тоже приободрились. Попов вернул им записку и сказал: "Езжайте в том же направлении, в каком едете". Они, конечно, ничего не поняли. Тогда он махнул рукой в направлении Волги, и они поехали в плен, а мы поехали к линии фронта. Приехали мы в Плодовитое. Это село. Там всюду такие интересные, жизнеутверждающие названия населенных пунктов. Видимо, когда шло заселение этих степных, полупустынных земель, люди, которые приезжали, давали новым местам красивые названия. Подходит к нам лейтенант и обращается ко мне: "Хочу спросить, что мне делать с пленными?" - "А сколько у вас пленных?". - "Человек триста". "А где они?". - "А вот здесь недалеко". Мы с Поповым пошли туда. Видим, стоит огромная толпа пленных. Мы стали их расспрашивать через переводчика. В это же время подъезжает на коне еще один лейтенант: "Разрешите обратиться? Что мне делать и куда направить пленных?" "Сколько их у вас?" - "Тысячи три, наверное". Где же эти пленные?" - "Вон там, за церковью".
Подъехали. Там растянулась огромная их шеренга, придерживаясь какого-то расчетного порядка. Лейтенант докладывает, что здесь находится полк полного состава румынской артиллерии большого калибра. Он сдался в плен во главе с командиром полка. Я подумал: черт его знает, целый артиллерийский полк оказался в нашем тылу, он может наделать нам неприятностей. Говорю: "Скомандуйте, чтобы все офицеры вышли вперед. Надо офицеров отделить от солдат и отдельно увести их в глубь страны, на приемный пункт. В поле лежит очень много оружия, от стрелкового до пушек. Они могут наделать нам неприятностей, имея готовые артиллерийские расчеты". В тылу ведь у нас там ничего не было. Вышли вперед их офицеры. Командира полка лейтенант пригласил подойти к нам. Подошел человек солидного возраста и доложил спокойно: "Я командир полка. Даже чехлы не приказал снять с орудий, не вел огня и решил сдаться в плен с полком в полном составе и при полном вооружении. Вот я вам и сдаю все: и офицеров, и солдат, и артиллерию". Я говорю ему: "Господин полковник, а вы не согласились бы обратиться с воззванием к румынским солдатам и офицерам, чтобы они прекратили сопротивление и сдавались в плен? Если вы сами так сделали, то понимаете правильно, что война против нас навязана вам Гитлером. Вы не хотите ее вести и для себя ее уже закончили. Так помогите и тем, кто еще находится по ту сторону линии фронта, пусть они последуют вашему примеру". Он отвечает: "Охотно! Дайте возможность, я напишу письмо". Потом я, расспрашивая его, сказал ему об офицере, с которым беседовал раньше и который написал подобную же листовку. Он, оказывается, знал этого офицера. В своей листовке тот офицер, как я узнал потом, адресовался как раз к этому полковнику. Действительно, когда я читал листовку того офицера, сына попа, с которым беседовал раньше, он обращался именно к этому полковнику: "Не воюйте вы против своей совести! Я знаю ваше настроение. Надо кончать войну!". Когда я вернулся в штаб, мне ту листовку дали, чтобы я приказал ее напечатать. Но потребности в ней уже не было: часть, к которой она адресовалась, сдалась и оказалась у нас в плену. Мы указали, чтобы румынских офицеров увели отдельно, а солдат отдельно. Операция же продолжалась успешно.
Наши войска продвигались вперед, и мы буквально наслаждались плодами первых больших побед. Трудно передать словами, какая тогда была радость и как мы ликовали. Впервые за войну на нашем направлении мы успешно прорвали вражеский фронт и развиваем наступление, разгромив все, что стояло перед нами, и почти не встречая сопротивления. Правда, мы понимали, что перед нами находятся не немцы, а румыны. Они были нестойки, потому что знали, что эта война не отвечает интересам Румынии. Но все-таки это был враг. Имелись, как говорится, румыны - и румыны. Уже совершенно другие. Мы-то ведь знали, как они наступали, как издевались над мирными жителями, убивали наших людей. Они пришли вместе с гитлеровскими войсками и тоже допускали зверства по отношению к советским воинам. Поэтому надо правильно понимать наше ликование, радость наших солдат и офицеров, которые просто сияли. Не помню, на какой день наступления, третий или четвертый, мы завершили боевые действия и решили задачу, которая стояла перед нами. Наши танковые войска дошли до Советского, вышли к Дону, а войска Ватутина спустились по Дону к Калачу. Там у нас должна была состояться встреча, и мы с Поповым приехали туда. Я говорю тут неточно. Другие генералы, которые участвовали в этой операции, в своих воспоминаниях точнее, потому что они, когда писали, пользовались материалами Генерального штаба, официальными документами, по которым можно восстановить все во времени, как конкретно развивались события. У меня нет такой возможности. Итак, мы с Поповым приехали к командиру танкового корпуса войск Юго-Западного фронта. Командовал им знакомый мне генерал Кравченко[143]. Я потом не раз встречался с ним и во время, и после войны. Сейчас он умер. А ведь был здоровый такой, крепкий мужчина. Казалось, ему и износа нет, а он умер. Действовал же он тогда хорошо. Когда мы зашли в помещение, которое он занимал, он сказал, что плохо себя чувствует, болен. Грипп, что ли, у него был, но он переносил болезнь на ногах.
Мы поздравили друг друга и вместе порадовались, что наши фронты сомкнулись. Вот и первая встреча! Кравченко предложил: "За радость нашей встречи давайте разопьем бутылку шампанского. У меня есть трофейное, французское". - "Ну, давайте". Открыли шампанское, выпили по бокалу и больше ничего не пили, не потому, что не хотели, а потому, что отсутствовали иные "средства", кроме этой единственной бутылки шампанского, чтобы отпраздновать соединение войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Кравченко обратился ко мне: "Товарищ Хрущев, примите от меня подарок на память о встрече, немецкий кортик. Правда, он со свастикой, но свастика эта теперь побита. Этот сувенир будет напоминать о нашей встрече". Говорю: "Хорошо, я возьму. У меня есть маленький сын Сережа, я ему перешлю. Это будет вещественное доказательство того, что Ваши войска бьют немцев, и к тому же хороший подарок". Мы недолго побыли у Кравченко, проинформировали друг друга о положении дел. Положение было хорошим. Мы не чувствовали какой-нибудь вражеской угрозы, разгромили каждый своего противника и не знали, что враг еще подтянет и с чем мы встретимся. Но это уже потом. А в данном случае мы блестяще выполнили свою задачу. Кравченко сказал, что он, как говорится, промаршировал по правому берегу Дона и не встретил большого сопротивления. Тылы у противника - довольно жидкие и войсками не обеспечены. Мы радовались успеху. Когда задумывалась операция, мы в своем письме к Сталину излагали план осторожно, предполагали, что есть лишь возможность провести такую операцию, но нам неизвестны ни наши резервы, если Ставка ими располагает, ни то, что у противника пустота на этом направлении. Если в основу операции положили и не наши рекомендации, то во всяком случае они не противоречили осуществленному замыслу и тем предложениям, которые, возможно, были сделаны другими командующими.
Главное заключалось не в том, кто первый сказал "а", а в том, что решена задача, поставленная перед нами. Враг разгромлен и окружены немецкие войска в Сталинграде. Теперь надо удержать их там и тоже разгромить. Потом мы встретились с трудностями. Об этих трудностях я говорил Жукову, когда он приезжал к нам и докладывал соображения Ставки по плану операции. Я ему тогда сказал, что свою задачу мы решить можем, потому что чувствуется, что тут у противника слабое место. А вот удержать окруженные войска, если вы не усилите нас, мы своими силами не сможем: враг нас раздавит и выскочит из Сталинграда. Я уже рассказал, как Жуков мне ответил: пусть враг катится туда-то, мол, из Сталинграда, уже это будет большая победа - отбросить немцев от Волги. Я соглашался с Жуковым, но хотелось большего. Впрочем, думаю, что здесь у нас разногласий не могло быть: у Жукова было то же желание. Но теперь встала задача удержать и разгромить врага. И в тот вечер мы с Поповым решили вернуться не в штаб 51-й армии, а в штаб Толбухина. Он находился поближе к Советскому. К тому же у 51-й армии задача была решена, войска противника разгромлены, многие взяты в плен и впереди не маячило непосредственной опасности. А в Сталинграде находились главные силы противника. Теперь основным направлением становилось толбухинское, то есть не 51-й, а 57-й армии, самой слабенькой из всех на Сталинградском фронте, самой малочисленной. Поэтому мы и решили поехать к Толбухину и там проинформироваться обстоятельнее. Уже в пути узнали, что Толбухин перенес командный пункт в балку возле Наримана, ближе к Дону.
Поехали туда. Стояла осенняя южная ночь. Хоть глаз коли, никаких ориентиров. Мы стали искать эту балку, помотались какое-то время. Я высказал Попову сомнение: "Маркиан Михайлович, по-моему, мы балку сейчас не найдем, бездорожье, мы там не были, ориентиров не знаем, попасть туда очень трудно". А он бодро отвечает: "Ну, что вы, товарищ Хрущев, для генерала главное иметь карту, компас и спидометр, чтобы отсчитывать путь, пройденный машинами. Найдем!". Стали мы искать. Позднее этот случай превратился в анекдот. Я много раз потом вспоминал его, когда встречался с Поповым. Он тоже улыбался... Только двинулись в путь, как наткнулись на два обнаженных трупа немецких солдат. Ночью они хорошо видны. Отъехали подальше, лежит труп серой лошади. Это еще не ориентир. А вот и немецкие указатели. Читаем надписи. У Попова были два адъютанта, и один из них знал немецкий язык. А что толку? Куда бы мы ни поехали, всякий раз возвращались к тем же трупам. Просто заколдованное место какое-то! Без конца встречаем трупы двух голых солдат и серой лошади. Что за наваждение? Как по Гоголю! Нечистая сила водит нас вокруг этого места. Наконец, слышим, разговор. Кто-то едет. Мы тоже подали голос. Приблизилась машина. Вышел из нее человек и говорит: "Я полковник, командую такой-то танковой частью". Он узнал меня и спросил: "Куда же вы едете?". "Мы едем в балку Наримана". - "Товарищ Хрущев, не найдете вы балку Наримана. Степь ведь. Да и зачем вам ездить? Вон передний край, видно, как взвиваются немецкие ракеты (немцы очень сильно освещали свой передний край). Тут можно напороться и на мины. Я предлагаю вам, поедем вместе. Я еду в расположение 57-й армии, знаю дорогу и вас проведу. Я еду в лазарет, ранен в руку, сначала крепился, а сейчас чувствую, что рана начинает беспокоить. Боюсь, как бы не было загноения. Хочу, чтобы там квалифицированно сделали перевязку и все, что нужно, с раной". Я согласился, но Попов говорит: "Нет, мы все-таки поищем сами". Распрощались, поехали. Опять слышим говор. Подъезжает автомобиль, мы остановились, вышли из своей машины.
Оказалось, что это ехал представитель Ставки, генерал, который занимался связью. Он говорит: "Я еду в штаб Толбухина на Волгу. Мне тоже нужно в балку Наримана, но я туда сейчас не поеду, потому что не найду ее, и вы тоже не найдете. Поехали вместе?". Мы опять отказались. Надеялись, что найдем эту балку. Опять мы стали искать и все время кружили возле этих трупов. Кажется, что уже далеко отъехали в каком-то направлении, а потом вдруг выясняется, что где-то "закруглились" и вновь попали на то же место: два трупа лежат и серая лошадь. Я дрожал от холода в бурке, Попов тоже. Чаша нашего терпения переполнилась. Подъехали мы в какому-то перекрестку, увидели несколько указателей на немецком языке. Офицер подбежал к ним, начал переводить с немецкого языка, куда эти указатели показывают. Попов замерз, как говорится, зуб на зуб не попадал. Кричит адъютанту: "Тащи его сюда". Тот сорвал указатель и притащил. Я говорю: "Ну, прочитать-то, что написано, он тебе прочитал. А какое указатель показывает направление, неизвестно. Он же его сорвал со столба". "Да, - согласился Попов, - видимо, мы балку Наримана этой ночью не найдем. Давай, поедем в штаб на Волгу". А где расположен штаб, мы хорошо знали. Солдаты говорят, что к фронту лошадь еле плетется, а от фронта - бежит. У нас-то было не совсем такое положение. Мы искали тоже штаб, но полевой. А более солидно оборудованный штаб армии был у Толбухина на Волге. Теперь мы предвкушали, как замерзшие по приезде воспользуемся баней. Толбухин любил баню, и бани у него были хорошие.
Когда приехали на Волгу, мне генерал Попов говорит: "Ну, товарищ Хрущев, я думаю, что вы никогда не забудете, как мы с Вами блуждали, запомните на всю жизнь эти трупы немецких солдат, труп серой лошади и наши приключения, поиск направления с использованием карты, спидометра и часов". "Да, - говорю я, - такое запомнится надолго". Так закончилось наше приключение, когда мы на радостях возвращались от генерала Кравченко. Разгром противника, соединение наших фронтов, завершение окружения Сталинградской группировки немцев: было чему радоваться. Эту радость мы выстрадали всем ходом войны, жутким отступлением, былыми поражениями, другими огорчениями. Донской фронт, которым командовал Рокоссовский, тоже выполнил свою задачу. Я ничего тут о нем не говорю потому, что конкретно не помню, какая в целом задача стояла перед ним. Таким образом, с севера теперь обеспечивал позиции против немецких войск Донской фронт. Сталинградский фронт должен был направить основные свои силы на юг, чтобы укрепить там оборону на случай вражеского прорыва. Мы уже поняли, что раз окруженные войска не пытаются вырваться из кольца, значит есть указание из Берлина не оставлять Сталинграда, а ждать, когда придет помощь и будет восстановлено прежнее положение.
По действиям противника мы понимали, что им принято именно такое решение. Следовательно, нужно ожидать его удара с юга и с запада. Но с запада то, что могло сюда прийти, находилось за Доном. Задача удержать эти силы ложилась на плечи Юго-Западного фронта под командованием Ватутина. Нашей обязанностью было прикрыться с юга, чтобы войска, брошенные отсюда на помощь Паулюсу, не смогли прорваться. Донской же фронт Рокоссовского при нашем участии держал кольцо окружения. На участке в направлении Котельниковского действовали 51-я армия, кавалерийский корпус Шапкина, механизированный корпус Вольского и другие соединения. Я несколько раз выезжал в эту группу войск, потому что там сложилась тяжелая обстановка. Мы знали по данным разведки, что немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн командует группой войск, которая движется на освобождение окруженной нами группировки[144]. Он начал теснить нас. Его войска находились уже примерно в 50 км от переднего края войск Паулюса. Штаб армии Толбухина, где я находился больше всего (при штабе фронта я бывал тогда мало), расположился в Верхне-Царицынском, как раз посередине между войсками Манштейна, дошедшими до р.Мышковы, и войсками Паулюса. В первые дни после окружения Паулюса у Толбухина было настолько мало сил, что возник совершенно обнаженный участок фронта в шесть или семь километров. Там вообще ничего не было. Но в результате директивы, которая была дана Гитлером и обрекала окруженные войска на бездействие, на ожидание помощи, противник упустил возможность прорыва. Если Паулюс, как он того хотел, ударил бы на юг, то он, безусловно, имел возможность прорваться.
Удержать Паулюса мы бы не смогли. Однако, как говорится, не было счастья, да глупость Гитлера помогла. Он обрек на бездействие группировку Паулюса, сильную и вооружением, и численностью войск. Она сидела и ждала, а в это время нами принимались меры по уплотнению кольца. Вскоре после завершения окружения было решено попытаться прорвать линию обороны окруженных и разгромить их. Сил у нас недоставало, а желание было большое. Поэтому мы попытались это осуществить дивизиями Толбухина, придав ему какое-то усиление. В районе р.Червленная, на довольно пересеченной местности, мы и хотели прорвать оборону Паулюса. Мы с Поповым выехали на командный пункт к Толбухину. Расположен он был очень удобно: оттуда буквально все было видно, как на ладони. Возвышенность, внизу балка и опять подъем. Мы перед противником - как на ладони, и противник - тоже как на ладони. Я даже видел, как какой-то немецкий солдат шел по полю и вдруг исчез, видимо, в каком-то убежище. На этом направлении мы поставили танки. Не помню сейчас, кто командовал этими танками. Танасчишин, командир 13-го мехкорпуса, к тому времени был выведен на отдых и пополнение, мехкорпус Вольского находился на юге, у Котельниковского. Мы использовали все наши возможности, но бой успеха для нас не имел. И к концу дня мы увидели, что не сможем назавтра продолжать такой интенсивный бой и сломить сопротивление противника. Он имел тут и танки, и сильную артиллерию. Самолеты, правда, с его стороны не действовали. С нашей стороны действовали истребители, но в небольшом количестве. Какую-то реальную помощь наземным войскам они оказать не могли. С наступлением темноты мы прекратили атаки, тем более что понесли потери, особенно в танках.
У нас было очень мало танков. Если соотнести потери с количеством танков, которые мы имели, то потери были ощутимые. И все же мы не теряли надежды прорвать оборону врага и ворваться в расположение войск Паулюса. Мы считали, что каждый новый день истощает силы противника, ослабляет его физически, ведь питание в окружении было недостаточным, хотя конкретных таких сведений у нас не имелось. Мы просто рассчитывали так, и, как теперь видно из опубликованных материалов о Паулюсе, так и было в действительности. Нами была предпринята вторая попытка прорыва. Она тоже не привела к успеху. Помню такой эпизод. Мы находились на командном пункте - в углублении, прикрытом одним накатом и замаскированном земляною насыпью. Там сидел командующий армией Толбухин и мы с Поповым как представители фронта. Вдруг мы увидели самолет, который снижался в нашем направлении. Мы уже приготовились к тому, что он упадет прямо на командный пункт и разрушит все, что тут было. Чей же самолет? Трудно было разобраться. В конце концов, самолет приземлился (сейчас даже как-то не верится) метрах в 10, а может и меньше, от командного пункта. Это объяснялось не мастерством летчика, а было просто случаем. Бывают такие невероятные случаи и, на войне, и на охоте. Вышел я из укрытия. Самолет оказался советским. Летчик сидел в кабине, но находился в состоянии шока. Его стали вытаскивать, и тут он пришел в себя. Его отправили в госпиталь, а самолет здесь и остался. Я вернулся в землянку. А когда спустя некоторое время вышел, самолет был уже ограблен. Это "наши" поработали. Сняли все, что имело ценность для солдата: часы, стекла и пр. Потом изготовляли всяческие поделки и финтифлюшки. Солдаты всему находили применение.
Я удивлялся тогда и возмущался. Самолет еще можно было восстановить! Я был очень удручен таким отношением к военному имуществу, но никто другой особого внимания на это не обратил. С наступлением сумерек мы наблюдали, как немецкие транспортные самолеты летели с грузами для войск Паулюса. Они летели волнами, как на параде. Работала наша зенитная артиллерия, но с очень низким коэффициентом попадания. В первый день на нашем участке было сбито только два вражеских самолета, на второй день тоже сбили очень мало. Когда мы допрашивали пленных, меня интересовало, что туда возят, какие грузы? Питание ли для солдат? Вооружение? Горючее? Боеприпасы? Как выяснилось, подвозили всего понемногу. Потом, когда наши войска продвинулись дальше в глубь кольца, самолеты не могли садиться и сбрасывали свои грузы на парашютах. Но это было уже значительно позже. Таким образом, первые наши усилия по ликвидации окруженной группировки не принесли успеха. Генерал Шумилов, командующий 64-й армией[145], на своем направлении имел задачу наступать с юга. Там все было разрушено. Вот нам доносит Шумилов, что его войска заняли такой-то пункт. Мы его поздравили. Потом подумали, обменялись мнениями с Еременко и позвонили Шумилову: "Вы все-таки проверьте, не ошибка ли это донесение?". "Нет!" - заверял он. Шумилова надо было знать. Это очень честный и добросовестный человек. И все же, когда назавтра, на утро он проверил, оказалось, что его ввели в заблуждение.
Он объяснил нам, что противник уже после присылки донесения контратаковал и восстановил свои позиции. Я потом не раз шутил над ним по этому поводу: дескать, этим оправдывались те, которые обманули, они-то эту версию и выдумали, что противник контратаковал, - это типичное объяснение, когда донесут неправильно о захвате того или другого пункта, а потом говорят, что враг контратаковал и отбил его у нас. Но никакой контратаки не было. Просто люди донесли заранее, думая, что скоро займут село, а сделать этого не удалось. Стечением времени противник стал наращивать нажим из Котельниковского в направлении Сталинграда. Наши войска вновь вели упорные бои, и мы несли большие потери. Я несколько раз выезжал туда. Мы послали на этот участок за старшего, который на месте объединял усилия людей Захарова. Это направление стало нас серьезно беспокоить, потому что мы все пятились и пятились к Сталинграду. Возникла реальная угроза, что Манштейн прорвется. К этому времени мы получили сообщение, что нам передается 2-я Гвардейская армия под командованием Малиновского[146].
Я знал Малиновского и высоко ценил его. Мы с Еременко очень обрадовались этому известию и стали ждать, когда придет Гвардейская армия. Вскоре она поступила в наше распоряжение, и мы сейчас же направили ее против войск Манштейна. Это была спасительная сила - свежая, крепкая, обученная и хорошо вооруженная молодежь. Во 2-й Гвардейской армии имелось три стрелковых корпуса, в составе каждого корпуса - три дивизии и танковый полк, по 22 или 24 танка в полку, по тому времени - большая сила. Одним словом, полная армия. Заместителем ее командующего был Герой Советского Союза генерал Крейзер[147]. Молодой военный, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Начальником штаба армии был Бирюзов[148]. Тоже молодой и тоже хороший генерал. Одним словом, и командование, и войска были отборными. Эта армия вступила в декабре в соприкосновение с вражескими войсками на р. Мышкове. Разгорелись напряженные бои, и враг был остановлен. Мы стали его опять теснить. В то время вновь прилетел к вам Василевский. Мы с ним выезжали на передний край и видели, с каким упорством шло сражение. У нас были большие потери. Иногда мы с ним "примерялись" (как определяют военные) - вставали в определенной точке и смотрели, сколько окажется убитых в поле зрения. Увы, насчитали очень много трупов наших солдат, преимущественно молодежи. Я достал у одного убитого комсомольский билет, простреленный насквозь: ему пуля попала в грудь.
Вскоре мы получили в подкрепление дополнительно танковый корпус, которым командовал Ротмистров[149]. Хороший корпус, укомплектованный "с иголочки" людьми, отменно знающими танковождение. Это уже было значительное усиление фронта. Я тогда больше всего находился у Толбухина, в Верхне-Царицынском. Малиновский расположил свой штаб тоже в Верхне-Царицынском. Таким образом, там было два армейских штаба: Толбухина, который держал с юга линию окружения войск Паулюса, и Малиновского, который действовал юго-западнее, сдерживая войска Манштейна. Несколько раз я выезжал в кавкорпус к Шапкину. Однажды, приехав к нему, застал очень тяжелую картину: возле населенного пункта, где располагался Шапкин со своим штабом, лежало много наших погибших кавалеристов и побитых лошадей. Проезжал я через какой-то мостик, рядом лежит убитый офицер, и мародеры уже сняли с трупа сапоги. Я рассказал об этом Шапкину, он навел справки: "Да, - говорит, - это командир эскадрона". - "Как же так? - спрашиваю, - вы не убираете убитых? Грабят своих! Мертвых, правда, но все-таки смотреть и жалко, и неприятно". Вот как бывало на войне... Шапкин в те дни всячески сдерживал натиск противника. А когда подошла армия Малиновского, мы, отбив врага, перешли в наступление. Перед подходом сил Малиновского случился такой эпизод.
Прибыл к нам представитель Ставки по использованию кавалерии О.И. Городовиков[150]. Куда же его направить? Он был тогда генеральным инспектором кавалерии, и мы, конечно, направили его в кавкорпус, единственный на этом участке. Ока Иванович уехал туда. Я был у Толбухина, затем у Попова. К тому времени была сформирована новая армия, командовать ею стал Попов. Эта ударная армия[151] была нацелена по правому берегу Дона на Тормосин. Приезжает вдруг к Попову Ока Иванович, очень взволнованный, возмущенный. Он говорил недостаточно чисто по-русски. Высказывается: "Какой сашка? Этот сашка шашлык резать, а не рубить! Сашка плохой, не сашка, нет". Действительно, вооружение, включая шашки, было в кавалерии не первоклассным. Ока Иванович рассказывал мне: "Сижу в окопу, смотрю, где противник, вижу - вот противник. Я тогда говорю: Попов, ты что, хочешь меня тут в плен сдать?". Манштейн наступал (дело было еще до подхода 2-й Гвардейской армии Малиновского), и, видимо, это произвело на бравого кавалериста сильное впечатление. Потом спрашивает меня: "Товарищ Хрущев, когда вы поедете в штаб фронта? Где штаб фронта?". Я сказал ему, что штаб фронта находится там, куда вы попали, когда прибыли из Москвы, то есть в поселке Рай-Городок на самом берегу Волги. Не знаю, почему он так назывался. По сути, это была большая деревня, все ее постройки - сплошь деревянные. "Вы, - продолжает генерал-полковник, - собираетесь туда ехать?". - "Собираюсь". - "Давайте вместе поедем". - "Давайте. Только вы когда хотите ехать?" - "Я хочу сейчас ехать". - "Не советую сейчас, ночью ехать очень плохо, фары зажигать нельзя, по фарам стреляют немецкие самолеты, а ехать без фар - можно разбиться еще скорее, чем если попадешь под пулемет противника. Лучше поедем завтра на рассвете, когда еще не светло и дневные самолеты еще не летают, а ночным уже опасно, потому что ночные бомбардировщики-тихоходы летают на низкой высоте, их легко сбить из пулемета и даже можно сбить из винтовки. Поэтому выберем вот такое время". - "Хорошо, созвонимся".
Но когда я утром позвонил, дежурный ответил мне, что Ока Иванович уже уехал. "Когда он уехал?" - "С вечера". Он, видимо, настолько был взволнован и потрясен, что не дождался утра. С тех пор я Оку Ивановича больше не встречал. Когда-то он командовал 2-й конной армией, был героем Гражданской войны. Но в эту войну появились и другие средства ведения боевых действий, и другие условия. Он, конечно, чувствовал, что какой-либо конкретной помощи оказать не сможет, его приезд ничего не давал фронту, он же мог продемонстрировать только свои добрые намерения, честность и преданность Советскому государству. Хороший воин, но уже выдохся. И по своим знаниям военного дела, и по физическому состоянию он уже не мог играть должной роли. Я уже отмечал, что больше времени проводил в Верхне-Царицынском, нежели в штабе фронта: у меня там была постоянная квартира. И вот я в очередной раз приехал туда, получил очередную информацию об обстановке, и мы разошлись отдыхать. Вдруг ко мне вваливается Малиновский, прямо в бекеше, не раздеваясь, очень взволнованный. Гляжу, у него слезы ручьем льются. "Что такое? Что случилось, Родион Яковлевич?". "Произошло несчастье, Ларин застрелился"[152].
Ларин был членом Военного совета 2-й Гвардейской армии, боевой человек. Они были большие приятели с Малиновским, служили вместе еще перед войной. Когда Малиновский командовал корпусом, Ларин был у него комиссаром. Малиновский всегда выпрашивал, чтобы Ларин у него оставался либо начальником политотдела, либо комиссаром. Он как политработник заслуживал уважения. До того, как все это случилось, был ранен. Я заходил к нему на квартиру. Он лежал, но рана была несерьезная, в мякоть ноги, кость не была повреждена, пуля лишь задела голень. Ларин разговаривал, был в полном сознании. Наблюдала за ним женщина, армейский врач. Потом мне рассказали, что перед тем, как застрелиться, он довольно весело болтал с нею. Малиновский был крайне взволнован событием и оплакивал Ларина. Я не знал, как его успокоить. Что же вызвало такую акцию? Почему Ларин застрелился? Потом его адъютант сообщил, при каких обстоятельствах это произошло. Обстоятельства были довольно неясными. Ларин выехал на передний край и наблюдал за ходом боя под прикрытием какого-то стога сена. Он расхаживал, как бы маячил перед противником, явно искал смерти. Вовсе не было необходимости так вести себя. Он просто вызывал огонь на себя. Конечно, вскоре его ранило. Хотя рана оказалась несерьезной, он вдруг застрелился. В чем же дело? Бывало, стрелялись в начале войны, когда мы отступали. А тут мы наступаем, окружили войска Паулюса, ведем сражение с Манштейном, можно сказать, на переломном рубеже.
Давно уже перестали бежать, начался новый этап наших военных операций против врага. 2-я Гвардейская, сильная и крепкая армия, успешно отражает удар Манштейна. И вдруг он стреляется? Ларин оставил записку, тоже очень странную. Я сейчас не смогу точно воспроизвести ее содержание, но смысл был таким, что он кончает жизнь самоубийством; потом шли слова: "Да здравствует Ленин!" И подпись. Эту записку мы сейчас же отправили в Москву. Начальником Главного политуправления РККА был тогда Щербаков[153]. Нехорошо говорить плохо о мертвых, но что поделаешь? Щербаков - работник, много лет находившийся на уровне секретаря обкома партии. Я позднее столкнулся с его неприятным характером. А когда он получил эту записку, то стал "обыгрывать" ее. Не знаю даже, какую цель он тут преследовал. Ларин ведь уже застрелился. Не то он досаждал Малиновскому и ярил злобой Сталина, не то "копал" против меня как члена Военного совета фронта, на котором произошел такой случай. Меня сейчас же вызвали в Москву. Состоялся очередной многочасовой обед у Сталина со всеми, так сказать, "приложениями": и питейные дела, и тут же разбор событий, которые произошли за истекшие сутки. Сталин спрашивает меня: "А кто такой, собственно говоря, Малиновский?". Отвечаю: "Не раз докладывал Вам о Малиновском.
Это известный генерал, который командовал корпусом в начале войны, потом армией, потом Южным фронтом. У него были там неудачи. Вы же знаете". Сталин, конечно, знал, что тот фронт был обойден противником и развалился. Враг легко захватил Ростов, за что Малиновский был освобожден от должности и переведен в тыл. Позднее он командовал 66-й армией, был заместителем командующего войсками Воронежского фронта, потом сформировал 2-ю Гвардейскую армию. Мне припомнили, где служил Ларин, как Малиновский просил к себе Ларина и как добился, чтобы ему уступили. Нужно сказать, что Щербаков был большим мастером обыгрывания таких вещей с целью не охладить как-то Сталина, а наоборот, подбросить ему материальчик, который его взвинчивал бы и бесил. Щербаков понимал, что гнев против Малиновского будет направлен, прямо или косвенно, и против меня. "Все это, - говорит Щербаков, - не случайно. Почему он не написал "Да здравствует Сталин!", а написал "Да здравствует Ленин!?" Я отвечаю: "Не могу сказать. Он застрелился, видимо, под влиянием какого-то психически ненормального состояния. Если бы он был в нормальном состоянии, то не застрелился бы. Повода ведь стреляться у него не было".
Все, казалось бы, ясно. Но нет. Щербаков опять жевал свое, растравлял рану, подсыпал соли. Мне пришлось тогда пережить много неприятностей. Конечно, самым выгодным для меня было бы просто сказать, что Ларин растакой-сякой-разэдакий, да и Малиновский такой же. Но я не был согласен с этим и не мог так говорить Сталину. А Сталин вновь: "Кто же такой Малиновский?". Отвечаю: "Малиновского я знаю. И знаю только с хорошей стороны. Не могу сказать, что знаю его много лет, но знаю его с начала войны. Все это время он вел себя хорошо, устойчиво и как человек, и как генерал". Над Малиновским явно нависла угроза. Тут сплелись и падение Ростова, и самоубийство Ларина - все увязывалось в один узел. Сталин: "Когда вернетесь к себе на фронт, надо будет за Малиновским последить. Вам надо все время быть при штабе 2-й Гвардейской армии. Следите за всеми его действиями, приказами и распоряжениями". Одним словом, я лично отвечаю за Малиновского и его армию, должен быть глазом, наблюдающим за Малиновским от партии и Ставки. Говорю: "Товарищ Сталин, хорошо, как только приеду, буду неотлучно с Малиновским".
Я улетел в Верхне-Царицынский. И тогда я как бы забыл дорогу в штаб фронта, передвигался вместе со 2-й Гвардейской армией, располагаясь всегда рядом с Малиновским. Малиновский умный человек. Он понимал, что это является результатом недоверия к нему со стороны Сталина. В моем же лице он видел контролера над своими действиями. Когда мы перемещали штаб, то мне и квартира отводилась рядом с Малиновским. Получалось, что я уже являлся скорее членом Военного совета 2-й Гвардейской армии, чем всего фронта. Собственно говоря, в ней и заключалась наша главная сила на фронтовом направлении, так что не возникало противоречий по существу. А Малиновский все распоряжения и приказы, которые готовил, до того, как подписать, обязательно согласовывал со мной. Я их не подписывал, потому что это не входило в мои обязанности, но все его приказы и распоряжения знал, и Малиновский все мне докладывал. Дела у нас продвигались хорошо.
Я был доволен и положением дел на фронте, и Малиновским - его способностями, его распорядительностью и его тактом. Одним словом, в моих глазах он выделялся на фоне других командующих, и я с уважением к нему относился. Работать с ним было хорошо. К нам тогда прилетел товарищ Ульбрихт[154] и с ним вместе два немца-коммуниста. Они приехали для того, чтобы вести антифашистскую пропаганду с переднего края через рупоры-усилители; призывали, чтобы немцы сдавались в плен. Это была главным образом вечерняя и ночная работа. Ульбрихт ползал по переднему краю с рупорами и обращался к солдатам и офицерам войск Паулюса. Мы всегда обедали вместе с Ульбрихтом, и я шутил: "Ну, что ж, товарищ Ульбрихт, сегодня вы на обед не заработали, никто не сдался в плен". Он спокойно продолжал свое дело. Однажды мне доложили, что к нам перебежал солдат из состава окруженцев. Я сказал: "Ну-ка, приведите его, спрошу, что за человек, узнаю его настроение и как он оценивает моральное состояние своих товарищей". Привели. Говорю: "Кто вы такой по национальности?". - "Поляк". - "Как же вы попали в немецкую армию?". - "Я из той части Польши, которая вошла в состав Германского государства, меня призвали". - "У нас, наверное, будет формироваться новая Польская армия. Надо ведь Польшу освобождать. Как вы к этому относитесь?" - "Да, надо освобождать". - "А вы в Польскую армию запишетесь? Пойдете туда?" - "Нет, не пойду". - "А как же освобождать Польшу?" - "Польшу русские освободят". И довольно нагло отвечает. Мне это не понравилось. Я потом и говорю Ульбрихту: "Вот ваш солдат, не немец, поляк, сбежал от немцев, но он и не за нас, он даже освобождать свою Польшу не собирается".
Затем были взяты в плен несколько чистокровных немцев, как раз перед Рождеством. Я сказал, чтобы их доставили в расположение штаба Малиновского, и мы начали их допрашивать. Но это был уже не допрос, а скорее пропагандистская беседа. Мы ее вели вместе с Вальтером Ульбрихтом. Сначала я приказал, чтобы их отвели в баню, помыли, переодели, избавили от насекомых, дали им по 100 граммов водки (ведь Рождество!), покормили. Далее мы начали беседовать с ними. Один из этих пленных особенно отличался, с моей точки зрения, хорошим настроением. В нашем понимании, конечно. Он был против нацистов, против Гитлера, против войны. Ульбрихт ему: "Мы хотим обратно вас забросить. Вы согласны отправиться?". Тот отвечает: "Согласен. Даже прошу, перебросьте нас. Мы вернемся и все расскажем своим товарищам". Однако тут же в этой группе получился раскол. Один из пленных заметил: "Зачем же нас перебрасывать назад? Если перебросите нас сейчас, то нас расстреляют. Никто не поверит ни в то, что мы убежали от вас, ни в какую-то другую версию, которую вы придумаете". Довольно-таки серьезная перепалка возникла у пленных между собой. "Наш" немец говорит: "Ты трус! А я пойду. Пусть меня расстреляют, но и это сыграет свою роль". Мы с Ульбрихтом уже согласились было перебросить эту группу к противнику. Вдруг об этом узнал Толбухин и пришел ко мне: "Товарищ Хрущев, я узнал, что придумали вы с Ульбрихтом. Не делайте этого, прошу. Пленные теперь знают расположение нашего штаба, выдадут своим, и нас разбомбят. Хотя бы не перебрасывайте до тех пор, пока я не переведу штаб в другое место. Я не хочу подвергать людей опасности". Я говорю: "Как же так? Мы привезли их с завязанными глазами и увезем с завязанными, они и не знают, где находятся". - "Нет, я рисковать не могу". Вижу, если он расскажет Сталину, Сталин меня не поддержит. Я не говорил Ульбрихту о настроении Толбухина, а просто сказал: "Товарищ Ульбрихт, видимо, придется отложить нам эту акцию, потому что есть риск, что пленные могут выдать расположение нашего штаба". - "Ну, раз нельзя, значит, нельзя!" И продолжал свою деятельность.
Насколько же были серьезными опасения Толбухина? Я и сейчас с ним не согласен. Слишком уж большая осторожность. Думаю, что никакой опасности для штаба не было, даже если бы мы перебросили этих людей туда, в "котел". Бои продолжались. Мы начали теснить противника в направлении Котельниковского. Ситуация сложилась такая, что штабу Сталинградского фронта управлять войсками, которые непосредственно удерживали в кольце окруженную группировку Паулюса, и войсками, которые наступали на Маныч и Ростов, было трудно. И нам предложили разделить фронт. Предложение исходило из Ставки. Не знаю, была ли это инициатива Сталина или же кого-либо из Генерального штаба. Но там понимали сложность, которая создалась теперь у нас на фронте. Было предложено те армии, которые стояли лицом к Паулюсу, отдать Донскому фронту, а войска, которые направлены на юг и смотрят на запад, - Южному фронту. Нам было жаль расставаться с такими, приобретшими поистине историческое значение, соединениями, как 62-я армия, которая своей грудью защитила Сталинград; как 64-я армия, которой командовал Шумилов; 57-я и другие соединения. 62-я и 64-я армии стояли полукольцом и отражали прежде немецкие войска, которые рвались в Сталинград. 57-я армия дралась сначала в самом Сталинграде, потом все они сдвинулись по линии фронта.
Мы сжились и сроднились с этими людьми. Но, когда Сталин позвонил, я сказал ему: "Мы это сделаем. Считаю, что это правильно, в интересах дела. Так будет лучше". Еременко Сталин тоже позвонил. Не знаю, как он с ним разговаривал и как тот ему отвечал. Я застал Еременко чуть ли не в слезах. Мне стало жалко его. "Ну, Андрей Иванович, ну, что вы? Это ведь в интересах дела. Вы же видите, что наши армии сейчас повернулись на юг. Наша задача - наступать, с тем чтобы бить во фланг войск противника, которые находятся на Северном Кавказе, подпирать их к Ростову. А у Сталинграда - оборона, все здесь обречено, тут противника надо только обложить покрепче, и он сам с голоду подохнет, у него нет ни снарядов, ни питания, ни обмундирования". - "Товарищ Хрущев, вы не понимаете, вы гражданский человек и, видимо, не чувствуете, сколько мы, военные, выстрадали. Мы были чуть ли не обречены. Вы помните, как Сталин звонил и просил нас продержаться три дня? Помните, у нас целая свадьба была этих, наехавших из Ставки, а потом их как метлой смело. Считали, что немцы захватят Сталинград, а мы были оставлены там козлами отпущения. И вот теперь такое! Вы-то не знаете, а я знаю, предвижу, что вся сталинградская слава уйдет Донскому фронту!". Я его успокаивал: "Самая главная слава - это победа нашего народа. Имеет гораздо большее значение личное моральное удовлетворение того или другого воина и командующего войсками, вот главное!"
Но я ничем не смог его убедить. Он действительно много выстрадал, много вложил сил, энергии, военного таланта, умения и напористости в нашу Победу. Я не знаю, сколько в русском языке есть слов, пользуясь которыми можно было оценить значение тех усилий, которые приложил Еременко как командующий войсками Сталинградского фронта. Хочу, чтобы меня верно поняли, что я ни в какой степени не стремлюсь принизить достоинство Рокоссовского. Это чрезвычайно талантливый военачальник и замечательный товарищ. Я мало имел с ним дела, но каждая моя встреча, каждое соприкосновение с ним всегда оставляли наилучшее впечатление о Рокоссовском. Однако в историческом плане я считаю, что главное там произошло не у него: Сталинград прогремел на весь мир, а не Донской фронт. Ну что же делать, так было суждено... В принципе функции Донского фронта были другими. Если бы противник овладел Сталинградом, то он, конечно, повернул бы свой удар на север. Значит, Ставка правильно сделала, что поставила там еще один фронт и назначила командующим достойнейшего генерала Рокоссовского. А сейчас положение изменилось. Уже не немцы определяют направление главного удара, а мы. Это мы направляем свои войска на юг, с тем чтобы вытолкнуть и разгромить немецкие войска, которые находятся на Северном Кавказе. Это, конечно, единственно правильное решение. Честь воздадут тем, кто разгромит Паулюса. Но командующему, вынесшему ранее все тяготы обороны, хотелось самому закончить данную операцию, самому пожать лавры победы. И вот фактически не стало Сталинградского фронта. Остались Южный фронт Еременко, наступающий на Северный Кавказ и западнее, и Донской фронт, добивающий Паулюса. Это не могло утешить Еременко, не могло! В таких коллизиях закончилась для нас эпопея боев под Сталинградом. Начался другой этап войны. Этап нашего освободительного наступления на запад.
ДОРОГА НА РОСТОВ
Начали мы теснить противника на юго-запад. Потом Южный фронт перешел своим правым крылом через Дон и стал продвигаться по его западному берегу. Я сейчас не могу вспомнить, конечно (да это и не нужно, и я не ставлю перед собой такой задачи), в какое время и в каком месте мы перешли Дон. Кажется, это было где-то в районе Цимлянской. Там мы отбросили войска Манштейна на правый берег реки. Это значило, что немцы уже отказались от стремления выручить Паулюса. Паулюс был обречен. Войска Манштейна требовались теперь для того, чтобы преградить путь продвижению войск Южного, Воронежского и Юго-Западного фронтов[155] (или тогда был еще только Воронежский фронт, а Юго-Западного не было?) на запад. На западе у немцев какое-то время, собственно говоря, была на этом участке пустота, войск у них там не имелось. Когда я летел по вызову в Москву, то заехал по дороге к сталинградским своим товарищам - Шумилову и Сердюку. Они рассказывали о таком эпизоде. Нам очень хотелось знать, о чем беседуют пленные немецкие генералы с Паулюсом. Для этого мы вместо солдат приставили к ним для обслуживания наших офицеров, знающих немецкий язык и переодетых солдатами. Впрочем, ничего особенного не услышали. Но однажды кто-то из генералов задал Паулюсу вопрос: "Господин фельдмаршал, как Вы считаете, когда немецкие войска смогут остановить советские войска, которые продвигаются на запад после краха наших войск в Сталинграде?". Тот подумал и ответил: "Сейчас эту дыру, которая образовалась в результате гибели наших войск, закрыть нечем. Может быть, удастся это сделать где-то возле Днепра, на очень большой оперативной глубине. Собрать новые войска в Германии и доставить их на фронт, с тем чтобы задержать русских, трудно. Потребуются время и большие усилия, чтобы собрать нужное количество войск".
Это было правильно. Наши войска продвинулись тогда довольно далеко в глубь оккупированной территории, чуть ли не до Днепропетровска. Мы освободили Харьков, Павлоград, подошли к Новомосковску. Так что Паулюс более или менее верно определил, насколько глубоким окажется прорыв после разгрома немцев и их союзников под Сталинградом. При продвижении на юг мы встретили более упорное сопротивление, чем с запада. Это вполне понятно, потому что наше продвижение на юг, на Котельниковский и Маныч по левому берегу Дона, угрожало всей группировке немецких войск на Северном Кавказе. Хотя противник и перевел отсюда силы Манштейна на другой участок, но, видимо, снимал свои войска с Северного Кавказа и бросал их против Южного фронта. Шли довольно упорные бои, мы несли большие потери.
Конечно, и сами наносили противнику еще большие потери. Какие особенности наблюдались при проведении тех боев? Прежней активности немецкой авиации, которая была в первые дни войны и даже на второй год войны, мы уже не чувствовали. Противник чаще вел авиационную разведку и, конечно, бомбил нас, но уже не с такой интенсивностью. Нам удавалось сбивать его разведчиков, и я допрашивал пленных летчиков: интересовался, каково положение у немцев с горючим. Немцы переживали тогда большие трудности с горючим, но пленные старались бодро отвечать на этот вопрос и заявляли, что не встречают никаких затруднений, получают горючее в нужном количестве и нужного качества, и авиационное, и танковое, и автомобильное. Но теперь по документам, опубликованным самими немцами, известно, что к тому времени они уже переживали чувствительные затруднения с горючим, хотя горючее у них, конечно, имелось. Вызвали меня в Москву. Я прилетел туда в феврале или, может быть, в конце января 1943 года. Сталин встретил меня хорошо. Настроение у него было уже другое. Он выпрямился, распрямил свою спину. Это был не тот человек, которого я видел в начале войны. Меня он встретил словами: "Ну, мы все-таки приняли решение освободить Еременко от командования войсками Южного фронта". Отвечаю: "Ну, что ж, раз приняли решение, значит, приняли. Ничего не поделаешь. Но я считаю, что этого не следовало бы делать". "Нет, он сам просил".
И прочел мне телеграмму, в которой Еременко обращался к Сталину с просьбой освободить его от командования войсками этого фронта и предоставить ему возможность полечиться. Сталин продолжал: "Он сам просит, и мы удовлетворили его просьбу". Я: "Мне понятна его просьба. Он сильно нуждается в отдыхе и лечении. У него, действительно, болит нога, он хромает и не так подвижен, как хотел бы, как это нужно было бы командующему. А он человек подвижный. Но здесь кроется и его обида: он не может ее перенести, так как считает, что обида нанесена ему лично, поскольку его лишили возможности торжествовать победу при разгроме вражеских войск в Сталинграде. Это наш, Сталинградский фронт выстоял, а слава перейдет к другому командующему, то есть Рокоссовскому". "Рокоссовский уже принял командование Донским фронтом, Еременко же мы освободили", - сказал Сталин с каким-то даже озлоблением. Почему он так обозлился и проявлял такую нетерпимость, я не знаю. Мне трудно было определить это, а ждать от Сталина искренности было невозможно. Сталин вновь ко мне: "Кого назначим новым командующим?". "Я не знаю, кого Вы считаете необходимым назначить командующим". - "Нет, вы должны назвать". - "Мне трудно назвать командующего. Командующий войсками фронта - это такая величина, которая относится к компетенции Ставки". "Нет, вы скажите", - опять нажимает он, и упорно нажимает.
Из всех командующих армиями, которые имелись у нас на фронте, самым подготовленным, который мог справиться с этим делом, был Малиновский. Но Малиновского я не решался назвать. На Малиновского вешали тогда всех собак: Малиновский сдал Ростов, у Малиновского член Военного совета, его друг и приятель Ларин, написал записку сомнительного политического содержания, закончив ее словами: "Да здравствует Ленин!", и застрелился. Я уже говорил, как обыгрывал эту записку Щербаков. А Щербаков - тут как тут. Он вьюном вертелся перед Сталиным, угодливо подбрасывал и "растолковывал" ему все вопросы. По существу, ярил Сталина. Это меня очень возмущало. Людей, которые будут позднее знакомиться с моими записками, я просил бы учесть этот факт. Может быть, это моя слабость. Но это обстоятельство вызвало у меня чувство негодования. Возможно, я слишком чувствительно переживал линию Щербакова, но она была несправедлива. Хотя она была направлена против Малиновского, но больше била по моему авторитету. Я ведь хорошо характеризовал Малиновского Сталину, и вдруг, оказывается, Малиновский чуть ли не враг. Ну, что же делать? Люди, окружавшие Сталина, меньше заботились о государстве, чем о себе. Да и Сталин сформулировал свою роль как роль создателя Красной Армии. А какой он создатель? Он такой же ее создатель, как я - химик. Но Сталин тогда, как говорится, и казнил, и миловал. Он все мог сделать. Порою даже окружение Сталина негодовало, фыркало и плевалось, но ничего нельзя было поделать. Так было! В конце концов Сталин вынудил меня назвать кандидата в командующие из числа руководителей Южного фронта. И я говорю: "Конечно, Малиновский. Вы его знаете, и я его знаю". - "Малиновский? Вы называете Малиновского?" "Да, я называю Малиновского". "Хорошо! Утверждаю Малиновского!". И к Молотову: "Пишите!".
Молотов сейчас же взялся за блокнот и карандаш, а Сталин продиктовал приказ о назначении командующим войсками Южного фронта Малиновского[156]. Потом зашла речь обо мне. Когда мы находились в Сталинграде. а противник наседал на нас и выжимал из Сталинграда, Сталин в те месяцы чувствовал, что Сталинград может быть нами потерян. И отношение его ко мне резко колебалось в зависимости от положения дел на нашем фронте, да и вообще на фронте в целом. Тогда же противник предпринял активные действия и на Северном Кавказе. Если рассмотреть соотношение сил врага и наших сил под Сталинградом и на Северном Кавказе, то не могло быть даже сравнения: на Северном Кавказе наше преобладание было значительным. Помню, Бодин[157] говорил тогда: "Удивительно, почему так плохо ведут себя наши войска на Северном Кавказе? Ведь соотношение сил такое-то. Разведка свидетельствует, что у противника имеются такие-то силы, а у нас такие-то. И все-таки враг продвигается вперед". Мнение Бодина я ценил очень высоко. Это был талантливый и грамотный военачальник, я уже упоминал об этом.
Но на Кавказе был Берия. Сталин абсолютно доверял Берии, и Берия тоже мог влиять на Сталина. Так что там все было объяснимо, поскольку конкретного соотношения сил на том или другом участке фронта в целом Сталин никогда, по-моему, в деталях не знал. Он жил тем, что доложит ему Генеральный штаб. Это, конечно, правильно. Но как Главком он должен был бы и сам вникать в вопросы соотношения сил, изучать их и взвешивать. Это доступно человеку, даже не имеющему военного образования. Взвесить соотношение сил - это вопрос арифметики. Он доступен каждому разумному человеку, а Сталин был очень разумный человек. Сталин мне тогда сказал: "Мы считаем необходимым освободить вас от обязанностей члена Военного совета Южного фронта и назначить членом Военного совета Воронежского фронта. Воронежский фронт продвигается по территории Украины, и вам надо быть там. Вам бы надо и заняться вопросами восстановления Украины". Я удивился, но сказал: "Это Ваше дело, товарищ Сталин. Если нужно, пойду туда, куда пошлют". Это меня поразило еще и потому, что, когда мы находились под Сталинградом и я как-то тоже приехал в Москву, Сталин сказал мне: "Вам не следует больше заниматься вопросами Украины". А занимались мы тогда партизанами. Начальником штаба партизанского движения на Украине был генерал Строкач[158]. Он рассматривал все оперативные вопросы и докладывал мне. Вместе мы принимали необходимые решения и давали указания партизанам.
Сталин тогда сказал: "Этими вопросами теперь будет заниматься Корниец, а вы русский человек, не украинец". Говорю: "Да, я русский, не украинец". В душе же я просто возмущался. Он ведь знал, что я русский, когда посылал меня раньше на Украину. Я просил его не посылать меня, учитывая, что я русский. Тогда он сказал мне: "Украиной руководил Косиор, поляк, а чем русский хуже поляка?". Я отвечал: "Косиор - поляк, но поляк только по происхождению. Он вырос, воспитывался и работал в подполье на Украине. Это был украинский поляк, украинец польской национальности". От себя добавлю, что он прекрасно знал украинскую культуру и был признанным руководителем Компартии Украины. Теперь же Сталин начал рассказывать, на мой взгляд, в оскорбительном тоне, как он вызвал Корнийца[159] и давал ему такое задание: "Вот начали освобождать Украину. Выясните потребности и составьте список того, что вам будет нужно для Украины". Корниец выдвинул свои просьбы, попросил какую-то мизерную чепуху. А Сталин издевался теперь над ним: "Человек совершенно не представляет, с какими нуждами встретится, когда приступит к руководству делом. Поэтому вы и будете членом Военного совета на этом направлении, возьмете потом на себя организацию правительства и руководство теми районами Украины, которые освобождает Красная Армия. А пока что, раз мы освободили от должности Еременко и назначаем по вашему предложению Малиновского, вам придется вернуться к Малиновскому. Там вы должны ни на шаг не отходить от него, следить за ним и проверять его действия".
Так он говорил мне, и когда застрелился Ларин. Требовал, чтобы я все время был при Малиновском. Для усиления нашего фронта и пополнения его войск к нам был прислан генерал Ротмистров, который командовал танковым корпусом. Он поддерживал тогда своими танками наступление на Котельниковский. Котельниковский был освобожден. С Василевским (Василевский тоже прилетел к нам) мы и ездили тогда к Ротмистрову, знакомились с положением дел. Наше положение было уже очень устойчивым, а настроение приподнятым, бодрым: Манштейн сломлен, мы уверенно продвигаемся вперед. Войска Южного фронта продвинулись в те дни до станицы Мартыновской. Хотел бы сейчас сказать несколько хороших слов о Ротмистрове, Главном маршале бронетанковых войск. Потом он стал начальником Военной академии бронетанковых войск[160]. Начну тоже с зимы 1943 года. Когда мы начали контрнаступление, у нас "больным зубом" являлась станица Верхне-Чирская. Или Нижне-Чирская, сейчас точно не помню. Там был Чирский мост[161], я проезжал по нему и разговаривал с нашими мостовиками, которые работали над его восстановлением. Это была поистине героическая работа, потому что противник часто "наведывался" и бросал бомбы, чтобы не только затруднить восстановление, но и дополнительно разрушить мост. В такой ситуации нашим инженерам и рабочим-красноармейцам из восстановительного мостового управления приходилось очень упорно работать. Нам требовалось взять эту станицу, чтобы обеспечить продвижение по западному берегу Дона.
Довольно длительное время предпринимались попытки выбить оттуда немцев, но они кончались провалом. Тогда мы решили сконцентрировать здесь одну из армий и еще танковый корпус. Корпус прибыл в наше распоряжение, как с иголочки и полнокровный. Мы с Василевским назначили оперативное совещание на берегу Дона, в каком-то хуторке. Туда же приехал Ротмистров со своими людьми и командующим той армией[162], которая должна была наступать на утро. Командарм доложил, что он готов к наступлению и уверен, что займет станицу. Я его не знал, и у меня закралось сомнение, правильно ли он оценивает положение. Мне показалось, что он слишком легко подходит к решению своей задачи. Потом начали считать, где находятся войска, которые должны будут участвовать в атаке. Рассчитали, что эти войска в лучшем случае сумеют прийти рано утром, к рассвету, и их надо будет посылать в бой с ходу, люди будут уставшими. Явно все это будет дорого стоить, атака может захлебнуться, дело не будет сделано. Взял слово Ротмистров: "Товарищи, предлагаю поверить мне и не организовывать наступление завтра утром.
Войска будут уставшими, измотанными, не смогут наступать. Мы лишь погубим их. Дайте мне отсрочку на день или два, и я даю слово, что своим танковым корпусом захвачу эту станицу". Далее он нарисовал яркую картину: в нужный день начнем на рассвете, еще до восхода солнца, когда лишь забрезжит свет, при котором можно было бы видеть, чтобы куда-нибудь не всадить танки. Танки расставим с трех направлений. А с рассветом танки сразу откроют огонь и двинутся на станицу. "Я, - говорил он, - убежден, что противник струсит и выскочит оттуда. Врагов там немного. Они окопались, возвели укрепления, но силы у них небольшие". Мы с Василевским согласились с Ротмистровым и решили, что не будем назавтра атаковать противника. Пусть командующий армией подводит свои войска и приводит их в порядок. А Ротмистров станковым корпусом уже здесь, проведет пока соответствующую работу с танкистами, а главное - среди командиров танковых бригад, которые будут участвовать в операции. Назначили день и час операции. Ротмистрову сказали, что мы с Василевским приедем как раз к моменту атаки станицы танковым корпусом. Так и сделали. Стояло морозное утро. Приехали мы к Ротмистрову на его командный пункт. С рассветом он дал команду, танки двинулись на станицу. По тому времени нам казалось, что было очень много огня. Конечно, если сравнить со временем, когда наши силы нарастали быстрее и росло количество вооружения, то у Нижне-Чирской было чепуховое количество огня. Но и противник был слабый.
И успех был достигнут, как и предполагал Ротмистров. Вскоре появились самолеты противника. Погода была для бомбежки исключительно благоприятная. Зато самолетов было немного. Они полетали, побросали бомбы, и все, а наши танки ворвались в станицу, и противник, бросив ее, отступил. Все мы поздравляли Ротмистрова, так как сберегли свою пехоту в результате разумного, смелого и продуманного применения танков. Я и раньше с уважением относился к умению вождения танковых войск Ротмистровым, а после этого мое уважение возросло еще больше. Позднее я встречался с ним в 1943 г., уже на Курской дуге, куда Ротмистров тоже прибыл с танковой армией. Об этом я буду говорить в другом месте моих воспоминаний. Наступление войск Южного фронта успешно продолжалось. Противник отходил, хотя и с боями, и мы шаг за шагом продвигались все ближе и ближе к р. Маныч и к станице Багаевской. Эта большая станица лежит неподалеку от Новочеркасска. Новочеркасск находится на правом берегу Дона, а станица на левом. Заняли мы и Багаевскую, заняли и Манычскую - тоже большую станицу. Оттуда мы планировали сделать танковый рывок. Думали, если повезет, прорваться на Батайск и на Ростов. Для этой операции использовался главным образом Ротмистров с его танковым корпусом и Богданов[163], который тогда командовал уже танковой армией. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы эта операция оказалась удачной. Но она не удалась. Противник упредил нас и повел наступление на Манычскую. Как раз в тяжелую минуту туда приехали мы с Малиновским, чтобы поскорее выпроводить танковый корпус Ротмистрова в атаку. А в эти часы уже шли бои в самой станице.
К нашему приезду противник контратаковал и занял половину станицы, поэтому наше наступление и не состоялось. Когда мы вышли на р. Маныч, то решили перенести штаб фронта в хутор Веселый на Маныче. Это поближе к войскам. Удобнее было держать связь и совершать выезды в войска. Там произошел случай, в какой-то степени характерный для обстановки и взаимоотношений того времени. Дисциплина требует соблюдения большой точности, но иной раз точность подменяется хорошим вымыслом, и не по злому умыслу, а в "профессиональном порядке". Наши войска заняли Сальск. Я сказал Малиновскому, что хотел бы проехать в Сальск по свежим следам. Его только что освободили, и мне хотелось поговорить с населением, узнать, как жили люди под врагом и что им сейчас нужно. Хотелось встретиться с командующим 28-й армией Герасименко[164]. Он-то и командовал армией, которая освобождала Сальск, наступая через Элисту от Астрахани. По дороге туда я проехал через станицу Пролетарскую. Мне говорили, что Буденный родом из какого-то хутора этой станицы. Городовиков тоже из хутора этой станицы[165]. Мне говорили, что из той же станицы вышел и белый генерал Корнилов[166], но это неверно. Буденный когда-то рассказал мне такую историю. Станичная учительница, ведя урок, говорила: "Дети, наша станица занимает особое положение. Вот ведь какие большие люди-калмыки, которые занимают высокое положение в государстве, вышли отсюда. Например, вот такой-то генерал, он нашей станицы. Ока Иванович Городовиков тоже из наших. Это наши земляки".
В школе висели их портреты. Я не знаю, насколько это правда. Но такое "смешение гордости" и за Оку Ивановича, и за белого генерала характерно. Герой Гражданской войны, гордость Красной Армии - и генерал, который был опорой самодержавия, участвовал в восстании против Советской власти, все тут смешалось: и один знатный, и другой знатный. Итак, насчет точности и вымысла. Приехал я в Сальск, небольшой степной городок. Там имелось железнодорожное депо, так что это был пролетарский центр сальских степей. Одновременно со мной туда приехал Герасименко со своим штабом. Он говорит: "Пойдемте в штаб. Правда, мы еще его не развернули. Сам там еще не был". Вошли мы в помещение, подготовленное для штаба. Уже вечерело. Я расспросил Герасименко про Сальск: "Как освобождали его, с тяжелыми боями?". "Да, мы вели тяжелые бои и в Сальск ворвались буквально на плечах врага". "Хорошо, вы разворачивайте свой штаб, а я не буду вас задерживать, хочу побыстрее вернуться в штаб фронта, а ехать мне еще далеко. Вон там толпа стоит на площади, пойду, поговорю еще с людьми, послушаю их, чтобы иметь представление о настроениях".
Пошел. Они обращаются ко мне: "Товарищ Хрущев, как же так? Мы три дня сидели, ждали-ждали, вот наши придут. А наших нет и нет. Немцы ушли, оставили город, а наши не пришли". Я оглянулся, стоит сзади Герасименко. Посмотрел я на него и ничего не сказал. Он мне тоже ничего не сказал. Мы друг друга сразу поняли. Ведь он мне только что говорил, что ворвался в город на плечах врага, как всегда делают боевые войска, а здесь рабочие рассказывают, что за трое суток они все глаза проглядели, ожидая, когда наши придут. Бывает и такое на войне! Где же истина? Думаю, что рабочие говорили правду, а Герасименко приукрасил свои успехи. Продвижение наших войск к Ростову и Новочеркасску продолжалось успешно. Заняли Новочеркасск[167].Мы с Малиновским решили, выехав туда, проинформироваться на месте, в войсках. Сейчас уже не помню фамилии командующего, который стоял на этом направлении, не помню и номера его армии. Но помню, что это был хороший командующий, производивший хорошее впечатление и, по-моему, справлявшийся со своим делом. Из Новочеркасска мы поехали в Шахты[168]. Это тоже был участок нашего фронта. Так мы наступали на Ростов - сразу с юга и с востока и одновременно обходя его с севера. Но до Ростова пока было еще далеко.
А приказ мы получили атаковать Ростов с юга. Это была очень тяжелая задача. Я знал это еще по Гражданской войне. Тогда наша стрелковая дивизия была при 1-й конной армии и вела бои в Задонье, в направлении станции Кущевская, откуда дорога ведет на Азов. Там равнинная пойма Дона, а Ростов расположен на возвышенности. Поэтому оборонять его легко: все подступы открыты, простреливаются пулеметным огнем и артиллерией. И теперь опять нашей пехоте надо было пройти большое расстояние под огнем противника. Это нам не улыбалось, но приказ есть приказ. Правда, мы думали, что, возможно, вырисуется другое решение, которое даст возможность занять Ростов с меньшими затратами и жертвами. Повторюсь: на войне случаются всякие курьезы. В состав нашего фронта тогда передали танковые и кавалерийские соединения. Кажется, один танковый корпус и два кавалерийских. Этими соединениями командовал генерал Кириченко[169], совершенно незнакомый мне человек. Мы с Малиновским решили поехать к Кириченко, познакомиться с ним поближе. Малиновский сказал: "Я его знаю, но хочу, чтобы и вы познакомились с ним лично. А оттуда мы вернемся в Батайск и там заночуем у Герасименко".
Сейчас не помню названия станицы, где располагался штаб Кириченко: это была южная часть Ростовской области. Наступил вечер или даже ночь. Было холодно. Мы "ворвались" в помещение штаба и застали врасплох адъютанта и вестовых командующего. Приехало большое начальство, а они не имели возможности заранее доложить командующему. Мы спросили, где он. Нам ответили, что отдыхает, и указали его комнату. Малиновский шагнул прямо туда, я за ним. Мы даже не раздевались, так как условились, что быстро уйдем. Одеты мы были в бекеши, по-зимнему. Вошли. Кириченко уже зажигал свечу, услышав шум. При нас оделся и стал докладывать обстановку, состояние своих частей и все прочее, что полагается доложить командующему войсками фронта. Свет от свечи был довольно слабый. Я даже удивился, что у него нет ничего лучшего и что он докладывает нам при свече. Потом глянул в сторону постели, с которой он только что встал, и заметил: что это одеяло дышит? Думаю: что такое? Еще раз посмотрел, и у меня исчезли сомнения, что этим одеялом накрыт еще один человек. Заслушали мы его, распрощались и ушли, сели в машину (мы ехали вдвоем в одной машине). Спрашиваю Малиновского: "Вы давно знаете генерала?". "Да, знаю его давно". "Вы не заметили или мне показалось, потому что комната была плохо освещена, что вроде еще какой-то человек дышал под одеялом?". "Конечно, заметил". Ну, мы позубоскалили на сей счет, пошутили и уехали. Как говорится, бывают такие эпизоды и у командующего группой войск. Но потом при встрече с ним мы не фиксировали внимания на этом случае. Кириченко в сражении действовал неплохо. Правда, состав войск у него был неполный, потому что он раньше вел бои с немецкой группой армий "А" на Кавказе. В то время враг уже отходил оттуда, поэтому Генеральный штаб передал войска Кириченко в наше подчинение, и мы теперь использовали их на своем направлении.
К этому времени противник отступал с Северного Кавказа на Новороссийск и Тамань. От Кириченко мы уехали к Герасименко, а потом в Азов. Азов мы уже взяли[170], и там стоял штаб 44-й армии. Командовал ею генерал Хоменко[171]. Я Хоменко знал и был о нем хорошего мнения. Он перед войной, по-моему, командовал пограничными войсками в районе Каменец-Подольского, производил хорошее впечатление и как военный, и как член партии. Он просил нас задержаться у него, потому что было уже поздно, но мы отказались и вернулись к Герасименко. К Герасименко мы вообще зачастили своими поездками, потому что там готовилась операция по захвату Ростова. Но мы все откладывали и откладывали ее: считали, что условия не подготовлены. Бывало, приедешь к Герасименко: "Ну, як, Васыль Пилиппович? Як Ростов?". Я всегда звал его по-украински, хотя он и по-русски хорошо говорил. Это был милый человек, которого я хорошо знал еще по довоенному времени, когда он служил заместителем командующего войсками Киевского Особого военного округа. "Та шо Ростов? Ростов клятый ще стоить", - отвечает.
Как-то мы с Малиновским в шутку договорились привезти Герасименко бутылку коньяку, но поставить условие, что этот коньяк он сможет выпить только тогда, когда займет Ростов. Пусть коньяк маячит перед его носом. Так цыган привязывал перед мордой лошади клок сена, чтобы она бежала бодрее. Вот мы и применили "цыганский способ", решили как бы подвязать коньяк, чтобы его запах подталкивал командующего армией ускорить взятие Ростова. Я уже говорил, что в то время противник был недостаточно активен в воздухе днем, но очень активен ночью. Его маленькие самолеты типа наших У-2 буквально утюжили все дороги, стреляли по фарам автомашин и наносили нам довольно-таки чувствительный урон и в людях, и в технике. А самое главное, мешали ночным передвижениям войск. И когда однажды мы собрались уезжать от Герасименко к себе в штаб, на хутор Веселый, он напомнил нам, чтобы мы не ехали ночью: без фар ехать нельзя, а с фарами немцы могут расстрелять машину. Но мы все время так ездили и сказали ему, что нам не в первый раз. Выехали и действительно попали в переплет. Мы с Малиновским, видимо, задремали. Вдруг - пулеметная очередь. Я открыл глаза, а перед машиной рассыпался сноп разноцветного огня, след трассирующих пуль. Потом взорвалась бомба. Бомба взорвалась впереди нас, значительно дальше машины, а вот пулеметная очередь легла почти точно, с малым упреждением. Мы с Малиновским потом не раз шутили, вспоминая об этом случае.
В том же месте шел обоз: крестьяне везли на подводах снаряды. Когда обстреляли нашу машину, мы вылезли. Смотрим, подводы тоже стоят. Один возчик, который вез снаряды, испугался обстрела и залез под повозку. Что значит - инстинкт! Надо ведь чем-то прикрыться, он и прикрылся повозкой со снарядами. Ничего себе прикрытие! Вот безотчетность инстинкта у человека. Готовились к наступлению. Правда, наступать на Ростов с юга нам не потребовалось, так как началось успешное наступление наших войск севернее Ростова, и мы продвинулись западнее этого города. Немцы были вынуждены выскочить из него без особого принуждения их с юга. Таким образом, противник ушел оттуда, а Герасименко со своими частями почти без боя вступил в Ростов и освободил его[172]. Конечно, честь и хвала 28-й армии и ее командующему за взятие Ростова. Но если рассматривать вопрос по существу, то кто же взял город? Получается, что Герасименко, потому что его войска первыми вошли в Ростов, хотя они- ничего особенного не успели сделать для того. Генерал же, который наступал на севере и вынудил немцев оставить город, остался не отмеченным, в тени[173]. Вот как бывает! Приехали мы с Малиновским в Ростов.
Нас встретил Герасименко и тут же вытащил бутылку коньяку. Мы пошутили, что коньяк, может быть, нужно пить не с вами, а с тем генералом, который командовал войсками севернее Ростова? Герасименко это тоже понимал, но он был находчив и тотчас отшутился... Для нас это была огромная победа! Мы заняли Ростов во второй раз. Первый раз, в 1941 г., мы занимали его вместе с Тимошенко, а теперь - с Малиновским. Малиновскому это было особенно приятно. Ведь это он оставлял Ростов в 1942 г., когда немцы прорвали тут фронт, разгромили наши войска и двинулись через Ростов на Сталинград и на Северный Кавказ. Правда, прорвались они не через самый Ростов, а форсировали Дон восточное города. Теперь же мы провели военный парад: наши войска прошли строем. Это произвело сильное впечатление не только на ростовчан, но и на граждан всего Советского Союза. То была реальная демонстрация нашего нового успеха: после освобождения Сталинграда от врагов они вынуждены были оставить и Ростов. Этот факт имел, на мой взгляд, важное международное значение. Хотя я к тому времени уже не был членом Военного совета Сталинградского фронта, меня очень тянуло вновь взглянуть на Сталинград, посмотреть, что же с ним теперь, как он выглядит. Поэтому я решил слетать туда.
Там как раз был назначен митинг. Взял я самолет и прилетел к Шумилову, у него же и остановился. Потом выступал на митинге, ездил, ходил, осматривал места, которые запомнились с того времени, когда мы прибыли для организации защиты Сталинграда. Передо мной расстилалась картина и радостная, и грустная, потому что буквально весь город лежал в развалинах. Одни руины. Не знаю, сохранились ли там целыми какие-то дома. Проехал я к Сталинградскому тракторному заводу, к артиллерийскому заводу, на набережную. Везде валялась разбитая техника, главным образом немецкая. Когда немцы тут наступали, они много теряли и самолетов, и танков. Немало лежало и неубранных трупов, но очень мало было видно живых людей. Горожане ходили голодные и истощенные, как тени. В одном месте я задержался, рассматривая место боев. Откуда-то появился мальчишка лет 12 - 13. Видит он, военные стоят, и вмешался в их разговор своей репликой: "А я тоже одного фрица кокнул". "Кого же? Как?". "Да так. Когда уже паника у немцев была, я поднял винтовку. Тут винтовок много валялось. Стрелять я умел: прицелился и кокнул". "Ну, выстрелил, а попал ты или нет, ты же не знаешь?". "Нет, попал. Он свалился. Я потом проверил. Я его кокнул". "А как же ты тут жил?" (А он стоял весь черный, грязный и оборванный.) "Да вот так и жил. Дохлятиной питался. Потом на кожевенном заводе много кожи осталось, всякого сырья. Я брал кожу, резал, варил, ел ее и пил бульон. Так и выжил".
Вообще городская картина была ужасной. Шумилов, Сердюк и другие генералы сообщили мне много интересного. Тогда же я услышал анекдот, который потом рассказал Сталину, только ему он не понравился. Если же рассказать этот анекдот военным людям, то они сразу догадаются, что анекдот был сочинен в войсках, которые входили в состав Сталинградского фронта. "Пошли охотники на охоту. Охотились, охотились, повезло им, и поймали они живого зайца, очень живучего. Его привязали к дереву. Сидит заяц. Охотники решили не тратить на него патронов, а стали бить его палками. Били, били и устали. А тот все жив. Отдохнули, разозлились: как же так, даже привязанного зайца не можем убить? Взяли палки и опять стали лупить его. Били, били, опять не убили. Бросили. Думают: зачем истощать себя и бить без передышки? Он же привязан и никуда не денется, время работает на нас... Прошло какое-то время. Собрались охотники с силами и опять стали бить зайца. Били-били и наконец убили его". Когда я рассказывал Сталину про то, что увидел в Сталинграде, то рассказал и этот анекдот. Он глянул на меня остро: "Значит, заяц окруженный Паулюс? Его били несколько раз, а он оказался живучим. И только когда мы стянули туда силы, артиллерию, танки, а наши войска продвинулись на запад на 250 - 300 км, то в конце концов убили зайца? Явно этот анекдот сложен про Сталинград".
Но ведь все мы люди, наделены людскими слабостями. Вот мне и импонировал этот анекдот. Я заразился переживаниями Еременко. Шумилов, командующий 64-й армией, который рассказал анекдот, был большим приятелем Еременко. Да ведь прав был Еременко: это он со своими войсками выдержал основной натиск немцев и привязал "зайца". А потом другие его только добивали. Правда, это никак не умаляет заслуг Донского фронта, который очень хорошо выполнил свою задачу. В Сталинграде я видел и такую жуткую картину. Конечно, на войне все жутко, но тем не менее... Наши люди занимались в городе сбором трупов немецких солдат. Мы боялись наступления теплой весны и жаркого лета. Если трупы где-то заваляются и начнется их разложение, может вспыхнуть эпидемия. Поэтому мы как можно скорее старались собрать трупы и сжечь их. Земля была мерзлая, зарывать было трудно, да и опасно. Слишком много было трупов, просто тысячи. Складывали трупы в штабеля слоями: клали попеременно слой трупов и два слоя железнодорожных шпал и поджигали. Горели огромные кучи. Потом мне дали фотографии: я посмотрел на них и больше к ним не возвращался. Они производили очень тягостное впечатление. Говорят, Наполеон или кто-то другой сказал, что труп врага приятно пахнет. Не знаю, для кого как, а для меня и запах был неприятен, и смотреть на эту картину тоже было неприятно! Хотел бы рассказать также и комический случай, который тоже характеризует то время и людей того времени. Это было хорошее время, героическое, трагическое и по-своему торжественное. Мы переживали трагедию при отступлении, потом и торжествовали при нашем наступлении и возмездии врагу за его наглое вторжение в пределы СССР. Летел я как-то из-под Ростова по вызову Сталина в Москву.
Самолеты тогда вынуждены были часто заправляться в пути, поэтому приземлился в Сталинграде. Остановился в 64-й армии. Какие-то там были армейские торжества. Кажется, получали ордена. Штабом армии был дан обед для командного состава в довольно большом зале. Я принял участие в торжестве и сидел за одним столиком с командующим. Столики были маленькие, на несколько персон. Рядом с нами сидели генерал, полковник и еще два человека. Завязался между ними разговор. Так как выпивали, то тон нарастал, и разговор превратился в спор между генералом и полковником. Полковник был начальником штаба соединения, которым командовал генерал. Генерала же я знал еще до Сталинграда, встречался с ним под Харьковом, где он командовал дивизией и был на хорошем счету. Дивизия его стала гвардейской. Я его фамилию сейчас не называю, хотя и помню ее. Дело в том, что я к нему относился хорошо, считал, что он находится на своем месте и справляется со своим делом.
Когда у них разгорелся спор, то полковник, видимо, имел более сильные аргументы, а генералу противопоставить было нечего, и он решил использовать свое положение. Когда полковник окончательно досадил генералу, последний генеральским тоном вдруг гаркнул по-украински: "Товарыш полковнык, нэ забувайся!". Внушительно так произнес. Тот ответил: "Есть!", - и замолчал. Я не вмешивался, конечно, в разговор, наблюдал со стороны. А эпизод остался в моей памяти. Когда я приехал в Москву, то за столом у Сталина, говоря о многих случаях, рассказал и про этот эпизод. Сталину он очень понравился. Даже спустя много лет, бывало, он улыбался и говорил в определенной ситуации: "Товарыш полковнык, нэ забувайся!". Зачем выжимать из себя аргументы, убеждать оппонента, когда есть власть и положение. Я - генерал, ты полковник. Младший должен подчиняться старшему по положению, полковник не может быть умнее генерала, не имеет на это права, должен больше служить и поменьше говорить. В своей жизни, встречая на своем пути многих людей, разных по званию и по характеру, я, к сожалению, часто сталкивался с фактами, когда за отсутствием разумной аргументации люди опирались на старшинство звания и подавляли нижестоящих.
Помню и другой ходячий анекдот, тоже рожденный жизнью. "Докладывает подчиненный старшему военачальнику и при этом довольно разумно доказывает правоту своей точки зрения на ход операции: что вот так-то надо сделать, или вот так-то лучше было бы сделать. А в ответ окрик: "Ты мне не доказывай, а слушай и выполняй. Твое дело выполнять, а думать тебе не надо. Я тебе приказываю, вот и делай так, как приказано". К сожалению, не знаю, когда и как изменится это. Военные указывают на то, что такова воинская дисциплина. Вопрос решает старший, а младший выполняет. Существует формула "Будь не разумным, а будь исполнительным!". Она нередко боком нам выходила, эта формула. Хотелось, чтобы это было учтено. Время сейчас пошло другое, другие люди, другая культура. Но думаю, что это не зависит от культуры. Накладывает особый отпечаток военная обстановка. Не знаю, дисциплина ли это или просто кастовость. Затрудняюсь определить более точно..." Войска Южного фронта, заняв Ростов, двинулись на запад и вышли на берег р. Миус севернее Таганрога. Эти места были мне знакомы по 1941 году. В том году, когда мы выбили немцев из Ростова, наши войска, их главная сила - 56-я армия, действовали здесь. Тут же дрались обескровленные остатки танкового корпуса генерала Танасчишина. 56-й армией в конце 1941 г. командовал генерал Цыганов[174], тучный такой человек.
Сам он, по-моему, был нестроевым командиром и закончил Военную академию по кафедре материального и боевого обеспечения. Очень был оригинальный и остроумный человек. Запомнился мне такой эпизод. В 1941 г. после освобождения Ростова мы хотели взять сразу же и Таганрог, и поэтому вновь и вновь бросали туда войска, но у нас ничего не вышло. Захватили как-то двух пленных. Я решил допросить их. Один оказался чехом. Когда его привели и я стал его расспрашивать, он рассказывал, как попал в плен: "Я принес вам ручной пулемет. Я решил перейти линию фронта и сдаться в плен. Пришел в расположение ваших войск и очень долго искал, чтобы найти, кому же сдаться". Нашего генерала это возмутило, и он начал в противовес что-то объяснять мне. А я ему: "Вы же там не были. Зачем этому солдату врать? Видимо, на этом участке, где он переходил линию фронта, было голо. Вот он и искал людей, а потом все-таки нашел, кому сдаться в плен". А ведь мне раньше докладывали, что его захватили в плен. Выходит, не захватили, а он сам пришел. Военные пускай это оспаривают, но на войне всякое бывает. Часто наши разведчики переходили линию фронта, и противник их не замечал. Противник тоже находил у нас слабые места и пробирался к нам в тыл. Видимо, что-то вроде этого и произошло с чехом. Второй пленный был румыном. Молодой, высокий парень, в румынской овечьей черной шапке. Я его спросил, как его зовут, а он сразу в ответ: "Мы, румыны, революцию делать не будем. А будем воевать!". Сырой еще по политическим взглядам человек. Я ему: "Ну, вы-то уже свою революцию сделали и отвоевали. Теперь ваше дело - шагать в плен. Будете в плену ожидать, когда кончится война". В том 1941 г., когда шли первые бои под Таганрогом на р. Миус, штаб армии располагался в хуторе Советском. Это небольшой хутор с довольно невзрачными крестьянскими постройками. Местных жителей сейчас уже не помню.
А в 1943 г., заняв Ростов, мы расположили штаб фронта тоже в Советском. Он был очень удобен для этого, ибо находился в центре наших войск и отсюда легко было организовать связь с воинскими частями. Поэтому и в 1941, и в 1943 г. выбор падал на хутор Советский. Ко мне недавно обратился с письмом учитель из этого хутора с просьбой рассказать о том, каким было селение в то время, когда мы его заняли. К сожалению, прошло много времени, и я теперь не могу ничего сказать. С населением тогда я мало соприкасался. Помещение, которое занимали для командующего, освобождалось от жителей, люди выселялись. Охранялось оно довольно строго. Да и ничем не выделялся, собственно говоря, этот хутор из множества других сел, станиц и хуторов, которые мы оставляли и которые потом занимали. Поэтому у меня не осталось особых впечатлений. Просто небольшой хутор, внешне выглядевший бедно. К тому же и в 1941, и в 1943 г. все было покрыто снегом. Кроме того, в 1943 г. я очень мало был в самом хуторе. Как только мы туда переехали, сразу же последовал звонок от Сталина с приказом прилететь в Москву. Я тотчас вылетел в Москву, причем меня предупредили, чтобы я вылетел с расчетом на то, что уже не буду возвращаться на Южный фронт, поскольку мне будет дано другое назначение. Прилетел я в Москву, доложил Сталину о положении дел на Южном фронте и насчет Малиновского. Тогда Малиновский был уже как бы реабилитирован. Самый факт, что меня отозвали с Южного фронта и утвердили членом Военного совета Воронежского фронта, гласил об этом.
На Южный же фронт назначили вторым членом Военного совета Кириченко, а кого первым - не помню[175]. По-моему, кого-то из военных. Мне было жаль расставаться с Малиновским. С ним приятно работать, и у меня с ним ни по какому вопросу не возникало никаких конфликтов и разногласий. Мы все вопросы решали совместно, как и надо было решать командующему и члену Военного совета. Советовались и с другими товарищами, которые входили в состав Военного совета, но главным образом основные вопросы решались двумя лицами: командующим и первым членом Военного совета. Тогда в принципе не было вопросов, которые обсуждались бы на заседаниях. Председательствующий, обсуждение, рассуждения - все это имело место в редких случаях, тогда, когда разрабатывалась какая-то операция или предпринималось что-то новое. По текущим же вопросам принимались решения на ходу и тут же отдавались приказы и распоряжения. С Малиновским было хорошо работать еще и потому, что он человек организованный. Он никогда не делал вида из ложного стыда, будто не спит, не отдыхает. Очень многие генералы во время войны делали вид, что они совершенно не спят, всегда на ногах, обдумывают то или иное, так что спать им некогда. Чистейшая, конечно, ложь и выдумка.
Человек просто физически не в состоянии толком работать, если не спит положенного минимума времени. Можно какое-то количество суток провести без сна, но работа такого человека будет непродуктивна, а в военном отношении может быть даже опасна. Всегда надо быть подготовленным: суметь разумно продумать вопрос, от которого зависит жизнь сотен и тысяч людей. Малиновский же вел себя, как простой смертный. Он действительно много работал. Это был очень работоспособный человек с хорошей головой. Мне нравились его рассуждения по военным проблемам, да и не только по военным. Но он и отдыхал. Отдыхал всегда в определенное время суток, если, конечно, позволяла обстановка. Другое дело, если обстановка складывалась тяжелой. Тогда не уснешь. Тем более, не приляжешь в заранее расписанное время. А другие просто делали вид, что никогда не спят, что у них недремлющее око, что они все видят и все слышат. Это глупость! Малиновский много рассказывал мне о своей жизни. Своего отца он не знал. Мать его, кажется, была незамужней и сына не воспитывала. Он был воспитан тетей, детство провел в Одессе.
Очень он несдержанно, даже оскорбительно отзывался о матери. Он ее не только не любил, но у него сложилось какое-то оскорбленное чувство, сохранившееся с детских лет. Он с нежностью говорил о своей тете, но озлобленно отзывался о матери. Он рассказывал также, как пареньком работал в Одессе приказчиком. Потом началась Первая мировая война. Он, сбежав, пристроился к какому-то воинскому эшелону, который шел на фронт. Солдаты взяли его с собой. Так он попал в армию. Потом оказался в составе русских войск, которые были отправлены во Францию, и воевал там пулеметчиком. Там его застала революция. Много позже Малиновский, уже будучи министром обороны СССР, сопровождал меня в поездке на встречу глав четырех великих держав в Париже: США, Советского Союза, Англии и Франции[176]. Встреча провалилась, потому что как раз перед нею американцы запустили над нашей территорией разведывательный самолет. Это - довольно известный факт истории нашей борьбы против американского империализма, организовавшего "холодную войну". Открытие конференции задерживалось, и у нас появилось тогда "окно". Малиновский предложил: "Давайте съездим в ту деревню, где стояла наша часть, неподалеку от Парижа. Я найду эту деревню и найду крестьянина, у которого мы жили. Может быть, крестьянин уже умер, он был стар, но жена его была молодой. Она, наверное, еще жива".
Мы так и сделали: сели в машину и двинулись по французским дорогам. Дороги там красивые. Нашли без труда эту деревню. Малиновский помнил ее расположение. Нашли и дом его хозяйки. Хозяйка действительно была жива. У нее уже был сын лет 40, невестка, внуки. "А старик мой, - рассказывает, - давно умер". Сын ее очень любезно нас встретил: сейчас же начал организовывать угощение, появилось вино. Выпили, и Малиновский стал вспоминать былые времена и сам расспрашивать. "А вот, - говорит, - тут имелся кабачок, и в нем, бывало, собирались крестьяне". Французы: "Вы помните?". "Да, хорошо помню". "Ну, тогда вы, наверное, помните и такую-то", - и называют по имени какую-то девушку. "Да, - говорит Малиновский, - помню". "Ха-ха-ха, ведь помнит. Это была местная красавица. Но ее уже давно нет в живых, она умерла". Подходили и другие французы. Узнавали, что министр обороны СССР - солдат той русской части, которая стояла в этом селе 50 лет назад. "Как же, как же! И мы помним. С вами еще Медведь был". "Да, - отвечает, - был с нами Медведь". Малиновский рассказывал, что когда они ехали во Францию, то где-то взяли медвежонка. Медвежонок привязался к солдатам, потом был с ними и на фронте. Поэтому крестьяне и запомнили такую примету. Малиновский рассказывал мне и о других событиях своей биографии. "Очень, - говорит, - тяготело надо мной, что я находился в составе экспедиционного корпуса".
Сейчас я не могу точно припомнить, что он мне рассказывал, но знаю из истории, что этот корпус с большими трудностями возвращался в Россию. Кажется, его послали оттуда так, чтобы его солдаты попали на территорию, которую занимали белые. Малиновский прошел длинный путь, прежде чем очутился в Красной Армии. Данный эпизод важен для понимания духа сталинского времени. Над Малиновским висело как дамоклов меч обвинение, что он был в составе экспедиционного корпуса во Франции и на территории, занятой белыми до того, как вступил в Красную Армию. Как-то я, беседуя с ним, рассказал, как мы с генералом Поповым блуждали под Калачом, вертясь около трупов немецких солдат и серой лошади. Рассказал также, что мы встретились ночью с генералом-связистом, и назвал его фамилию. Он сразу отреагировал. Говорю: "Вы его знаете?". "Как же, очень хорошо знаю, я с ним вместе служил". И потом поведал мне некоторые подробности: "Произошел такой случай. Я, когда приехал в Москву, должен был явиться в отдел кадров Наркомата обороны. Офицер, который встретил меня в отделе кадров, по своей неосторожности или плохой исполнительности дал мне мое личное дело. Я его полистал, и у меня мурашки по коже пошли: как же я еще живым хожу по земле? Столько там ложных гадостей было собрано против меня. Можно было только удивляться, почему я не арестован и не расстрелян, как многие другие.
А среди всей этой гадости лежало и донесение того генерала. Он, видимо, был секретным агентом. Он там понаписал обо мне жуткие гадости. После этого мне не только руку было противно ему подавать, но и противно слышать его фамилию. Это - гнусный человек. Он осмелился выдумать обо мне такую клевету, что я не знаю, что же удержало Сталина от моего ареста и расстрела, равно как ряда других честных людей, но более видных и более достойных по отличиям, которые они заслужили в Красной Армии. Я, видимо, вытащил счастливый билет в лотерее жизни. Только этим и объясняю факт, что остался жив". Уже после смерти Сталина, когда мы как-то встретились с Малиновским на охоте, я ему рассказал в непринужденной обстановке, как Сталин реагировал на самоубийство Ларина и как мне было поручено не отходить от Малиновского, приглядывать, когда он ложился спать, закрыл ли глаза, спит ли он настоящим сном или притворяется. Одним словом, неотступно следить за ним. Такое наблюдение было мне неприятно, потому что я знал, что он все это чувствует и понимает, почему член Военного совета, член Политбюро ЦК партии неотступно ходит по его следам и при всяком передвижении обязательно располагается рядом с ним.
А если я не требовал, чтобы обо всех его распоряжениях и приказах докладывали мне, то только потому, что он сам соблюдал определенный такт и сам сообщал мне. Он не вынуждал меня требовать этого от него и себя тоже ставил тем самым в более выгодное положение. Малиновский ответил мне: "Я это видел и искренне говорю, что был очень доволен, что вы все время рядом со мной. Я ведь честный человек, делал все, что, с моей точки зрения, нужно было делать. Поэтому был доволен, что вы будете видеть все это и правильно поймете". И я согласен с ним, ибо это означало, что будет сделан соответствующий доклад Сталину. Действительно, я так Сталину и докладывал. Сталина же, видимо, во время войны сама жизнь вынуждала сдерживать свой гнев, нацеленный на аресты и уничтожение людей. Впрочем, не знаю. Или же это мне приписать себе в заслугу мое влияние в Политбюро (а, видимо, оно было немалым) и ту характеристику, которую я дал Малиновскому еще в 1941 г., когда встретился с ним и когда мы с Тимошенко его назначили командующим 6-й армией? Он тогда воевал с врагом в направлении Днепропетровска. Одним словом, так сложилась моя совместная работа с Малиновским. Сейчас он умер, и что же я могу еще сказать о нем? Ничего, кроме того хорошего, что уже сказал. В принципе же все люди живые существа.
Смотря какой взял крен, рассматривая человека. В каждом человеке можно открыть очень много разных качеств. Это зависит от характера того, кто дает характеристику. Надо отбросить второстепенное, всякую там мишуру и посмотреть на человека, каков он в главном. Посмотреть на его действия, основную направленность ума и энергии, на приложение этой энергии. У Малиновского она была положительной, на пользу Советскому государству. Его энергия была нацелена на строительство нашей Красной Армии, а во время войны - на разгром врага. Не всегда получается так, как хотелось бы любому из нас. Нам с Малиновским пришлось хлебнуть и горячего, и немало тошнотворного в первый и второй годы войны. Но потом и нам с ним довелось наслаждаться результатами побед, успехами Красной Армии, радоваться изгнанию противника с территории, захваченной Гитлером. А что еще хорошего можно сказать о Малиновском? Я к этому потом еще вернусь. Вернусь в рассказе о том, как мы с Малиновским в 50-е - 60-е годы направляли свои усилия на перевооружение Советской Армии. Я считаю, что это был очень интересный этап нашей жизни, принесший нам большое удовлетворение. Я и сейчас еще живу воспоминаниями об этом творческом периоде - времени перевооружения Советской Армии и горжусь тем, что на мою долю выпала честь быть в то время Председателем Совета Министров СССР и Первым секретарем ЦК партии.
Итак, я отвлекся, характеризуя личность Малиновского, а остановился на том, что меня вызвали в Москву. Когда я прилетел из хутора Советского в Москву, то уже по-другому себя чувствовал в столице и ко мне иное было отношение со стороны Сталина, чем несколько раньше. Ведь мы уже были "не те люди", которые сдавали Украину врагу. Сталин в ту пору все готов был на меня свалить. На любого готов был свалить вину, только не на себя. В период отступления Красной Армии нигде и никогда никаких документов и приказов он не публиковал за своей подписью. Ставка или Генштаб - безликая была подпись, но не Сталин! Совершенно другим стало положение потом, когда мы начали наступать. На каждом документе красовалась подпись Сталина. За отступление он, как говорится, не нес ответственности, а вот успехи, разгром врага - это его заслуга. Сейчас некоторые горе-историки, когда Сталина уже нет, идут по его стопам, характеризуя тот период. Об этом я еще выскажу свое мнение. Я слышал хорошую, острую шутку. Говорят, что города оставляют солдаты, но берут их генералы. Сталин действовал по этой схеме. Отступали солдаты, и Сталина там не было, а когда стали брать назад наши города, то уже и солдат вроде бы не оказалось, а брал их Сталин, потому что тут были его приказы, ему принадлежала инициатива, и тому подобное.
ПЕРЕД КУРСКОЙ БИТВОЙ И В ЕЕ НАЧАЛЕ
Итак, прибыл я в Москву и рассказал Сталину о положении дел на Южном фронте. Тогда у нас было хорошее настроение, мы радостно переживали свой успех. Северный Кавказ тоже быстро освобождался. Но это был участок не нашего фронта, а вообще другой фронт, докладывал же я о делах нашего фронта. Сталин: "Мы утвердили вас членом Военного совета Воронежского фронта. Нашими войсками занят Харьков[177]. Вы об этом знаете?". "Знаю. Красная Армия продвинулась на довольно значительное расстояние западнее Харькова". "Вот вам и надо лететь сейчас в штаб Воронежского фронта. Вы будете выполнять функции не только члена его Военного совета, но и секретаря ЦК КП(б) Украины, как и прежде". Потом, как и в предыдущий мой приезд, Сталин начал высмеивать руководителей, которым поручил дела Украины, когда в дни Сталинграда сказал мне, что я не украинец и поэтому ее делами займется Корниец, который тогда являлся председателем Совета Народных Комиссаров УССР.
Я уже рассказывал, как тогда согласился с тем, что я не украинец: всем известно, что и по паспорту, и по месту рождения я курянин, а мое село русское, хотя буквально впритирку граничит с Украиной. Граница есть граница. Я-то не придавал значения тому, украинец ли я или русский. Я интернационалист и с уважением относился и отношусь к каждой нации. Но наиболее близки мне те, среди кого я провел свои детство и юность. Это русские и украинские рабочие и крестьяне, а также украинская интеллигенция, с которой я работал, когда являлся заворгом Киевского окружного комитета партии в 1928 - 1929 гг. и особенно будучи Первым секретарем ЦК КП(б) У. Я 13 лет проработал на Украине, и не просто с удовольствием, а с большим наслаждением, и очень доволен отношением ко мне всех ее людей - рабочих, крестьян и украинской интеллигенции. Отвечаю: "Хорошо, товарищ Сталин, я охотно поеду на Воронежский фронт. А кто командует войсками Воронежского фронта?". "Генерал Голиков"[178].
Тут я сразу вспомнил, как Сталин критиковал меня за то, что я не поддерживал Голикова, когда он был заместителем командующего войсками в Сталинграде. Тогда (я уже рассказывал) он написал какую-то гадость Сталину против Еременко, и Сталин меня критиковал за то, что я слишком поддерживаю Еременко и не поддержал Голикова. Может быть, тот и обо мне написал какую-нибудь гадость? Это возможно. Я в жизни, к сожалению, много видел гадкого. Правда, и хорошее видел, но и гадкое. Иной раз гадости делались людьми, с виду довольно приличными и приятными. Я мог бы сказать, что человек я довольно незлопамятный. А как поступили бы, к примеру, другие, имея такой факт с Голиковым? Ведь действовал недобропорядочно, какой-то гадкий донос написал на Еременко и, прямо или косвенно, на меня как члена Военного совета Сталинградского фронта.
От меня многое зависело, когда Голиков, уже в мое время, утверждался начальником Главного политуправления РККА и когда ему присваивали маршальское звание - высшее военное звание в Советских Вооруженных Силах. Говорю Сталину: "А как он командует? Каково Ваше впечатление?". Более я ничего не сказал, но Сталин понял сразу, что я обращаюсь с таким вопросом потому, что у нас имелись разные оценки поведения Голикова как представителя фронта при армии Чуйкова, когда Голиков не выполнил приказа об организации переправы боеприпасов и пополнения в Сталинград. Я считал тогда и считаю сейчас, что мы с командующим войсками Сталинградского фронта отреагировали правильно. Однако теперь возникла уже другая ситуация. Вражеские войска в Сталинграде пленены, всех обуревала радость победы. Это была радость не только нашего народа, но и всего прогрессивного человечества, которое понимало значение нашей борьбы с фашистской чумой. Сталин опять взглянул на меня: "А помните, что вы говорили мне о Голикове?". "Да, помню". "Как же вы говорили?". "Но тогда для чего Вы меня посылаете членом Военного совета к Голикову?". "Мы в скором времени примем новое решение и переставим его". Не знаю, почему он мне это сказал. В терзаниях, что ли, находился? "Мы думаем назначить туда Ватутина командующим войсками фронта. Вы знаете генерала Ватутина?". "Я генерала Ватутина знаю, и даже очень хорошо знаю. Я высокого о нем мнения". Этот генерал был как бы особым. Особенность его заключалась в том, что он почти непьющий.
Я вообще не видел, чтобы он пил вино. Кроме того, он очень трудоспособен и очень хорошо подготовлен в военном отношении. Он был одно время начальником штаба в Киевском Особом военном округе, а потом заместителем начальника Генерального штаба[179]. Хорошая аттестация его военных знаний. Я сказал: "Как к начальнику штаба, как к человеку, знающему военное дело, и как к члену партии отношусь к нему с большим уважением. Но не знаю, как он себя проявит в качестве командующего. Здесь требуются, помимо знаний, распорядительность и умение пользоваться правом командующего, умение приказать и потребовать выполнения приказа. Разработать операцию он может, тут я не сомневаюсь в нем, а вот другие его качества мне совершенно неизвестны. В этом отношении он для меня новый человек, тут я нигде с ним не соприкасался". Не помню, что сказал в ответ Сталин, но я был доволен новым назначением. Через день или два я улетел. Когда уже собрался лететь, мне доложили, что в направлении Харькова противник сгруппировал эсэсовские войска, танковые дивизии и прижимает наши войска к Харькову.
Наши войска отступили на восток уже на довольно большое расстояние, и противник опять вплотную подошел к Харькову. Вылетел вечером, перед сумерками. Мы с моим личным пилотом Николаем Ивановичем Цыбиным[180] выбрали именно такое время. Я всегда, пока жив, буду поминать добрым словом этого замечательного летчика, генерала, честнейшего человека трезвого ума и с такой, я бы сказал, девичьей деликатностью. В данном случае как раз он спланировал так, чтобы нам прилететь в Харьков под вечер, потому что в это время меньше возможностей встретиться с истребителями противника. Так мы и поступили. Когда мы приземлились, уже зажигались огни. Поехали с аэродрома в Харьков. Мне сообщили там тревожное известие: над Харьковом нависла угроза нового захвата его врагом. Я приехал в штаб фронта, встретился там с командующим войсками. Он сообщил о положении на фронте. Действительно, положение было очень неустойчивым. Противник превосходил нас и в количестве войск, и в качестве боевой техники. У него там и танковые войска, и пехота были отборными. Уже теперь, из книги "Совершенно секретно!", я узнал, что враг взял их из Италии. Лучшие эсэсовские и танковые дивизии он бросил именно сюда, против нас на Харьковском направлении. Нам пришлось сейчас же выехать в Мерефу, в 25 км от Харькова. В Мерефе я бывал еще до революции.
Когда ехал, случалось, из своей Курской губернии в Донбасс, в Юзовку, то обязательно через Мерефу. Теперь я ехал туда в ином качестве. Группой войск там руководил генерал Козлов[181]. Козлова я до того не знал. Он командовал раньше Керченской группировкой наших войск. Мы высадили в захваченном врагом Крыму десанты, но данная операция была неудачной и много наших войск там погибло. Туда, по-моему, одно время посылали командовать и Ворошилова. Потом его, кажется, отозвали и послали комиссарствовать Мехлиса. Фактически Мехлис как представитель Ставки командовал этой группировкой. Он подмял под себя Козлова, и наши войска были загублены. Помню, как тогда Мехлис метал громы и молнии против всех кавказских народов. Он говорил, что и главное пополнение, и вообще войска того фронта состояли из кавказцев, а они совершенно ненадежны. С точки зрения нашей национальной политики он занял абсолютно неправильную линию. Сам он человек неуравновешенный, но был весьма доверенным человеком у Сталина. Взяв на себя реальное командование, Мехлис фактически лишил возможности командовать Козлова. Подробно я не мог тогда по своему положению рассматривать эту операцию, это не входило в мои функции. Но я слышал военных специалистов, которые обсуждали и разбирали происшедшее на Крымском фронте.
Правда, тоже лишь вот так, на ходу. Они возлагали вину за провал на Мехлиса и в какой-то степени на Ворошилова. Но больше все же на Мехлиса и на то, что Козлов не проявил своего характера как командующий войсками. Он сразу же подпал под влияние Мехлиса, вместо того чтобы выставить свою волю командующего и использовать военные познания для должной организации войск. Он стал покорно слушать и выполнять приказы и предложения, которые вносил Мехлис. Одним словом, репутация Козлова была подмочена. Он как командир проявил там в какой-то степени и беспринципность, и бесхарактерность. В Мерефу мы поехали вместе с Голиковым. Козлов произвел на меня в общем-то неплохое впечатление. Я старался не поддаться влиянию того, что ранее слышал о нем, а хотел сам оценить его на основе фактов, которые сейчас смогу наблюдать. Он рассуждал вполне разумно. Распоряжения, которые он давал, казались мне толковыми. Одним словом, у меня не сложилось отрицательного впечатления о Козлове. Итак, мы отходили. Ну и что? Был ли там Козлов, был бы Петров, Иванов, все равно бы мы отходили, потому что противник имел превосходство. Тогда мы уже чувствовали и даже говорили, что нам придется Харьков вновь оставить, мы не сумеем удержать его.
Мне было всего этого очень жаль. Я проехал по городу. Город особенно больших разрушений не имел. Тракторный же завод был вообще цел, никаких разрушений! Мы раньше вывезли оттуда оборудование, но немцы там что-то ремонтировали: собрали какое-то оборудование и организовали ремонтные мастерские. Одним словом, целехонек завод. Как говорится, завози станки, давай сырье, рабочих - и можно начинать производство танков, автомашин или тракторов. Но я знал также, что когда теперь опять оставим Харьков, то в следующий раз (а мы были уверены, что вернемся, никакого даже сомнения не было, что противник недолго сможет удерживать город) враг сделает все, что в его силах, чтобы разбить и разрушить город, особенно его предприятия. Я был убежден, что Тракторный завод вновь он нам таким не оставит, он его доконает. Ну, ничего не поделаешь! Итак, мы вынуждены были опять оставить Харьков. Я решил тогда собрать для беседы украинскую интеллигенцию. Вечером был созван митинг интеллигенции, которая оставалась в Харькове и жила там при немцах. А уже ночью или под утро мы должны были выехать со штабом фронта из Харькова. Организовывали это дело те наши украинские интеллигенты, которые в то время находились при штабе фронта, вернее сказать - при мне как при члене Военного совета и, главным образом, секретаре Центрального Комитета КП(б)У.
Там имелись и интеллигенция, и руководящие работники Совета Народных Комиссаров Украины. Одним словом, актив. Мы собирали при себе подходящих людей, чтобы при продвижении наших войск на запад можно было сразу же расставлять кадры и организовывать государственные, республиканские, областные и районные учреждения. Многое делал тогда Николай Платонович Бажан[182] и другие писатели. Именно через них я попросил интеллигенцию собраться, сказал, что приеду к ним поговорить и послушаю их. Главным образом мне хотелось именно послушать, почувствовать их настроение. Митинг состоялся очень хороший. Я своих людей предупредил: "Будьте очень осторожны в своих заявлениях. Мы всегда говорим, что ни на шаг не отойдем и тому подобное. Это произведет плохое впечатление, потому что мы уже приняли решение об отходе, Харьков удерживать нам нечем. Мы оставляем Харьков. Поэтому речи должны быть построены так, чтобы вселять надежду. Чтобы отход не расценивался в смысле какого-то непонятного маневра: все равно мы пойдем затем вперед, враг будет разбит и изгнан с территории Советского Союза".
То есть я хотел подбодрить их. Я не мог сказать прямо, что мы отходим. Вообще об отходе не было и речи. Но я косвенно намекал и внушал им уверенность, чтобы они более стойко пережили новое нашествие врага. Я склонял их в своем выступлении, чтобы они отошли вместе с Красной Армией. Я не буквально так говорил, но хотел убедить их не доверяться немцам; внушить им, что мы не будем интеллигенцию арестовывать, что не будем упрекать людей, если они останутся на территории, занятой противником, однако желаем совместного с нами их отхода. Это обстоятельство больше всего меня беспокоило: я боялся, что мы отступим, а они останутся. Так и случилось! Но если сделаю я хоть какой-то намек на то, что осуждаю их поступок в случае если они останутся, то это прозвучит угрозой. Следовательно, тогда они убегут на запад с немцами. Этого-то я и боялся. Мне хотелось, чтобы по Харькову разнесся слух, что в любом случае не будет репрессий. Чтобы это дошло до тех лиц, которые не были на митинге (а там не было многих). Не было там, например, Гмыри[183]. А его певческий голос звучал на всю Украину. Это замечательный артист. Он оставался на Украине при немцах. Потом он объяснял, что остался потому, что у него была больна жена. Сейчас не будем разбирать это. Я уже привык к объяснениям, что или жена, или мать, или отец были при смерти и человек не смог эвакуироваться.
Так ли это было, судить очень трудно. Существовала напряженная обстановка, проверять было некогда. А после уже и смысла не возникало для проверки. Одним словом, провел я как бы беседу. Там присутствовал какой-то художник (забыл его фамилию). Считали, что он неплохой художник. Но он так развязно рассказывал, как жил при немцах и как "промышлял", что на меня произвел очень неприятное впечатление. Ну, я не подал вида. Я держал такую линию, что меня это не задевает. Он же хвастал, как торговал иконами. "Вот, - рассказывал, - брали мы рядовые иконы, химическими реактивами обрабатывали их, чтобы материал постарел, и, пользуясь безграмотностью покупателей-немцев, продавали им эти иконы как старинные, имеющие особую ценность". Выступал он как шабашник, ловкий такой торговец, довольно оборотистый. Видимо, жил он неплохо. Другие же иначе рассказывали, а этот - даже с каким-то задором: вот, мол, какой я, как сумел прожить в такой среде и как надувал немцев. Умный, дескать, дураков всегда надувает и я тоже показал свои способности. Провели мы митинг, распрощался я и уехал. В ту ли ночь или на следующий день, но вынуждены были мы отходить.. Утром выехали из города всем штабом, и в скором времени немцы опять вступили в Харьков[184]. А мне хотелось, чтобы и этот художник ушел с нами, и другие интеллигенты тоже не оставались бы больше с немцами. Я хотел верить в лучшее - в то, что они не останутся. Нет, видимо, нехорошая была душа у этого человека, ближе по складу, по своему характеру к нашим врагам, чем к душе советского человека, советского интеллигента, советского художника.
Я потом о нем спрашивал Бажана и других товарищей, где он? Они ответили: "Нет его с нами". Трудно было узнать, мог он или не мог уйти. Мог, если бы захотел. Но не пошел с нами. Когда мы потом опять Харьков освободили, я дал поручение найти этого художника, чтобы проверить себя в правильности оценки этого человека. Нет, он ушел с немцами. Его душа коммерсанта и рвача тяготела к немцам, а не к нам, и он ушел "на ту сторону". Когда же кончилась война, я спрашивал, есть ли какие-нибудь следы этого человека. Нет, его не нашли. Но я никак не могу допустить, что немцы сделали с ним что-либо. Ведь их он обслуживал. Может быть, он остался невозвращенцем. Таких много было тогда - и русских, и украинцев, и других. Украинцев было много! Особенно из жителей Западной Украины. Там было много националистов, одурманенных пропагандой врага, или просто бандеровцев. Они поверили врагу, остались на Западе и порвали со своей Родиной. Может быть, художник и в Канаду уехал. Одним словом, я сказал бы, это был тип маклака, спекулянта художественными произведениями. Итак, мы отступили. Штаб фронта отошел в Белгород. Мы рассчитывали удержаться в Белгороде, но у нас были настолько слабые силы, что нам это не удалось. Штаб расположился в каком-то небольшом домике с садиком. Каждую ночь противник бомбил Белгород, включая расположение нашего штаба.
Не исключаю, что в Белгороде, возможно, были ранее оставлены какие-то немецкие агенты или предатели, которые сообщали вражеской авиации о целях. Правда, Белгород - город небольшой. Но самолеты врага буквально висели над районом, где располагался наш штаб. Однажды, когда мы с Голиковым стояли у карты и разбирались в обстановке, бомба разорвалась во дворе. Абажур развалился, свет погас, стекло посыпалось на карту. Вышли мы, посмотрели на воронку. Видимо, упала небольшая бомба. Если бы большая, то, наверное, не устоял бы наш домик. Мы навели в нем порядок, но в ту же ночь опять подверглись налету. Произошел и такой случай. Командующему войсками понадобилось воспользоваться туалетом. Теплого туалета в доме не было, был холодный, на улице. Командующий оказался там, когда нас вновь накрыло бомбой, но все сошло благополучно, хотя Голиков пришел, весь обсыпанный каким-то мусором. Мы потом не раз подшучивали над ним. Что же, с живыми людьми все бывает, и драматическое, и смешное. Противник наседал на нас и уже подошел к Белгороду. Противопоставить врагу свои силы, с тем чтобы остановить его, мы не смогли и вынуждены были теперь оставить и Белгород[185]. Наутро мы с Голиковым избрали новый пункт для расположения штаба, не то в Старом Осколе, не то в Новом Осколе, где-то за Северским Донцом.
Мы решили выехать на рассвете, чтобы не попасть под бомбежку. Расстояние до нового штаба было довольно приличное. Не помню, ехали ли мы на автомашине. Возможно, и на санях, так как лежали глубокие снежные заносы. Мы очень переживали случившееся: и Харьков сдали, и Белгород. Конечно, теперь враг будет прилагать все усилия, чтобы вновь занять Курск, отвоеванный нами в феврале. Стали мы строить оборону: стаскивать на передний край все, что было у нас и что нам смогла подбросить Ставка. Противник, видимо, тоже к тому времени выдохся и прекратил дальнейшее наступление. Наши войска остановились севернее и восточное Белгорода, от Суджи до Волчанска. Штаб фронта мы перенесли в Обоянь. Это был южный фас образовавшейся теперь Курской дуги. К этому времени приехал Ватутин с приказом принять командование войсками фронта. Голикову было дано предписание, сдав командование, убыть в распоряжение Ставки. Мы распрощались с Голиковым, и Ватутин приступил к исполнению обязанностей командующего. Какие-то активные операции проводить мы тогда не имели возможности. Следовательно, и намерений таких у нас не было. Все усилия были направлены на то, чтобы как-то выровнять линию фронта и выбрать рубеж, наиболее выгодный для создания полевых укреплений. Мы хотели получше подготовиться к весне, потому что были уверены, что весной и противник опять станет наступать, и мы тоже будем наступать и бить противника. Дали нам танковый корпус. Я сейчас забыл фамилию его командира. Это был хороший танкист, раньше командовавший танковой бригадой, а в 1943 г. получивший корпус. Он передвигался к линии фронта, в тот район, где должен был расположиться. И тогда впервые с начала войны мы встретились с таким приемом со стороны врага: тот прямо на марше сумел этот танковый корпус почти весь уничтожить. Как же он этого добился? С воздуха, применив для бомбежки низколетящие самолеты-тихоходы типа наших У-2, только несколько помощнее. Эти самолеты были вооружены пушкой[186].
Они подлетали к танкам и расстреливали их с воздуха, пользуясь тем, что на башне у танков сверху очень слабая броня. Поэтому нетрудно было мелкокалиберной пушкой или даже крупнокалиберным пулеметом поджечь танк. Помню, как пришел к нам генерал-комкор, как говорится, с кнутиком. Так некогда говорили о цыганах, которые лишились лошадей и остались только с погонялкой. "С кнутиком" пришел в наш штаб фронта и этот генерал, страшно взволнованный, до слез. Ведь он ни за что потерял корпус. У него не было даже зенитно-пулеметного прикрытия танков от атак с воздуха. После этого случая советские конструкторы учли этот недостаток и стали выпускать танки с зенитным пулеметом. Не помню, на каждом ли танке появился зенитный пулемет, или лишь на каком-то их количестве, с тем чтобы можно было так построить боевые порядки, чтобы прикрывать с воздуха и свой танк, и соседа. А пока что немцы использовали элемент внезапности и нанесли нам существенный урон. Такие большие возлагали мы с Николаем Федоровичем Ватутиным надежды на танковый корпус. А остались у нас и командный состав, и танкисты, танки же были сожжены на марше. Наступило на Воронежском фронте затишье. Враг приводил себя в порядок, оборудовал свой передний край, укреплял его. И мы занялись тем же делом. Уже разгоралась весна. Она пришла к нам в Обоянь и под Белгород, однако снега были еще очень глубокие. 1943 г. особо отличился снежной зимой, более снежной, чем холодной. Вскоре приехал к нам представитель Ставки Василевский.
Он к нам часто наведывался. У меня к тому времени уже сгладилась боль, которую я носил в себе с зимы 1942 г., когда Василевский, поступив неправильно, не выполнил своего гражданского долга воина и не пошел с докладом к Сталину во время первой Харьковской операции. Но я доныне, когда начинаю вспоминать этот период, сильно переживаю. Это меня огорчило и даже настроило против Василевского, самого по себе, как я уже говорил, человека милого и спокойного. С ним можно было ладить. Он не раз приезжал на фронт, и с ним всегда приятно было беседовать и обсуждать вопросы, которые назревали у нас. Впрочем, повторюсь, мы не чувствовали особой необходимости в приезде представителей Ставки с точки зрения помощи в сугубо военных делах. Я считаю, что и штаб Воронежского фронта, и командующий достаточно были подготовлены к несению своих функций, правильно их понимали и верно оценивали обстановку. Зато при каждом приезде представителя Ставки возникала надежда, что удастся получить пополнение или боеприпасы, "вырвать" у тыловиков шинели, обувь.
Одним словом, подход у нас был тут меркантильный. Иногда нам это удавалось, но не всегда. Все это понимали и сами представители Ставки. Они приезжали, потому что им приказывали. Вроде того, что: "Поезжай, что-то немцы опять наступают. Вот уже и Белгород сдали". Возможно, в Москве складывалось впечатление, что приехал представитель Ставки - и приостановилось вражеское наступление, фронт стабилизировался. Дело же заключалось не в том, что кто-то приехал, а в том, что противник измотался и сам вынужден был остановиться, чтобы привести себя в порядок, или же мы получали подкрепление и сами вынуждали противника остановиться. В ту пору только на одном из участков противник продолжал действовать активно и наступал. Этот участок занимала 38-я армия[187]. Мы поехали туда. День был солнечный, снег глубокий и отражавший лучи. Такая лежала белизна, сверкавшая до боли в глазах. Нельзя было смотреть на этот снег. Свернули мы со снежной целины в поселок. Ям, что ли? Действительно, он находился в яме, в ложбине. И как раз в это время налетели один или два вражеских самолета и начали бомбить наши машины. Мы с Василевским выскочили наружу и представляли, вероятно, смешное зрелище для летчика. Он ведь все видел. Мы отбежали от машины, и ему представился выбор: или бомбить машину, или вести огонь из пулемета по живой силе.
Живая сила - это мы с Василевским, наши шоферы и сопровождающие лица. Но летчик, видимо, уже отстрелялся по шедшим впереди машинам, развернулся и улетел. Летел он довольно низко и весьма действовал на нервы. Кто находился под бомбежкой, понимает, что это значит. Приехали мы к командарму, заслушали доклад об обстановке. Противник так и не занял этот упомянутый пункт. Он пытался, наверное, просто улучшить там свои позиции. Это было наступление местного характера - по выравниванию линии переднего края, чтобы лучше приспособить ее к обороне, а потом использовать и в ходе наступления создать подходящие исходные позиции для своих войск. Так закончились зимне-весенние операции, в которых я участвовал: освободили Ростов и подошли к Таганрогу, дошли чуть ли не до Днепропетровска и освободили Харьков, а потом вынуждены были под давлением противника оставить и Харьков, и Белгород, и некоторые другие города. После этого фронт стабилизировался, а на нашем направлении образовался выступ, который приобрел название Курской дуги. Дуга была довольно большой глубины.
Левое крыло дуги, начиналось у нас, в верховьях Северского Донца. Вершина дуги лежала севернее Сум, у Рыльска, а второе ее крыло проходило между Курском и Орлом. Курск остался за нами. Севернее Понырей и восточное Орла извивался в обратную сторону еще один своеобразный зигзаг линии фронта. Нас с командующим, товарищем Ватутиным, прежде всего беспокоил, конечно, участок, за который мы отвечали: от Волчанска до р. Сейм. И мы приняли меры, чтобы здесь противник ни в коем случае не смог продвинуться. Если бы он продвинулся, к примеру, в северном направлении, то есть к Курску, то поставил бы под угрозу наши 38-ю и 40-ю армии, стоявшие под Сумами, а мы потеряли бы выгодные позиции для наступления на Ромны и Лебедин. К этому времени мы перенесли свой штаб на северную окраину Обояни, в глубину южного фаса дуги. Название выбранного нами местечка было какое-то военное - такая-то рота: память былых времен, когда через Обоянь проходила граница средневекового Русского государства. Здесь жили поселенцы, которые несли воинскую повинность по охране границы от набегов с юга. Поэтому тамошние села имели военные названия. В данном случае - такая-то рота (ее номер я сейчас не помню). Надвигалась весна. А с приближением весны, как мы знали, приближаются и напряженные бои. Мы считали, что противник, пока он не "просохнет" и не накопит достаточных сил, особых действий предпринять против нас не сможет. Но и мы тоже были абсолютно не способны к активным действиям. У нас просто не было сил.
Не помню точно, когда и какие новые воинские объединения прибыли к нам. Получили мы 6-ю Гвардейскую армию. Это - бывшая 21-я армия, которая участвовала в Сталинградской битве со стороны Донского фронта, потом пополнилась, заново обучилась и получила новое название. Она пришла к нам, когда снег уже сошел. Командовал ею генерал Чистяков. Ранее я его лично не знал. Но, когда он прибыл и мы познакомились с ним, он произвел хорошее впечатление. Мы считали, что это - сила! Главное, кадры этой армии в основном уже прошли сталинградские бои, приобрели закалку, опыт и упорство в обороне. Нам, имея в виду наступающее лето, как раз требовалось, чтобы армия была крепкой в обороне. Ее мы расположили севернее Белгорода[188], она оседлала шоссе Белгород - Курск - Москва. Прибыла к нам и 7-я Гвардейская армия, тоже сталинградская. Под Сталинградом она называлась 64-й. Командовал ею Шумилов[189], а членом Военного совета был Сердюк. Она прибыла к нам с тем же командованием. Эта армия была расположена к востоку от Белгорода, за Донцом. Она должна была дать отпор противнику при попытках его продвижения на Новый Оскол и одновременно сама могла ударить южнее Белгорода. Во втором эшелоне, между 6-й и 7-й Гвардейскими армиями, стояла 69-я армия под командованием генерала Крюченкина. Я Крюченкина знал: это был воин еще гражданской войны[190].
Лицо у него было все иссечено шрамами, которые он получил во время боев с белыми. Сам он был ранее кавалеристом. Штаб его армии располагался в Старом Осколе. На правом фланге 6-й Гвардейской разместилась 40-я армия. Командовал ею хорошо известный мне генерал Москаленко[191]. Значительно позже пришла к нам 47-я армия. Она вошла сначала во фронтовой резерв[192]. А возле армии Москаленко расположилась 27-я армия. Ею командовал генерал Трофименко[193]. Они повернулись лицом на юг, находясь на одной стороне линии, образующей дугу. А прямо лицом на запад стояла 38-я армия, которой командовал Чибисов. Она была расположена на правом крыле фронта, и ее правый фланг соприкасался с левым крылом Центрального фронта. Сзади Шумилова, за его левым флангом, стояли в резерве войска под командованием Ивана Степановича Конева. Это был Степной фронт. Потом он приобрел название 2-го Украинского. Войсками Юго-Западного фронта, примыкавшими с юга к войскам Воронежского фронта, командовал Малиновский. Он нацелен был в то время на Харьков и Днепропетровск. Вот как располагались войска в районе, имевшем прямое и косвенное отношение к моим тогдашним функциям. Что касается штаба армии Шумилова, то он расположился восточное Белгорода, в лесу. Мы много раз приезжали к нему и проверяли, как его армия готовилась к наступлению, заслушивали доклады командарма, командиров корпусов, дивизий и бригад. Перед всеми войсками фронта была поставлена задача учиться хорошо воевать, отрабатывать тактику, обучить солдат отличному владению оружием. Партийная организация и политотделы были нацелены на то, чтобы политически и морально сцементировать войска, чтобы каждый воин понимал свою миссию и сделал все, что от него зависит, чтобы не отступить ни на шаг и готовиться к наступлению. Впрочем, особой агитации, чтобы убедить солдат стойко обороняться и мужественно наступать, не требовалось. Все рвались в бой. Не помню, чтобы возникали какие-либо эксцессы.
О дезертирстве я и не слышал. Конечно, всегда в массе людей бывают какие-то отклонения от средней нормы в поведении того или другого человека. Но в общем войска были в очень хорошем состоянии. Готовы были и драться, и умереть, если понадобится, но гнать врага из своей страны. Гнать его прочь! Особенно отличались гвардейские армии. Уже тогда у них появился лозунг: "На Берлин! От Сталинграда на Берлин!". Потом много было шуток на эту тему. Бывало, генерал как бы шутя, но полусерьезно говорит: "Ну, берем Берлин! Хочу быть комендантом Берлина". Такое желание возникало у каждого. Человек, который выстрадал войну, видел, сколько бед она нам принесла, хотел показать и противнику, что война приносит бедствия, что расплачиваться за эту войну придется тем, кто ее начал. 6-й Гвардейской приказали зарыться в землю, вырыть противотанковые рвы и возвести три полосы обороны. Мы создавали оборону на большую глубину на случай, если противник, начав наступать, овладеет нашими армейскими позициями. Поэтому за ними были приготовлены еще три фронтовых рубежа обороны, хорошо оборудованных, насколько это тогда было возможно. Укрепления были земляными, главным образом дзоты из бревен и земли. Сооружалось все это безотказным "механизмом" - солдатской лопатой. Сзади нас строился оборонительный рубеж Степного фронта, подпиравшего наш тыл, а за ним, по Дону от Лебедяни к Павловску, тянулся еще один. Государственный рубеж обороны. Ничего подобного у нас ранее не встречалось. Работу солдаты проделали очень большую. Наших солдат особенно уговаривать не приходилось.
Они сами все понимали. Старые уже были "волки", прошедшие два года войны. Каждый знал, что чем лучше будет построена противотанковая оборона, чем лучше оборудована траншея, чем лучше расположены артиллерия и пулеметы, тем меньше прольется советской крови и тем труднее будет противнику сбить и потеснить нас. Генерал Чистяков и его начальник штаба Пеньковский[194] отлично знали свое дело и тоже провели большую и полезную работу. Пеньковский еще жив и здоров. Желаю ему жить и бодрствовать 100 лет. Хороший человек и понимающий свое дело генерал. Он прилежно относился к сложным обязанностям и был хорошим дополнением командующего армией. Другие армии тоже возводили оборону, но не на такую глубину, как 6-я Гвардейская. Мы тогда частенько ездили в нее, заслушивали доклады командиров и проверяли, как используется каждый день для наращивания обороны. Однажды мы приехали к генералу Москаленко. Он находился в небольшой крестьянской комнате с довольно скудным освещением. Его подчиненные, которым нужно было присутствовать, расселись на лавках, вроде как на царском совете в Грановитой палате московского Кремля. Там тоже стояли лавки в былые времена, когда заседали бояре. Воцарилась тишина. Начал докладывать Москаленко. И вдруг раздался звонкий храп. Ватутин сразу встрепенулся, насторожился и обвел глазами сидевших.
Стоял полумрак, и не было ясно видно, кто где сидит. Ватутин по звуку определял направление, откуда идет храп. Когда он повторился несколько раз, командующий увидел, что храп исходит от начальника штаба армии Батюни. Хороший генерал и хороший товарищ, но просто человек был сверхутомлен. В комнате было тепло, вот его и разморило. Ватутин тут как крикнет: "Батюня!". Тот вскочил, озирается. Доклад был продолжен, но Батюня снова задремал. Такие эпизоды врывались в повседневные будни и вносили юмор и своеобразное оживление. В апреле, а может быть, и в мае, мы со штабом фронта выехали из Казачьего (населенный пункт севернее Обояни) и расположились юго-восточнее Обояни, в каком-то очень большом селе[195]. Укрепление обороны еще продолжалось, но штаб уже начал заниматься разработкой наступательной операции. Было определено, что если будем контрнаступать, так 6-й Гвардейской армией на Белгород с доворотом на Харьков, то есть с севера на юг. Начальником штаба фронта у нас был Иванов[196]. Очень порядочный человек, добросовестно относившийся к своим обязанностям. Но так как и сам командующий войсками фронта Ватутин был раньше больше штабистом, чем командиром, то Иванову не так-то легко было проявить свои таланты начальника штаба. Ватутин не только давал общие установки, как составлять план операции, но и сам часто садился за стол, брал линейку, карандаш, карты и начинал чертить стрелы и подсчитывать. Одним словом, брал на себя работу начальника штаба, а порою даже начальника оперативного отдела. Я полагал, что тут есть и положительная, и отрицательная стороны дела. Конечно, он перегружал себя и брал на себя работу, которую должны были делать начальник штаба и другие штабные офицеры. Итак, начала готовиться наступательная операция.
Разрабатывались варианты. Лучшим вариантом признали контрудар на Белгород. Хотел бы отвлечься. Я упомянул Иванова. Он работал в 1959 - 1962 гг. в Генеральном штабе заместителем начальника. И мы освободили его от этой должности. А я был тогда Председателем Совета Министров СССР и являлся Главнокомандующим Вооруженными Силами. Мне было его жалко, но сложилась такая ситуация, когда государственный долг требовал пойти на такую жертву, при всем моем большом личном уважении к генералу Иванову. Сейчас уже не помню, в чем конкретно заключалось дело. Он допустил серьезное упущение с документами. Это случилось как раз в то время, когда у нас был разоблачен шпион Пеньковский (не вышеупомянутый, а другой, полковник[197].Так что прошу не смешивать честного воина, преданного Родине человека с предателем Родины). Что-то в Генштабе случилось с документами, и пришлось отстранить от работы Иванова. Мне это было особенно тяжело, потому что я его уважал за прошлое и ценил его работоспособность и трудолюбие. У меня его честность не вызывала и сейчас не вызывает сомнений. Но военное дело требует не одной честности, а и аккуратности, особенно при секретной работе в штабах. Можно быть честным, но если не соблюдать должного порядка, то можно нанести вред, даже того не желая. Враг использует и неряшливость, и любое другое наше упущение. Поэтому мы тогда наказали генерала Иванова, перевели его начальником штаба в Сибирский военный округ. Я вспомнил и другой неприятный эпизод. Он относится к раннему периоду обороны на Курской дуге. Приехали мы с Ватутиным к командарму Чибисову. Мне не понравились ни доклад Чибисова, ни выступление члена его Военного совета. Вопрос они подняли такой, что вот, дескать, им дали в пополнение местных украинцев, которые находились ранее на занятой немцами территории. Люди прибыли, но необученные и даже хуже того: бросили против них нехорошее обвинение политического характера. "Какой же это порядок в армии, - говорил член Военного совета. - Состоялся бой. А после боя пришли на поле матери, жены и сестры погибших, ходили там и собирали трупы убитых". Я возмутился: "Товарищи, это же от вас зависит. Что же вы обвиняете людей, которых сами и мобилизовали? Сразу же, не обучив их, бросили в бой несколоченные части. Они же умирали, и честно умирали. А то, что пришли их жены, сестры и матери и находили трупы своих родственников, это естественно. Это ваша обязанность - не допускать такого, чтобы морально не разлагать войска".
Особенно упорствовал и стоял на своем член Военного совета. Когда мы с Ватутиным уехали, то, посоветовавшись, решили, что у этого члена Военного совета слишком плохое настроение, и внесли предложение освободить его от должности и назначить нового члена Военного совета, который занимался бы делами, ему положенными, правильно понимал и организовывал свою работу. Такие настроения, к сожалению, возникали не только в армии Чибисова. Тогда вообще в войсках, пришедших на Курскую дугу, все занимались мобилизацией людей призывных возрастов из числа местного населения, и какое-то время сквозило такое настроение, что местные, оказавшиеся под фашистской оккупацией, - второсортные люди. С этим взглядом приходилось бороться. Такие настроения были по существу и неправильны, и вредны. Нам предстояло наступать, освобождать всю Украину. Безусловно, нам придется и далее пополняться за счет мобилизованных, которые оставались на оккупированной территории. Эти люди потом тоже сыграли важную роль в разгроме врага. Главным источником пополнения наших войск при наступлении стали "местные ресурсы". Такой метод господствовал. Наступательная операция была разработана. Подсчитано, какие силы и какая военная техника потребуются, какие необходимы материальные ресурсы для прорыва через Белгород на Харьков. Мы с Ватутиным попросились после этого на доклад к Сталину. Сталин сказал: "Прилетайте". Еще до доклада Сталину наши разработки изучались и корректировались Генеральным штабом, а после доклада обычно все приводилось в окончательный вид.
Доложили мы Сталину. Он уже чувствовал себя по-другому, источал теперь уверенность. Я бы сказал, что в это время ему было приятно докладывать, не то что годом раньше. Да и сам он уже выражал более правильное понимание обстановки и более правильное отношение к поставленным фронтами вопросам. Нам дали срок - 20 июля - и приказали готовиться к началу наступления. Направление, которое нами было выбрано, одобрили. Далее основным вопросом стал "торг": какое пополнение мы сможем получить для проведения этой операции? Да и всегда так было. Запросы, которые предъявляли командующие, полностью никогда не удовлетворялись. Нам дали много, но все же нас не удовлетворили. Однако нам сказали: вот ваша сила, ею и распоряжайтесь, а за вашей спиной будут стоять еще резервы Верховного Главнокомандования. К операции на Курской дуге, я считаю, готовились хорошо и штаб фронта, и Генеральный штаб. Мы уехали, очень довольные беседой со Сталиным и результатами доклада. Сейчас уже не помню, почему наше наступление было назначено именно на 20 июля. Это, видимо, определялось тем, что мы могли получить все, что нам нужно было, только к названному сроку. Сталин сказал нам, что дней на шесть раньше нас проведет наступательную операцию Центральный фронт Рокоссовского, а потом и мы начнем свою операцию.
Я это помню потому, что корпус тяжелой артиллерии резерва Верховного Главнокомандования направлялся сначала к Рокоссовскому, чтобы обеспечить там прорыв фашистского фронта, а когда он сделает там свое дело, то поступит в наше распоряжение и будет содействовать нашему наступлению. Впрочем, это могла быть артиллерия и не Центрального, а действовавшего севернее Брянского фронта. Хорошо помню также генерала Королькова, командира упомянутого корпуса. Очень он мне нравился. Я потом с ним встречался и под освобожденным Киевом. Там он тоже командовал тем же артиллерийским корпусом. А пока мы упорно готовили войска к обороне и строили укрепления, согласовали также действия войск на стыке между фронтами. Например, мы провели совещание с южным соседом. Оно состоялось в дубовом лесу. Мы приехали туда, и Малиновский тоже приехал со своими генералами. Листьев на деревьях не было: дубовый шелкопряд объел все листья.
Поэтому с воздуха все просматривалось: никакого прикрытия. Командующий армией, в зоне которой мы проводили совещание, говорил: "Окончится совещание, и я сейчас же уйду отсюда. Ожидаю, что вот-вот могут налететь немцы и разгромить мой штаб". На совещании мы обменивались мнениями и совместно прорабатывали действия на стыке фронтов, с тем чтобы противник не смог вклиниться в наше расположение. Из Ставки перед нашим наступлением приезжали к нам Жуков и Василевский. Мы ездили с ними по армиям. Подвоз снарядов и прибытие воинских соединений в наше распоряжение шли по плану, который был утвержден для проведения операции и выполнялся более или менее своевременно. Возили мы представителей Ставки из расположения своего штаба юго-восточнее Обояни. Там штаб находился на одном месте месяц или чуть больше. Тут недостаточно строго соблюдалась дисциплина: в расположении штаба появлялись разные машины, когда им вовсе не следовало появляться, и противник, ведя воздушную разведку, заметил, что здесь расположен штаб. Мы чувствовали, что немцы усилили воздушную разведку. Немецкие самолеты начали зависать над расположением штаба. Поскольку у нас был подготовлен резервный пункт в районе небольшой станции севернее Прохоровки[198], мы решили перевести штаб туда. Предупредили всех штабников, что утром на рассвете надо перебраться на новое место. Некоторые "хозяйства" мы перевели раньше, с тем чтобы при переезде не возникло большого обоза, который мог бы привлечь внимание авиации противника. Мы с Ватутиным тоже переехали в какой-то совхоз, километрах в двух-трех от станции. Постройки там были временные, дощатые. Клопов в них оказалось - страх!
Это довольно выносливое зверье жило в пустых бараках, голодало, а теперь набросилось на нас, и мы их откармливали своей кровью. Около этого совхоза виднелся лесок - небольшой овраг, заросший дубняком. Когда исполняют песню композитора Соловьева-Седого "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат", я всегда вспоминаю этот овраг: сколько же там было соловьев! Какое-то соловьиное царство. На случай авианалета мы подготовили себе землянки в этом лесу и там же расположили жизненно необходимые звенья штаба, чтобы не потерять управления войсками, не нарушить связь. Землянки Ватутина, моя и некоторых других лиц были в, этом лесу. Только мы расположились, а у нас даже какое-то хозяйство еще оставалось в старом пункте, как нам сообщили, что на рассвете налетела авиация противника и разбомбила старое место штаба. Потерь у нас, однако, не было, бомбежка оказалась безрезультатной. Разрушил враг село, но не полностью. А через день-два сбили немецкий разведывательный самолет и захватили в плен летчиков. Мыс Ватутиным их допрашивали. Я спросил летчика: "Вы участвовали в бомбежке такого-то населенного пункта?" (а мы сбили его самолет как раз над населенным пунктом, где раньше располагался наш штаб). "Да, участвовал". "Какая задача была поставлена перед вами?". "Нам сказали, что в этом населенном пункте расположен крупный русский штаб". Вот как получилось. Потом мы часто вспоминали, как "предчувствие" спасло нас.
У военных вообще принято: как только штаб расположится в каком-либо пункте, сразу же готовить запасной командный пункт. На этот раз мы его выбрали несколько севернее штаба. Тоже облюбовали себе лесок и послали туда саперов. К началу немецкого наступления 5 июля 1943 г. этот командный пункт был готов. По собственному плану мы имели в виду выехать туда перед проведением операции, которую наметили на 20 июля: хотели лишь перед самым наступлением перебраться туда, чтобы противник не обнаружил нового расположения штаба. Оттуда мы могли бы уверенно, имея обеспеченную связь, управлять войсками. Не помню, по нашей инициативе в этот раз или же это была инициатива Ставки, вновь приехали мы в Москву, встретились со Сталиным. Для одной из наших армий я попросил дать членом Военного совета генерала Попеля. С ним я познакомился в первые дни войны, когда он был комиссаром в корпусе, которым командовал генерал Рябышев[199]. Попель очень понравился мне своими спокойствием, распорядительностью и мужеством. В 1941 г. штаб мехкорпуса оказался разорванным на две части. Одна часть оказалась с Рябышевым, другая - с Попелем. Они переговаривались по рации: Рябышев задавал вопросы, сомневаясь, отвечает ли именно Попель, а не подставное лицо от врага. Он спрашивал, как зовут его дочерей и что случилось с его кобелем. Занятный такой был разговор. Рассказ об этом долго гулял среди командного состава и много раз повторялся при встречах со Сталиным. Мы шутили, но способ опознавания по существу был правильным. Теперь же я попросил Попеля опять к нам. Сталин согласился. Когда мы были в Москве, нам сказали также, что мы получаем в свое распоряжение 1-ю танковую армию, которой командует генерал Катуков[200].
Мы были очень рады этому. С Катуковым я лично ранее не встречался, но знал его по его делам. Он считался хорошим танкистом, упорным воином, знающим технику и распорядительным командиром. Когда Катуков докладывал Сталину о состоянии своей армии, он обратился с просьбой: "Товарищ Сталин, прошу, дайте мне членом Военного совета Попеля". Сталин сразу глянул на меня. Катуков: "Я его знаю, и он меня знает. Мы верим друг другу, друг друга понимаем. Прошу Вас, дайте мне его". Сталин: "Что ж, мы к вам его пошлем". И мне: "А вы ищите другого". И мы нашли другого: Крайнюкова[201], хорошего члена Военного совета, уже находившегося в другой армии нашего фронта. Прибыла 1-я танковая армия. В ее состав входили около 1 тыс. танков и еще мотопехота. Правда, мотопехоты было немного. Ее мы направили в расположение 6-й Гвардейской армии, чтобы создать глубину обороны не только отрытием противотанковых рвов и сооружением другого полевого оборудования.
Решили расположить танковую армию на определенной глубине и закопали танки Катукова в землю на случай, если противник прорвется и нам придется перейти к глухой обороне. То есть решили использовать танки как казематную и одновременно подвижную артиллерию. Вырыли для танков капониры без верхних сводов. Это хорошо оправдало себя. Катуков толково использовал свои силы и сыграл очень большую роль при разгроме фашистского наступления на Курской дуге. Мы получили также танковое подкрепление в виде отдельных корпусов. Припоминаю сейчас, что когда мы подсчитывали свои силы к моменту наступления противника, то у нас было около двух с половиной тысяч танков. Огромная мощь! Разведка нам докладывала, что у противника примерно такое же количество танков. Стало быть, тут на узком участке фронта с той и с другой стороны насчитывалось четыре с лишним тысячи танков. Не говорю уже об артиллерии, которой тоже было немало с нашей стороны. А у немцев артиллерии было еще больше. Сейчас не помню все цифры, которые докладывала наша разведка.
А мы ждали. Оставалось дней 15 до начала операции. Мы были уверены, что наше наступление будет успешным, что мы разобьем здесь врага и двинемся на запад, освободим Харьков и выйдем на Днепр. Желание это было выстраданным годами войны. Вдруг - звонок из 6-й Гвардейской армии; командующий докладывает, что с переднего края перебежал немецкий солдат из какой-то эсэсовской дивизии. Разные эсэсовские дивизии там были. Я еще говорил Ватутину, что, на каком бы участке фронта я ни был, обязательно меня преследует дивизия "Мертвая голова", всегда действует против меня. Командарм же сообщил, что солдат уверяет, будто завтра, 5 июля в 3 утра немцы перейдут в наступление. Мы приказали сейчас же доставить солдата к нам. Допросили его. Он все нам повторил. Мы его спросили: "Почему вы так думаете?". Отвечает: "Я, конечно, приказа о наступлении не видел, но есть солдатское чутье, солдатский вестник. Во-первых, все мы получили трехсуточный сухой паек. Во-вторых, танки подведены вплотную к переднему краю. В-третьих, был приказ выложить боекомплекты артснарядов прямо у орудий. Все приготовили, чтобы не было никакой задержки". "Но отчего вы говорите, что в три часа утра? Откуда такая точность?". "Это вы уже и сами могли бы заметить. Если мы наступаем, то в это время года всегда в три утра, то есть с началом рассвета. Я уверен, что будет так, как я вам сообщаю". Этот перебежчик был молодой парень, красивый, элегантный, холеный, явно не из рабочих. Спрашиваю его: "Как же вы перешли линию фронта и нам сообщаете о наступлении, а сами являетесь эсэсовцем? Как это понять? Вы же нацист". "Нет, - говорит, - я не нацист, я против нацистов, поэтому и перешел к вам". Я ему: "Ведь в эсэсовские части берут людей только из нацистов?". "Нет, это раньше, в первый и второй годы войны, так было, а сейчас берут всех подходящих. Меня взяли по приличному росту и внешнему виду арийца.
Так я и попал в эсэсовские войска. Но я против нацизма. Я немец, но родители мои из Эльзаса. Мы воспитаны на французской культуре, и мы не такие, как нацисты. Родители мои против нацизма, и я такой же. Я теперь принял твердое решение для себя и убежал, чтобы не участвовать в этом наступлении, не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера. Поэтому и перебежал. Я говорю все откровенно, потому что желаю поражения Гитлеру. Это будет в интересах немецкого народа". Мы позвонили в Москву и предупредили об услышанном. Потом мне позвонил Сталин. Не знаю, говорил ли он раньше с Ватутиным. Мы располагались в те часы в разных местах. Иногда Сталин звонил раньше мне, а в другой раз раньше командующему. Никакого "порядка" тут не было, да и быть не могло. Хотел бы, чтобы меня правильно поняли: вот, дескать, звонил ему Сталин. Мол, Хрущев выпячивает себя. Нет, не выпячиваю. Ведь я был членом Военного совета фронта и членом Политбюро ЦК партии.
Сталин меня хорошо знал и считался со мной, даже несмотря на свое бешенство в моменты тяжелейшего положения для страны, когда он незаслуженно переносил свое настроение на меня и других, когда искал "козла отпущения". А тут вот как раз Первый секретарь ЦК КП(б)У, член Политбюро, член Военного совета фронта. Имелось на кого валить все беды. Не возьмет же на себя Верховный главнокомандующий провалы, которые мы терпели до Сталинграда. А сейчас уже стиралась горечь наших поражений. В принципе Сталин относился ко мне с доверием. Он часто звонил мне и спрашивал о моем мнении. Так было и в Сталинграде, и на юге, и на Курской дуге. На Курской дуге состоялась решающая, переломная битва, которая определила крен стрелки истории войны в пользу Красной Армии, и далее эта стрелка уже не меняла направления, твердо показывала путь полного разгрома гитлеровской Германии, курс на торжество нашего народа. Красной Армии, советской идеологии, нашей Коммунистической партии!..
Я допустил здесь такое отступление от темы с тем, чтобы верно поняли мои слова и не говорили, что вот, мол, он якает. Нет, уважаемые друзья, не якаю, а просто рассказываю так, как было. Когда Сталин позвонил, я сообщил ему еще раз о том, что поведал нам немецкий солдат. Он выслушал меня спокойно, и это мне понравилось; не проявил ни грубости, ни резкости. Обычно он был резок, угловат, даже при хорошем настроении. Черт его знает, почему. Будто его постоянно кто-то за нитку дергает, связанную с главным нервом, и выводит из равновесия. Хотя иной раз он умел сдержать себя и маскировал свое настроение. И то, и другое у него было развито в сильной степени. Все это проявлялось постоянно: одно начало, которое противоречило другому. Но он владел собой, когда хотел. Одним словом, это была сильная личность, сильный человек.
Сталин спросил меня: "А как вы там сами чувствуете ситуацию? Какова ваша уверенность в успехе?". Отвечаю: "Мы с командующим обменялись мнениями и солидарны, чувствуем себя хорошо, уверенно. Мы даже довольны, что немцы завтра перейдут в наступление". "Почему?". "Потому что они станут лезть на наши укрепления, а наши укрепления солидные, и у нас существует уверенность в том, что мы на этих укреплениях заставим врага положить свои силы и истечь кровью. У нас пока недостаточно сил для наступления, мы не получили еще то, что нам было положено иметь по плану к 20 июля. Поэтому сами наступать мы еще не готовы, но оборону держать готовы: обороняться можно и при меньшей силе. Это мы уже на практике усвоили, а не только в теории. Поэтому мы так уверены. Хорошо, что враг будет наступать, а мы его побьем". "Мы тоже имеем сведения, что завтра против вас начнется наступление". На этом разговор закончился. Напоминаю (я уже говорил об этом), что по плану первыми должны были наступать войска Рокоссовского, а уступом, спустя какое-то время, мы.
Артиллерийский корпус резерва Верховного Главнокомандования уже занял севернее нас свои позиции. А противник-то начал наступать сразу против нас и Рокоссовского одновременно. Таким образом, Рокоссовский оказался в более выгодном положении. Так как он по плану должен был наступать первым, то первым получал и пополнение, и боеприпасы, и все остальное. Для чего я ссылаюсь на это? Чтобы читатель понимал, почему это обернулось на какое-то время против нас с Ватутиным. Противник, когда стал наступать, прорвался на нашем направлении глубже, чем у Рокоссовского, который был лучше подготовлен. А у нас еще оставалось 15 дней до нашего наступления; согласно плану, мы имели в резерве время. И вдруг оно сократилось, враг упредил нас. Это очень большой срок, с точки зрения подброски пополнения и прочего на передний край. Кто же командовал войсками на нашем фронте? Командующим артиллерией был генерал Варенцов, начальником штаба фронта - Иванов, начальником ВВС генерал Красовский. Вот вчера лишь, при вручении Почетного Красного Знамени Военно-воздушной академии имени Гагарина, я имел возможность увидеть по телевизору, как пополнел маршал авиации Красовский. Ему уже за 70, а он еще руководит академией...
Кто же был у нас командующим бронетанковыми войсками? В 1942 г. был один армянин, хороший генерал. Потом его ни за что арестовали и, по-моему, расстреляли. Я очень высоко ценил его деятельность и с уважением относился к ему. Его фамилия Тамручи. Как-то я его спросил: "Судя по фамилии, вы итальянец или грек?". Он засмеялся: "Армянин, товарищ член Военного совета". Вообще на нашем фронте воевала тогда большая группа армян. Хорошие были генералы. Потом у нас стал начальником бронетанковых войск Штевнев[202]. Он погиб, и в какой-то степени по собственной вине. Ему надо было бы отъехать на несколько километров поглубже в тыл от дороги, по которой он ехал. Дорога, которую он избрал для переезда из одной части в другую, простреливалась артиллерией противника. А он, махнув рукою, сказал: "Проскочу!". И не проскочил. Его расстреляла буквально в упор артиллерия противника. Штевнев тоже был хороший генерал. Вообще начальники бронетанковых и других родов войск у нас, с которыми я встречался, соответствовали своим назначениям, понимали дело и правильно руководили боевой техникой. И мне обидно, что я сейчас не припоминаю фамилии следующего командующего бронетанковыми войсками Воронежского фронта. А ведь я всегда питал большую слабость к этому роду войск. Но вот случается порою так, что выскочит фамилия из головы...
Мы с Ватутиным, обдумывая план действий по отражению немецкого наступления, обсудили и предложение командующего 6-й Гвардейской армией Чистякова. Тот предложил: "Давайте в 21.00 сделаем артиллерийский налет на позиции противника, с тем чтобы незадолго перед его наступлением нанести ему урон". Я высказался так: "Лучше не будем наносить артналет в 21.00. Сколько можем мы вести артиллерийский огонь с учетом наличия нашего боезапаса? Несколько минут. Мы ведь не в состоянии долго стрелять, выбрасывать снаряды. Они нам потребуются назавтра, когда противник начнет наступать. А тут мы станем стрелять лишь по площадям. Это невыгодный расход боеприпасов. Давайте сделаем артналет, но за несколько минут до вражеского наступления, около 3-х часов". У меня имелись такие соображения: к этому времени солдаты врага уже будут на исходных позициях, а не сидеть в траншеях, и не будут укрыты; его артиллеристы тоже займут свои места у орудий. Все его люди выползут из подземелий и станут ожидать в открытом поле сигнала к действиям. Если в это время сделать хороший артиллерийский налет, то мы получим больший эффект, нанеся урон противнику в живой силе и выведя из строя часть его техники. Безусловно, как-то нарушится при этом и связь, которая имеет большое значение при проведении операции. Ватутин согласился со мной.
Так мы и решили поступить, подготовились и стали ждать 3-х часов. Хотел бы сделать теперь некоторое отступление перед тем, как описать решающий поединок двух сторон в 1943 г. на нашем направлении, который в смысле общего военного значения и прямых результатов боев стал историческим, и не только для нашего направления, а вообще для всей Красной Армии и судьбы СССР. Хочу рассказать о том, как все мы, и я в том числе, переживали, когда читали в газетах о том, что на таком-то участке фронта, в таких-то частях дали концерт для бойцов, выступали там-то такие-то артисты и такие-то писатели. Более всего это относилось к войскам Западного фронта, которые почти стояли на месте, защищая Москву в 1942 и в 1943 годах. У нас возникли зависть к ним и непонимание: идет война, а они слушают песни, смотрят на танцы? В 1942 г. на южном направлении нам было не до песен и не до танцев. Головы не могли поднять, взглянуть на небо, потому что все время противник проводил активные операции, наносил нам большой урон и непрерывно продвигался вперед. Мы же оборонялись, отступали, а порою и бежали. Он оттеснил нас к Волге и продвинулся чуть ли не до Каспия. Только теперь, перед наступлением немцев 5 июля, и мы немного вкусили от этого развлекательного плода, когда стояли в обороне и проводили работы по укреплению своих позиций. К нам тоже стали приезжать люди из Центра, доклады делали. Тогда был установлен персональный состав всех до кладчиков - "пламенных ораторов". Вот и приезжали к нам "пламенные ораторы". А пламя это надо было раздувать мехами, чтобы оно стало ярким. Получалось не у всех. Но все равно докладчик считался пламенным! Не знаю, кто выдумал это выражение: пламенный оратор. Потом стали приезжать и артисты, давали концерты. Одним словом, проводилась культурно-массовая работа. В то время у нас начальником Политуправления фронта был генерал Шатилов[203].
Я хорошо знал Шатилова еще по своей работе в Москве. Он трудился тогда на Электрозаводе, занимался там агитмассовой деятельностью, потом работал в горкоме или в Сталинском райкоме партии. Одним словом, это был московский партийный работник. А потом стал начальником Политуправления нашего фронта, и вся партийно-агитационная массовая работа в значительной степени лежала на его плечах. Только в 1943 г. я смог понять, что значит - долго стоять в обороне и какие это предоставляет возможности для организации партийной и агитмассовой работы среди воинов. Наступило 4 июля. Дело шло к вечеру. Мы с Ватутиным нетерпеливо ждали рокового часа, установленного Гитлером для нашего фронта. Я мог тогда вспомнить генерала Туликова. Когда штаб фронта стоял в 1941 г. под Киевом и немецкая авиация бомбила его расположение, начальник штаба Тупиков, расхаживая по комнате, напевал арию из оперы Чайковского: "Что день грядущий мне готовит?".
Сейчас и мы с Ватутиным могли тоже затянуть эту арию. Конечно, мы были уверены, что день грядущий готовит нам успех. Но, как говорят украинцы, "не кажи "гоп" пока не перескочишь". Поэтому естественной была и тревога за то, как пройдет начало вражеского наступления, как удастся нам его остановить, а потом перейти в контрнаступление. Без пяти минут 3 Варенцов отдал приказ произвести артиллерийский налет на позиции противника, выпустив по сколько-то снарядов из каждого орудия в полосе 6-й и 7-й Гвардейских армий. О результатах мы узнали позже. А ровно в 3 часа утра немецкая аккуратность "не подвела": задрожала земля, загудел воздух. Такого я раньше никогда не наблюдал. Я пережил отступление, и сами мы наступали, но такого огня прежде не встречал. Позднее мы сами тоже давали огонька, может быть, и побольше. Но для 1943 г., надо признать, противник организовал чрезвычайно мощную артиллерийскую подготовку. Его авиация тоже стала громить наш передний край.
Немцы использовали в те часы всю свою авиацию только на переднем крае, с задачей сломить наше сопротивление, стереть в пыль наши укрепления, смешать все с землей и расчистить путь танкам, чтобы рвануться на Курск и окружить советские войска внутри дуги. Тем самым они хотели повторить или даже осуществить в еще большей степени то, что сделали с нашими войсками в 1942 г. на направлении Барвенково - Лозовая. Несколько позже, когда уже мы наступали, разгромили танковую дивизию врага и захватили ее штаб, командиру этой дивизии удалось спрятаться в пшенице. Мы его так и не поймали, хотя очень охотились за ним. Зато захватили тогда штабные документы и карту. На ней было помечено расположение наших частей и воткнут флажок в место, на котором был отмечен штаб Воронежского фронта. Значит, враг знал расположение нашего штаба, но не бросил туда ни одной бомбы, не послал для бомбежки ни одного самолета. Я объясняю это тем, что немцы были уверены в успехе и проигнорировали факт, что штаб окажется в состоянии нормально вести работу, его деятельность не будет дезорганизована и связь не будет разрушена. Они считали, что главное - разрушить оборонительные позиции, взломать передний край, разгромить там наши войска и расчистить путь для своих танков, а все остальное рухнет само собой. Действительно, они зверски рвались вперед, использовали все шансы, все поставили на карту, чтобы решить поставленную задачу. Земля дрожала от разрывов снарядов и бомб, воздух гудел от слитного звучания самолетов бомбардировочной авиации и истребителей прикрытия. Наши войска были готовы к отражению удара.
Завязался бой, тяжелый бой. Немцы лезли, как могут это делать только они, люди высокой дисциплины. Или же они применяли какие-нибудь одурманивающие средства для своих солдат (об этом много тогда говорили), но упорство в наступлении проявили очень большое. Наши войска сначала держали свои позиции. Однако количество огня постепенно ломает даже сталь, а не только людей, которые закопались в землю. И первая полоса обороны была прорвана. Мы это предвидели. Поэтому и построили три полосы обороны. У нас оставались еще вторая и третья полосы. Поэтому начало битвы нас не обескуражило. Мы знали, что враг положил много войск и техники при прорыве переднего края. О бегстве наших войск никаких разговоров даже не возникало. Наши солдаты дрались до последнего, умирали, но не бежали. Здесь был проявлен истинный героизм, не газетный, а настоящий. К нам опять прилетел Василевский. Кажется, на второй день немецкого наступления. Мы всегда встречали его любезно, потому что это человек особого склада характера. Разговаривать с ним было приятно: он не повысит голоса, не накричит, а беседа всегда велась им не вообще, но по существу обстановки, которая складывалась. Было приятно чувствовать человеческое понимание, человеческое к тебе отношение, особенно в трудную минуту обороны. Между тем стали мы брать наступающих понемногу в плен. Мне доложили, что захватили среди других артиллерийского офицера. Говорю Василевскому: "Давайте, допросим его". Привели высокого, стройного молодого человека, видимо, с неважным зрением, в пенсне. Я захотел получше расположить его к себе, чтобы он что-нибудь сказал нам пооткровеннее. Спрашиваю: "Как же вы так оплошали и попали в плен?". Отвечает: "Так уж сложилось, я плохо вижу. Увлекся я, переправлял через противотанковый ров свою артиллерию, а ваши пехотинцы схватили меня, вот и оказался я в плену".
Потом я стал ему задавать вопросы о составе немецких войск. Тогда он взглянул на меня и говорит: "Я офицер немецкой армии и просил бы таких вопросов мне не задавать. Не буду отвечать ни на один вопрос, который можно было бы использовать во вред Германии". И мы с Василевским не стали больше ему задавать вопросов, а сказали: "Вы будете отправлены, куда следует". Он испугался. Наверное, подумал, что это означает расстрел. Однако его отправили на допрос к нашей войсковой разведке, а оттуда в лагерь для военнопленных. Меня это, впрочем, не касалось. Я тогда даже не знал толком, куда отправляют пленных. Да меня это особенно и не интересовало. Сражение разгоралось. У нас с Ватутиным стала проявляться тревога: мы все же не ожидали такого нажима. Чрезвычайно встревожило нас известие, что появились какие-то новые танки противника с такой броней, которую не берут наши противотанковые снаряды. Дрожь прошла по телу. Что же делать? Мы отдали распоряжение, чтобы артиллерия всех калибров била по гусеницам. Гусеница у танка всегда уязвима. Если и не пробьешь броню, то гусеницу снаряд всегда возьмет.
А перебил гусеницу, и это уже не танк: вроде неподвижной артиллерии. Появится облегчение. Наши стали именно так и действовать, причем довольно успешно. Одновременно мы начали бомбить танки с воздуха. И тут же доложили в Москву, что встретились с новыми танками. Немцы назвали их "тигры". Доложили мы в Центр и о технических характеристиках этих танков. Мы узнали их, потому что наши солдаты захватили один или несколько подбитых "тигров". Нам вскоре прислали новые противотанковые снаряды, которые поражали броню "тигров", кумулятивные снаряды, прожигавшие металл. Однако "тигры" успели поколебать уверенность действий нашей противотанковой артиллерии. Мы-то считали, что все нам нипочем и разгромим немецкие танки. А новый танк внушал к себе уважение, требовал к себе особого отношения со стороны наших войск. Вообще очень важные происходили тогда события. Решалась судьба войны, да и судьба страны. Многое неприятно сейчас вспоминать. И обстановка сейчас другая, и время другое, и мое положение. Теперь я - не то, что тогда, когда, получив донесение, должен был быстро реагировать, найти какой-то выход, противопоставлять противнику свое решение, свой ответный ход. Теперь я не тороплюсь. Бои на Курской дуге усиливались. Противник проявлял упорство и продвигался вперед, хотя и медленно. Он вынуждал наши войска отступать.
Да, советские люди стояли там насмерть, но силы у противника было сначала побольше. Мы не смогли удержаться на первом рубеже, отошли на второй рубеж, где продолжали стой же стойкостью оказывать сопротивление. К этому времени наши войска научились подбивать "тигров", по тому времени наиболее мощные танки. Правда, они были несколько громоздкими, но имели мощную лобовую броню. Сначала мы били только по гусеницам. А потом, как я уже сказал, нам прислали термитные снаряды, которые прожигали броню. Стали активно использовать против "тигров" авиацию, в первую очередь штурмовую. Первый шок, который вызван был появлением новых танков, прошел. Мы увидели, что "тигр" подчиняется нашему огню. Тем не менее враг оттеснил нас и к третьему рубежу обороны. Три ее полосы, включая последнюю, имели противотанковые рвы, различные земляные и полевые укрепления, особые позиции для пехоты, артиллерии и танков. И почти все это он за неделю преодолел, пока не уперся в тыловую армейскую полосу обороны. Особенно острой сложилась ситуация у станции Прохоровка, в направлении на Курск. Примерно в это же время или немного раньше к нам обратилась Ставка с таким делом (разговаривал со мною Василевский, но ссылался на Сталина): надо, чтобы у нас прошел боевую стажировку генерал армии Апанасенко; пусть прибудет на Воронежский фронт; но вот Ватутин возражает.
И Василевский стал уговаривать меня: "Ни один командующий не хочет его принять. Все отказываются, поэтому я решил позвонить вам и попросить, чтобы вы согласились принять его. Апанасенко - человек с большим опытом, герой гражданской войны, но у него тяжелый характер и высокое самомнение. Поэтому все командующие отказываются". Действительно, всех командующих фронтами Апанасенко рассматривал как людей, ниже его стоящих, хотя бы по революционным заслугам. Он провел всю гражданскую войну на коне, боевой человек, а кто такие эти новенькие? Но сейчас они заняли высокое положение, он же торчит без дела на Дальнем Востоке[204]. Это и играло роль в его отношении к людям. Я лично с ним никогда не встречался, хотя слышал об Апанасенко. Говорю: "Пусть приезжает". Тот приехал. Когда мы в Киеве работали вместе с Тимошенко, а Тимошенко по 1-й Конной армии хорошо знал Апанасенко, он мне рассказывал о нем. Насколько у меня отложилось в памяти, якобы когда казнили Тухачевского и других славных командиров Красной Армии, то допрашивали и Апанасенко.
На него тоже пало какое-то подозрение. Тимошенко говорил, что с Апанасенко беседовал Сталин и что Апанасенко сознался, будто состоял в какой-то заговорщической группе. Сталин взял с него честное слово, простил, послал в Среднюю Азию. Там он занимал крупный командный пост. Потом стал командующим войсками на Дальнем Востоке. Значит, ему уже доверяли. Оттуда он и прибыл к нам. Апанасенко произвел на меня хорошее впечатление. Роста он был гигантского, плечистый, грузный, уже человек в летах. Занял пост заместителя командующего войсками фронта, а сначала был прикомандирован к командующему для особых поручений, что фактически одно и то же. Нас предупредили, что он должен стажироваться, понюхать порох Второй мировой войны. Он знал Первую мировую войну. Гражданскую, но не знал пока второй мировой. А это совершенно другая война, и по-другому она протекала. И вооружение иное, и тактика иная, и условия изменились. Мы посылали его по армиям, как бы познакомиться. Прежде всего направили в 6-ю Гвардейскую, потому что там возникло особенно напряженное положение. Он меня немного удивлял своим поведением, и мы с Ватутиным за глаза подшучивали над ним. Как-то он поехал в какую-то часть, ознакомился с положением и прислал телеграмму: "Вот то-то и то-то осмотрел, попробовал солдатский борщ. Борщ отличный. Генерал армии Апанасенко".
Мы долго смеялись. Я впервые встретился с таким актерским приемом поведения. Ни у кого другого я не замечал такой манеры вести себя. Он, так сказать, немножко рисовался. Ну и пусть! Затем и на другие участки фронта мы его посылали, когда там завязались усиленные бои. Он направлялся нами туда, где складывалось самое опасное положение. Это естественно. Такой крупный военачальник мог оказать помощь командующему армией. Нам требовалось много пополнения и подкреплений. И их в ту пору Ставка сейчас же давала. Мы получили 10-й танковый корпус. Потом еще один танковый корпус, командовал которым Полубояров. Но он действовал в полосе Степного фронта. Сейчас Полубояров - начальник бронетанковых войск Советской Армии. Мы тогда сначала его корпус поставили в тылу, западнее Воронежа. Потом нам дали 5-ю Гвардейскую армию, крепкую, полного состава, с хорошо обученной молодежью. Командовал ею генерал Жадов. Ее мы поставили так, чтобы использовать против правого фланга немецкого наступления. Еще мы получили 5-ю Гвардейскую танковую армию. Командовал ею генерал Ротмистров[205]. О нем я уже рассказывал в связи со Сталинградской битвой. Он приехал к нам как старый знакомый. Я относился к нему с большим уважением и высоко ценил его знания и военные способности. 5-ю Гвардейскую танковую армию мы расположили так, чтобы рядом с 5-й Гвардейской тоже нанести фланговый удар по немецким войскам. Когда враг проявил такое упорство в наступлении, а наши войска упорствовали при удержании своих позиций, перемалывая живую силу и технику врага, мы приняли решение ударить немцам именно во фланг, а не в лоб, считая, что скорее сумеем свернуть как раз фланг противника, потом дезорганизовать сбоку его наступление и самим перейти в контрнаступление. Но бывает и такое совпадение. Немцы тоже решили ударить по нашему флангу, только левому, то есть на восток.
Там у нас вначале силы имелись небольшие: стояла на Северском Донце одна 69-я армия. Получилось, что наше решение и решение противника территориально совпали. Произошел встречный танковый бой. Рядом сражалась армия Жадова. Я находился как раз в ней. Ранее тоже встречался с Жадовым, но был с ним слабо знаком. Завязались очень упорные бои по верхнему течению Псела. К нам приехал Жуков. Мы с ним решили вдвоем поехать в танковую армию к Ротмистрову, в район Прохоровки. Прибыли в расположение штаба, прямо в поле, в посадках, не то в каком-то кустарнике. Служб никаких там не имелось - только сам Ротмистров да офицеры для поручений и при них связь. Дорога туда вела накатанная. Но нас предупредили, что она обстреливается и усиленно бомбится противником. Мы с Жуковым переглянулись, однако делать нечего. Решили проскочить. Приказали шоферу дать газу и проскочили, реальной опасности не встретили. У Ротмистрова разгорелось сражение. На поле виднелось много подбитых танков - и противника, и наших. Появилось несовпадение в оценке потерь: Ротмистров говорил, что видит больше подбитых немецких танков, я же углядел больше наших. И то, и другое, впрочем, естественно. С обеих сторон были ощутимые потери. Потом я еще раз съездил туда, уже без Жукова, который возвратился в Москву. Несколько раньше меня к Ротмистрову заехал Апанасенко. Я встретил там его, когда меня привел к нему офицер связи в небольшую деревушку в лощине, неподалеку от воды. Крестьяне издревле выбирали для себя место около воды. Там я застал картину, которая произвела на меня впечатление театрального представления. Около хаты стоял столик, покрытый кумачом. На столе - телефон. Апанасенко сидел за столиком в бурке, наброшенной на плечи. И все это - около самого переднего края. Вражеские снаряды и болванки летели через дома деревни, визжали и завывали.
У металлических болванок был характерный вой; потом они шлепаются без разрыва. К тому времени наше положение ухудшилось. Мы исчерпали свои резервы, хотя не знали, что имелись еще резервы Верховного Главнокомандования. Потом уже нам сказали, что за нами стоят армии Степного фронта, которыми командовал Конев. Добавили, что 47-я армия этого фронта поступает в наше распоряжение. Это произошло, когда враг оттеснил нас уже километров на 35 на север и когда мы выдохлись. Я поехал к Катукову. Его войска оседлали шоссе Белгород - Курск и удерживали его южнее Обояни. Там же находился штаб 6-й Гвардейской армии, потому что Катуков и Чистяков занимали по фронту и в глубину одну полосу: танковая армия была придана на усиление 6-й Гвардейской как подвижная артиллерия. Там я встретился сразу с обоими командирами. Положение складывалось тяжелое, Москва проявляла нервозность. Помню, как перед моим отъездом к Катукову мы с Ватутиным разговаривали со Сталиным. Потом взял трубку Молотов. Молотов всегда в таких случаях вел разговор грубее, чем Сталин, допускал оскорбительные выражения, позволял себе словесную бесконтрольность. Но чего-либо конкретного, кроме ругани, мы от него не услышали. Он ничем не мог нам помочь, потому что в военных вопросах был нулем, а использовался в таких случаях как бич, как дубинка Сталина.
В оскорбительном тоне он говорил с командующими, а потом и со мной. Не хочу допускать в свою очередь неуважительных выражений в его адрес, потому что при всех его отрицательных качествах Молотов по-своему был честен, а его преданность Советской власти не дает мне права отзываться о нем плохо, когда речь идет о войне. В кризисные моменты он проявлял грубость, но в спокойной обстановке - нет, и я понимал, что в те часы он мог только ругаться. Положение-то сложилось грозное. Вот тогда я и выехал на главное направление, к Чистякову и Катукову. Сил у них было уже мало. Армию Катукова потрепали. Не помню, сколько она к тому времени насчитывала в своем составе танков. Шутка ли сказать: три полосы обороны, где были почти сплошь расположены танки, противник прогрыз. Но за последней полосой наши войска закрепились, и враг не смог продвинуться дальше. Он и сам выдохся. Фронт становился не то чтобы стабильным (потому что никакая сторона не добивалась там перехода к обороне), а обоюдно обессиленным. К нам попали в плен два немецких летчика. Пилотировали они одноместные самолеты, не помню, какой марки, старые тихоходы, вооруженные мелкокалиберными пушками. Это были воздушные истребители танков. Одному из летчиков было лет за 40, другой - молодой, вероятно, богатый человек, потому что все на нем было, судя по качеству и виду, не стандартное, а приобретенное за собственные средства. Первый же был попроще, хотя по воинскому званию старше. Он обгорел, у него были обожжены пальцы и лицо, а другой совершенно не тронут. Я допрашивал обоих. При допросе они оказали разное "сопротивление".
О молодом мне доложили наши разведчики, которые раньше его допрашивали, что он ничего не скажет: это фашист, верящий в Гитлера и в победу германской армии. Его даже припугнули, чтобы он поддался, но тот ответил, что готов принять смерть за Гитлера, немецкая армия победит, а вы будете разбиты. Потом мне он повторил то же самое. Я недолго с ним возился, и его увели. Стал беседовать со старшим. Это был иной, морально разбитый человек. Я ему предложил: "А вы не смогли бы написать письмо к вашим летчикам и обратиться к ним с листовкой антигитлеровского содержания?". Он ответил: "Как же я напишу?" - и руку показывает. - "Я не могу владеть рукой, она вся у меня обожжена". Я ему: "Вы будете диктовать". Одним словом, он согласился. Думаю, впрочем, что мы эту листовку не распечатали, потому что решали главный вопрос, а на листовки мало возлагали надежд. Надо было физически разгромить противника. Говорю это к тому, что в то время даже среди летного состава германских войск появились люди, которые не проявляли моральной устойчивости и были надломлены, потеряв веру в победу немецкого оружия. Многого я сейчас уже не помню, но и не стремлюсь дать точную картину перемещения воинских частей и хронологию проведения операций. Все это изложено в мемуарах генералов, у каждого - по своему участку, и в опубликованных оперативных документах. Из них точно известно, когда противник выдохся, когда мы задержали его продвижение и сами перешли в наступление. Мне же хочется рассказать о своем восприятии тех событий, о каких-то запавших мне в память фактах, об интересных людях, о том, что я чувствовал в те дни. Итак, мы стали теснить противника на главном направлении, а оно определяло положение на всем фронте.
Не помню, сколько километров мы прошли, когда передвинули штаб, и я переехал вместе с ним. Новый полевой штаб организовали в землянке. Почти тут же разместились штабы 6-й Гвардейской и 1-й танковой армий, штабная землянка расположилась на кургане, и мы могли наблюдать за ходом боя, находясь на фланге войск, которые непосредственно сражались. Смотрели мы сверху вниз вместе с Чистяковым, Катуковым и Попелем, и все очень хорошо было видно, как на ладони: и действия наших танков, и действия танков противника, и поведение пехоты. Самолеты противника кружились над нами. Не знаю, заметили ли они нас, но бомбы бросали. Правда, не попали, и мы отделались лишь некоторым волнением. Помню и первую ночь, когда приехали сюда, на новое место. Очень близко сидит противник. Буквально у него под носом наша землянка. Сохранился в памяти и командующий артиллерией 6-й Гвардейской армии. Очень был хороший артиллерист. Он, бедняга, погиб, когда мы освободили Киев, а погиб глупо: ехал на мотоцикле и перевернулся, получил сотрясение мозга, пролежал в госпитале несколько дней и умер. Очень я жалел его, в госпиталь тогда к нему ездил. Хороший был генерал. Не помню его фамилию, но держу в памяти его слова: "Ну, товарищи, как спать будем ложиться? Штаны будем снимать или ляжем в штанах?". Это он - в том смысле, что ночью все возможно, противник может какую-нибудь вылазку предпринять, тогда мы или погибнем, или будем поспешно удирать. Впрочем, не помню, кто из генералов раздевался, а кто ложился одетым. Солдаты нарвали нам полыни (хорошее средство летом от блох), и мы на ней отдыхали. Мы много сил перетянули на главный участок из 38-й и других армий, которые стояли на западе, на правом фланге, где не велось активных действий. И все же были сильно истощены, понесли много потерь. Из войск я возвращался всякий раз в штаб фронта, к Ватутину. Он сидел там как часовой и управлял войсками. Я верил ему, уважал его и знал, что он сделает все, что следует командующему. А теперь вспомнил еще один эпизод. После войны данный случай при рассказе звучал даже забавно. Апанасенко находился на командном пункте 6-й Гвардейской армии.
Вдруг звонит Чистяков и говорит, что противник очень близко подошел к расположению командного пункта, и я прошу разрешения перенести командный пункт на запасной, который оборудован ранее. Однако связи с запасным пунктом пока не было, поэтому мы с Ватутиным сказали ему: "Нет, держать оборону и командный пункт не переносить!". Через какое-то время опять звонит Чистяков и вновь настойчиво просит. Мы ему опять отказали. Тогда позвонил Апанасенко и сказал, что он с командармом рядом, присоединяет свой голос и тоже просит разрешения перенести командный пункт: "Я сам вижу, как танки врага лезут буквально на командный пункт. Мы можем попасть в плен". Мы обменялись мнениями: "А вдруг им нечем отбить атаку танков? Может быть, все люди у них на переднем крае. Им-то виднее, чем нам". И решили: пусть командующий армией и Апанасенко едут на новый командный пункт, а там останется начальник штаба, пока не заработает надежно связь с новым командным пунктом. Начальник штаба остался, а эти вдвое уехали. По приезде на новый пункт они должны были сейчас же связаться с нами и доложить, что взяли связь на себя и могут управлять войсками. Но нет звонка ни от Чистякова, ни от Апанасенко. Зато начальник штаба 6-й Гвардейской со старого командного пункта регулярно докладывает нам о том, что он сам видит и что ему доносят. Это длилось много часов. И потом мы стали выяснять, в чем же дело. Оказывается, это наши танки отходили, а их приняли за танки противника. Хорошо, впрочем, что начальник штаба Пеньковский уцелел. Я далек от мысли в чем-либо заподозрить Чистякова и Апанасенко. Не хочу, чтобы меня так поняли.
Всякое бывает на фронте. Случается, что люди героического склада характера, отлично показавшие себя не в одном бою, вдруг нервничают, ошибаются. А могла иметь место простая ошибка. Когда мы уже гнали врага на всех участках, выталкивая его, как поршнем, из мест, куда он пробился после 5 июля, произошел нелепый случай. Апанасенко поехал к Ротмистрову, и вскоре нам донесли, что Апанасенко убит. Доложили, что он погиб при следующих обстоятельствах: стояли в поле и разговаривали Апанасенко и Ротмистров, рядом находились сопровождающие. Пролетел немецкий самолет, бросил бомбу. Она разорвалась довольно далеко, но осколок попал в Апанасенко и сразил его наповал. Из всей группы лиц пострадал он один. В кармане у него нашли записку, которая осталась мне непонятной. В ней содержались заверения в его преданности Коммунистической партии. Он излагал свои чувства. Я не понимаю этого: зачем носить в кармане на войне записку, в которой описываются верноподданнические чувства? Ничего подобного я не встречал ни раньше, ни позже. Сам же Апанасенко своим поведением производил на меня впечатление артиста, который все время играет, любуется своими действиями. Возможно, он обдумывал, какое это произведет впечатление на того, кто прочитает, если записка попадет в другие руки? Или же она была следствием тех потрясений 1937 г., о которых мне рассказывал в связи с ним Тимошенко? Приехала его жена. Я познакомился с ней. Мне сказали, что она актриса какого-то театра.
Она настойчиво просила, чтобы его прах отправили похоронить в Ставрополь, на родину покойного. Я долго уговаривал ее не делать этого: "Лучше похороним его здесь, в районе Прохоровки. Тут произошла великая битва, ее будут помнить в веках". Может быть, несколько нескромно было мне говорить это, потому что я тоже был как бы солдатом той "роты", которая там дралась. Солдат говорит: самая боевая та рота, в которой он служит. "Что может быть почетнее для боевого генерала, каким являлся Апанасенко, чем быть похороненным здесь? К этому месту будут приходить наши люди и отдавать долг павшим". Жена сначала согласилась, и мы похоронили генерала там, где он пал. Но потом она опять подняла этот вопрос, и тело было перенесено оттуда и перезахоронено в Ставрополе. Вернусь к боевым действиям. На Центральном фронте, против войск Рокоссовского, немцы тоже продвинулись, но меньше, чем у нас. В те времена кое-кто делал неправильный и обидный вывод: вот в вашем направлении противник продвинулся дальше! Но этого мало, чтобы говорить об умении командующего организовать оборону и управлять войсками. Сейчас не могу сказать, какое было соотношение сил на нашем направлении и у Рокоссовского, которого я очень уважал и уважаю сейчас. Я считаю его одним из лучших командующих войсками. И как человек он мне нравился. Особенно нравилась его служебная порядочность. Не хочу возвышать кого-то с тем, чтобы кого-то унизить, или наоборот. Надо всем отдать должное в таком великом деле, каким была битва на Курской дуге.
К ДНЕПРУ!
Я уже рассказывал, как готовилась Курская битва. Воронежский фронт должен был перейти в наступление 20 июля, а противник перешел в наступление еще 5 июля. Это - одно. Мы недополучили значительной части подкреплений из тех, что причитались нам по плану. Это - другое. Наступление Рокоссовского должно было начаться раньше нашего, а наступать он должен был с юга на север, с тем чтобы раздвинуть правый фас дуги. Кажется, он должен был начать наступление числа 15 или, может быть, даже раньше[206]. Средства усиления Центрального фронта, которые были приданы ему в виде артиллерийского корпуса Резерва Верховного Главнокомандования, после использования передавались нам. Для этого требовалось какое-то время. Конечно, раз Центральный фронт начинает раньше, то он получает все, что ему по плану положено, раньше нас. Следовательно, к началу немецкого наступления войска Рокоссовского имели больше, а мы меньше, потому что у нас еще оставалось время. Артиллерийский корпус уже находился на огневых позициях Рокоссовского, так что там сложились идеальные условия для отпора противнику огнем.
Хочу объективно оценить сложившееся тогда положение, а не оправдаться как член Военного совета Воронежского фронта; хочу для самого себя объяснить происшедшее и правильно понять, как случилось, что противник на направлении Рокоссовского углубился на меньшую глубину, чем у нас. Есть и другая причина. Мне представляется, что против нас была сосредоточена более сильная группировка противника. У него именно тут было направление главного удара. Поэтому и больше сил было выставлено на этом направлении. Но точно я этого не знаю, тем более что не знаю также, чем располагал фронт Рокоссовского. Сейчас военному историку будет уже нетрудно разобраться, потому что стали доступны все документы о численности и вооружении и нашей стороны, и противника. Можно их проанализировать и более объективно подойти к оценке сложившегося тогда положения и умения использовать имевшиеся средства во время битвы. Если же кое-кто и пытался тогда (не через печать, а в разговорах) делать нам моральные уколы, то сейчас это уже отпало.
Прошло много лет, да и самое главное - битва-то была нами выиграна! Какое тут подобрать подходящее выражение, которое отражало бы наш успех, разгром врага на Курской дуге, не знаю! Еще после разгрома немцев под Москвой они пустили в ход слух, что главный союзник русских - зима. Русские зимой побеждают, потому что они в союзе с нею. Это ведь, мол, их зима! Проведение зимних операций им легче, чем немцам, потому что эти условия для них родные - обычный климат тех мест, где они живут. Наполеон, дескать, тоже потерпел поражение зимой. Русские разбили ранней зимой Наполеоновскую армию, теперь русские разбили немцев под Москвой тоже зимой. За это Гитлер и сместил их главнокомандующего Браухича[207]. Когда затем под Сталинградом мы разбили колоссальную группировку Паулюса, то немцы тоже говорили, что во всем виновата зима. Осенью окружили Паулюса, а зимой добили; значит, и тут зима. Кроме того, как под Москвой, так и под Сталинградом велись затяжные бои. Но совершенно другие условия были на Курской дуге.
Лето! Самое лучшее время лета - 5 июля. Все цвело, все наливалось, если говорить высокопарными фразами. Во-вторых, здесь инициативу проявили сами немцы: выбрали направления для ударов и ударили, когда хотели. Поэтому все средства, которые они желали сосредоточить для достижения цели, поставленной перед их войсками на Курской дуге, они собрали. Таким образом, здесь немцы уже не могли сказать, что у русских был какой-то союзник вроде зимы. Конечно, это и раньше было не главным, но пускалось в ход ради оправдания. А теперь аргументы, которыми оправдывались в Берлине перед своим народом за поражения 1941, 1942 и 1943 годов, отпадали. Инициатива во всем принадлежала им: и в выборе времени и места, и в накоплении необходимых средств, все буквально было в руках гитлеровского командования. И несмотря на это, даже на возможность первым сделать выстрел, противник был разбит. Сосредоточение войск, особенно артиллерии, танков, другой техники там было колоссальным. К сожалению, я сейчас не располагаю цифрами и не знаю, в каких работах наши военные историки собрали соответствующие данные и сопоставили их. Когда я занимал положение Первого секретаря ЦК партии и Председателя Совмина СССР, всегда предупреждал военных при изучении прошлого и анализе боев меньше всего полагаться на воспоминания.
Надо строго руководствоваться фактическим материалом. Ведь сейчас все это доступно: поднимите карты, сопоставьте силы, посмотрите, как они были расположены с нашей стороны и со стороны противника, взвесьте получившееся, и будет видно, где и как были проявлены умение, знания и способности того или другого командующего. А если опираться только на воспоминания, то следует знать, что очень трудно ожидать объективности от людей, которые лично участвовали в операциях. Я много времени провел на войне, знал многих командующих, у меня были хорошие взаимоотношения с абсолютным большинством из них, хотя и возникали трения. Без этого нельзя, я тоже не святой. Все люди - живые и все со своими недостатками. Нельзя прожить жизнь, как говорится, без сучка и задоринки. Но вообще-то я доволен теми людьми, с которыми работал на фронте. Почти всегда мы находили общий язык. Говорю - почти, но мог бы даже сказать - всегда. Появлялись иной раз какие-то разногласия, но сейчас не стану конкретно говорить об этом, чтобы не углубляться в негативную сторону дела. Люди, участвовавшие в тех боях, получили награды и соответственно отмечены, так что ворошить "грязное белье" ни к чему. Повторюсь: то была грандиозная битва. Враг утратил стратегическую инициативу раз и навсегда, военное счастье больше к немецкому оружию не возвращалось. Помню, когда я приехал к Ротмистрову[208], он показал мне немецкий документ с приказом, который захватили, разгромив какую-то немецкую часть. В нем содержались такие слова, обращенные к войскам: "Сейчас вы ведете наступление и обладаете оружием, которое превосходит оружие русских. Наши танки превосходят русские танки Т-34, которые до сих пор считались лучшими. Сейчас вы получили немецкий танк "тигр", равного которому нет в мире. Поэтому вы, воины немецкой армии, получив такое оружие, разгромите врага" и пр. Действительно, танк был грозный, нужно отдать ему должное. Но он не сыграл той роли, которую на него возлагал Гитлер. Наши войска быстро научились бить "тигров". Даже когда снаряды еще не пробивали их броню, наши бойцы находили уязвимое в них место и били по гусеницам.
Недавно я видел фильм. Там показывали, как девушку заставили, понимаете ли, ползти по переднему краю и фотографировать "тигр". Но это художественное произведение; вольно же автору вкладывать в него свою выдумку. А встретились мы с "тиграми" на Курской дуге в условиях, когда было не до фотографий. Да и для чего его фотографировать, тоже непонятно. По замыслу сценариста девушка хотела его сфотографировать, чтобы показать место, куда следует стрелять. Оказалось, надо пробивать бок танка. Но танк обычно движется к врагу не боком, а лбом. Поэтому мы дали директиву бить по гусеницам. Гусеницы - не только самая уязвимая часть танка, но и представляют хорошую мишень, потому что у "тигра" широкие гусеницы. В бок бить, конечно, тоже хорошо: боковая броня в танке слабее, чем лобовая, но бок не всегда подставляют противнику. Не хочу развивать эту тему, хотя вольная выдумка художника противоречит, с моей точки зрения, действительным фактам. Ведь плохо для картины, когда зритель начинает говорить, что вот так-то не было, а было вот так-то. Мнения совпадают лишь в том, что немецкий танк, действительно был грозен, но потом наши артиллеристы превосходно справились со своей задачей.
Возвращаюсь к вопросу о значении битвы на Курской дуге. Первая ощутимая победа на том направлении, где я был, имела место в 1941 г.: Ростов. Потом - операция в районе Воронежа, Курска и Ельца. Потом, если говорить о другом направлении, - Москва. Это была действительно грандиозная победа. Враг уже совершенно был уверен, что захватит Москву, но потерпел поражение и был отброшен на большую глубину. Потом - новые неудачи 1942 г., наше поражение под Харьковом, продвижение противника, захват Ростова, продвижение на Северный Кавказ и на Волгу. Затем - опять наши успехи, разгром врага под Сталинградом и в результате крушение масштабного гитлеровского плана, включавшего проникновение в Иран и в Индию. Однако фашисты еще не признали себя побежденными, решили восстановить былую славу немецкого оружия и вернуть себе стратегическую инициативу. Выбрали подходящее место и время, сосредоточили все лучшее, что могли, против наших войск и провели операцию на Курской дуге. Но в результате получили разгром своих войск и после этого стали откатываться под ударами наших войск на обширном фронте. Вернусь к Сталинграду. Мы там выбирали точку, где нам удобнее ударить. Хотя это было и не главное, но значительным подспорьем явилось то, что мы смогли решить, на каком направлении организовать удар и выбрать те войска, по которым нужно ударить на этом участке фронта. Мы предпочитали, чтобы там стояли не немецкие войска, а находились бы румыны или итальянцы, их союзники. Когда мы наступали под Сталинградом, то против нас были румынские войска, менее стойкие, менее организованные и хуже вооруженные. Внутренняя устойчивость у них тоже была не та. Они не знали толком, за что воюют, и являлись придатком, сателлитами немцев, которые оскорбительно относились к ним, несколько свысока. Это, конечно, тоже сказывалось на моральном состоянии румынских войск, и они не проявили того упорства, которое проявляли тогда немцы.
На Курской же дуге не было такого вопроса. Перед нами не было никаких других войск, кроме немецких. Поэтому не стояло вопроса, какой национальности враг находится перед нами: немцы, румыны, итальянцы или венгры. Если немцы, то даже лучше: громить, так уж главные силы врага, ударные силы. А после Курской дуги данный вопрос вообще отпал, ибо инициатива перешла полностью в наши руки. После Курской дуги я продолжал быть членом Военного совета Воронежского, а потом 1-го Украинского фронтов. Мы провели битву за освобождение Киева и двинулись дальше на запад. Конечно, и я не лишен чувств человека, его слабостей. Мне приятно, что в этих грандиозных битвах, которые были проведены Красной Армией под Сталинградом и на Курской дуге, я был членом Военного совета соответствующих фронтов. Вот почему мне было обидно, и я внутренне переживал (человеческая слабость, а может быть, и протест против несправедливости), что на торжества, которые состоялись недавно по случаю 25-летнего юбилея разгрома врага под Сталинградом, меня не пригласили. И в исторических фильмах, и в киноэпизодах, которые демонстрировались к этой дате, все, кто близко знал меня и видел эти кинокадры, заметили, как сделано было все, чтобы зритель не увидел, что Хрущев участвовал в той борьбе как член Военного совета Сталинградского фронта.
Мне рассказали и о еще более неприятном, я бы сказал, даже позорном, факте. Когда состоялось заседание в Москве по случаю юбилейной годовщины разгрома врага под Сталинградом, по окончании торжественной части один офицер обратился к генералу, который там находился, с вопросом. Я спросил товарищей, которые там были, о фамилии генерала. Им оказался генерал Батов[209]. К нему-то и обратился офицер: "Товарищ генерал, скажите, пожалуйста, Сталин был в Сталинграде, когда шла знаменитая битва?" Возникла пауза, потом Батов говорит: "Я не знаю". Офицер опять обратился к Батову: "Товарищ генерал, а Хрущев был в Сталинграде?" Опять пауза, потом следует ответ: "Я не знаю". Я с уважением относился к Батову. Пауза, о которой мне передали, свидетельствует об остатке совести, стыда, что ли. Батов сказал офицеру, что он не знает, а ведь он знал, что говорит неправду. Он-то хорошо знал, что Сталина во время битвы никогда там не было. Ну, хорошо, допустим, что это - высокий секрет. Но я-то знаю, я, член Военного совета, что не было там Сталина, и Батов тоже знает. Он взял грех на свою душу, правда, не без угрызений совести, потому и возникла пауза перед ответом. То же - и по ответу на вопрос: "Был ли там Хрущев?". Опять пауза, также признак остатков порядочности. Он не сразу смог ответить, а ответил уклончиво: "Не знаю". Это все же лучше, чем сказать, что не был, что явилось бы наглой ложью. Но и такой ответ - не украшение для человека и для генерала, когда он молодому офицеру говорит по сути дела неправду. А этот офицер все же узнает потом, кто там находился и кого не было. Узнает, потому что проходит какое-то время, умирают те или другие люди, которые заинтересованы непомерно выпячивать какие-то факты или лиц, игравших определенную роль в событиях, и затаптывать, умалять действия других людей. Но время, как реставратор, снимает все наслоения, все налеты неправды и клеветы.
Все это будет расчищено, и каждый факт получит правильное освещение, а все участники событий займут свое место. Я в этом глубоко убежден. Я верю в человека, верю в людскую правдивость, и это является сейчас для меня успокоением и утешением. Возвращаюсь к разгрому вражеских войск под Курском и к нашему торжеству. Просто, как говорится, приятно вспомнить! После длительных переживаний, огорчений, волнений и беспокойства за судьбу страны каждый из нас чувствовал, что победа обеспечена, что это - начало гибели гитлеровской Германии, начало нашего победоносного шествия на пути к Берлину и полному разгрому немецких войск. Можно себе представить переживания людей, которые жили в то время. И вот - их торжество: угроза стране отведена и ликвидирована, мы идем к окончательной победе и будем наслаждаться мирной жизнью, продолжать успешное строительство социализма и коммунизма. Это, возможно, не каждый поймет из числа тех, кто будет знакомиться с моими воспоминаниями. Здесь нужно как бы проникнуть в душу человека, понять и его, и угрозу, которая висела тогда над нами. Наш народ безропотно страдал от жизненных недостатков, потом умирал на переднем крае войны, погибал под бомбами гитлеровцев, но все делал для того, чтобы обеспечить победу, и добился перелома в войне. Мы уже были уверены, что теперь Гитлеру, как говорили солдаты, "капут".
Все, все это мы пережили тогда, но и сейчас, когда я начинаю вспоминать былое и напрягать свою память, то опять волнуюсь, живу горестями и радостями того времени. Итак, мы перешли в наступление. Я бы сказал даже, не наступление это было, а вытеснение противника, потому что сил у нас было для настоящего наступления еще недостаточно, хотя и противник потерял много. Он утратил не только возможность дальнейшего продвижения, но даже возможность задержаться на рубеже, которого достиг в результате прежнего своего наступления на Курской дуге. Наше вытеснение врага продолжалось несколько дней. Мы, наверное, теснили противника на расстоянии километров в 20 с лишним или 30. У нас не хватало сил, чтобы отбросить его на старый рубеж, который он занимал до 5 июля, и нам пришлось прекратить это оттеснение. Мы выдохлись и стали подсчитывать свои возможности, когда сможем возобновить наступление. Определили, что сможем 3 августа. Я отлично помню тот день. Он памятен тем, что мы как бы подняли голову, расправили крылья, разогнули спину и приготовились к нанесению удара: не только к оттеснению врага на старый рубеж, нет, мы уже готовились тогда к освобождению Белгорода, Харькова, к повороту на запад, с тем чтобы выйти к Днепру. Степной фронт, который ранее стоял в резерве, был направлен на Белгород. Командовал им Конев. Харьков тоже вошел в полосу Степного фронта. К 3 августа мы подтянули пополнения, получили боеприпасы и подготовились к наступлению.
Тут уже мы сами выбирали время и направление удара. Когда разрабатывался план наступления и выбирался участок главного удара для прорыва фронта, к нам приехал Жуков. У нас имелось несколько вариантов. Пришлось поломать голову, какой избрать вариант: бить в лоб на участке, на котором против нас наступал противник, или же перенести свой удар вправо, то есть западнее, с тем чтобы там прорвать оборону немцев. Последнее считалось более легким: предстояло зайти им в тыл, а может быть, и окружить группировку противника. Это было очень заманчиво. Но еще нигде, кроме Сталинграда, мы такой операции не проводили и пока не привыкли к этому. Долго мы обсуждали, колебались и в конце концов решили бить в лоб. Это предложение внес Жуков, и я с ним был тогда согласен, да и сейчас считаю, что такое решение было правильным. Оно тяжелее в том смысле, что мы были вынуждены (и мы это понимали) приложить больше усилий и больше иметь жертв, чем если бы нам удался фланговый удар. Почему же мы отказались от удара во фланг? Мы располагали сравнительно небольшими силами. Было опасно этими силами проводить маневренный удар. Мы рассуждали так: хорошо, мы ударим с фланга. Зайдем со своего правого фланга и ударим по левому флангу группировки противника. Видимо, прорвем его оборону. Но какая существует гарантия, что противник не сделает то же самое, то есть не нанесет нам фланговый удар по нашему новому флангу? Тогда получится, что мы, желая окружить противника, сами попадем в окружение и понесем потери. То, что мы теснили противника, еще не служило доказательством того, что он, как и мы, не подтянул резервы и не обеспечил себе возможность контрудара. Решили, как сказал Жуков, бить в лоб, перемалывая силы противника: все равно где-то ведь надо их перемолоть, иначе продвижения вперед мы не получим. Был организован лобовой удар.
Сил к тому времени у нас было даже меньше, чем к 5 июля, к началу немецкого наступления. Но мы чувствовали, что и такими силами можем нанести удар противнику. Нанесли удар. Враг дрогнул, стал пятиться. Я говорю - пятиться, но не говорю - бежать. Так путем оттеснения мы оттесняли противника на юго-запад. Заняли Белгород, потом Харьков[210]. Взятие Харькова - это была большая победа. То ли в качестве члена Военного совета фронта поехал я в Харьков, то ли я там был в качестве секретаря ЦК КП(б)У (потому что Харьков в то время не входил в полосу нашего фронта). Торжество в Харькове состоялось большое. Народ хорошо встретил вступление в город Красной Армии. Мы провели там большой митинг, все было очень торжественно, люди сияли. Но были и омрачения на митинге. Не помню, на какой площади организовали митинг, наверное, на площади перед зданием Госпрома или, может быть, на Сумской улице. Построили трибуну, составив грузовые машины. Народу собралось много. Помню, стояли мы и ожидали, когда городские власти подготовят митинг к открытию. И вдруг появляются один или два воздушных разведчика противника и кружат над городом. Как воробьи, которые, когда налетает ястреб, сейчас же прячутся под крыши, так и народ побежал к домам.
Вижу, если не принять каких-то мер, то мы можем остаться с пустой площадью, народ разбежится. Я стоял рядом с Жуковым и говорю ему: "Давайте взойдем на трибуну. Это сразу стабилизирует положение". Он отвечает: "Пойдем". Мы поднялись на трибуну, и народ, как только увидел, что мы поднялись на грузовые машины, тоже стал подходить, уплотняться вокруг импровизированной трибуны. Потом появились в воздухе наши истребители, и самолеты противника улетели. Мы позднее часто вспоминали с Жуковым, в каких условиях пришлось нам проводить митинг, когда Харьков-то заняли, а противник стоял буквально под боком. Еще мы провели в театре какое-то собрание харьковской интеллигенции. Тогда, по-моему, вражеские снаряды вообще падали в этом районе, противник был еще очень близко. Это свидетельствует о том, что у нас сил было достаточно, чтобы отогнать его от Харькова, но недалеко. Вот такие были тогда переживания. У меня в памяти отложилось еще несколько эпизодов. Правительство Украины устроило для военных, участников разгрома противника и освобождения Харькова обед. Не так-то и много было людей на обеде. Были там Жуков и Конев. Но Ватутина не было, так как этот участок отошел от Воронежского фронта к Степному, где командующим был Конев. Обедали. По такому случаю поставили 100 граммов, а желающие могли получить даже больше. Помню, что артист Лаптев[211], видимо, получил больше 100 граммов. Иначе он не обратился бы со своей просьбой, подойдя к нам.
Мы сидели рядом с Жуковым, и он обратился к Жукову: "Вот вы генерал, и я тоже очень хочу быть военным. Я вас очень прошу, присвойте мне звание полковника. Я очень хочу иметь звание полковника". Человек был, так сказать, под хмелем. Я-то знал Лаптева, и если бы не такое его состояние, то вряд ли бы он настойчиво старался показать, как ему хочется быть военным и иметь звание полковника. Генерал, конечно, больше. Но до генерала он не дотянул. Видимо, считал, что за следующим обедом можно будет добраться и до генерала, после того как ему будет присвоено звание полковника. Я отговаривал его шуточками, но он продолжал просить. И что меня удивило? Под каким-то особым настроением, может быть - под влиянием 100 граммов, вдруг поворачивается ко мне Жуков и говорит: "А знаешь (мы с ним находились в дружеских отношениях), ведь я имею право как заместитель Верховного Главнокомандующего присваивать звания до полковника включительно". Я отвечаю: "Давай мы эти вопросы обсудим завтра". И стал уже более твердо настаивать, чтобы Лаптев прекратил свои просьбы и занял свое место. Он это и сделал. Конечно, назавтра уже никто не поднимал этого вопроса, ни Лаптев, ни тем более Жуков, а я ему даже не напоминал. Представляю себе, если бы такое случилось, то какой невероятный возник бы скандал. Оправданный скандал - ведь воинскими званиями нельзя бросаться, особенно по просьбе тех, которые сами с нею обращаются, нельзя просто так присваивать воинские звания, тем более полковника.
Занялся я делами Харькова. Еще до освобождения и Харькова, и вообще всех областных и районных городов Украины мы заранее создавали организационные комитеты и назначали на определенные посты нужных людей. Как только освобождался очередной город, они вступали в свои права и начинали налаживать жизнь, обслуживание населения, приводить в порядок производство, обеспечивать народ всем необходимым. В первую очередь организовывали снабжение продовольствием, восстанавливали водопровод, электростанции, трамвай, канализацию. Меня тянуло посмотреть, что же случилось с Харьковским тракторным заводом? Он был построен вскоре после Сталинградского тракторного и обладал такой же мощностью. Я хотел посмотреть, как быстро можно восстановить этот завод, потому что без восстановления производства тракторов не было даже возможности думать, что нам удастся восстановить сельское хозяйство Украины, а следовательно, обеспечить народ продовольствием, прежде всего хлебом и сахаром. Поехал я на Тракторный и увидел там печальную картину. Когда мы зимой 1942/43 гг. в первый раз освободили Харьков, то Тракторный завод был пуст, но его корпуса были готовы принять станочное оборудование. Пожалуйста, давайте заказы и сырье, и сразу можно запускать производство. А в августе 1943 г. завод лежал в руинах. Другие заводы тоже были разрушены, как и жилые кварталы. Харькову был нанесен очень большой ущерб. Но война есть война! Мы хотели, конечно, чтобы было лучше.
Но были готовы и к тому, с чем встретились в Харькове, разрушенном гитлеровскими ордами. Секретарем обкома партии мы назначили, по-моему, Чураева[212]. Председателем облисполкома, когда мы отступали, был, кажется, Свинаренко, но он был убит при бомбежке в Валуйках, где стоял наш штаб фронта. Он шел ночью по улице, взорвалась бомба, и он погиб. Это был хороший, молодой, энергичный человек, по образованию агроном или зоотехник[213]. Кого мы назначили на его место в августе 1943 г., не помню. Сейчас у меня выскочило из памяти, кто же были тогда председатель облисполкома, секретарь горкома партии, председатель горисполкома. Но люди зашевелились, кадры у нас имелись в резерве, и мы сейчас же организовали местное руководство, которое обеспечило восстановление нормальной жизни и деятельности города и области. Тем временем Воронежский фронт продолжал выпрямлять Курскую дугу. Вершина южного фаса дуги лежала под Сумами. Здесь-то мы и нанесли удар. Но на фланге, с более южной стороны, противник нависал над нами, и нам надо было его и здесь разгромить, иначе он мог бы, восстановив свои силы, причинить нам неприятности. Там у нас оставались 40-я армия Москаленко, 27-я армия Трофименко, 38-я армия Чибисова, а справа примыкала 60-я армия, которая входила в состав Центрального фронта Рокоссовского.
Впрочем, в ходе боев наши армии менялись местами. Мы стали думать об организации нового удара, с тем чтобы сломить противника, стоявшего против армии Москаленко, и сбили там противника с его позиций даже с меньшими усилиями и потерями, чем при наступлении 3 августа, хотя он и оказывал еще довольно сильное сопротивление. Особенно упорное сопротивление мы встретили в районе Томаровки. Враг там не отошел, мы окружили его войска, но затратили довольно много времени и сил, чтобы разгромить их. Они цепко держались, не уступали нам, не бежали, а дрались за каждую пядь земли. Потом продолжила наступление 27-я армия. Она была более полнокровной, так как из нее ранее меньше было взято на главное направление боев. Кроме того, мы получили подкрепление - танковый корпус под командованием Полубоярова[214]. Тогда уже мы сами выбирали время и направление удара. Мы были абсолютно уверены, что не только организуем наступление, но и что это наступление завершится разгромом противника. Мы с Ватутиным, Ивановым[215] и другими членами Военного совета и командующими родами войск определили направление главного удара, стали готовиться к наступлению и подтягивать все необходимое. Мы уже тогда получили артиллерийский корпус Резерва Верховного Главнокомандования, который должен был нанести удар по переднему краю противника и облегчить наш прорыв. Не помню, выезжали ли мы все в Москву для утверждения этого плана или послали туда начштаба фронта Иванова.
Такие случаи бывали, потому что это наступление не считалось генеральной битвой: просто в результате разгрома противника мы приступили к скалыванию его флангов на Курской дуге. Потом прилетел Жуков. Я был очень рад его приезду, потому что он всегда привносил в операцию что-то новое. Человек он был уверенный в своих способностях, и решительно вмешивался в подготовку операции и ее проведение. Он всегда с толком разбирался, где и какие силы противника расставлены, и высказывал определенное мнение, как лучше использовать на данном участке наши силы. Я с доверием относился к такому его вмешательству. Это не только не задевало моего самолюбия, но и радовало меня. Не знаю, как думал командующий войсками. Может быть, он и проявлял некоторую болезненность, хотя я не замечал со стороны Ватутина таких переживаний. Готовили мы эту операцию, развесили карты, обсуждали направление удара. Сидели Жуков, Ватутин, я и Иванов. Жуков подошел к карте, ткнул пальцем и говорит: "А что если нам не здесь ударить, а несколько глубже?". То есть опять мы возвращались к старому вопросу, который возник, когда мы готовили наступление 3 августа.
Как ударить: в лоб или во фланг? Если ударить, как мы предлагали, в лоб, то получалось небольшое скалывание по линии фронта, сейчас не помню, на сколько километров. Жуков же замахнулся значительно западнее. Там находился крупный населенный пункт, районный центр. У нас в это время уже появился задор: а почему бы и нет? Мы ведь разбили главные силы врага; может быть, здесь следует ударить посмелее? Решили нанести удар в этом направлении и сразу же поручили начальнику штаба переработать оперативную карту и задания для войск, дать необходимые указания командующему армией Трофименко, на участке которого будет проводиться эта наступательная операция. Особенных изменений не произошло, кроме направления самого удара. Шло время. Работали тылы, подвозили все необходимое для обеспечения боев. Незадолго до начала проведения операции поехали мы с Ватутиным к Трофименко, чтобы послушать его на месте, конкретнее разобраться в обстановке, с тем чтобы быть более уверенными в успехе. Трофименко располагался в поле, в каком-то леске или кустарнике. Лесов там мало, это юг Курской области, на границе с Украиной, а может быть, это была уже украинская земля. Его штаб находился в палатке. Он развернул карту и начал докладывать, как идет подготовка. Я с уважением относился к этому генералу. Он был моложе других командующих армиями, но человек был образованный и опытный.
И вдруг Трофименко стал докладывать о новом направлении главного удара как о худшем, чем то, которое было намечено первоначально. Ватутин встрепенулся. Он очень не любил менять принятого решения. Он мне не раз доказывал, что военные, раз приняв решение, не должны менять его. Я же ему возражал: "Товарищ Ватутин, если военный или даже невоенный человек, приняв какое-то решение, видит, что вырисовывается новое, более интересное, которое позволит с меньшими потерями выиграть сражение, то глупо придерживаться старого. Дескать, раз я сказал, то так и буду делать. Это глупо, и я не понимаю этого. Хоть для военных, хоть для гражданских лиц это принцип ослиного упорства, а не разумное изыскание лучшего решения".
Произошел довольно натянутый разговор, чего у меня никогда раньше не случалось с Ватутиным, да и позже тоже не случалось. Я его не только уважал, но просто любил этого человека. И я не стал спорить, а только задавал вопросы: "Почему вы считаете, что лучше первое направление?". Трофименко: "Вот, смотрите по карте. Я здесь на брюхе ползал, ночью и на рассвете, и хорошо изучил этот участок. Вот первое место. Передо мной нет вблизи никакого населенного пункта, передний край проходит в низине, а за этой низиной - заболоченное место, которое танки смогут преодолеть. Я в этом уверен. Если танкам не удастся пройти с ходу, то можно небольшими усилиями обеспечить танкопроходимость участка. Передний же край противника я просто вижу, потому что наши позиции лежат выше, чем у противника".
И действительно, когда мы приехали на его командный пункт, то точка для него была выбрана такая, откуда видны окопы противника. "А вот, - продолжает, новое направление. Здесь районный центр, там много кирпичных зданий. Думаю, противник превратил их в доты, поставил пулеметы, может быть, и артиллерию. Чтобы выбить оттуда немцев, надо приложить большие усилия. Кроме того, перед районным центром есть три пруда. Они неглубокие, но наполнены водой. Хотя воду можно спустить, но грязь-то останется, и танки вряд ли смогут пройти. Я убежден, что, если останется второе направление, тоже выбью противника, но с большими усилиями и с большими потерями. Я просил бы, если возможно, оставить мне старое направление". Я не стал высказывать своего мнения, потому что высказался командующий войсками, и я не хотел, чтобы перед командующим армией у нас выявились разные мнения. Но не хотел поддерживать и Ватутина. Говорю: "Хорошо, поедем к себе". Уехали. Когда сели в машину, а мы вместе с Ватутиным ехали на "виллисе", я стал доказывать, что Трофименко, по-моему, прав, его доводы разумны, тем более что это направление именно нами с вами было выбрано, а переменили мы его по совету Жукова. Он только посоветовал нам, но не приказал так делать. Мы сами уцепились за его предложение, потому что оно казалось более выгодным и позволяло глубже сколоть фланг противника.
Теперь видно, что мы плохо изучили этот район, а к Жукову предъявлять претензии нельзя: он совсем района не изучал, а просто ткнул пальцем. Считаю, что надо поддержать Трофименко. Ватутин опять начал мне доказывать, что менять решение нельзя. "Мы все распределили, отвели позиции для установки тяжелого артиллерийского корпуса, который уже на марше". Я возражал: "Да, мы выбрали новые позиции для орудий, но и старые у нас тоже выбраны. Корпус перемещается с востока, так что ему старые позиции даже ближе на несколько километров. Думаю, что это не препятствие". Он со мной не соглашался. Приехали мы в штаб. Мне ничего не оставалось делать, как написать Сталину. Я послал шифровку. Значительно раньше того Сталин предложил мне: "Вы возьмите шифр и шифровальщика, чтобы непосредственно от вас, минуя штаб фронта, я получал то, о чем вы будете считать необходимым докладывать". Теперь я воспользовался этим, составил шифровку и послал Сталину. Назавтра мы собрались с командующим войсками поехать в 38-ю армию. Ею командовал генерал Чибисов. К нему было далеко ехать.
В дороге вдруг догоняет нас на "виллисе" офицер из штаба и говорит, что был звонок из Москвы, от Иванова. В то время были в ходу фронтовые псевдонимы, и у Сталина был псевдоним "Иванов". "Иванов приказал позвонить ему по телефону ВЧ из ближайшего пункта". Нам было ближе всего проехать в штаб к Чибисову. Я понял, что Сталин, видимо, прочел мою шифровку и хочет уточнить для себя наши разногласия, поэтому считал своим долгом предупредить командующего фронтом, чтобы он не был застигнут врасплох, и сказал ему: "Николай Федорович, думаю, что Сталин будет спрашивать вот по такому-то вопросу. Я сообщил Сталину мнение командующего армией Трофименко и хочу предупредить, чтобы вы подготовились, продумали ответы на вопросы, которые он поставит". И опять сказал, что я и сейчас считаю, что надо принять предложение Трофименко и вернуться к нашему старому варианту. Он умолк, обдумывая дело. Видимо, волновался. Безусловно, моя позиция вызывала его недовольство, но я вынужден был пойти на это. У меня сложились добрые, дружеские отношения с командующим войсками. Но ведь шла война. Нельзя в угоду тому, чтобы не нарушить дружеских отношений, пренебрегать опасностью, что мы больше затратим сил и больше прольем крови. Я считал, что нет иного выбора.
Приехали мы к Чибисову в штаб и по телефону вызвали Москву. Сталин ответил. Не помню, меня ли он раньше подозвал к телефону или сразу командующего войсками. Стою рядом, а Ватутин говорит: "Я считаю, что если мы опять переменим направление удара, то не сможем уложиться в сроки, которые определены для наступления. Прошу оставить второе направление, тогда мы обеспечим начало операции в определенный срок". Сталин сказал, чтобы тот передал трубку мне, и говорит: "Вы слышали?". Отвечаю: "Слышал, но считаю, что это не совсем точно. И начал доказывать, что арткорпус сейчас на марше, и если мы немедленно примем решение вернуться на старое направление, то там места уже определены для орудий, потому что заранее была проведена разведка командиром корпуса, а проехать туда даже ближе. Думаю, что никакого нарушения сроков не произойдет. Сталин: "Я поддерживаю вас. Если надо будет продлить срок, считаю, что можно продлить". Отвечаю: "Лучше всего мы сейчас поговорим с Трофименко, а потом мы еще раз Вам скажем, каково его мнение". - "Ну, хорошо". Мы тут же вызвали Трофименко по телефону. С ним разговаривал Ватутин. Тот сказал, что укладывается в те же сроки, никакого дополнительного времени ему не нужно. Потом взял трубку я, и Трофименко повторил мне то же самое. Мы опять позвонили Сталину. По-моему, с ним говорил я: "Вот, поговорили с Трофименко, он не просит удлинения сроков, готов проводить операцию в те сроки, которые намечены, и абсолютно уверен в успехе операции". Сталин: "Я согласен, я за ваш вариант".
Но это не мой вариант, это вариант штаба фронта, который был утвержден Генеральным штабом и, следовательно, Сталиным. Я передал трубку командующему войсками, и Сталин сказал, что поддерживает вариант Хрущева. На этом разговор кончился. С обстановкой в 38-й армии мы уже разобрались. Мы приехали к Чибисову, чтобы его послушать, потому что следующей операцией, после наступления Трофименко, была намечена операция 38-й армии. У нас она не была еще разработана, и мы послушали командующего, с тем чтобы он высказал свое мнение, как считает возможным организовать удар прямо на запад. Тут мы, как говорится, лицом повернулись уже к Днепру, к Киеву. Послушали мы его и вернулись к себе. По дороге заехали к Трофименко и сказали, что удовлетворяем его просьбу, изменяем свой приказ и что удар будет наноситься на направлении, которое было определено первым. Тот буквально просиял и начал нас заверять, что операция будет проведена успешно. Мне понравилось, что человек заботится о том, чтобы провести операцию с меньшими затратами. Продолжалась подготовка, срок вплотную приблизился к намеченному началу наступления. В это время опять к нам приехал Жуков. Он уже знал, что мы изменили направление удара. Я сказал Жукову: "Вы тогда ткнули пальцем в карту и, видимо, не разобрались, а вот командующий армией критически отнесся к этому решению.
Мы еще раз изучили обстановку и убедились, что направление, которое было раньше избрано для наступления, лучше. Поэтому мы изменили решение, принятое в ваш прошлый приезд. Командующий армией настаивал, чтобы вернуться к первому варианту решения, мы так и сделали, и нам это утвердили". Я был обрадован, что он без всякого ложного самолюбия, спокойно, даже с какой-то веселостью согласился: "Видимо, лучше так. Раз Трофименко говорит, то, видимо, так лучше". Решили мы с Жуковым поехать к Трофименко. Трофименко уже подготовился к наступлению. Было подтянуто все, что нужно, для начала боевых действий. Когда мы приехали, то увидели, что на позициях стояли даже "катюши". Это, так сказать, готовность ? 1. Там произошел такой инцидент. Мы подъехали поближе к переднему краю, чтобы не попасть под навесный обстрел противника, и Жуков в своей резкой манере отрывисто спросил офицера, сопровождавшего нас: "Куда нам тут ехать?". Тот ответил: "Вон, на горочку". Мы подъехали. Стоят "катюши". Они стреляют на довольно близкое расстояние, так что мы подлезли очень близко к противнику и на "виллисе" выскочили на горку. Как только выскочили, сейчас же противник накрыл нас минометным огнем, но никто не пострадал. Мы выбрались из "виллиса", а тут лежал ход сообщения, и мы нырнули в него. Жуков очень ругал этого офицера: "Что же ты нас подставил под минометный огонь? Ты что, испытания проводишь?". Офицер должен был предупредить нас, что если мы поднимемся на горку, то противник нас увидит и, конечно, не простит нам такой дерзости, а хотя бы попугает нас минометным огнем. Прошли мы по ходу сообщения на командный пункт, тоже на горочке, а еще там были накаты, и то, и се. Он выглядел как пуп на животе и, видимо, со стороны противника хорошо проглядывался. Но оборудован был хорошо, имелась оптика для наблюдения, очень хорошо был виден передний край и низина, которую нам надо было преодолеть танками.
Докладывал Трофименко, полностью уверенный, что готов наступать. Наступление действительно протекало хорошо. После артиллерийской подготовки наши войска пошли в атаку на противника. Это с командного пункта все было видно, потому что командный пункт был расположен для обозрения поля боя идеально. Но возникла заминка станковым корпусом Полубоярова. Ко мне обратился Трофименко: "Танкам пора идти в прорыв, чтобы развивать успех пехоты, а они медлят". Мы приказали командиру корпуса, который находился тут же, с нами, чтобы танки двинулись вперед. Но они не двигаются. Я опять к нему: "Что же вы?". Он: "Там болото. Надо его укрепить, иначе танки не пройдут". Одним словом, тянет дело. Я ему: "Вы примите меры поскорее. Потеряем время, и противник что-то сможет сделать, подтянет в район прорыва какие-то силы, а если у него есть танки, то и танки сюда бросит. Надо воспользоваться успехом, который создан сейчас пехотой". Меня его задержка тогда очень рассердила. Потом я упрекал этого генерала: "Вы бережете танки, но не бережете солдатскую кровь. Хотите, чтобы пехота расширила прорыв и обеспечила лучшие условия для продвижения танков". Действительно, ни один танк там не застрял. Трофименко был прав, когда говорил, что это болото проходимо для танков. Полубояров, видимо, этот случай очень переживал. Он вообще-то человек добросовестный. Помню, уже после войны он приехал ко мне в Киев с тем, чтобы еще раз объясниться; говорил, что хочет, чтобы его правильно поняли: имелись такие-то и такие-то препятствия, которые он должен был преодолеть, чтобы пустить танковый корпус в прорыв, осуществленный пехотой.
Но у меня сложилось впечатление, что он жалел танки. И я ему сказал: "Дело прошлое, война кончилась, противник разбит. Ваши танки хорошо действовали, когда пошли в бой, но я считаю, что вы замедлили ввод танкового корпуса в прорыв, который был образован пехотой. Впрочем, победителей не судят" (ходячая фраза у военных)[216]. Успех был достигнут. Наши армии наступали и развивали успех дальше. Конкретных же воспоминаний о действиях 27-й армии у меня не отложилось в памяти. 38-я армия двинулась в наступление последней. Шли упорные бои, но мы продвигались вперед, выровняли линию фронта и разогнули часть дуги, которая с юга нависала над нами. Фронт развернулся теперь прямо на запад по всей своей линии. То же самое сделал Рокоссовский: он развернул правую сторону дуги, тоже выровнял фронт и повернул на запад. Когда мы готовились к наступлению, я ездил к нему в штаб и беседовал с ним. Я не в первый раз встречался с ним. Мы встречались еще тогда, когда он командовал войсками Донского фронта. Встретиться с Рокоссовским всегда было приятно. Он был хорош как командующий и как умный человек. Двинулись мы на запад. К нам поступила еще одна армия, 4-я Гвардейская. Командовал ею генерал Кулик[217]. Его понизили в звании в первый же год войны, лишив маршальского звания. Не помню, в каком генеральском звании он тогда был у нас: не то генерал-майор, не то генерал-лейтенант. Членом Военною совета у него был Шепилов[218]. Армия же - Гвардейская, как говорится, одета и обута с иголочки, а вооружена всем, чем мы могли в то время вооружить ее. Мы, конечно, были рады, что получили такую армию, но ни я, ни Ватутин не обманывали себя. Ее командующий не внушал нам ни доверия, ни уважения. Я был знаком с ним раньше, знал его плохой характер, и мне просто было жаль этой армии. Такая замечательная армия, а вот командующим был назначен Кулик.
Почему Сталин назначил его, мне трудно объяснить. Он сам его прежде разжаловал, но не знаю, насколько тот был виноват, насколько было обосновано лишение его звания маршала. Значит, его наказали за конкретные дела. Он всегда был человеком ограниченным. Маршальское звание получил потому, что Сталин знал его по Царицыну 1918 года. Прибыла эта армия, начала действовать. Мы, по-моему, поставили ее в направлении примерно на Полтаву или немного севернее Полтавы. Сам Кулик был родом из деревни под Полтавой[219]. Мы с Ватутиным выехали в его армию. Мне хотелось еще раз встретиться с Куликом. Зашли к нему в штаб, он как раз вел разговор по телефону. Я слушал, и меня очень обеспокоил и даже раздражал этот разговор, фразы его по содержанию были довольно нечеткими, и я жалел командиров корпусов. Они тоже, видимо, чувствовали недостаточную квалификацию командующего армией. Тогда мы отправили Сталину записку, в которой сказали, что недовольны командующим армией и что надо его заменить, потому что мы боимся за армию, боимся, что будут лишние потери, причем самые тяжелые, в результате неумелого управления войсками. В конце концов Сталин согласился с нами, и нам сообщили, что Кулик отзывается и назначается новый командующий. Шепилов же тогда произвел на меня хорошее впечатление. Он умный человек, и я считал, что он на своем месте как член Военного совета армии. Но, каким бы он ни был, это ведь не командующий.
Командующий определяет все: и командует, и дает указания. Поэтому важно подобрать хорошего командующего. Я сейчас не помню фамилии нового командующего. Я его не знал и, собственно говоря, так и не смог с ним встретиться. Он погиб. Он полетел прямо в расположение армии, и не знаю, почему не заехал в штаб фронта. Когда же он с аэродрома ехал на "виллисе" в штаб армии, то совершенно случайно подорвался на мине[220]. Таким образом, мы не получили нового командующего, и какое-то время Кулик еще продолжал командовать. Потом прислали еще кого-то[221]. Не помню, кто сменил Кулика в командовании этой Гвардейской армией. Эта армия поредела в результате боев, но в какой-то степени потери были увеличены неумелым руководством Кулика. Сталин вскипел. Он позвонил и выражал очень резко свое недовольство тем, что подорвался на мине новый командующий. Можете себе представить, ехал командующий на "виллисе" и наскочил на мину противника. Значит, член Военного совета фронта виноват! Сталин упрекал меня, что я не берегу командующих армиями. А я не представляю себе, как можно уберечь командующего армией, чтобы он не наскочил на мину. Мы все там ездили, и солдаты, и офицеры, и генералы, и маршалы. Это же война. А где лежит мина противника - она об этом не говорит. Это неизбежные потери, как на всякой войне. Но у нас это усугублялось тем, что незадолго до того, и тоже на мине, подорвался командующий еще одной армией, который был назначен вместо Чибисова. Чибисов был освобожден от должности, потому что мы с Ватутиным были им недовольны и говорили об этом Сталину. Новый командующий принял армию и буквально через неделю подорвался на мине. Оба генерала подорвались в течение одной недели. И опять - упреки: "Вот уже два командующих у вас подорвались. Не бережете вы их". Меня возмущало, как он может, сидя в Кремле, требовать, чтобы я давал указания командующим, как им ехать на "виллисе", дабы не налететь на мины, разбросанные противником.
Мы как раз вступили в полосу наступления, и это могли быть и наши мины, которые мы раньше оставляли тут. И мы минировали, и противник минировал, и здесь никаких претензий не должно быть. Помню, как через два года после войны в Киеве, у дороги, по которой уже было открыто движение и прошли минеры, подорвался трактор. Ехал, свернул с дороги и подорвался на мине. Тогда же я, конечно, возмущался, что Сталин выражает недовольство, и отвечал, что здесь я никак не могу взять на себя вину в гибели двух генералов. Это непредвиденная гибель, которая всегда возможна на фронте. Тогда командующим воздушными силами у нас на фронте был генерал Красовский[222]. Сейчас он начальник Военно-воздушной академии имени Гагарина. По национальности белорус. Порядочный человек, душу вкладывает в свое дело, старается, чтобы дело шло лучше. Однажды он пришел ко мне с предложением, новой выдумкой, как уничтожить противника. Рассказывает: "Я хочу провести такую операцию: вооружить самолеты зажигательным порошком, который, если его разбросать с воздуха, зажжет посевы, траву. Если эту зажигательную смесь высыпем на аэродромы, то трава, она сейчас сухая, сразу загорится, и самолеты, следовательно, тоже загорятся". Я слушал его и вспоминал первый год войны. Сколько раз мы пользовались этой смесью, но не знаю случая, чтобы оказался хороший результат. Говорю: "Товарищ Красовский, по-моему, ничего из этого не выйдет. Мы только себя будем утешать и питать какие-то надежды, а трава-то не загорится. Сколько раз мы ее поджигали. Бывало, выгорит кусочек, но солдаты быстро гасят пожар. Мы поджигали и посевы созревшей пшеницы, чтобы не оставлять ее немцам, но оставались люди, а это - их пшеница. У них имелись свои соображения, и они сами все гасили. И потом, это вообще малоэффективное средство. Прежде чем применять на фронте, испытайте. Рассыпьте где-то этот порошок и посмотрите, как он действует, чтобы быть уверенным, что мы уничтожим им на аэродромах авиацию противника". Он испытал порошок и, как добросовестный человек, пришел ко мне и говорит: "Да, вы правы, затея не стоит труда, я отказываюсь от нее". Мы иной раз потом шутили на эту тему с Красовским. Он очень приятный человек, и я относился к нему с уважением.
Вот еще один эпизод. Он относится к более раннему периоду. Шел второй год войны. Тогда командующим авиацией у нас был генерал Фалалеев[223]. Хороший генерал. В тяжелый момент наступления противника, когда мы были совсем истощены и перед нами стояла одна перспектива - отступать и отступать, так как мы не могли сдержать врага, он принес боевое донесение от авиации с просьбой включить его во фронтовое боевое донесение и послать в Генеральный штаб. В нем сообщалось, какие мы нанесли противнику потери в течение дня. Фалалеев докладывал, что наша авиация в этот день вывела из строя 500 танков противника. Я взглянул на него: "Товарищ Фалалеев, 500 танков? Это никак я не могу принять и не смогу согласиться. 500 танков за один день? Да вы знаете, какая это сила? Ну, хорошо, вот вы заместитель командующего фронтом и командующий авиацией. Как вы считаете, если мы уничтожили 500 танков, то каким завтра будет наше положение на фронте? Удержим мы позиции, на которых стоят наши войска, или нам придется отступать?". А я знал, что придется отступать, что наши войска не удержатся. Он тоже говорит: "Нет, наши войска не удержатся". - "Так как же тогда Ставка будет рассматривать наше донесение? 500 танков мы уничтожили за один день и бежим от противника? Тут ведь нет логики. Я думаю, что вам врут, пишут, сколько было прямых попаданий.
Пишут, что некоторые танки даже перевернулись. Я советую вам, товарищ Фалалеев, проведите эксперимент. Обстреляйте с этих штурмовиков эрэсами любые танки и назначьте премию за попадание. Вы увидите, как трудно получить прямое попадание с воздуха. Возможно, вообще летчики не получат премий. А то, что из эрэсов попали точно под танк и танк переворачивается - это абсурд. Я рекомендую вам, возьмите эрэсовский снаряд, подложите под танк и взорвите его. Думаю, что у него не хватит взрывной мощи перевернуть танк. А тут ведь не подкладывается снаряд, а попадает с воздуха. Это же невероятный случай. Давайте напишем 250?". Не помню, на какой цифре мы тогда сошлись. Какую-то цифру надо было написать, основанную на теории вероятности. А Фалалеев говорил, что у него все просчитано. Я же не верил такому счету. Мы послали донесение и, действительно, вынуждены были затем отходить. Потом Фалалеев докладывал мне, что провел эксперимент: "Я поставил стол и назначил премию тому, кто в стол попадет с воздуха". Премия никем не была взята. Конечно, наши штурмовики били по танкам, но чтобы в один день уничтожить 500 танков? Этого и противник не мог тогда сделать, а у него в ту пору авиация была сильнее нашей. Мы же, к сожалению, никак не могли такого сделать, тем более в 1942 г., когда наши силы были основательно потрепаны и истощены.
Вот как случается на войне. Говорят, Суворов, когда взял Измаил и написал донесение матушке-царице Екатерине, сообщил, что он уничтожил 70 тысяч турок. Адъютант ему сказал: "Ваше превосходительство, там их столько и не было". Суворов же ответил ему: "Басурман не жалко, пиши!". Наверное, так происходило еще и до Суворова. Перехожу опять к рассказу о нашем наступлении к Днепру. После боев под Полтавой наши солдаты, офицеры и генералы были уверены в своих силах. Если раньше нам казалось, что, когда против нас стоят немцы, их трудно или даже невозможно сбить с позиций, то теперь в сознании всех, от солдата до генерала, точка зрения изменилась. Появилась уверенность в наших возможностях и даже в превосходстве над противником. Это было очень приятное время. Мы продолжали продвигаться вперед, к Днепру. Помню, пришел однажды Красовский и докладывает, что прилетели летчики с операции. Возвращаясь, они видели сплошное море огня, пшеница созрела, рожь созрела, яровые созрели и вот горят. Мне было больно слушать его. Он тут ни при чем, докладывал то, что видели летчики. Отвечаю: "Не могу согласиться, думаю, что это не так". Мне просто не хотелось верить ему. Я сам себе объяснял, что это невозможно. Говорю: "Летчики возвращались из боя на большой скорости. Может быть, где-то и возник очаг огня, а когда они проскакивали, то у них в глазах образовалось целое море огня. Не может того быть!". Я очень не хотел этого. Мы наступали, хотелось получить хлеб для страны и для армии. И действительно, в освобожденных районах в 1943 г. мы заготовили сравнительно много хлеба. На Украине урожай был как раз хорошим. Сказал Красовскому: "Будем наступать, увидим". А когда мы наступали и освобождали наши районы, то нигде не видели, чтобы сгорело много хлеба. Я потом шутил: "Товарищ Красовский, где же сгоревшие поля, то море огня, которое видели летчики?".
Мои предположения сбылись. На войне иной раз случается расширение зрачков. Помню также доклад относительно ночных бомбежек. К нам в то время прибыл генерал Скрипко[224]. Он тогда командовал ночной бомбардировочной авиацией дальнего действия. Хороший генерал. Я знал его по Сталинграду, он хорошо там поработал. Это бывалый "ночник". Он, прибыв в наше распоряжение, работал теперь в интересах нашего фронта. Нам тогда донесли, что под Полтавой (я и сейчас отлично помню название этого села - Мачоха) расположен не то склад боеприпасов, не то ремонтная база противника. Мы готовились наступать, а лишить противника боеприпасов, горючего и других средств ведения войны - заветная мечта каждого командующего. Вызвали Скрипко и показали донесение разведки, дали задание - разбомбить! Конечно, сейчас могут сказать, что в селе же живут люди. Да, живут люди, но и наступают люди. На войне всегда встает очень тяжелый выбор: пожалеешь одного, потеряешь больше. Поэтому мы решили бомбить склад, который будут использовать немцы, чтобы бить наших же. Наутро Скрипко докладывает: "Все сровнял с землей. Все уничтожено". Но я уже имел опыт, и немалый. Посмотрел на него и говорю: "Имейте в виду, ведь мы же наступаем, скоро будем в Полтаве и освободим Мачоху. Я потом скажу вам, насколько соответствует истине донесение, которое вы получили от тех, кто бомбил склад". Какое же огорчение было для Скрипко, когда мы освободили этот район, и я ему сказал: "Товарищ Скрипко, можете поехать в Мачоху. Ни один дом не сожжен, Мачоха вообще никаких потерь не имела. Спрашивается, куда летчики сбросили бомбы? Что горело, когда вы докладывали, что все там уничтожено?". И потом я часто спрашивал при встречах: "Товарищ Скрипко, так как там Мачоха?".
Мачоха стала для него нарицательным понятием. Конечно, в боевых операциях было и то, и другое. И бомбили, и зажигали, и уничтожали, и разносили врага. Но бывали и случаи, когда доносили о таких вещах, которые были построены неизвестно на чем. Была ли то сознательная ложь или они куда-то сбросили ночью бомбы, просто потеряв ориентировку? Трудно сказать. Я сейчас даже не помню, было ли вообще что-либо сожжено вблизи Мачохи. А вот еще и такой случай. О нем я знал со слов Сталина. Когда мы воевали с Финляндией в 1939/40 г., то тогда тоже доносили, как наши летчики уничтожали паровозы противника. Имелся приказ лишить финнов паровозов, чтобы создать им затруднения в пользовании железнодорожным транспортом. Донесли, что мы столько набили этих паровозов, что у них ни одного целого паровоза не осталось[225]. Когда же мы вошли в этот район, то и не нашли битых паровозов. Сталин прямо говорил: "Врали!". Я не могу говорить так грубо. Одно дело - врать, другое дело - ошибаться. Это же война. Не думаю, что врали сознательно. Нет, думаю, что ошибались, а ошибки возможны, тем более при ночной бомбежке.
КИЕВ СНОВА НАШ!
И вот дожили мы до того времени, когда наши войска опять вышли к среднему течению Днепра и захватили небольшие плацдармы на правом его берегу[226]. Вы можете себе представить, какая была радость у всех? Возможно, я преувеличиваю, но у меня была особая радость: я ведь "отвечал" за Украину, был секретарем ее ЦК Компартии. К тому же детство и юность я провел, работая на заводах в Донбассе, и сжился с этими районами. Совсем еще недавно я очень переживал отступление Красной Армии. До сих пор помню ту ужасную картину: сплошные потоки беженцев с детишками, с курами, с гусями, с козами, с коровами. Страшная картина! А теперь мы двигаемся вперед, на Запад. 1953 год - год радости, победного наступления наших войск. Мы вышли к Днепру, заняли Переяслав[227], этот исторический город. В нем Богдан Хмельницкий принимал русских послов и подписал договор о том, что Украина входит в состав Российского государства, становится под руку русского царя. Буржуазные националисты проклинали и этот день, и этот город, называли подписанный договор "Переяславской угодой", которая закабалила Украину. Ну, да ведь это националисты...
Действия Богдана Хмельницкого были прогрессивны, они сыграли полезную роль в истории и украинского, и русского народов. Объединились два великих родственных народа, русские с украинцами, и после этого вместе переживали все радости и горести. Мы с Ватутиным торжествовали. Ватутин перед войной был начальником штаба Киевского Особого военного округа[228], долго жил на Украине. Нам с ним уже мерещилась Киево-Печерская лавра над Днепром. Я и сейчас радостно вспоминаю те дни, когда мы изгоняли немцев и подошли к Днепру. На подступах к Днепру случалось, что мы брали в плен (или они сами перебегали к нам со стороны противника) русских, вообще советских людей. Помню, допрашивал я одного из них. Он сам сдался в плен, перейдя линию фронта, молодой человек, довольно решительный. Он рассказал, что в составе немецких войск имеются русские соединения, составленные из военнопленных.
Их называли "Власовцы", так как командовал этими войсками Власов. Не на нашем участке, а вообще командовал. Его части не были сосредоточены в одном месте и были как бы вкраплены в немецкие войска, но их командующим все-таки считался Власов[229]. Я расспросил этого парня подробно, как он перешел к нам, в каком месте. Он сообщил, что перешел сам, но там остались и другие, которые тоже ищут удобного момента с тем, чтобы перейти к нам. Они записались во Власовскую армию только для того, чтобы их послали на фронт, а не оставили в лагере военнопленных, где они были обречены на смерть. Разведка поработала с этим парнем. Его послали через линию фронта к врагу, и он вернулся и с собой привел еще несколько власовцев. Немецкое командование буквально засыпало наших солдат листовками с призывом, чтобы они сдавались в плен; что на немецкой стороне действуют русский генерал Власов и еще какой-то бывший наш генерал, не помню его фамилии. Это тоже был изменник Родины, который перебежал к врагу. Этот перебежчик раньше был секретарем райкома партии в одном из районов Москвы. Просто невероятный случай, но такой случай имел место. Я видел трофейные фотоснимки, их было очень много: оба они, прежний секретарь райкома и Власов в немецкой форме, причем первому немцы присвоили генеральское звание, в Красной Армии он такого звания не имел.
Немцы тогда много распространяли и других листовок, а также открыток с фотографией сына Сталина. С сыном Сталина Яковом я знаком был не так уж близко, но встречался с ним на квартире у отца, когда бывал там. О нем я слышал только хорошее: это был серьезный человек. Он окончил какой-то институт и был инженером, не знаю, по какой специальности. Сталин его критиковал: "Вот, получил ты звание инженера, а нам нужны военные кадры". И предложил ему поступить в Артиллерийскую академию. Тот ее окончил. Когда началась война, он был уже офицером-артиллеристом, сражался на Белорусском направлении и там попал в плен. После войны было затрачено много усилий, чтобы найти какие-то его следы. Мы ничего не смогли найти. Видимо, его уничтожили. Во всяком случае, он бесследно исчез. Фотоснимки же были такие: Яша гуляет, а на каком-то удалении от него ходит немецкий офицер. Были и другие снимки и даже обращения от его имени. Все это, конечно, было сфабриковано немцами, не производило впечатления и не вызывало никакого доверия не только у людей, которые знали Яшу, но и со стороны наших солдат[230]. Однажды меня вызвали в Москву. Я выезжал туда чаще всего по вызову, по инициативе самой Москвы, и не помню, были ли случаи, когда я просился приехать сам. Беседы обычно проходили за столом у Сталина. За столом, к сожалению, питейным.
Всегда наиболее острые вопросы подымались уже в позднем часу, когда за столом было потрачено много времени, а значит, много съедено и выпито. И вот как-то раз (а это было несколько раньше описываемых событий) Сталин обратился ко мне: "Вот Власов, что же он, изменник? Я этому не верю". Отвечаю: "Я тоже слабо верю в это". Потом раза два или три Сталин возвращался к имени Власова. Сначала это произошло, когда впервые услышали, что какой-то русский генерал Власов сражается на стороне немецких войск. Мы тогда сочли это за немецкую пропаганду, за какую-то уловку. Прошло некоторое время, и мы стали брать в плен именно власовцев. И когда я попал в Москву, Сталин возвратился к вопросу о Власове: "Что же он, действительно предатель?". Отвечаю: "Сейчас уже не может быть сомнений. Мы берем в плен людей в немецкой форме, и они называют себя власовцами. Видимо, действительно Власов сражается на стороне противника". "Тогда придется, - говорит Сталин, - объявить о том, что он стоит вне закона, что он предатель". - "Безусловно, - отвечаю, - это надо сейчас сделать, чтобы наша пропаганда противостояла немецкой, а не то получается односторонняя пропаганда. Мы замалчиваем этот факт и не принимаем никаких контрмер, вроде бы у нас и аргументов нет".
Состоялась соответствующая публикация, и началась контрпропаганда в рядах Красной Армии и в партийных организациях по этому поводу. Однажды, после уже довольно продолжительного "заседания" за столом, Сталин опять поднял вопрос о Власове. Каждый из участников того застолья помнит, что это был "тяжелый" стол. Трудно было дождаться, когда же он кончится, да и неизвестно, чем кончится. Раз Булганин наедине сказал мне; "Приглашают тебя, едешь к нему в гости, там тебя поят, кормят, а потом и не знаешь, куда ты поедешь: сам ли домой к себе или тебя отвезут куда-нибудь и посадят". Эти слова не лишены истины. Действительно, такое, видимо, каждый из нас тогда переживал. Случались у Сталина приступы гнева, неожиданные, невероятные вспышки. Верховодили голая власть, неограниченная беспрекословность, порой "награждение" всяческими неприличными эпитетами даже близких к нему людей. Самыми близкими людьми считались до войны Ворошилов, Молотов и в какой-то степени Микоян. На более позднем этапе к ним причислили и Берию. Другие числились, так сказать, близкими людьми второго или, может быть, третьего сорта, потому что они по годам составляли младшее поколение и не прошли столь длительной стадии совместной деятельности со Сталиным. Молотов, например, давно с ним был знаком. Ворошилов - тоже, с дореволюционного времени. А в гражданскую войну, когда Ворошилов командовал армией и отступил к Царицыну, там они со Сталиным сошлись особенно близко. Вот в таком окружении Сталин и поднял вопрос: "Почему Власов стал предателем?". Отвечаю: "Теперь уже это бесспорно, что он предатель". - "А вы его хвалили, выдвигали его". - "Верно, - говорю, - я его выдвигал командующим 37-й армией. Ему была поручена защита Киева, и он блестяще справился со своей задачей. Немцы не взяли Киева, Киев пал в результате окружения наших войск значительно восточное Киева. Потом Власов вышел из этого окружения. Я его действительно хвалил и не раз говорил Вам о его достоинствах. А сколько раз Вы сами его хвалили? Ведь когда после падения Киева он вышел из окружения. Вы вновь назначили его командовать армией, и он отличился при обороне Москвы[231]. Вы наградили его, товарищ Сталин, за операцию под Москвой. А потом Вы назначили его на ответственный участок, на Валдай. Там он опять попал в окружение, снова выходил из окружения и опять вернулся. Вы ведь предлагали его назначить командующим войсками Сталинградского фронта, говорили мне, чтобы я назвал имя командующего, и тут же сказали, что наиболее подходят или Еременко, который лежит в госпитале, или Власов; сказали, что назначили бы Власова, но его нет. Так что и я хвалил, и Вы его хвалили: дела у него были такие, которые заслуживали похвалы. А потом он стал предателем, и теперь уж в этом нет сомнений".
Скажу в дополнение, что Сталин говорил раньше о Власове при всех, и все слышали, как он его хвалил, утверждал, что тот оказался бы наилучшим командующим войсками Сталинградского фронта. Так что после его замечания за столом и моего такого ответа Сталин при мне более не поднимал этого вопроса. Хотя, действительно, случай с Власовым был большим огорчением и для меня. Очень трудно тогда было объяснить, да и сейчас просто невозможно понять, как это произошло: человек стойко сражался, хорошо действовал, производил очень выгодное впечатление, успешно завоевывал симпатию у вышестоящих по службе людей и потом вдруг стал предателем. Отчего бы ему не стать предателем в первый раз, когда он оказался в окружении, командуя 37-й армией, которая защищала Киев? А он же вышел! Вышел к нам буквально пешком, когда мы находились уже перед Воронежем. Это произошло накануне наступления наших войск на Московском направлении. Как только он вышел оттуда и как только мы донесли Сталину, что Власов вышел из окружения, то сейчас же получили приказ немедленно отправить его на самолете в Москву. Мы его отправили, и я, признаться, тогда думал, что, может быть, имеются какие-то сведения, компрометирующие Власова, и его хотят в Москве допросить? Позже мы узнали, что он и под Москвою командовал армией, что эта армия действовала очень хорошо, а он был награжден. В чем же дело? Сложные тогда переживания возникали у людей. Некоторые люди таких переживаний не выдерживали.
Я не думаю, что он был когда-то раньше завербован, стал вражеским агентом. По натуре он был, видимо, неустойчивый человек и с плохим характером. Считался порядочным коммунистом, но ничего глубоко идейного внутри в нем не было. Сам он по образованию учитель; вероятно, очень лояльно относился к Советской власти в первые годы; может быть, и корыстные цели при этом преследовал, оставаясь в компартии с тем, чтобы занять выгодное служебное положение. Таких, к сожалению, было у нас немало, и думаю, что сейчас таких карьеристов еще больше. Я говорю "карьеристов" условно, потому что завершился карьеризм Власова прямым предательством. Тут уже явление другого характера. Таких людей, как Власов, встречается немного, но, с другой стороны, Власов и не исключение. Был позднее полковник Пеньковский, который тоже занимал высокое положение, работал в органах нашей разведки, ему доверяли следить за другими лицами, находившимися за границей. Для этого он не раз ездил туда. Как вдруг переметнулся к врагам. К сожалению, Пеньковский тоже был не одинок. Но наиболее яркий из всех случаев предательства - случай с Власовым. И он был наказан по заслугам: его осудили после войны и повесили. Итак, вышли мы с войсками к Днепру и захватили небольшие плацдармы на правом берегу. Однако Днепр - преграда существенная, и, чтобы перебросить через него технику и массу войск, мы хотели создать большой плацдарм. Для начала было решено выбросить на правый берег воздушный десант. Его подготовили, и казалось, все идет хорошо. Но встал вопрос о погоде. К нам прибыл тогда по рекомендации Генерального штаба ученый-метеоролог, чтобы получше выбрать время выброски десанта. Мы были, конечно, рады, что он приехал.
Пользуясь его данными о силе и направлении ветра, выбрали день и час выброски. Перебрасывал десантников на самолетах генерал Скрипко[232], командовавший тяжелой бомбардировочной авиацией, и именно ее мы использовали под десант. А когда десант был выброшен, мы вскоре узнали, что парашютисты вместо того, чтобы приземлиться на правом берегу, приземляются или в Днепр, или на левом берегу, буквально на окопы переднего края наших войск. Имели место инциденты, когда наши войска хватали этих парашютистов и буквально душили. Те начинали объясняться по-русски, но их принимали за Власовцев, говорили: "Вы предатели", - и с еще большей озлобленностью расправлялись с ними. А те кричали: "Мы десантники!". Представляете, сколько людей понапрасну погибло в Днепре? Это был такой позор! А приезжий "бог погоды", как нам его отрекомендовали, сразу же "испарился" и убежал в Москву. Негодование у нас по отношению к нему было большое, но я не имел возможности встретиться с ним после высадки десанта. Происходили и такие печальные случаи на войне. Все было возможно, потому что это и есть настоящая война. Потом, уже, в более спокойной обстановке, когда я вспоминал о нем, то лучше вошел в его трудное положение, потому что в то время он пользовался очень ограниченными сведениями, чтобы определить, какими в таком-то месте и в такое-то время будут направление течения воздуха и его скорость. Для точного ответа надо иметь метеоданные с обширного района. Конечно, этих сведений не имелось. Какова погода за Днепром, мы совсем не знали. Поэтому я понимал, что здесь не персональная вина, что человек был честен, а его ошибки объяснимы, потому что он не располагал точными исходными данными. Стали мы готовить переправу через Днепр.
А пока ходили вдоль Днепра, смотрели на него и просто радовались. Пели хорошую песню, я и сейчас ее очень люблю, она у меня записана на магнитофоне. Слова к ней написал поэт Долматовский: "Ой, Днiпро, Днiпро"[233]. Отличная песня. В тяжелейшие времена нашего поражения, отступления, оставления Украины многие украинцы обретали в этой песне надежду, что вернемся мы на Днепр. И вот мы пришли к нему, священной для украинского народа реке. Вышли же на Днепр севернее Киева 38-я и 40-я армии, а 3-я Гвардейская танковая и 27-я армии немного южнее Переяслава. 40-я армия генерала Москаленко (потом ею командовал Жмаченко) вышла в район Ржищева. 38-я армия генерала Чибисова (затем ее возглавил Москаленко) создала себе плацдарм в районе Межигорья[234]. После боев на Курской дуге некоторые другие армии нашего фронта попали в резерв Верховного Главнокомандования, им предоставили возможность пополниться и отдохнуть, поскольку фронт в ширину у нас сузился. Позднее мне рассказывал Москаленко, как он на плоту без мотора переправлялся через Днепр. Плот был составлен из каких-то обломков деревянных построек. Когда он добрался до середины реки, как раз налетели немецкие самолеты. Они бомбили все, что плыло по Днепру, и Москаленко попал в тяжелую обстановку, но благополучно добрался до правого берега и не пострадал. А мы с Николаем Федоровичем Ватутиным переправлялись на правый берег на катере. Посредине реки у нас вдруг заглох мотор. Летали вражеские самолеты, но не бомбили, и только немецкая артиллерия вела огонь вслепую по Днепру, чтобы мешать переправе войск. Вскоре мы расширили свой плацдарм и перебросили войска на Правобережье. 3-ю Гвардейскую танковую армию, которой командовал генерал Рыбалко[235], замечательный, уважаемый мною военачальник, мы переправили сначала на Букринский плацдарм[236], имея в виду ударить оттуда в сторону Киева, с юга. Мы считали, что там ровная местность. Но на Букринском плацдарме она оказалась довольно пересеченной и тяжелой для наступления, а хорошей для обороны. Дважды мы там наступали, однако успеха не добились, потеряли некоторое количество танков и прекратили наступление[237]. В это время уже надвинулась осень. Шла вторая половина октября, начались дожди, земля раскисла. Это в чем-то нам благоприятствовало, потому что дожди и пасмурная погода мешали противнику вести воздушную разведку. Мы решили прекратить наступление с Букринского плацдарма и переправить танковую армию и пехоту назад, на левый берег, чтобы перебросить эти войска севернее Киева, в район Межигорья, туда, где расположились села Ново-Петровцы и Старо-Петровцы[238].
Так и поступили. Нам повезло: в то время, когда мы перебрасывали на север танковую армию, была совершенно нелетная погода. Танковая армия прошла уже километров 100, наверное, и в некоторых местах подошла прямо к Днепру, а противник не заметил этой перегруппировки. Теперь мы стали вести подготовку к наступлению на участке севернее Киева, из района Вышгорода. Там был довольно оголенный плацдарм[239], а дальше тянулись лес и устье реки Ирпень: в целом небольшое пространство было, но вполне достаточное для сосредоточения войск и нанесения удара по немцам. На крайнем правом крыле нашего фронта, когда мы подошли к Киеву, Верховное главнокомандование передало нам из состава Центрального фронта Рокоссовского 13-ю и 60-ю армии. Командовали ими очень хорошие генералы Пухов и Черняховский[240], и мы были довольны, получив такие армии перед наступлением на Киев. Ставка предложила нам наступать не там, где мы выбрали место в районе Ново-Петровцев, а еще севернее, ближе к городу Козелец. Это от Киева километрах в 60. Там как раз была расположена 60-я армия, она-то и должна была начать наступление, а затем включились бы 38-я и другие армии, стоявшие южнее. Так мы и стали готовиться. Поехали в 38-ю, к Чибисову. Его штаб располагался в лесу, неподалеку от реки Десны. Забыл, как называлось это село, бедное такое, земли там плохие, песчаные. Когда мы с Ватутиным ехали к Чибисову, я увидел двух повешенных. Тогда был отдан приказ, разрешающий вешать предателей местным жителям с тем, чтобы дать им удовлетворение, потому что над ними эти предатели раньше издевались. Если их ловили, то разрешалось судить их на месте и сразу вешать. И вот висели два человека: один - заросший такой бородой, что она резко оттеняла лицо, черной густой бородой. Видимо, еще не старик, а отпустил бороду. Может быть, он пользовался ею, как маской? Когда мы зашли к Чибисову и он доложил обстановку, я спросил: "Товарищ Чибисов, мы видели двух повешенных. Что это значит? Что это за люди? Какое они совершили преступление и кто их вешал?". "Он ответил: "Да, теперь такие стали порядки. Дали им права, вот они поймали и повесили".
Мне очень не понравился его ответ. Он, видимо, сам не разобрался, кто там был повешен и за что. Я вышел из помещения (а тут ходил народ) и спросил: "Вон висят люди. Что это за люди? Вы их знаете?". "Как же, знаем". - "Ну, и кто же это?". "Повешен наш кузнец. Это мы его повесили". Потом говоривший назвал и второго повешенного. "За что же вы их? Какое они преступление совершили?". "Когда немцы пришли, кузнец выдавал коммунистов и комсомольцев. Он выдал нашу учительницу, и немцы ее повесили. Поэтому и мы его повесили как предателя". - "А те, которые были старостами при немцах, они убежали?". "Нет, наш не убежал. Это очень хороший, честный человек. Он помогал партизанам, и мы его оберегаем, несмотря на то, что он был старостой. Он был старостой, потому что его назначили, надо же было кого-то назначить. Мы считаем, что он делал все, что в его силах, чтобы спасти село, спасти людей". Я возвратился в помещение и сказал: "Товарищ Чибисов, вот вы говорите, что творят беззаконие, а вы бы послушали людей. Они утверждают, что те заслужили свое наказание. А относительно старосты, который был при немцах, считают, что он достоин защиты, и оберегают его. Так что дело обстоит не так, как вы говорите: ловят без разбора и вешают. Нет, они разбираются, кого защитить, а кого наказать". Вообще генерал Чибисов был мне несимпатичен. Характер его мне крайне не нравился.
Я уже раньше говорил об этом и повторяю сейчас. Итак, мы получили приказ наступать западнее Козельца. Это - ориентир, а не то, что буквально там стояли наши войска. Они уже были за Днепром. Поехали мы и в 60-ю армию. Мне хотелось познакомиться с ее командующим генералом Черняховским. Очень уж он привлекал к себе внимание. Слухи, которые до меня доходили, свидетельствовали о том, что это очень перспективный человек и молодой еще по возрасту генерал[241]. Приехали. Он произвел на нас впечатление своим умом и докладом, который он сделал со знанием обстановки, расположил к себе. Наступать? Он знал, когда надо наступать! Приказ был спущен, и он тщательно готовился к наступлению, причем довольно категорично сказал, что время, которое ему дали для подготовки наступления, его не устраивает, надо бы еще три дня. Я уже рассказывал, как реагировал Ватутин, когда Трофименко попросил у него несколько сместить удар с того направления, которое было назначено ранее. А тут Черняховский требует, чтобы отложили наступление на три дня, хотя Ставка приказала наступать такого-то числа. Ватутин вскипел и стал доказывать, что приказ надо уважать и выполнять. Ну, вижу я, что он просто не слушает Черняховского, и говорю: "Николай Федорович, пусть он нам доложит, зачем ему нужно три дня?". И вижу, что у Черняховского тоже глаза уже засверкали и что он тоже может проявить свой характер. "А вот, - отвечает, - почему. У меня роты имеют такое-то количество солдат. Запасный полк находится на таком-то направлении. Сейчас он на марше, прибудет тогда-то. Пополнение я смогу дать в роты, которые будут наступать, буквально вечером накануне наступления. А утром - наступать. Командиры рот совершенно не ознакомятся с людьми, которых они получат. Не обнюхаются между собой солдаты, а командир не только не изучит новичков, но даже не познакомится с ними. Как же можно так наступать? Можно лишь людей потерять и не решить задачу. Дайте мне три дня. Придут люди. Я с ними поработаю и тогда буду уверен, что решу задачу, сломлю сопротивление противника, который стоит передо мной, и разовью наступление в том направлении, которое указано в приказе". Я: "Давайте сделаем перерыв в работе, отдохнем".
Сделали перерыв. Хороший выдался денек. Вышли мы из помещения на воздух и отошли с Ватутиным в сторонку. Говорю: "Николай Федорович, дадим ему эти три дня! Позвоним Сталину, я убежден, что Сталин с нами согласится. Какая разница Сталину, сейчас наступать или на три дня позже? Если командующий говорит, что он не ручается за успех и что мы можем поставить под удар наши войска, то лучше сделать так, как рекомендует генерал". Ватутин согласился: "Ладно, позвоним". Он, видимо, дал согласие потому, что уже был пример с 27-й армией: тогда он со мной не согласился, а я Сталину послал шифровку. Конечно, я сделал бы это и в данном случае, потому что для меня слово командующего армией, когда я видел, что он на верном пути и правильно рассуждает, значило многое. Как же я, член Военного совета фронта, могу не поддержать разумное решение, тем более что я был свободен от ложного принципа некоторых военных: приказ отдали, следовательно, его нужно держаться и заставлять выполнять, невзирая ни на что. Ну и что, если приказ отдан? Раз обстановка требует изменения приказа, то самое разумное - изменить его, чтобы учесть то, что выявилось после его отдачи, а потом уже действовать либо в этом же направлении, либо менять направление наступления, в зависимости от обстановки, новых обстоятельств. В данном случае я был доволен, что Николай Федорович согласился.
Говорю: "Вы звоните Сталину. Вы командующий войсками фронта, вам и звонить". Это ему понравилось. Я сам никогда не любил звонить Сталину, должен звонить командующий. Если же я и звонил, то лишь по тем вопросам, о каких считал нужным лично доложить Сталину. Чаще Сталин меня сам вызывал. Одним словом, позвонили Сталину, и Сталин согласился без всякого сопротивления: "Хорошо, разрешаем перенести наступление на три дня". Тогда наступление осуществлялось только нашим фронтом, так что особых других забот по этой линии у Сталина не было. Были, конечно, иные заботы, потому что шла война. Но активные операции проводились в те дни практически только у нас. Мы пообедали с Черняховским и сказали ему, что его просьба удовлетворяется: ему даются три дня для подготовки войск к наступлению. Сказали также, что к началу наступления мы к нему приедем. Распрощались и отбыли. Мы ехали лесом. Попали на большую поляну, а она вся была усеяна немецкими могилами. Немцы разбили ее на правильные квадраты, каждая могила имела свой березовый крест. Эта картина производила жуткое впечатление: сколько же там побито было людей?
Но нам, не стану скрывать, она принесла и какое-то удовлетворение: вот, мол, пришли вы за чужим жизненным пространством и нашли его в этих лесных могилах. Я потом порекомендовал: "Не разрушайте эти могилы, сохраните их в таком виде, как есть. Пусть наши люди смотрят, что захватили завоеватели для себя (как говорили в старое время: три аршина земли)". Думаю, что это кладбище - результат "работы" нашей 5-й армии генерала Потапова, которая сражалась в этом районе, когда немцы наступали здесь в 1941 году[242]. Вскоре мы получили приказ отставить наступление 60-й армии и наступать на том направлении, где мы предлагали раньше: в районе Ново-Петровцев. Ново-Петровцы от Киева находятся километрах в 27. Нам надо было пробиться вперед через лес, который занимал противник, а наши войска располагались в чистом поле. Когда мы выбирали тут место форсирования Днепра и создания плацдарма, я говорил Чибисову: "Смотрите, лучше всего этот участок", - и показал в направлении через Ново-Петровцы. Я хорошо знал это место, потому что там прежде были расположены правительственные дачи. Когда-то это был старинный казачий монастырь. В нем жили запорожские казаки, когда старели. Они отказывали свои богатства безродным, а доживали свой век и умирали в этом монастыре. После переезда украинского правительства из Харькова в Киев тут организовали дачи. Там жил Косиор, там жил Петровский, там жил Постышев. Когда я приехал на Украину, то и я там жил вместе с Бурмистенко, Корнийцом и другими товарищами. Так что эту местность я знал: это маленький ровный пятачок в окружении гор, с садом и довольно крутым мощеным выездом. Я считал, что если мы здесь форсируем реку, то у нас сразу появится оборудованная дорога, по которой могут проходить танки и пехота. Самое главное: этот район недоступен, потому что с запада он прикрывается глубоким, совершенно танконепроходимым оврагом. Имеется только узкая дорога, которую легко можно перекрыть огнем артиллерии. Тут буквально можно выдерживать осаду. Чибисов доложил мне: "Заняли правительственную дачу" (он даже сказал: "Заняли вашу дачу"). Но ведь ни у кого из нас личных дач не было. Это государственные дачи, и я там жил вместе с другими лицами из руководства республики. И мы стали готовиться к наступлению на этом плацдарме. Когда подготовились, решили поехать с Ватутиным в штаб 38-й армии, к Чибисову. Его штаб находился на большом удалении оттуда, за Днепром.
Мы ему сказали: "Переносите свой штаб или в Старо-Петровцы, или в Ново-Петровцы, при наступлении следует быть ближе к войскам". "Есть, - ответил он, как старый офицер, - будет сделано". Он вообще любил обычно отвечать такими стандартными фразами. Но я не доверял ему. Наш фронтовой штаб стоял немного юго-восточнее Бровар, в селе Требухово. Это невдалеке от Киева, то есть на левом берегу Днепра, у болот. Перед тем как поехать в новое расположение армейского штаба к Чибисову, я говорю: "Николай Федорович, позвоните Чибисову, выехал он из старой квартиры? Где он? На новой квартире или где-либо еще?". Ватутин звонит, я стою тут же рядом, мы уже оделись, чтобы ехать. Слышу: "Где вы, товарищ Чибисов? Где ваша квартира? Вы находитесь на новой?". "Да, я на новой квартире". - "Хорошо, мы сейчас выезжаем к вам с членом Военного совета. Организуйте встречу, чтобы мы побыстрее нашли вас". Ватутин положил трубку, а я опять говорю: "Николай Федорович, вы уточните, где эта его новая квартира?". Тот опять звонит. Уточняем. Оказывается, там какой-то островок или полуостровок имелся на Днепре, и какой-то хутор на нем. Вот он и расположил там свой штаб вместо того, чтобы быть на плацдарме. Я только взглянул на Ватутина и ничего не сказал. А Николай Федорович аж позеленел и начал ругаться. Говорю: "Видите, какой это человек? Очень ненадежный человек. Обманет, как цыган". Я потому отнесся к нему с недоверием и стал все уточнять, что это был у нас с ним не первый такой случай. Когда мы готовились наступать еще на Курской дуге и пришла очередь действовать 38-й армии, мы тоже перед началом наступления решили поехать в эту армию и там провести совещание. Мы тогда назвали Чибисову точное место - село, где он должен разместить свой штаб.
Села тогда все были пустыми, действовал приказ о выселении с переднего края всех крестьян. Чибисов должен был разместить свой штаб близко к переднему краю. С ним ездили его жена и дочь, и он возил с собой чуть ли не корову или козу. Адъютантом у него был его зять. Одним словом, это был какой-то подвижной казачий хутор. Он сам казак. Из-за семьи ему несподручно было прижиматься к переднему краю. И тогда, когда мы ехали в 38-ю армию, я сказал Ватутину: "Спросите его, он на новой квартире?". Чибисов ответил: "Да, на новой". Мы поехали на эту новую квартиру. Прибыли. Село совершенно пустое. У крестьянских хат двери закрыты, на подворье все заросло бурьяном и крапивой. Обычно штаб легко найти. Там всегда вертятся офицеры, видны охрана и линии связи. Тут ничего этого не было. Мы туда, сюда, по дорогам проехали: нет, да и только! Тогда мы остановились около какого-то дома, сели на крыльцо и рассуждаем, а адъютанта послали посмотреть еще раз. Смотрим, едет генерал. Видим, Чибисов. Ватутин набросился на него: "Как же мы раньше вас приехали? Вы же сказали, что вы на новой квартире?". "Никак нет". Я был просто поражен такой его наглостью. Командующему войсками фронта командарм так отвечает! Я сам ведь был свидетелем того, как Ватутин уточнял, где находится Чибисов. Я об этом докладывал потом Сталину, но Сталин почему-то относился к Чибисову значительно терпимее, чем к другим людям, которые и сотой доли такого не делали. Он знал его по Царицыну как казачьего офицера, который служил в Красной Армии. Это, конечно, большая заслуга, особенно в те времена, когда казачество в основном поднялось против Советской власти. Но все же... Возвращаюсь к Киевской наступательной операции.
Приехали мы к Чибисову на хутор и сказали, что надо ему организовать новую квартиру, на правом берегу Днепра, чтобы быть непосредственно с войсками, когда они начнут наступать, а не здесь. Какое же может быть управление войсками через Днепр? Договорились, когда начнем наступление, и уехали. Приехали к себе в штаб, и я сказал Ватутину: "Начнется наступление на этом участке, и если командовать будет Чибисов, то я опасаюсь за исход дела. Чибисов не обеспечит занятие Киева. Хотя и мы в это же время будем у него, но все-таки командует армией он. Он будет распоряжаться, а мы-то не будем его подменять". - "Да, верно. А что делать?". "Давайте возьмем на эту армию Москаленко. Поставим вопрос перед Сталиным: пусть он освободит Чибисова и утвердит Москаленко". Ватутин согласился. Сейчас же мы написали шифровку. Тут Сталин позвонил, и я ему по телефону объяснил обстановку: "Как же можно положиться на такого командующего?". "Согласен, утверждаем", - говорит Сталин. Мы тут же позвонили Москаленко и приказали ему сдать армию своему заместителю, а самому немедленно прибыть в штаб фронта. Оттуда сейчас же направили его в 38-ю армию, чтобы он начал готовить ее к освобождению Киева. В Москаленко я был уверен. Каждый человек имеет те или другие недостатки; как говорится, один бог без греха. Каждый имеет какие-то свои "пятна".
Я не буду говорить сейчас о недостатках Москаленко, я уже говорил о них прежде. А что у него положительное, что я высоко ценил, так это его неутомимая энергия. Она проявлялась иной раз весьма бурно, ломая и "культурные растения" в своем развороте. Но направлена она была прежде всего на то, чтобы сломить врага. Когда наступает армия Москаленко, то, если ведутся три дня интенсивные бои, он все три дня не ест. С виду он всегда был как какой-то Кощей Бессмертный, а тут вообще остаются кожа да кости. Москаленко с радостью принял наше распоряжение. Это было для него честью - освободить столицу Украины Киев. Он сказал: "Все сделаю, что в моих силах; убежден, что задачу мы решим и займем Киев. Только прошу, переведите ко мне членом Военного совета Епишева"[243]. Епишев был членом Военного совета в 40-й армии, которой раньше командовал Москаленко. Мы позвонили Сталину. Хотя Сталин не знал Епишева, для него это не стало проблемой. "Можете, - говорит, - перемещать". Переместили мы Епишева и назначили его членом Военного совета 38-й армии. Стали готовиться дальше. Перебросили сюда же танковую армию Рыбалко. Имелся на этом участке и танковый корпус, очень слабенький, но все же корпус. Им командовал генерал Кравченко[244].
Одним словом, у нас были там неплохие силы. На переднем крае, на участке главного удара наших войск, мы сосредоточили на один километр свыше 300 артстволов, включая минометы, на протяжении четырех километров по линии фронта. До того сосредоточения столь плотного огня на одном участке мы, по-моему, никогда еще не имели. Мы были совершенно убеждены в нашем успехе. В составе войск нашего фронта была и чехословацкая бригада. Я недавно слушал по радио юбилейную передачу о боях, которые велись под Соколове, у Харькова. Там имелся в составе войск нашего фронта только один чехословацкий батальон[245]. Хорошие были бойцы! Мы с Ватутиным к ним приехали в дни, когда из батальона формировалась бригада. Небольшой она была по численности. Командовал ею полковник Свобода. Мы с Ватутиным беседовали и с ним, и с другими офицерами. Он произвел на нас хорошее впечатление. Хотя он и был беспартийный, старый офицер Чехословацкой армии, но считался близко стоящим к коммунистам. Поэтому он знал, что в его бригаде существует партийная организация и ведет свою работу, но он не принимал никаких мер против такой работы. Лично мы хорошо относились к Свободе. А когда наступали на Киев, его бригаду тоже переправили через Днепр и поставили ее на левом участке плацдарма, в районе Вышгорода, где теперь расположена Киевская гидроэлектростанция. Итак, все было готово. Командный пункт армии тоже был оборудован. Мы знали, что если командный пункт оборудует Москаленко, то тот окажется буквально под самым носом противника. Мне рассказывал как-то Жуков, что когда бои велись под Сталинградом, а Москаленко находился севернее, то Жуков решил к нему поехать и посмотреть на ход боя. Жуков: "Ночью я пришел на командный пункт по ходу сообщения. Ждем, когда начнется на рассвете наступление. Рассвело. Глянул: людей вижу в бинокль. Что же это такое? Москаленко говорит мне: "Немцы". Я ему: "Что ж ты, такой-сякой? Ты хочешь меня в плен немцам сдать? Вот какой!".
Жуков был очень обеспокоен и отругал командарма. Нельзя же располагать штаб армии буквально под носом у врага. Да, с какой-то точки зрения это плохо. Но, с другой стороны, такая близость вселяла уверенность в бойцов. Войска чувствовали, что командующий у них находится непосредственно за спиной. А самое главное, что всем ходом артиллерийской подготовки и самим наступлением он управлял не только по донесениям и телефонам, а лично видел все происходящее. Поехали мы с Ватутиным проверить готовность войск к наступлению. Все было готово. Завтра - наступление. Мы все детально расписали. Дали, кажется, два часа на артиллерийскую подготовку с довольно интенсивным огнем. На флангах, конечно, огонь был менее интенсивным. Мы хотели прорубить "окно" и ввести в него танковую армию. А танковый корпус должен был на правом участке плацдарма выйти к Ирпеню. Мы предупредили Москаленко, что приедем завтра утром к началу наступления. Еще когда готовили наступление, сказали, чтобы нам на армейском командном пункте отрыли отдельную землянку, чтобы не мешать командарму. Он имел бы свою землянку, а мы - свою. Но Москаленко несколько перестарался. Сделали отдельные землянки и для Ватутина, и для меня. Там возник целый город из землянок: командующего фронтовой авиацией Красовского, командующего фронтовой артиллерией Варенцова, командующего артиллерийским корпусом Резерва Верховного Главнокомандования Королькова[246] и, конечно, самого Москаленко. Приехали мы туда на рассвете. Нас встретил дежурный офицер и сказал, что подъезжать к линии фронта нельзя, а надо идти по окопному проходу и следует пригнуться, потому что траншея была неглубокой. Пришли на командный пункт. Он был оборудован хорошо, мы остались довольны.
Ватутин посмотрел на часы и сказал адъютанту: "Отбеги на такое-то расстояние по ходу сообщения и дай там условный сигнал, пусти ракету для начала артиллерийского огня". Ракета взвилась в стороне, как он приказал, чтобы ею не выявить командного пункта и не вызвать на себя артиллерийский огонь противника. Загудела земля: начала вести огонь наша артиллерия. Это такая, знаете ли, военная симфония. Для нас она была радостной, приятной. Все дрожало. Противник отвечал, но не интенсивно. В завершение артподготовки полетели волнами наши бомбардировщики, а за ними штурмовики "ильюшины". Я вышел из землянки и смотрю: летит группа самолетов. Не помню, сколько их было. Вижу, летят "илы". Говорю: "Это наши завершающие. Скоро и пехота начнет действовать". И вдруг "илы", не доходя до нашего командного пункта, начали стрелять. Снаряды и эрэсы стали рваться на линии расположения командного пункта и на наших артиллерийских позициях. Думаю: что же это такое? Что случилось? Глянул туда, где располагался командующий авиацией Красовский. Нет его! Размышляю: "Наверное, немцы привели в порядок наши трофейные "илы", они под видом наших самолетов пробрались сюда на низкой высоте и расстреливают нашу артиллерию". Кричу: "Где же Красовский? Позовите его!". Пришел он. "Товарищ Красовский, это немцы?". "Нет, товарищ Хрущев. Это наши". - "Как так наши? Откуда вы это знаете? Может быть, немцы отремонтировали что-то из трофейных машин?". "Нет, это наши. По расписанию, вот у меня расписание, в это время должны прилететь "илы" и штурмовать вражеские позиции. Вот они и штурмуют". Я возмутился. Этот случай свидетельствовал о невысоком уровне подготовки авиации. Спутать свои позиции с чужими было, кажется, просто невозможно. Слева Днепр, уж лучшего ориентира не придумаешь. На юге противник, мы наступаем с севера. Лес до Днепра занят противником, а перед лесом пятачок, чистое пространство, занимают советские войска. Просто не знаю, как тут можно перепутать. Но на войне порою и невероятное становится вероятным. Ясным днем, на местности с четкими ориентирами наши штурмовики, несмотря ни на что, вели огонь по своим войскам.
Ну, кончилось и это. Штурмовики улетели. То была, действительно, последняя волна. Поднялась наша пехота и двинулась вперед. Сопротивление врага было слабенькое. Все у него было разрушено, просто выкошено. Двинулись танки. На главном направлении мы все выкосили. Но правый фланг врага подвергся менее интенсивному огню, и там немцы уцелели. Они решили оттуда нас контратаковать, ударив по левому флангу наступающих войск. Мы, глядя с командного пункта[247], видели, как поднялись в рост немцы и бегут к нам. Все происходило очень близко. На этом направлении, в районе Вышгорода, у нас стояла чехословацкая бригада. Ватутин приказал Свободе контратаковать немцев. Тот атаковал и сбил их наступление. То было последнее усилие врага в районе плацдарма, чехословаки сыграли тут полезную роль и восстановили прежнее положение. Наше наступление продолжалось. Торжественная минута! Начались бои нового этапа нашего наступления на запад. Мы вышли на западный берег Днепра, дрались за освобождение Киева, матери городов русских и столицы Украины. У каждого из нас подпирал к горлу комок, лились слезы радости. Наконец-то пришло это время! С 1941 г. нас отбросили так далеко, к Сталинграду. Наши самолеты уже не могли и долететь до Киева. А вот сейчас мы находимся под Киевом и завтра-послезавтра окажемся в самом Киеве. В это время представителем от Ставки приезжал Жуков. По-моему, никого другого и не было. Он появился на второй или на третий день наступления. Помню, как для нас с ним в Ново-Петровцах был оборудован погребок, где мы спали ночью, а днем сидели, обменивались мнениями, шутили. Когда на третий день наступления мы покинули ночью свою землянку, прежнего переднего края не существовало. Мы оттеснили немцев далеко в лес, в Пущу Водицу, бои велись уже где-то под Киевом. Мы же били со своего плацдарма на Святошино, то есть западнее Киева, чтобы не дать противнику выскочить из города и не встать на дороге Житомир - Киев. И мы этого добились.
Заместителем командующего войсками фронта стал Гречко[248]. Перед наступлением мы его послали в Межигорье, чтобы он оборудовал себе командный пункт, наблюдал оттуда за ходом боя и помогал организовывать войска. Помню, заходило солнце, стоял теплый вечер, но все-таки осенний, мы вышли в бурках внакидку. Приехал Гречко, докладывает мне. Так как рост у него огромный, а я давно его знал и относился к нему с уважением, то пошутил: "Товарищ генерал, вы, пожалуйста, встаньте подальше. Мне трудно смотреть вам в лицо, когда вы делаете доклад". Он засмеялся, а я попятился назад, и он продолжал докладывать. Суть была ясна: противник разбит. Но мы это знали так же, как и он. И вдруг вдали раздался взрыв. И в городе поднялся клуб дыма. Зная расположение Киева, я говорю: "Это немцы взрывают завод "Большевик" в западной части города, перед Святошино. Раз взрывают, значит, бегут". Перед началом нашего наступления я попросил генералов и всех командиров наступающих частей назначить специальные группы, которые, когда наши войска ворвутся в Киев, сразу направились бы к зданиям ЦК партии, штаба Киевского Особого военного округа. Совнаркома, Академии наук и другим городским центрам с тем, чтобы, если немцы не успели их взорвать или сжечь, но заложили заряды, - обезвредить эти мины и фугасы. Это потом сыграло задуманную роль.
И когда начались взрывы, я обратился к командующему артиллерией фронта: "Товарищ Варенцов, прошу приказать артиллерии накрыть Киев беглым огнем". Он недоуменно смотрит на меня. Знает, какой я патриот Киева, как я люблю этот город. И вдруг я приказываю ему обстрелять Киев? Объясняю: "Почему я хочу это сделать? Если вы сейчас обстреляете город, это ускорит бегство немцев. Мы создадим панику. Враг меньше причинит вреда Киеву. А снаряды много не навредят. Это будет небольшой обстрел, беглый, разрушения легко восстановим. А если немцы задержатся, то они могут заложить фугасы и нанести значительно больше вреда Киеву". Баренцев отдал приказ, и начался обстрел Киева. Кончился тот день, закончились бои, и мы с Ватутиным ушли к себе разобраться в происшедшем, наметить действия на завтра, а потом и отдохнуть в отведенных для нас землянках. Красная Армия вступила в Киев ночью с 5 на 6 ноября. Получился особо торжественный день, как раз накануне юбилея Октябрьской революции. Теперь могут говорить, что мы приурочили освобождение Киева к государственному празднику, и мне ради хвастовства можно было бы и согласиться. Но, честно говоря, вовсе нет. Просто так сложились обстоятельства. Тем не менее, получилось хорошее совпадение во времени. Тогда, правда, официального празднования у нас никакого не состоялось.
Но приятно было чувствовать себя победителями. Наши войска успешно продвигались в направлении Житомира. Противник был разгромлен и не оказывал особого сопротивления. Путь был открыт, хотя силы у нас для развития наступления были небольшие. Я оценивал как большой успех и прорыв вражеской обороны, и разгром его тут, и занятие Киева. Нам помогло то обстоятельство, что тогда мы дважды предпринимали наступление с Букринского плацдарма к югу от Киева. Противник, видимо, стянул туда войска, а нашу перегруппировку войск и перенос наступления на север, в район Старо- и Ново-Петровцев, то есть к Лютежскому плацдарму, не заметил. Главные силы у него оставались на Букринском плацдарме, где он ожидал дальнейшего нашего наступления. А мы ударили с севера, и внезапно. Немцы не ожидали тут удара, и войск у них здесь было немного. Пока они начали перегруппировываться, мы эти войска разгромили и вышли на шоссе Киев Житомир, отрезав путь отступления тем их войскам, которые находились в Киеве, так что они были вынуждены уходить из города в сторону Белой Церкви. Таким образом, неудачные попытки нашего наступления на Букринском плацдарме сыграли свою положительную роль, введя противника в заблуждение. Это помогло нам меньшими усилиями разгромить его с другого направления. Рано утром 6 ноября я послал в Киев своего шофера Журавлева.
Я с ним ездил на машине много лет, буквально до последнего дня моей деятельности как Первого секретаря ЦК партии, вплоть до моей отставки. Проездил он со мной в общей сложности, кажется, 32 или 33 года. Я этого-то шофера, дядю Сашу, как его называли мои дети, и послал: "Поезжайте в Киев и потом доложите, как туда получше добраться". Наши войска уже были в Киеве, поэтому путь туда был свободен. По старой, знакомой нам дороге, по которой до войны мы ездили на дачу, он и поехал, как бы с дачи, в Киев, быстро вернулся и говорит, что Киев абсолютно свободен от противника, да и вообще никого нет, пусто, людей на улицах почти не видно. Сейчас же я с представителями украинской интеллигенции, Бажаном[249] и другими, поехали в город. Просто нет слов, чтобы выразить ту радость и волнение, которые охватили меня, когда я отправился туда. Проехали пригород Киева, вот мы и на Крещатике. Я поднялся к зданию Совета Народных Комиссаров и осмотрел его. Внешне оно было целым. Дом Центрального Комитета партии тоже не был разрушен. Осмотрели и другие сооружения: Академию наук, театры. Все внешне цело.
Затем проехали к помещению, где размещался штаб Киевского Особого военного округа. Это здание было отстроено как раз перед войной. После войны именно там разместился ЦК КП(б)У, да и сейчас он там находится. Сильно был разрушен завод "Большевик", и лежал в руинах Крещатик. Когда мы приехали на площадь Богдана Хмельницкого, то там ряд домов еще горел. Город производил жуткое впечатление. Некогда такой большой, шумный, веселый южный город, и вдруг - никого нет! Просто слышали собственные шаги, когда шли по Крещатику. Потом мы повернули на улицу Ленина. В пустом городе отдавалось эхо. А может быть, от сильного напряжения складывалось у нас такое впечатление. Во всяком случае, оно было очень тяжелым. Постепенно стали появляться люди, возникали прямо как из-под земли. Мы поднимались с Крещатика в направлении Оперного театра по ул. Ленина (старое ее название - Фундуклеевская), идем, разговариваем, делимся впечатлениями.
Вдруг слышим истерический крик. Бежит к нам молодой человек. Не знаю, в каком он был состоянии. Помню только, что беспрестанно повторял: "Я единственный еврей в Киеве, который остался в живых". Я его как мог успокаивал. Спросил: "Что вы еще хотите сказать?". А он опять повторял то же самое. Я видел, что он был в особом состоянии, близком к психическому расстройству. Спрашиваю: "Как же вы выжили?". "А у меня жена украинка. Она работала в столовой, а меня прятала на чердаке. Я и высидел все это время на чердаке. Она меня кормила и вообще спасла. Если бы я появился в городе, то меня бы как еврея тут же уничтожили". Шел человек с седой бородой, уже немолодой. Шел с рабочей кошелкой. Когда я работал на заводе, то в такой же кошелке носил себе на работу завтрак и обед. Он кинулся ко мне на шею, стал обнимать, целовать. Это было очень трогательно. Какой-то фотограф успел на ходу сфотографировать эту сцену, и потом эта фотография облетела многие журналы и газеты. Мы ликовали, торжествовали свою победу, освобождение родного Киева. Наши войска продолжали наступать, а я с коллегами срочно занялись налаживанием производства и воссозданием на местах государственных и партийных органов, чтобы начать заново всю работу.
Прежде всего надо было организовать хлебозаготовки. В хлебе нуждалась вся страна, народ просто голодал. Требовалось сделать максимум, чтобы получить побольше зерна. В 1943 г. на Украине был очень хороший урожай. Прошла снежная зима, выпали нормальные летние осадки, поэтому и урожай был хорошим. Следовало срочно организовать заготовку хлеба, чтобы оказать стране посильную помощь. Мне докладывали в те дни, как действовали при занятии Киева отдельные группы, которые я раньше поручил организовать. Каждая группа имела конкретный адрес и свое задание: на какое здание обратить внимание, чтобы обезвредить мины и ликвидировать пожары. Например, в помещении Совнаркома УССР, где у немцев, кажется, был госпиталь, они, когда уходили, подожгли солому. Но наши вскоре ворвались в дом и быстро погасили пожар. Остались только его следы: выгорел паркет в некоторых местах. Такая же участь постигла новое помещение штаба КОВО. Многие здания спасли тогда наши люди, потому что заранее были нацелены на конкретные объекты и сразу попали туда, пока огонь еще не разгорелся. Оперный театр был не тронут. Я вошел в него, хотя меня предупреждали, что он, возможно, заминирован (противник делал нам такие подвохи).
Меня тянуло туда. Театр не был заминирован. Сохранилась правительственная ложа, та же стояла мебель, те же красовались обои на стенах, вообще все осталось по-старому. Потом, уже после занятия Киева, Москаленко рассказал мне такую историю о том, как он входил с войсками в город: "Ночью я вступил в Киев с танками. Шел впереди танков, освещал им фонарем шоссе и привел их к Киеву". Он меня попросил, чтобы об этом не узнал Сталин. К тому времени был отдан приказ, в котором строго предупреждались все генералы, чтобы они зря не рисковали своей жизнью, не подставляли себя под пули. Конечно, такое поведение не вызывалось обычно необходимостью и было геройством на грани безрассудства. Но это ведь Москаленко! А от Москаленко всего можно было ожидать. Я дал ему слово, что не скажу Сталину, потому что Сталин осудил бы его и для примера мог бы даже жестоко наказать за нарушение директивы. Ну, да что мне-то говорить: город занят, Москаленко ввел в него танки и остался жив, а победителей не судят. Вот так и был занят Киев. Я составил небольшую записку; как проходил бой, как стойко дрались наши войска. Особо отметил артиллеристов. На меня произвела тогда сильнейшее впечатление артиллерийская подготовка.
Она действительно была самой мощной при мне с начала войны. Пехота тоже действовала хорошо, нечего и говорить, и танкисты воевали славно, но артиллерия особенно запечатлелась в памяти. Поэтому я ее и выделил. Я послал эту записку в Москву, просто хотел порадовать Сталина. Сам радовался и его хотел порадовать, что, вот, к 7 ноября мы заняли Киев. Но был удивлен, когда на второй день взял в руки центральную газету и увидел, что моя записка полностью опубликована в "Правде". Потом Сталин, когда я приехал в Москву, прочел мне что-то вроде родительской нотации: "Вот вы послали сюда сообщение шифровкой, по секрету, а мы взяли и опубликовали его". Я: "Товарищ Сталин, кто вам докладывал, что это сообщение было зашифровано? Никакого там шифра вовсе не было. Записка была зачитана по телефону. Мы из Киева передали ее по ВЧ, а Поскребышев записал и доложил вам". Сталин спросил у Поскребышева. Тот подтвердил: "Да, да, товарищ Сталин". Сталин почувствовал, как мне показалось, некоторую неловкость: хотел уколоть меня, что я секретничаю в вещах, которые никакого секрета не содержат, а получился вместо того глупый укор.
ОСВОБОЖДАЕМ УКРАИНУ
Примерно в это же время фронты получили названия: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские (и Белорусских тоже было три или четыре, не помню сейчас). Наш фронт стал 1-м Украинским. Потом фронт Конева - 2-м Украинским; он до того назывался Степным. Южнее воевали 3-й Украинский и самый южный - 4-й Украинский. Последним командовал Толбухин, а 3-м Украинским фронтом Малиновский[250]. Освободили мы Киев, незадолго до того освободили Днепропетровск[251]. Наши войска успешно продвигались на запад. Донбасс тоже был освобожден. Когда шли бои за Донбасс, я специально ездил туда. Помню, шел бой за Макеевку. Я приехал, когда наступала 2-я Гвардейская армия. До этого ею командовал генерал Крейзер. Он был заместителем у командующего этой же армией Малиновского, а потом стал ее командующим[252]. Я давно знал Крейзера и считал его достойным командиром, сам он по национальности еврей, получил звание Героя Советского Союза еще в 1941 г., на меня производил очень хорошее впечатление. Уже после войны он командовал войсками ряда крупных военных округов. Сейчас я не знаю, где и на каком посту он находится. Когда я приехал на окраину Макеевки, как раз шел бой. Окраину, на которую я приехал, немцы обстреливали, но задержаться там не смогли, наши войска продвинулись вперед, и я вместе с ними вступил в Макеевку[253].
Торопился туда, потому что меня интересовало, в каком состоянии находятся металлургия и угольные шахты. То, что я увидел, было очень печальным: сначала мы, когда отходили, взрывали; потом немцы отходили и тоже все, что успели, взорвали. Картина была такая печальная - одни руины. Надо было думать о восстановлении, прежде всего шахт. Не помню, в это время или же позже приехал туда Егор Трофимович Абакумов, мой давний приятель. Мы с ним познакомились в 1912 г., когда работали на 31-й шахте Французской компании. Он начал меня упрашивать, чтобы я помог ему демобилизовать людей для шахт. Оказалось, требуется очень много шахтеров, другой рабочей силы. Толоухин, который там наступал, их мобилизовал в ряды Красной Армии. Я сейчас же послал шифровку Сталину с просьбой не призывать в армию горняков и металлургов. Уголь и металл по-прежнему будут нужны, ведь война продолжается. Если не будет рабочей силы, мы не сможем дать стране уголь и металл.
Потом меня в связи с этой телеграммой вызвали в Москву. Сталин мне: "А с кем будем воевать? Кем пополнять наши части?" Отвечаю: "Понимаю. Давайте мобилизовывать колхозников, а тут требуются квалифицированные рабочие. Если мы мобилизуем колхозников на рудники, их очень трудно будет быстро обучить производству, тем более металлургическому делу". "Ну, говорит, - хорошо. Тех, кого Толбухин уже мобилизовал, возвращать не будем, но дадим ему указание, чтобы он впредь шахтеров и металлургов не брал". Уже хорошо! Это была маленькая победа. Тогда же Сталин сказал мне так: "Сейчас, видимо, надо будет вам сосредоточить свое внимание на партийной работе и на работе по восстановлению государственных органов республики, ее областей и районов. Посевы, хлеб, сахар, уголь и металл - вот главное. Вы остаетесь членом Военного совета, как и были, 1-го Украинского фронта, время от времени сможете выезжать на фронт, но главные усилия, главную энергию вы должны посвятить восстановлению республики". Отвечаю: "Хорошо". Когда я приехал из Москвы, то сказал об этом решении Ватутину. Ватутин выразил свое сожаление. Мы с ним, как говорится, сработались и с уважением относились друг к другу, и мне тоже было жалко оставлять Ватутина.
Таким образом, я из Киева наведывался на фронт, если говорить прямо, гостем. Не совсем-то хочется мне произносить это слово "гость", потому что я был членом Военного совета и обладал соответствующими правами, но систематически заниматься вопросами фронта уже не мог, потому что должен был заниматься вопросами Центрального Комитета КП(б)У и Совета Министров Украины. Но выезжал я на фронт довольно часто. Хотел бы, чтобы меня поняли по-человечески. После выхода наших войск за Днепр настал приятный момент: раньше мы бежали к Днепру, отступая, а теперь в такое же положение поставили своего противника. Было горько отступать, зато приятно наступать. Хотя имелись у нас потери, но мы испытывали чувство радости и гордости за СССР, за нашу партию, за идеи Ленина, за все, что сделано нашим народом, создавшим такую могучую страну.
И вдруг в такие дни я лишаюсь возможности активно участвовать в организации наступления на врага... Но я понимал, что воевать и бить противника, конечно, хорошо, однако следует также создавать тыл и снабжать армию не только теми средствами, которыми бойцы питаются буквально, то есть кушают, но питать ее также боеприпасами, снаряжением и прочим. Здесь Украина должна была сказать свое веское слово. Мы имели кадры, имели и заводы. Хотя они и были разрушены, но легче восстановить разрушенные заводы, чем строить новые. Вот мы и занялись этим делом: восстанавливали шахты, металлургию, заводы. В 1943 г. зима наступила рано. Наши войска не то уже были под Житомиром, не то даже вступили в Житомир. Тут противник подтянул войска с запада, в том числе из Италии, и вынудил нас отойти от Житомира. У нас там силы были сравнительно маленькие: на Житомир наступал в авангарде наших войск кавалерийский корпус[254]. Естественно, когда он встретился с танками, то не смог удержать свои позиции против танков. Немцы стали преследовать наши войска, которые отходили опять к Киеву, и надеялись даже сбросить нас в Днепр.
Помню, к той поре приехал к нам Анастас Иванович Микоян и пробыл у нас день или два. Он приехал для организации заготовки хлеба. "Вот, Сталин послал меня за хлебом. Давай этим заниматься", говорит мне. Пока мы разбирались, какие есть возможности по заготовке (а мы послали людей на места еще до приезда Микояна), немцы стали угрожать Киеву. Обыватели, которые уже возвратились в Киев, не хотели вновь попасть к ним в лапы. Началось их бегство из Киева. Но это быстро прошло: наши войска справились с делом, задержали противника, так что ему не удалось выбросить нас вторично из Киева. Анастас Иванович попросил меня показать, откуда наши войска освобождали Киев. Я ему: "Давай, поедем туда. Это займет 35 минут". Приехали мы. Я ему показал, где были расположены войска противника, где наши войска, артиллерийские позиции, показал и наши землянки. Он зашел на командный пункт, огляделся и спрашивает: "А где же был противник?". "Да вон там". "Так это же очень близко". "Да, зато мы противника не только чувствовали на расстоянии, а и видели". Теперь он более конкретно представлял себе, как мы наступали на Киев. Потом вернулись к дороге. Вообще-то мы не съезжали с шоссе, чтобы не наскочить на какую-нибудь глупую мину. Когда подъехали к Пуще Водице, к лесу, глянул он туда, где раньше был молодой сосняк, так тот буквально был выкошен. Говорю: "Это все выкосила наша артиллерия". Как будто какие-то люди шли там с топорами и рубили. Все было покорежено или вырвано с корнями. И я ему сказал: "307 артстволов стояло на один километр. Можешь себе представить такую мясорубку? Она все живое, все тут растущее дробила и рвала. Все уничтожила".
От нас Микоян поехал в Полтаву, потому что Полтава - это хлебный район, западная же часть Украины еще оставалась в руках противника, там велись бои и было не до хлеба, там вопросы решались пулеметами, артиллерией и авиацией, а на левом берегу Днепра уже можно было вести заготовку хлеба. Правда, в низовье Днепра, в районе Херсона, Толбухин еще не перешел за Днепр[255]. Вот такая сложилась обстановка на конец 1943 года. Все фронтовые бойцы и все патриоты в тылу переживали радость побед, освобождения родной земли. Уже не было вопроса, будем ли мы в Берлине или не будем. Существовала абсолютная уверенность, что мы не только разобьем противника, но и добьем его. Военные всерьез поговаривали: "А вот я хотел бы стать комендантом Берлина". Кандидатов было довольно-таки много. И все люди, которые так именовали себя, были достойны того, они поистине выстрадали такое почетное назначение.
Некоторые военные могут сказать, что Хрущев пользуется невоенной терминологией. Да, я не военный человек, потому и пользуюсь народной терминологией. Могут сказать "выстрадали" - такое слово не подходит. Но я считаю, что все люди, и военные, и невоенные, страдают на войне, поэтому данное слово уместно. Мне очень нравилась откровенность Жукова в такого рода вопросах. Когда мне с ним приходилось бывать на фронте и когда он попадал в опасное положение, то очень возмущался теми, кто ставил его в это положение, ругался и говорил: "Боюсь! Черт его знает, ведь убьют. Убьют, сволочи, а я боюсь, не хочу, чтобы меня убили". И я здесь не вижу ничего унизительного для такого сугубо военного человека, как Жуков. Это - человеческое чувство. Одно дело - поддаться страху, и другое - правильно оценивать опасность и не подставлять, как говорил Чапаев, свой дурацкий лоб под дурацкую пулю врага. Тут разные понятия. Поэтому я и говорю, что война приносит страдания людям. Страдает и тот, кто воюет, и тот, кто не воюет. Поэтому, когда мы пошли вперед, мы радовались тому, что война идет к концу, что близится этот конец, что враг будет разбит, страна наша будет избавлена от фашистского нашествия и торжество наше обеспечено.
В моей памяти отложился еще один эпизод военных действий того времени. После того как сопротивление противника западнее Киева было сломлено, завязались тяжелые бои юго-западнее Киева и северо-восточнее Умани. Это происходило на стыке двух фронтов: 1-го Украинского и Степного (2-го Украинского). Последним командовал Иван Степанович Конев[256]. В результате боев там была окружена довольно большая немецкая группировка. Она заняла круговую оборону и упорно сопротивлялась. Тогда Ставкой было поручено двум фронтам, 1-му и 2-му Украинским, разгромить эту группировку и не допустить прорыва немцев на запад. Помню, как тогда Ватутин сказал мне, что это ответственное задание и что он собирается выехать в войска. Говорю: "Я тоже с вами поеду". Поехали. Была большая распутица, но кое-где встречались и заносы. Стояли дни, когда сразу бывают оттепели и снегопады. До Белой Церкви мы летели, а оттуда с трудом добирались к нашим войскам, взявшим в кольцо окруженную группировку врага. Мы, собственно, направлялись в танковую армию, которой в то время командовал генерал Кравченко[257].
Я уже говорил о нем раньше. Он командовал под Киевом танковым корпусом неполного состава, а потом получил более высокое назначение, и ему дали танковую армию. Мы с трудом добрались до штаба танковой армии, где встретились с Кравченко. Членом военного совета у него был Туманян[258], как я позже узнал - родственник жены А.И.Микояна. Я не знал Туманяна до того. Он произвел на меня хорошее впечатление. Развернулись упорные бои. Противник отчаянно оборонялся и все время предпринимал попытки прорваться на запад. В конце концов каким-то силам окруженной группировки удалось все же прорваться. Они буквально валом валили: их косили, насколько могли, всеми средствами уничтожения, но какая-то часть их прорвалась. В окружении оказалось также много гражданских лиц - наших, советских людей, мужчин и женщин разных возрастов. Когда немецкая группировка отходила, она захватывала украинцев с собой и угоняла их на запад. Потом мы видели, как в метель и ветер эти обессиленные люди возвращались на восток, откуда они были угнаны. Жуткая осталась в моей памяти картина. Сталин тогда рассвирепел в связи с тем, что вражеская группировка была уничтожена не целиком. Имело, конечно, большое значение, как представить доклад Сталину, умение доложить.
Ватутин был по характеру человеком очень скромным и добропорядочным, он не мог ничего приукрасить и не мог свалить на кого-то вину, чтобы выгородить себя или показать себя в каком-то лучшем свете за счет принижения других. Такая порядочность Ватутина была всем известна, и мне это очень нравилось. Но она не всегда является хорошим спутником карьеры человека, который обладает хорошими качествами. Все хвалят и ценят его на словах, однако не всегда следуют этому хорошему и доброму примеру. И сложилось так, что Сталин взбесился против Ватутина. Получилось, что именно чуть ли не Ватутин виноват в том, что не вся группировка немцев была уничтожена. И это сказалось на карьере Ватутина. Он получил чувствительный для военного человека укол: за успех под Корсунь-Шевченковским маршальское звание было вскоре присвоено Коневу, а Ватутин остался генералом армии и умер генералом армии. Я никогда не говорил с Ватутиным на эту тему, считая это ненужным. Это было все равно как подсыпать соли на больную рану, и я никогда не поднимал вопроса, почему Ватутин был тогда обойден в присвоении ему более высокого воинского звания. Только теперь у нас вернулись к данному вопросу, и правительство присвоило ему посмертно звание Героя Советского Союза[259].
Разгром немецкой группировки произвел очень большое впечатление. Вся мировая пресса писала об этом. Помню, как в тот район приехали наши и иностранные корреспонденты. Они знакомились с результатами разгрома группировки. Среди убитых был найден труп немецкого генерал-полковника. Тогда много писали об этом западные корреспонденты, подчеркивая, что, когда был найден труп этого генерала, на пальце у него было обнаружено золотое кольцо. Этот факт корреспонденты особенно подчеркивали: осталось даже золотое кольцо! Это было им непонятно. Ведь во всех армиях мира было сильно развито мародерство. Например, под Сталинградом трупы немецких солдат раздевали догола. Тоже не волки, конечно, их раздевали! Ясно кто, если с них сняли штаны. Мародеры сняли. Были это гражданские лица или военные? Думаю, что, к сожалению, могли так поступить и те, и другие. Закончился разгром большой немецкой группировки, что потребовало от наших войск много упорства и времени. Мы вернулись в Киев. Сейчас уже не помню, может быть, я вернулся в Киев, а Ватутин отправился в штаб фронта, который располагался западнее. Наверное, так, поскольку я один возвращался в Киев, это мне хорошо помнится. Проехал Белую Церковь, дальше ехать было невозможно, потому что на полпути к Киеву заносами была совершенно забита дорога. Валил снег, и дальше я пробиться не смог. Решил заночевать в ближайшем селе. Нашел первую попавшуюся хату. Постучались. Уже наступила ночь. Ответил женский голос, нам открыли дверь. Я зашел с товарищами, которые меня сопровождали, и сказал, что хотел бы до утра побыть в вашей хате. Женщина был одна с ребенком, сынишкой лет восьми. Хата была похуже прибрана, чем обычно встречается в украинских хатах, чистеньких и беленьких. Тут дом был ниже того среднего уровня чистоты и опрятности, который существовал там обычно. Говорю: "Разрешите переночевать". Она: "Пожалуйста, пожалуйста, будь ласка" (отвечала только по-украински). Я ей не отрекомендовался, не назвал себя, потому что мы только что освободили эти районы, и я еще не знал, что тут за люди. Зашел просто какой-то военный в генеральской форме, и она приняла меня именно как военного. Мы покушали (у нас было свое, что покушать) и ее угостили.
Потом она разговорилась и рассказала мне о таком, чего я не знал. Когда немцы наступали здесь в 1941 г., то прижился у них в селе один красноармеец. Когда еще стояло много советских войск, он питался на общей красноармейской кухне, а когда советские войска отступили, остался, и все узнали, что это был бандеровец, националист. Он стал комендантом и рассказывал, что он прошел какие-то курсы на Западе, где его и других обучали и немцы, и украинцы-бандеровцы. Его доставили самолетом и сбросили на парашюте значительно раньше, чем отошли советские войска, у этого села. До поры до времени он скрывался в поле, в картофеле. Она рассказывала и о жизни под врагом, но бытовые вопросы не представляли особого интереса. Зато интересно, что немцы ко всему этому готовились заранее. Они, это мы и раньше знали, снюхались с бандеровцами. Бандеровцы были для них поставщиками агентуры: давали людей, которых выбрасывали на парашютах в тыл наших войск, и заранее распределяли, кто станет комендантом и в каком селе. Этот "красноармеец" ожидал, когда в село вступят немецкие войска. Тут он сразу явился (как это и произошло) и доложил, что комендант уже на месте и приступил с исполнению своих обязанностей. Крестьянка сказала: "Дюже поганый был человек". Ну, и я не сомневался, что это поганые люди. Мы, говорит, поняли по его выговору, что этот человек с Западной Украины: "Вин не так размовлял, як наши, киевски украинци". Одним словом, это был засланный человек из рядов той агентуры Бандеры, которая пошла в услужение к Гитлеру. Бандера в то время верил, что Гитлер "освободит" Украину и там будет создано украинское национальное правительство, Украина станет независимой от Москвы, самостийной.
Но все эти мечты были развеяны Гитлером. Показал он им самостийну Украину! На деле гитлеровцы никаких правительственных украинских органов не создавали, а назначали своих управителей и комендантов. После освобождения нами Киева националисты начали ставить себя в оппозиционное положение по отношению к гитлеровцам. Все это свидетельствует о том, что Гитлер настолько был убежден, что победа ему обеспечена, что ни в каких местных сателлитах или каких-то союзниках, хотя бы националистах, заклятых врагах социалистического строя, не нуждался. Он считал, что все будет решено немецким оружием. Поэтому - все для немцев, все должно быть подчинено немцам, в том числе украинские националисты. Они должны знать свое место, а судьбу Украины будет определять фашистское руководство. ЦК КП(б)У и правительство УССР в то время находились в Харькове. Как только мы освободили Харьков, сразу приступили к воссозданию советских и партийных органов. Были заняты необходимые помещения и временно укомплектованы ЦК КП(б)У и Совет Народных Комиссаров Украины техническим персоналом.
Развернулась работа по налаживанию жизнедеятельности республики. Много мне приходилось тогда разъезжать. С осени 1943 г. я бывал попеременно и в Харькове, и в Киеве. Спустя некоторое время я поставил вопрос перед Москвой и Сталиным о том, что правительство Украины надо перевести в Киев. Мне тоже было бы удобнее находиться поближе к линии фронта, так как я время от времени выезжал во фронтовой штаб проинформироваться о положении дел, узнать, как движутся военные дела. Не помню сейчас, в каком месяце, но мы перебрались в Киев. Некоторые лица в Киеве чувствовали себя еще плохо: немцы частенько летали над городом, особенно разведывательные самолеты. Бомбили же Киев мало, подвергли только очень сильной бомбардировке железнодорожную станцию Дарница. Немцы оставили много шпионов, и, когда 1-й Польский корпус[260] эшелонами переправлялся на западный берег Днепра, они сильно его бомбили. Может быть, они и не знали, что это польские войска, потому что любые войска, которые переправлялись или концентрировались, они подвергали бомбежке. Реже бывали случаи, когда они сбрасывали бомбы на город. Обычно летали через Киев на Дарницу; Дарница лежит на левом берегу Днепра возле Киева. Поэтому взрывы и пожары в ней освещали Киево-Печерскую лавру. Полеты вражеских самолетов через Киев нервировали киевлян. Конечно, этому чувству поддавались и те люди, которые работали в ЦК партии и Совнаркоме УССР. Помню, как вдруг приехали ко мне военные и докладывают: "Надо создать в Киеве подземный командный пункт". Я не понял их и говорю: "Зачем нам сейчас здесь подземный командный пункт, когда фронт удаляется на запад и мы уверены, что враг не вернется к Киеву?" Мне отвечают: "Есть приказ. Давайте выберем подходящее место".
Стали судить и рядить. В Киеве можно выбрать много таких мест, потому что город холмистый и удобен для создания подземных сооружений. Сначала я считал, что командный пункт надо расположить на склонах берегов Днепра. Потом от этой мысли отказался: там плавуны, может произойти подвижка грунта, если мы начнем копать тоннели. Кроме того, нам сказали, что подземелье должно иметь выход в какое-то приличное помещение. Тогда решили расположить его неподалеку от здания бывшего штаба Киевского Особого военного округа. Потом там размещался ЦК КП(б)У. Построили какое-то, я бы сказал - недостаточно хорошо оборудованное помещение. Позже я узнал, что это была затея Сталина. Когда наши войска уже освободили Киев, он, как говорится, уже в зеркало смотрел, как он выглядит в качестве командующего освободительными войсками и т.п. Поэтому он решил, что выедет поближе к войскам. Для этого ему нужно было место для штаба; он решил расположить его в Киеве.
Глупейшая затея. Не знаю, для чего это было нужно. По делу, для удобства командования этого не требовалось. Если же искать место именно с этой точки зрения, то надо было строить такой командный пункт гораздо западнее. Да и вообще затея эта родилась после очередного обильного ужина, который сопровождался бутылками с "Цинандали", "Напареули", а здравого смысла тут не было никакого. Я знал, что Сталин никогда особенно не рвался к линии фронта. И затея была никудышная, и, конечно, Сталин никогда там не появлялся. В мою бытность первым секретарем ЦК КП(б)У Сталин вообще на Украине не бывал. Он только проезжал через Украину, когда отправлялся на отдых в Сочи. А однажды, когда отдыхал в Крыму, тоже проехал через Украину. И еще когда состоялась его встреча с Рузвельтом и Черчиллем в Ялте, он проехал через Харьков (я его тогда там встречал). Конечно, во время Гражданской войны он бывал на Украине, когда являлся членом Военного совета Юго-Западного фронта, которым командовал тогда Егоров. Что касается командного пункта, то нам впоследствии пришлось его завалить, потому что мы боялись осадки почвы; в Киеве - это опасное явление.
Местность там холмистая. Мы опасались, что осада может привести к разрушению расположенных близко зданий, в том числе здания ЦК партии и театра имени Франко. Впрочем, убежище сослужило свою службу, до того как его ликвидировали: в нем укрывались от вражеских налетов. Не помню точных чисел, но, видимо, в марте (я определяю по распутице; была невероятная распутица) наши войска предприняли очередное мощное наступление и опять сбили немцев с их позиций. Враг не выдержал натиска и бежал, оставляя огромные военные обозы, а также многих людей, которых немцы тянули за собой. Одни - это люди, которые проштрафились перед украинским народом и сами бежали с немцами; другие - кого уточняли насильно. Сразу нам трудно было определить, кто там виноват, а кто нет. Потому что в таких случаях, даже если он сам бежал, спасая свою шкуру, то все равно прикрывался на словах, что его мобилизовали, ему приказали и т. п. И вот мне вдруг докладывают, что в обозе брошенных немцами лиц оказался Гмыря[261], знаменитый артист, певец с прекрасным голосом. Я прежде уже говорил, что на время фашистской оккупации он оставался в Харькове.
Потом он объяснял, что кто-то из его близких был болен. Очень трудно выяснить сейчас правду, да я и не хочу делать это, потому что все, кто оставался, как по сговору, аргументировали свое поведение одинаково: жена больна, отец болен, мать больна, а он не мог их бросить, и т.д. Одним словом, сказали мне, что Гмыря со всем своим имуществом находится в этом обозе. Я приказал сейчас же доставить его в Киев. Доставили. Потом я специально разговаривал по этому вопросу со Сталиным, потому что сам решить его не мог. Ведь Гмыря - грандиозное имя! Когда немцы заняли Харьков, мы получили сообщение (по радио, что ли, враги передавали), что Гмыря пел в зале перед собравшимися там офицерами немецкой армии. Возможно, что этого и не было, а просто немцы хотели афишировать, что известный украинский артист выступает перед немецкими офицерами. Теперь я сказал Сталину, что надо нам определить наше отношение к Гмыре. Он очень хороший артист. Лично я его биографии не знал, но, кажется, консерваторию он окончил в 1939 году. Говорю: "Мы хотели бы оставить его в киевской опере. Но нужно ожидать больших возражений со стороны Ивана Сергеевича Паторжинского[262].
Паторжинскому Сталин очень симпатизировал. Да он и заслуживал этого. Паторжинский был хорошим артистом и хорошим певцом, он отлично пел и играл, имел сочетание сильного голоса и артистической манеры поведения на сцене. Тем не менее Сталин согласился со мной: "Да, возьмите Гмырю в Киев". Я не ошибся: сейчас же зазвучали голоса, что с изменником Родины мы не будем вместе петь! Я знал, откуда это исходит; тут был и патриотизм, но была и конкуренция. И мы разъяснили, что Гмыря виноват в том, что не отступил с нами, раз имел такую возможность; однако сейчас трудно расследовать это дело, да мы и не хотим, ибо трудно сделать заключение, стремился ли он остаться. Да, факт налицо, и это, конечно, плохо. "Но, говорил я, - мы ведь всю Украину оставили. Так что те, кто остался, сами имеют какое-то право обвинять нас за то, что мы ушли и оставили их. Поэтому копаться сейчас в этом, отыскивая виновных и наказывая всех тех, кто оставался при немцах, надо с умом. Иначе придется наказывать миллионы. Они остались, потому что у них другого выхода не было. Требуется подойти более серьезно, более здраво при оценке фактов и определять свое отношение отдельно к каждому лицу, которое оставалось на территории, занятой немцами". Так Гмыря сохранился в Киевском оперном театре. Спустя какое-то время я встретился с ним уже под конец войны. Он-то хотел встретиться еще во время войны, но я тогда считал, что это не вполне удобно для меня. И только когда я был в Закарпатье, а Гмыря оказался там, я сказал, чтобы он явился ко мне на квартиру.
Он сам хотел излить мне свою душу. Но, чтобы не вызывать его на это (а это неприятно любому человеку), я хорошо угостил его и попросил спеть. Он пел. Только после этого я спросил: "Ну, что вы хотели сказать?" - "После всего того, что я услышал от вас, мне больше нечего сказать, кроме благодарности. Я очень вам благодарен и никогда не забуду вашего отношения ко мне в тяжелую для меня минуту, которая возникла после того, как узнали, что я остался на территории, занятой немцами". Гмыря вновь занял почетное место в театре, опять обрел должную форму артиста и человека, с большой пользой трудился, часто выступал в концертах, да и сейчас еще выступает. Когда я узнаю, что его пение передают по радио или по телевизору, пользуюсь этим случаем, слушаю и наслаждаюсь его голосом. Был в ту пору еще один крупный певец на Украине - Донец[263]. В паре они пели с Паторжинским. Тоже имел хороший голос. Не знаю, по каким причинам, но за ним укрепилась среди партийного актива и особенно чекистов "слава" антисоветского человека и националиста. Он не подвергался аресту. Но когда в 1941 г. нависла угроза, что Киев будет захвачен немцами, его у нас арестовали.
Никаких конкретных данных к тому, кроме сугубо интуитивных, не имелось. Я находился в обществе от него на довольно приличном расстоянии и потому не знал ни его души, ни настроений. И только по агентурным сведениям получалось, что он настроен антисоветски, что он украинский националист. Арестовали его, руководствуясь теми мотивами, что, дескать, немцы знают о его политических, антисоветских настроениях и после захвата Киева могут его использовать. Чтобы не предоставить врагу такой возможности, его и арестовали, и вскоре он умер. Может быть, если бы не было войны и ареста, то человек долго еще жил бы и работал на пользу своему народу. Уже по окончании войны я возвращался несколько раз к вопросу о Донце. Думается, что имели место наветы. То был плод искусственно вызванного подозрения. В каждом человеке видели нераскрытого врага. А Донец по характеру был человеком крутым, своенравным. Как мне потом рассказывали, он перед властью не низкопоклонничал, держал себя с достоинством, может быть, проявлял даже высокомерие. Видимо, это и послужило поводом оценить его как антисоветского человека.
Весной 1944 г. наши армии, продолжая наступать, подходили к Одессе. Я очень беспокоился за Одессу, в каком она находится состоянии и какие там имеются разрушения. Это крупный город. Да и просто хотелось побывать в Одессе непосредственно после того, как она будет освобождена. Поэтому я договорился с командующим войсками, а тогда на этом фронте командовал Малиновский, и полетел к нему. Он доложил об обстановке, и мы выехали в только что освобожденную Одессу[264]. Сразу же посмотрели, целы ли здание обкома партии на берегу моря, Одесская опера, да и вообще город. На меня произвел хорошее впечатление тот факт, что Одесса сравнительно не очень сильно пострадала. Оперный театр был цел, только где-то снаряд расковырял угол. Рассказывали множество всяких анекдотов о вражеской оккупации. Одессу занимали румыны, поэтому возникло много антирумынских анекдотов, а одесситы ведь умеют сочинять смешные истории. Вот я сейчас думаю: как это получилось, что Одессу освобождал Малиновский, а не Толбухин? Видимо, Толбухина оставили освобождать Крым, а Малиновский, то есть войска 3-го Украинского фронта, пошел на запад, и таким образом ему была предоставлена честь освободить Одессу, в которой он провел детство, живя у своей тетки. Не могу утверждать, что произошло именно так, сейчас у меня многое стерлось в памяти, искать же по печатным материалам, как я считаю, не стоит того. Наш 1-й Украинский фронт вышел к марту на линию старой границы УССР с Польшей до 1939 года.
Хотя мне все еще отводилось помещение в месте расположения фронтового штаба, я ездил туда только временами, а в армиях вообще уже не имел возможности бывать, хотя мне и хотелось. Я понимал верность указания Сталина, что мне надо сосредоточить усилия на организации работ по восстановлению промышленности и сельского хозяйства республики. Это было для Украины на том этапе главное, а вопросы наступления и разгрома противника уже, как говорится, лежали в кармане. Тут все было обеспечено. Не помню точно числа, когда перед весной мне сообщили, что ранен Николай Федорович Ватутин[265]. Меня это очень огорчило, хотя и сказали сначала, что жизни его рана не угрожает. Ранен он был в ногу, а при каких обстоятельствах, мне тогда не доложили. Прошло какое-то время, и сообщили, что Ватутин вагоном едет в Киев. Я встретил его. Он чувствовал себя, как любой раненый, и был уверен, что вскоре вернется к делу. Ему, кажется, предлагали лечиться в Москве, но он решил остаться в Киеве, потому что здесь был ближе к фронту и мог не прекращать своей деятельности командующего войсками. Приехали врачи, в том числе Бурденко[266], крупнейший хирург. Большего и лучшего желать в те времена не приходилось.
Бурденко, осмотрев Ватутина, сказал мне: "Ничего страшного, его рана не опасна, мы его, видимо, сумеем поставить на ноги, и он приступит к исполнению прежних обязанностей". После ранения Ватутина командование войсками 1-го Украинского фронта принял Жуков[267]. Сначала он командовал временно, пока не выздоровеет Ватутин. Затем мне доложили, при каких обстоятельствах и где был ранен Ватутин. Оказывается, его ранили украинские националисты, бандеровцы. Они воспользовались неосторожностью, непредусмотрительностью не только Ватутина, но и людей, которые отвечали за его охрану. Он находился в каком-то населенном пункте, откуда ему нужно было переехать в другое место. Решил ехать ночью. Была непролазная грязь. Вообще-то мы на фронте чаще всего переезжали с места на место на рассвете или в вечерних сумерках, а тут - ночью. Впереди командующего ехал "виллис" с автоматчиками, потом сам Ватутин, тоже в сопровождении автоматчиков. Где-то на развилке дорог машины разминулись: шедшая впереди направилась в одном направлении, Ватутин - в другом. Ватутин проезжал через какую-то деревню, когда раздалась пулеметная очередь, и командующий был ранен. Не помню сейчас, нападавшие сумели захватить машину или убежали.
Потом мы поймали тех, кто стрелял в Ватутина, но уже после войны. На допросах, как мне докладывали, они говорили, что узнали, что ранили (либо убили) именно Ватутина, потому что какие-то вещи и документы попали к ним в руки. Лечение командующего шло довольно успешно. Я каждый день приезжал к нему. Он чувствовал себя хорошо, уверенно выздоравливал, уже начал заниматься делами и был даже назначен день, когда он сможет официально приступить к исполнению прежних обязанностей и вернуться во фронтовой штаб. Но вот как-то он говорит мне: "Что-то температура у меня поднялась, и я плохо себя чувствую". Врачи, осмотрев его, сказали, что, видимо, это рецидив малярии. Он болел малярией раньше, да и на фронте, когда мы были с ним там вместе, тоже болел ею. Я ответил: "Жаль. Она, видимо, измотает вас, ну, ничего не поделаешь". Через день-два процесс стал нарастать. Тогда врачи сказали: "Это не малярия, это - более серьезное явление, возникло заражение раны". Это всех встревожило. Заражение раны нагноение, гангрена, ампутация конечности или смерть. Надо было срочно лечить. Врачи считали, что следует применить пенициллин, но они могли, как мне рассказывали, тогда сделать это только с согласия Сталина, а Сталин воспротивился. Я с ним лично не разговаривал по вопросу пенициллина, но врачи сказали мне, что Сталин отверг пенициллин. Мотив выдвигался такой: пенициллин был не советским (у нас его не имелось), а американским, и Сталин считал, что пенициллин может оказаться зараженным: из США могут послать зараженный пенициллин, чтобы ослаблять наши силы, так что лечить этим лекарством такого крупного военного деятеля, как Ватутин, недопустимый риск. Не мне тут судить, судить должны были врачи. Врачи же мне говорили, что если бы ему был дан пенициллин, то это могло повернуть ход болезни в иную сторону и спасти Ватутину жизнь.
Но врачи так и не смогли ничего добиться. А положение раненого ухудшалось. Когда я однажды пришел к нему, Бурденко, отведя меня в сторону, сказал, что единственный выход операция, и как можно быстрее. Придется отнять ногу. "Мы возлагаем на вас большую надежду. Вам нужно поговорить с Ватутиным раньше, чем нам. Вы сошлетесь на нас и скажете ему о такой необходимости. Он питает к вам большое уважение, доверие, и вы сумеете найти слова, чтобы убедить его согласиться на операцию". И я поговорил с Ватутиным: "Николай Федорович, ваша рана дала осложнение. Врачи говорят, что нужна ампутация, придется отнять ногу. Я понимаю, что это значит для каждого человека. Но генерал без ноги возможен. А пожалеешь ногу, и потеряешь голову. Выбор один: жизнь или ампутация. Ампутация сохранит жизнь. Если ее не сделать, остается смерть. Прошу вас согласиться на операцию". Он ответил довольно спокойно: "Да, я согласен. Скажите врачам, пусть делают так, как считают нужным. Я готов хоть сейчас". Я сейчас же передал его слова Бурденко. У того был помощником тоже крупный хирург, сейчас не помню его фамилию, он, собственно, и делал ампутацию ноги под наблюдением Бурденко. Провели операцию. Я пришел туда после операции, и мне сообщили о результатах. По-человечески говоря, это была страшная картина: не просто человек без ноги, а открытая рана... Для медиков это - довольно впечатляющее зрелище с профессиональной точки зрения, а на других лиц производит неприятное впечатление. Опять стали лечить Ватутина. Все делали, буквально все, чтобы состояние его здоровья улучшилось. Не знаю, сколько дней протянул он еще в таком виде, когда опять мне позвонил Бурденко (или его ассистент) и попросил, чтобы я приехал, потому что Ватутин уже находился в тяжелейшем состоянии. Он метался, поднимался на руках, требовал блокнот, карандаш и пытался написать какую-то телеграмму, обращался к Сталину с просьбой спасти его, и тому подобное.
Когда я подошел к нему, он метнулся навстречу, обнимал, целовал, был в полусознании, но хотел жить и обращался к каждому, кто мог в какой-то степени помочь отвоевать его жизнь. А я ему сказал: "Николай Федорович, Сталин знает и все сделает, что надо". Действительно, я со Сталиным специально говорил о Ватутине по телефону. Потом Сталин меня же и упрекал, что мы допустили смерть Ватутина. Это я-то допустил! Тут и Бурденко ничего не смог сделать, а что я могу, простой человек, не медик? Сталин сам запретил использовать пенициллин, но об этом он тогда мне не сказал: понимал, что произведет плохое впечатление. А я позднее не спрашивал Сталина об этом, потому что не хотел его как бы упрекать. Когда я уходил из госпиталя, то сказал Бурденко: "Мое впечатление таково, что Николай Федорович умирает". Бурденко ответил, что больной еще несколько дней может пожить. Я повторил: "Думаю, что этой ночью и даже вечером он скончается". Действительно, мне через несколько часов позвонили: "Приезжайте, у Ватутина очень тяжелое состояние, мы хотели бы, чтобы вы приехали". Когда я приехал, Николай Федорович был при смерти. Так оборвалась жизнь этого замечательного человека[268], преданного Коммунистической партии. Советскому государству и своему народу, честнейшего, преданнейшего, трезвого во всех отношениях и сугубо принципиального. Я не много видел военных, чтобы они были такими хорошими коммунистами, каким являлся Николай Федорович Ватутин. Так я расстался с ним, потеряв хорошего товарища и верного друга.
Я не был столь близок с ним до войны, но сблизился во время войны, глубоко уважал его и уважаю память о нем. Когда его хоронили, я поставил вопрос о том, чтобы поставить ему памятник. Сталин согласился. Стали готовить памятник. Какую же надпись на нем сделать? Я предложил написать примерно так: "Генералу Ватутину от украинского народа", - ибо считал, что это - самое почетное: он ведь воевал на Украине, освобождал украинские земли от Гитлеровцев. И это было принято. Когда стали готовить надпись, вдруг в Москве тоже подняли тот же вопрос. Тогда руководил делами культуры в стране кто-то с украинской фамилией, хотя сам и не украинец[269]. И вот он вдруг звонит мне и говорит, что надпись, предложенную мной, нельзя делать. "Почему?". "Это будет националистическая надпись. Это, наверное, Бажан ее придумал, а ведь Бажан - националист". "Постойте-ка, - говорю, - не Бажан, а я предложил. Бажану тоже понравилось, этого я и не отрицаю. Но какой же здесь национализм благодарность от украинского народа русскому человеку? Так это же награда, это, наоборот, украинские националисты с ума сойдут, если на памятнике русскому человеку сделать надпись от украинского народа". Мне потребовалось много усилий, чтобы отстоять текст надписи, и я только тогда победил, когда обратился к Сталину и сказал, что это возмутительно. Сталин ответил: "Пошлите их к черту! Сделайте, как вы предлагаете, и все".
Так мы и поступили. Памятник стоит посейчас как память о жизни и деятельности Ватутина, как признание украинским народом его заслуг в борьбе с агрессором. Образованные люди занимаются вопросами культуры в Советском Союзе. Но тот человек показал свое невежество и политическую малограмотность. Туг как бы наоборот. Повторяю, у настоящего украинского националиста глаза бы затмило и помутнело в голове, если русскому генералу чеканить на памятнике надпись: от украинского народа. К тому же эта надпись свидетельствует, кроме того, о слиянии в едином порыве мыслей и поступков украинского и русского народов в общей борьбе против захватчиков. Действительно, так оно и было, потому что умирали ведь на одном поле и за одно дело и русские, и украинцы, и татары, и евреи, и башкиры, и белорусы, и представители других народов. Здесь проявилось их политическое и моральное единство, когда все народы СССР поднялись против врага, на защиту нашей Родины. Когда я бываю в Киеве, то всегда хожу к памятнику Николаю Федоровичу и отдаю ему должное уважение, высказываю свое почтение и признательность.
После Жукова командовал 1-м Украинским фронтом Конев[270]. Я впервые встретился с ним до войны, какое-то возникшее с Коневым дело разбирал Сталин, а я случайно присутствовал при этом. Тогда возник спор Конева с секретарем партийного комитета края или области. Потом я встретился с ним уже во время войны: он пришел с 19-й армией в первые дни войны к нам в округ, когда мы стояли еще на границе, но его армию быстро перебросили от нас в Белоруссию. Затем я встретился с ним на Курской дуге. А совсем недавно мы вместе с ним праздновали нашу общую победу - освобождение Киева. Я знал Конева с хорошей стороны и был доволен, что командование войсками принял именно он. Конечно, Жуков был посильнее, тем более что уже тогда он фактически подготавливал и решал все вопросы в Ставке. Сталин? О, Боже упаси, чтобы кто-то заикнулся о том, что решает вопросы не он, а Жуков. Однако, во всяком случае, я тогда именно так думал и полагаю, что так оно и было.
При Жукове я, оставаясь членом фронтового Военного совета, продолжал свою деятельность, направленную на восстановление разрушенного хозяйства Украины, и по-прежнему изредка ездил в штаб фронта, иногда по нескольку дней бывал там вместе с Жуковым. Наши войска в это время уже вышли к Тернополю[271]. Помню, позвонил мне Жуков и сказал, что тогда-то начнется наступление и что он хотел бы, чтобы я приехал к нему. Я с удовольствием отправился. Мне и самому хотелось посмотреть на наступление наших войск в победном, 1944 году. Имелась уже абсолютная уверенность в нашем успехе. Прибыл я в штаб фронта, пробыл там не один день, как следует ознакомился с обстановкой. Ранним утром в день наступления мы вместе с Жуковым должны были находиться на командном пункте и контролировать, как проходит операция. Сели на "виллис", отправились. Не знаю почему, но немного запоздали к началу артподготовки. Когда спешили на командный пункт, то объезжали какие-то кустарники, и вдруг сзади нас ухнуло орудие. Оно буквально ошарашило нас и мощным выстрелом, и колебанием воздуха. Это и было как раз начало артиллерийской подготовки. Загудела артиллерия, потом полетела авиация, заработали "эрэсы".
Картина была очень впечатляющая. Немцы были разбиты, и наши войска рванулись на Тернополь и Черновцы[272]. Тернополь какое-то время был в окружении, ибо немцы превратили его в хорошо укрепленный опорный пункт. Из-за этого Тернополь очень пострадал. Я бы сказал, что из всех украинских городов больше других пострадал именно Тернополь. Немцы оказались там в окружении, мы их бомбили, а авиационные бомбы сильнее разрушают городские сооружения, чем артиллерия, потому что дают более мощный взрыв и происходит сотрясение почвы. Из-за этого дома не только разрушаются от прямых попаданий, но и трескаются. Когда мы продвинулись вперед, я оставался при штабе еще несколько дней. А мне потом сообщили, что буквально рядом с местом, где располагалась моя квартира, нашли укрытие, по-украински "схрон", бандеровцы. Конечно, мы никаких бандеровцев не видели и вообще ничего не знали об укрытии. Они сделали там яму вроде погреба и замаскировали ее. Наши разведчики, которые выбирали место под штаб, недостаточно тщательно проверили этот участок. Были ли там в тот миг бандеровцы, сомневаюсь, потому что им трудно было бы там находиться: ведь нужны питание, вода и прочее. Но что у них там был схорон, это установлено точно. Пока я работал при штабе, наши войска успешно продвигались на юг и запад. У истоков Западного Буга вновь завязались упорные бои.
Противник хотел опереться на эту реку и дать нам сражение, чтобы задержать продвижение наших войск ко Львову и Перемышлю, и проявил большое упорство. Тем не менее мы далеко продвинулись на левом крыле фронта, и вражеская группировка севернее Каменец-Подольского была разгромлена, оставив много трупов и вооружения. В одном месте я видел немецкую военную новинку стоявшие у стены рядами фаустпатроны, то есть ручные противотанковые гранатометы, частично в ящиках, целый склад. Видимо, как их подвезли, так и, не успев раздать солдатам, бросили. Там действовала танковая армия под командованием Рыбалко[273], и очень хорошо действовала. Помню, уже летом стали мы обсуждать план, как двигаться на Львов[274]. Я знал подступы к этому городу. На Львов наступать с севера или с востока трудно. Он расположен в котловине меж предгорий, а с севера его прикрывает пойма рек Южный Буг и Петлев. Дальше на север простирается абсолютно ровная местность. С востока тоже тянется поле, а ближе ко Львову начинаются холмы. Очень удобный город в смысле организации обороны. Сначала мы попытали счастья захватить Львов врасплох, но это не удалось: противник навязал нам бой. Было решено не упорствовать и не тратить время, не класть там живую силу, преодолевая налаженную оборону, а ударить прямо на Перемышль. Пусть Львов окажется в тылу наших войск. Тем самым мы вынудим противника уйти из Львова без боя.
Так потом и получилось. Для этого танковую армию Рыбалко, которая на подступах ко Львову ввязалась в бой, понадобилось развернуть севернее, выведя ее из боя с тем, чтобы повернуть ее на запад через Жолкву и Яворив к Перемышлю. Вместе с танковой армией должна была наступать еще севернее 13-я армия Пухова[275], очень хорошего человека и хорошего военного. Он командовал этой армией еще на Курской дуге. Я принимал участие в рассмотрении и утверждении этого плана. Потом поехал к Рыбалко, чтобы на месте ознакомиться с положением войск. Когда стал подъезжать, танки шли мне навстречу: их уже повернули, и они двигались в новом направлении. Неожиданно налетели самолеты и начали их бомбить. Я ехал вместе с секретарем Львовского обкома партии (сейчас председатель Комитета народного контроля на Украине, толковый и энергичный человек). Он был генералом, членом Военного совета какой-то армии, а когда мы стали подходить ко Львову, попросил, чтобы его, освободив от военной должности, дали нам, с тем чтобы утвердить его секретарем Львовского обкома КП(б)У.
И вот началась бомбежка, загорелись танки, мы выскочили из машин. Рядом виднелась отрытая щель. Этот генерал, худенький такой, р-раз боком прямо в эту щель и притерся, как клин. Я засмеялся: "Здорово выработался инстинкт самосохранения от бомбежки". "Да, - говорит, - сколько уже воюем, всяко приходилось". Доехал я до Рыбалко. На крыльце домика, где он размещался, стоял генерал Рязанов[276]. Я его знал, еще когда он в начале войны был полковником и вывез из Киева секретные бумаги ЦК КП(б)У, которые ему вручил Бурмистенко. Теперь он командовал штурмовой авиацией фронта, и у него, по-моему, были на вооружении Ил-2. Я его спросил: "Это что за самолеты бомбят наши колонны?". Он: "Это наша авиация". Туг же дает позывные и связывается с ведущим этих самолетов, чтобы отвернуть их в сторону. Потом я вновь его спросил: "Как же это могло случиться, что наша же авиация бомбит свою танковую колонну?". - "Мы сами о том гадали и пришли к такому выводу: летчикам дали задание разбомбить передний край и все, что движется против нас под Львовом. Когда мы повернули танки, то они пошли отсюда на северо-восток, прямо по дороге от Львова. Наверное, наши летчики и приняли их за танковые колонны противника и стали бомбить". В таких случаях, когда приходилось попадать под бомбежку своих же, то всегда говорили: "Спасибо им, что плохо бомбили и на этот раз!". Не помню, какие у нас были жертвы. Если и были, то незначительные, потому что танкисты успели выскочить и разбежаться. В танках, по-моему, тоже существенных потерь не было. Я видел только две-три машины, охваченные огнем. Приехал я к Рыбалко.
Он располагался со своим штабом неподалеку от станции Красне, восточное Львова. Когда я к нему вошел, ему докладывали обстановку. Совершенно другое было в армии настроение, чем в 1942 г., полная уверенность, что мы быстро пойдем вперед. Шла перегруппировка войск, меняли направление движения, я поехал в 13-ю армию, к Пухову. Я не видел его с 1943 г., когда воевал еще под Курском. Я приехал к нему как раз, когда наши танки развернутым строем двигались за пехотой в сторону Перемышля. Спрашиваю его: "Где наши войска?". Он показал по карте: "Они уже подходят к Перемышлю". "А кто перед вами? Кто сдерживает вас сейчас?". "А никого нет перед нами. Противника тут нет. Надо, чтобы танки побыстрее двинулись и не дали опомниться врагу. Но там заболоченное место, трудное для танков. Сейчас наши саперы работают над тем, чтобы укрепить это место. Тогда танки Рыбалко двинутся дальше, и мы займем Перемышль". У него не было в том никаких сомнений, и мне было приятно его слушать. Пожелав ему успеха, я вернулся в штаб. Между прочим, когда я ехал к нему, то догнал маршевую роту не то батальон. Они устроили привал, и я подошел к ним, чтобы побеседовать. Состоялся интересный разговор. Чувствовалось совершенно иное настроение, не такое, как в 1941 г.: раздавались прибаутки, солдатские шутки. Чуть не в каждой роте имелся свой Теркин.
Очень хорошо и метко схватил Твардовский эту фронтовую фигуру и замечательно написал поэму, сильную по содержанию и зеркально отражавшую жизнь, бои, настроение воинов Красной Армии. Вскоре наши войска заняли Перемышль[277]. Немцы, почувствовав угрозу с тыла, сами выскочили из Львова, и наши войска вступили в него. Я сейчас же поехал туда. Он представлял для нас особый интерес: абсолютное большинство городского населения было польским, украинцев было там очень мало. Крестьянство же вокруг Львова было все украинским, а в городе, в результате особой политики, которую проводило Польское государство, жили в основном поляки. Мне рассказывали, что украинцы не могли даже получить работу по уборке или мощению улиц во Львове. Проводилась политика ополячивания, чтобы укрепиться в том споре, который издавна велся там между украинцами и поляками. Польское правительство делало все, чтобы опереться во Львове на польское население. Поэтому мы боялись, что там могут возникнуть какие-то местные органы, которые окажутся враждебными Советской власти. Надо было поспешить, чтобы наши люди приступили к руководству городом. Так мы и сделали. Сейчас же были утверждены секретарь обкома партии и председатель облисполкома. Потом стали подбирать кадры для районов, создавать другие государственные и партийные органы. Провели необходимые собрания.
Помню, как во Львове ко мне кто-то зашел и сообщает: "Товарищ Хрущев, я проезжал сейчас мимо вокзала и видел, как гражданские лица растаскивают вооружение. Один человек нес ручной пулемет". Я сейчас же взял машину и поехал туда. Застал такую картину: неизвестные люди действительно растаскивают пулеметы и винтовки. Во Львове - польское население, немцы разбиты и отступили отсюда, а население вооружается. Против кого вооружается? Ведь не против отступавших. Значит, против нас. Тотчас были приняты срочные меры, чтобы прекратить это безобразие и организовать сбор "ничейного" оружия. Но все-таки его растащили немало. Частично оно потом, видимо, попало и в руки бандеровцев. Польское же население не смогло создать во Львове какой-то своей военной националистической организации. Армия Крайова, которая подчинялась эмигрантскому польскому правительству в Лондоне, конечно, готовилась к борьбе против Красной Армии, против Советской власти. Львов для нее был периферией. В предгорьях Карпат наступали 38-я армия Москаленко, 1-я Гвардейская армия Гречко и еще одна армия, ее командующим раньше был грузин Леселидзе[278]. Я знал его не очень хорошо, так как эта армия прибыла к нам, когда я уже не участвовал активно в работе Военного совета фронта и поэтому близко не сумел познакомиться с ним. Эти три армии на левом крыле фронта отстали в продвижении. Условия обороны в горах выгодны для противника, и там он навязывал нам затяжные бои.
В данной связи Сталин, когда я приехал в Москву, очень хвалил 13-ю армию Пухова и очень критиковал отставших: "Что же они, такие-сякие, хваленые ваши командующие, топчутся на месте?" Говорю ему: "Да ведь я и Пухова хвалил, и других хвалил. Но, товарищ Сталин, я был у Пухова и лично знаю, что перед Пуховым оказалась пустота: противника там нет, поэтому он и продвигался совершенно свободно. Кроме того, там равнина, и по ней его сопровождает танковая армия Рыбалко, так что все естественно. А другие движутся в предгорьях и в горах. Там легче организовать оборону и труднее выбить противника, который упорно сопротивляется". Сталин в такие вопросы не вникал, не хотел разбираться. Не знаю, сознательно ли делал это или просто не понимал. Иными словами, раз не продвигаются - значит, плохие; если продвигаются - значит, хорошие. А какие условия возникали для той или другой армии на одном или другом направлении, он порою не хотел слушать и в таких случаях не вдавался в изучение обстоятельств, почему именно такие сложились условия на каком-то участке фронта. Во Львове продолжалась организация новой жизни. Среди поляков выделились активисты, которые хорошо сотрудничали с коммунистическими организациями и стали отличными агитаторами. Помнится, особенно выделялся один человек, врач по профессии, истинный умница. Я его сам слышал, когда мы проводили митинг в городе. Выступил он замечательно, умную речь сказал. И я тогда предупредил чекистов: "Вы создайте соответствующие условия для него и охраняйте его негласно, чтобы он этого не заметил. Боюсь, что его убьют польские националисты". Увы, так и случилось. Те подослали ему "подарок" от его друга из Варшавы. Он стал разворачивать посылку и, как рассказала нам потом его жена, заметил ей: "Что за упаковка? Не бомба ли это? Не адская ли машина?". Тут раздался взрыв, он был сражен наповал, а жена контужена, но осталась жива. Убийц, конечно, найти не удалось. Так мы потеряли хорошего друга, ценного еще и тем, что он был поляк.
Среди поляков во Львове не так-то много имелось наших сторонников, особенно активных агитаторов и хороших ораторов, в которых мы очень нуждались. Заняв Перемышль и Львов, наши армии продолжали наступать. Войска, которые продвигались левее, в Предкарпатье, заняли Дрогобыч с нефтепромыслами и нефтезаводами. Я сейчас же выехал в Дрогобыч, а потом поехал в Борислав, буквально по следам отступавшего противника. Вскоре этот участок - Борислав и южнее него - отошел в полосу 4-го Украинского фронта. Командовал его войсками Петров, из бывших учителей, хороший командующий[279]. Вскоре после войны он умер. У него было характерное подергивание головы, вроде тика. А членом Военного совета у него в те месяцы был Мехлис[280], человек архиэнергичный. Его энергия, как буря, иной раз сметала все - и враждебное, и полезное. При разборах операций обычно докладывал больше Мехлис, чем командующий. Он сковывал инициативу командующего. Вторым членом Военного совета фронта был генерал, чью фамилию я сейчас забыл. Как-то они с Мехлисом решили поехать в войска и поспорили. Второй член Военного совета говорит: "Предлагаю поехать вот этой дорогой, а не той, которой предлагаете вы, товарищ Мехлис. Та дорога находится под артобстрелом, и мы там не ездим". Мехлиса это подзадорило: "Как так? Именно этой дорогой и поедем, она короче, и мы приедем быстрее". Они выехали на разных машинах. Получилось так, что Мехлис проскочил удачно, а у второго генерала при прямом попадании снаряда машина была разбита, а сам он погиб. Так по упрямству и глупости Мехлиса потеряли генерала. Вот цена задорного хвастовства: "Я ничего не боюсь!".
Действительно, Мехлис был очень смелым человеком, нужно отдать ему должное. Но смелость, которая выливается в безрассудство и ведет к ненужным потерям, не может быть оправдана. В Дрогобыче и Бориславе, куда я приехал, нефтепромыслы оказались разрушенными, но два завода по переработке нефти, которые мы законсервировали еще до войны (они принадлежали какой-то иностранной фирме), остались совершенно целыми. Мы смогли быстро пустить их в ход, как только в том возникла потребность. А потребность возникла только тогда, когда были восстановлены скважины и опять началась добыча нефти. Впрочем, заводы были устаревшие, и я не знаю их дальнейшей судьбы. Теми неделями наши войска, продолжая наступать, перевалили через Карпаты и уже спускались на равнину к реке Тиссе. Когда я узнал, что завязываются бои в районе Мукачева, то решил отправиться в штаб 4-го Украинского фронта, чтобы встретиться с командующим войсками и с Мехлисом. У нас, украинского руководства, имелись виды на Закарпатье, потому что там жили украинцы, их родину еще называли в старину Червона Русь. Поэтому, как только я узнал, что наши войска вступили в Мукачево, сейчас же выехал туда, чтобы разобраться на месте: какой там существует партактив? Какие партии? Каков состав населения - сколько проживает украинцев, венгров, чехов и представителей других народов, если таковые там есть? В принципе они должны были быть, потому что эта область много лет находилась в составе прежней Австро-Венгрии, а после Первой мировой войны вошла в состав Чехословакии. Каждое новое государство старалось убить национальные чувства украинской части населения Закарпатской Украины, доказав, что оно не украинцы.
То их называли русинами, то Червоной Русью, но никогда не называли их просто украинцами или даже русскими. Действительно, они отличались даже от карпатских гуцулов, хотя по одежде, бытовой культуре, нравам они были близки к горным гуцулам. До войны я бывал в этом районе, но, конечно, не в Закарпатье, хотя через перевал добирался до самой границы. Там проходили две довольно приличные дороги. По ним обеим я проезжал к проходившей по перевалу границе и теперь понадеялся, что помню их, почему и не взял проводника, однако ошибся; сбился с пути и вместо того, чтобы проехать на перевал западной дорогой, которая вела в Ужгород, попал на юго-восточную дорогу. Ночью, когда я подъехал к перевалу, меня поразило, что нигде никого нет, буквально ни души, никакого движения, и такая стоит жуткая тишина в лесу. Мы останавливались, опять ехали, снова останавливались, прислушивались. Никого! Со мною была только охрана, которая всегда меня сопровождала. Обратный путь потребовал времени. Только поздним вечером мы спустились с Карпат. Найдя штаб фронта, я рассказал командующему, зачем приехал.
Он доложил об обстановке. Затем пришел Мехлис. С ним мы были старые знакомые и давние приятели, еще по Москве, когда я учился в Промышленной академии, а он был редактором газеты "Правда". Мехлис: "Ведем бой в Ужгороде. Противник сопротивляется, но, наверное, мы его выбьем завтра утром". Я остался ночевать у них, а утром поехал к Ужгороду. Противник еще держался на западной окраине города и вел минометный огонь по его центру. Мукачево я осмотрел, когда мы с Петровым проезжали через него. Хороший, маленький, чистенький городок, славные постройки. Ужгород тоже очень мне понравился. Села по дороге показались не типично гуцульскими, но с хорошими постройками. Позже я узнал, что это были мадьярские села. Они совершенно другого типа, дома стояли фундаментальные: кирпичные и каменные. Гуцулы были оттеснены венграми дальше в горы и имели курные дома без труб, печной дым выходил из-под крыш. Тут я вспомнил свое детство: в нашей деревне Курской губернии тоже были курные хаты.
В Ужгороде я познакомился с Иваном Ивановичем Туряницей[281], коммунистом, рабочим-табачником из Мукачева. Тогда он был местным лидером и проводил линию на вхождение Закарпатской Руси в состав УССР, создавал там новые партийные и административные органы. Первоначально возникло особое правительство закарпатской области - Народный совет. Мне Туряница понравился. Он был известным человеком в Компартии Чехословакии. Когда Закарпатье являлось частью Чехословакии, Туряница вел партийную работу среди закарпатских лесорубов. Там вообще было много рабочих. Мне рассказывал Мануильский, что когда он в 20-е годы начал работать в Коминтерне и ездил в Чехословакию как посыльный Коминтерна[282], то тоже встречался в Карпатах с лесорубами. "Проводил я собрание с лесорубами, вспоминал он, - а это был год 1928-й, не то 1930-й. Коминтерн тогда проводил ту линию, что, пока не существует революционной ситуации, надо переходить от призывов к восстаниям к другим методам действий, к массовой работе. Я выступил с докладом перед коммунистами-лесорубами. Они слушали меня, сопели, потом стали выступать. Говорили по-украински (а Мануильский сам украинец и хорошо говорил на этом языке): "Вот доповидач (докладчик) каже, шо немаэ революционной ситуации, але нам трэба зброи" (но оружие нам нужно). Я опять им доказываю, что если нет сейчас революционной ситуации, то и оружие ни к чему. Они твердят свое: "Давайте оружие". Одним словом, у этих лесорубов боевой был дух. Там жила беднота, значительно уступавшая по уровню жизни не только чехам, но и словакам, тоже небогатым. Ну, а о венграх и говорить нечего. Венгерское население было зажиточным. Теперь я, естественно, подбадривал Ивана Ивановича, считая, что его политическая линия правильная.
Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Туряница создал вооруженные дружины и захватил некоторые районы, которые до войны принадлежали Румынскому королевству. Правда, жители этих районов, в основном крестьяне, сами приходили и просили, чтобы их включили в состав Советской Украины. Я тоже встречался с ними. Они доказывали, что они украинцы. Но тут ничего конкретного нами не предпринималось, Иван же Иванович послал туда своих уполномоченных на собственный страх и риск. Румынским лидерам это было весьма неприятно. Те районы расположены далеко в горах, добраться туда непросто. Если говорить в шутку, то Иван Иванович начал вести захватнические действия. Когда воссоздалось Чехословацкое правительство и его люди приехали в Мукачево, он и их выкурил. После того как наши войска туда продвинулись, эти люди перебрались западнее, кажется, в Кошице. Вообще тогда у всех украинцев возникла сильная тяга к воссоединению. Ко мне даже в Киев приезжали представители какого-то района Словакии, заселенного украинцами, и просили их район тоже присоединить к УССР. Я им: "Это невозможно. Если вы, коммунисты, строили свою жизнь вместе с чехами и словаками, то это заденет чехов, а особенно словаков, потому что получится уменьшение территории Словакии. Хотел бы, чтобы вы правильно меня поняли. Стройте социализм, создавайте государство трудящихся вместе с Компартией Чехословакии. Вы должны объединиться с ними и свое будущее созидать вместе с другими народами, которые населяют Чехословакию".
Они уехали из Киева недовольные. Я, конечно, докладывал об этом Сталину. Однажды он позвонил мне и говорит: "У вас там Туряница?". Я: "Нет, не у нас, он к нам не имеет никакого отношения, это наш сосед". "Ну, рассказывают, что вы все-таки имеете на него влияние. Передайте ему, пусть он отзовет свои вооруженные отряды с территории Румынского королевства. Кроме того, он там какие-то районы занял и на левом берегу Тиссы. А эта территория отойдет к Венгрии". Я сейчас же передал все Ивану Ивановичу. У нас с ним была налажена связь. Конечно, я не мог ему приказывать, а мог только советовать. И он сейчас же все сделал, как посоветовали. Я уже работал после войны в Москве, когда узнал, что Иван Иванович умер. Я очень сожалел о том: он был еще молод и мог бы еще славно поработать. И я порекомендовал Киеву: "Подумайте, ведь он заслуживает того, чтобы как-то отметить его деятельность в Закарпатье. Он сыграл там положительную роль под конец войны". Его заслуги перед Коммунистической партией Советского Союза в целом. Коммунистической партией Украины в частности, немалые. Впрочем, так и не знаю, что в этом плане было сделано. Когда Закарпатье стало одной из областей Советской Украины, люди работали там хорошо. Создавались колхозы и совхозы, возникла новая промышленность, построили электростанцию. Там текут, впадая в Тиссу, реки Теребля и Рика. Между ними - небольшое расстояние. Их течения соединили тоннелем и, использовав возникший перепад высот, построили небольшую ГЭС, сейчас не помню, какой мощности, но для того района она временно решала энергетическую проблему. Итак, Украина была освобождена.
ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
Летом 1944 г. наши войска уже вышли на ту западную границу СССР, которую мы получили в 1939 г. в результате перехода восточных территорий Польши, населенных украинцами и белорусами, в состав БССР и УССР. Сначала на этом участке действовал 1-й (если смотреть с севера) Белорусский фронт. Войсками в 1944г. там командовал Рокоссовский, а начальником штаба фронта был Малинин. Я поехал к ним[283]. Почему? В составе этого фронта находилась 1-я армия Войска Польского[284]. Командовал ею генерал Берлинг. Он написал письмо Сталину с жалобой, что к ним плохо относятся украинцы, и довольно резко разговаривал со мной по телефону, заявив, что украинцы не понимают событий и проявляют недружелюбие к Польской армии. Я решил поехать к этому генералу, чтобы поговорить с ним лично. Я прежде был с ним знаком, и у нас существовали хорошие отношения. Я сообщил Берлингу, что звонил Сталину. Берлинг извинялся: "Я не хотел причинить вам никаких неприятностей. Собственно, и не произошло ничего особенного, я приму необходимые меры". "Я тоже, отвечаю, - приму со своей стороны меры". Мы с ним поговорили, после чего я сказал Сталину (но не жаловался), что имели место случаи, когда польские солдаты самовольно брали сено или выпускали скот на посевы, и из-за этого возникали конфликты. Одним словом, всякая война ведется за счет крестьян.
Некоторые польские воины со своей стороны тоже, видимо, плохо относились к украинскому населению, а те в свою очередь отвечали им тем же. Так, довольно любезно, закончили мы беседу с Берлингом и потом поддерживали добрые отношения до самых последних дней, пока этот генерал командовал армией. После войны по отношению к нему, на мой взгляд, была проявлена бестактность: его оттерли и даже третировали. Он присылал мне письма, где изливал свои чувства и горечь: писал, что, несмотря на то, что он командовал 1-й армией Войска Польского, его теперь незаслуженно считают человеком, который не поддерживает в Польше новое[285]. Правда, он был человеком старого склада и достался нам как бы в наследство после краха польских вооруженных сил в 1939 году. Тогда он попал к нам в плен и находился где-то в лагерях. Когда его назначили командующим, он еще не сочувствовал строительству новой, социалистической Польши, оставался буржуазным интеллигентом и стоял на позициях прежних порядков. Но время идет, и он, по-моему, потом переменил свои взгляды. Вообще же я очень часто встречался с польскими товарищами, когда они приезжали в Киев. Некоторые из них, переходившие линию фронта, сразу попадали к нам в Киев. Потом у нас формировалась 2-я армия Войска Польского, и я знал многих людей из этой армии. Командовал ею генерал Сверчевский[286].
Среди прочих я встречался с Берутом[287], равно как и с другими поляками. В Киеве жила Ванда Львовна Василевская, которая возглавила Союз польских патриотов[288]. Ему в идеологическом отношении подчинялось Войско Польское. Таким образом, Киев превратился в какой-то не то правительственный, не то просто руководящий центр польских армий, но номинально, конечно, так как военные директивы они получали от командующих войсками фронтов, в состав которых входили. После разговора с Берлингом я заехал в штаб к Рокоссовскому, там был и Жуков. Войска находились под Ковелем, готовились к наступлению. Погода стояла весенне-летняя, прекрасная. У меня там дел не имелось, я вообще никакого отношения не имел к этому фронту, ибо был членом Военного совета 1-го Украинского фронта. Поэтому когда прибыл, то в шутку заявил командующему: "Прибыл провести инспекцию. Есть жалобы со стороны колхозников, что войска производят потраву посевов. Так ли это? Надо проверить". Ну, они все понимали шутку. "Проверяй", - говорят. Шутили легко. Ведь это было уже "другое время": мы, как говорится, сидели в седле и занесли ногу через нашу границу на запад. Тогда много писали в западной печати: "Перейдут ли границу советские войска или остановятся? Будут ли они и далее преследовать войска противника или прекратят войну?". Это на Западе так рассуждали. У нас же таких проблем не возникало. Все мы стояли на позиции полного разгрома немецких войск на любой территории и их капитуляции.
Наступил вечер. "Где тут, - спрашиваю, - у вас можно переспать?". А тогда спать можно было под каждым кустом. Они: "Вот Жуков уехал, вы и займите его место, он очень неплохо устроился". Я пришел туда, где спал Жуков. Он обтянул свою кровать марлей от комаров. Крестьянки так закрывают детей в люльке от мух. Я им: "Неплохо. Вот что значит наступать, что значит бить противника. Это не такая обстановка, как когда мы с Жуковым в первые дни войны были на фронте под Тернополем. Нам тогда было не до устройства с удобствами, чтобы спокойно поспать и чтобы комары не кусали". Даже в такой детали сказывалась теперь перемена ситуации. От Рокоссовского я звонил начальнику штаба нашего 1-го Украинского фронта Соколовскому[289]. Сейчас не помню, что вызвало такую необходимость. Он на меня производил очень хорошее впечатление. Впервые я с ним повстречался в 1944 г., когда мы готовились к какой-то операции и Соколовский делал о ней доклад. Он сразу произвел на меня благоприятное впечатление: доложил обоснованный оперативный план на высоком уровне и с глубоким знанием дела.
С тех пор и доныне я отношусь к этому человеку с большим уважением. Да и всегда с уважением выслушивал его мнение, когда он работал начальником Генерального штаба после смерти Сталина. Наши войска, перейдя в очередное наступление, вступили на территорию Польши, 1-й Белорусский фронт освободил в июле г. Хелм, потом Люблин. Новое Польское правительство - Польский комитет национального освобождения - переехало в Люблин и расположилось там. Мне Сталин сказал: "Вы поддерживайте контакт с поляками. У вас находится Василевская, и ей надо оказать всемерную поддержку". Я считал, что это абсолютно правильно, и сделал все, что было в наших силах. Когда новые польские руководители в чем-то нуждались и в случае, если они обращались именно к нам, мы старались, как могли, удовлетворить любые их просьбы. У нас возник как раз тогда вопрос, какой установить порядок обмена населения Польши и УССР, с тем чтобы поляки, проживающие на Украине, переехали при желании в Польшу, а украинцы, проживающие в Польше, - на Украину. Это касалось, конечно, и Львова, куда мне пришлось тогда несколько раз выезжать. В это же время я был председателем Совета Народных Комиссаров УССР и секретарем ЦК КП(б)У. В данном качестве я несколько раз прилетал в Люблин, где мы вели переговоры с поляками и потом подписали соответствующее соглашение.
Я подписывал его с советской стороны, а с польской - Берут. Белоруссия тоже вела переговоры, в Люблин приезжал Пономаренко, занимавший тот же пост в Белоруссии, что и я на Украине, председателя Совета Народных Комиссаров БССР и секретаря ЦК КП(б)Б[290]. Когда я прилетел для подписания соглашения, стоял август, и у нас уже поспели арбузы. Собрались в Люблине различные польские лидеры и представители их партий. Я прилетел с дарами, привез, в частности, арбузы, угощал их арбузами и дынями. Для них всех это было тогда деликатесом. Они вообще не выращивали бахчевых культур. Это произвело на них хорошее впечатление. Вспоминаю в данной связи смешной инцидент. Там находился представитель левого крыла крестьянской партии. Витос, его брат был прежде лидером этой партии[291]. Сам он из кулаков, имел мельницу и был, что называется, себе на уме. Видимо, там просто использовали его фамилию. Он сотрудничал с нами, но с оглядкой, неискренне. И вот, когда мы обедали, я предложил ему дыню: "Вот, господин Витое, берите дыню. Называется этот сорт "колхозница". Он посмотрел на меня, прищурив глаза, разрезал дыню и повторил: "Колхозница?". "Да". "Почему же, - спрашивает, - она не красного цвета?". Ну и ну, если дыня называется "колхозницей", то почему она должна быть красной? Он вроде бы хотел меня уколоть насмешкой. Конечно, он выступал против колхозов и против социализма, а пошел вместе с нами потому, что мы помогали освободить Польшу и изгнать немцев.
Впрочем, это были уже внутренние вопросы, относившиеся к нашим польским товарищам. Польской рабочей партии, которую возглавлял Гомулка, а позднее - Берут. Гомулки[292] в Люблине не было, он находился в Варшаве, в подполье. Всеми вопросами, о которых я говорю, занимался как председатель нового правительства Берут, а главнокомандующим Войска Польского был назначен генерал Роля-Жимерский[293]. Он хорошо относился к нам, и настроения у него были прокоммунистические, хотя он и не был коммунистом. У нас расхождений с ним не имелось. Правда, потом бедняга оказался в опале. На меня он производил доброе впечатление. В Польше он был позднее арестован и даже находился в заключении. Я не знаю, в чем он обвинялся. До меня доходили слухи, что его якобы обвинили в том, что он являлся иностранным агентом. Но это я передаю неточно. Очень хорошим другом был этот Жимерский. Я и по окончании войны поддерживал с ним добрые отношения, когда он стал в Польше уже маршалом. Как я говорил выше, была достигнута договоренность между Советским правительством и поляками, какие области отойдут к Польше, а какие войдут в состав СССР. Среди районов, отходивших к Польше, часть была населена украинцами. Украинцы, жившие там, очень болезненно переживали это известие, особенно на Хелмщине. Хелмщина была в составе Российского государства до Первой мировой войны, и там существовало сильное влияние русских. Население же там было украинское. Тогда уполномоченным, кем-то вроде посла при новом правительстве Польши, был Булганин. Поэтому когда я прилетал в Люблин, то всегда останавливался у Булганина.
Ведь мы с ним приятели. Я ему предложил: "Давай поедем в Хелм". Поехали. Зашли в собор. Нас встретил священнослужитель, забитый такой человек. Мы были в генеральской форме, и он обратился к нам: "Вот, отдают Хелм Польше. Все соборы тут выстроены русскими, православными людьми. Теперь мы лишаемся всего". Он не просил, а со слезами на глазах доказывал, что это неправильно, что это несправедливо. Он хотел объединения с Советским Союзом, с Россией, чтобы сохранить православную церковь, чтобы собор не был приспособлен католиками под костел. Мы же просто посмотрели и уехали. Мы ведь уже знали, что этот вопрос решен, а вступать с ним в спор мы тоже не хотели. Когда я побывал в Люблине, я в первый раз увидел те печи, в которых фашистами сжигались трупы заключенных. Там не Освенцим, там другой лагерь[294], но и в нем стояло несколько печей. Мы приехали с Булганиным как раз тогда, когда разрывали ямы с трупами. Жуткая была картина! Там стояли также сараи, в которых были навалены горы обуви. Я видел огромный сарай, заваленный женскими косами. Одним словом, все было немцами рассортировано и производило жуткое впечатление. Смотришь, и даже как-то не верится: неужели люди могли совершать такие преступления?
Тогда как раз работала комиссия, которая производила расследование, все это осматривала и протоколировала. Но в первый раз я сам лично увидел такую жуткую картину. Потом я других таких мясорубок не осматривал, однако читал о них. 1-й Украинский фронт вышел на Вислу. Мне позвонил командующий войсками фронта Конев и сообщил, что такого-то числа мы будем наступать на Сандомирском направлении к Висле. "Приезжайте!" Я тотчас полетел туда. Меня тянуло познакомиться с делами и посмотреть на наступление. Главное именно посмотреть, потому что я считал, что моего участия в рассмотрении и утверждении этой операции не требовалось. Все было продумано. Конев в то время пользовался полным доверием как хороший вояка, умеющий командовать и организовывать наступление войск. Прибыл я рано утром и еще затемно выехал на командный пункт к Коневу. В назначенный час началась артподготовка. Такого огня я ранее не видел. Особенно сильное впечатление произвели на меня массовые залпы "эрэсов" на заключительном этапе артподготовки. Буквально осветилось все поле, когда ударили "эрэсы". Авиация наша действовала безнаказанно. У нас тут было уже полное господство в воздухе. Когда закончилась артиллерийская подготовка и наши войска двинулись вперед, мы вышли из командного пункта. Еще слышались только какие-то беспорядочные артиллерийские выстрелы.
Я спросил: "Далеко ли располагается от нас какой-нибудь командующий армией?". Конев: "Отсюда неподалеку командный пункт генерала Жадова[295]". "Я поеду к Жадову. Дайте мне проводника, чтобы не напороться на мины". Поехал к Жадову. Он находился на своем командном пункте. Спрашиваю его: "Что там перед вами, товарищ Жадов?". Отвечает: "Передо мной? Да вон поднялись наши солдаты и пошли вперед, как говорится, в рост, не кланяясь. Сопротивления почти нет. Огонь ведет лишь одно вражеское орудие, на левом фланге. Все, что осталось от противника живого, разбежалось". Такая была там, я бы сказал, радостная картина: мы выжили их, разбили, раздавили! Теперь - об ином. Шел 1944 год. Стояла поздняя весна или же начало лета. Солнечным днем, каких в Киеве бывает много, я вдруг услышал гул и увидел, что летит большая группа самолетов, выстроившихся в колонну и необычно сверкавших белизной. Таких самолетов раньше я не видел. У нас имелись до войны белые самолеты, фронтовые бомбардировщики СБ. Но во время войны их было уже очень мало. Да эти и размерами были гораздо больше. Я понял, что это летят американские самолеты. Я читал, что в США создали "воздушные крепости". Они-то и летели в направлении Киева. Я, конечно, хотел думать, что это американские самолеты. Но возникла и тревога: черт их знает, может быть, это немцы летят?
Самолеты пролетели несколько севернее Киева и взяли курс в сторону Полтавы. Уже потом я узнал, что по договоренности с президентом Рузвельтом была создана американская военно-воздушная база под Полтавой, где приземлялись американские самолеты[296]. Они вылетали из Африки, бомбили вражеские войска или военные объекты в Германии и садились у нас, заправлялись, загружались бомбами и опять летели на боевое задание. Это называлось "челночной работой" бомбардировочной авиации США. Однажды немцы проследили, куда после бомбежки улетали американские самолеты. Видимо, как-то пристроились в хвост этим бомбардировщикам и точно разведали аэродром у Полтавы. Может быть, у немцев были там шпионы. Возможно, и то и другое. Одним словом, они узнали, что американская авиация базируется под Полтавой, и налетели на этот аэродром[297]. Мне докладывали, что немцы уничтожили там много самолетов, пострадало много людей. Главным образом наши люди, потому что обслуживающий персонал был наш, советский. Вот такой имел место эпизод. Потом мы частенько наблюдали, как эти самолеты летали над Киевом. Они вылетали ночью, а возвращались после бомбежки в светлое время. Через штаб партизан Украины мы узнали, что бандеровцы создают собственные партизанские отряды. Нам точно сообщили, что базируются они в районе Ровно.
Там глухие леса, глухое Полесье. В Полесье имелись наши большие украинские партизанские отряды. Командовал ими Бегма. Он умер где-то года два тому назад. Какое-то время перед войной он работал первым секретарем Ровенского обкома партии[298]. Поэтому его в войну туда и перебросили, с тем чтобы он организовал партизанские отряды. Действовал он хорошо. Он-то и сообщил, что рядом с ним в лесах находится очень крупный отряд бандеровцев, а возглавляет этот отряд Тарас Бульба. То есть вожак взял себе имя гоголевского героя. У Бегмы даже появились с ним контакты: приходили люди от них и приглашали наших к себе. Мы поручили Бегме поподробнее узнать, какие у бандеровцев планы, как они действуют и пр. Сказали, что можно пригласить самого Бульбу, если он, конечно, явится в ваш отряд. Приглашение было послано, но Бульба не пришел. Когда мы более детально все разведали, то выяснилось, что бандеровские отряды просто стоят и ничего не делают, против немцев не действуют. Мы поняли, что они собирают у себя людей, недовольных немецкой оккупацией, которые могли бы прийти в наши, советские партизанские отряды. Они создали тем самым для таких людей отдушину и принимали к себе, но бездействовали. Мы определили, что они накапливают силы для борьбы против Красной Армии, но не тогда, когда она станет наступать и очищать от врага нашу территорию, а когда она уже продвинется вперед.
Тогда-то они и развернут свои действия в нашем тылу. Когда мы освободили Ровно, я поехал туда поговорить с Бегмой и с тем командующим, чьи войска освобождали Ровно. Я сейчас не помню, кто освобождал Ровно[299]. Я приехал в Ровно в конце зимы 1944 года. Поля были покрыты снегом, было холодно. Приехал я, поговорил с военными (штаба армии там не было, размещался штаб дивизии), и они мне рассказали, что противник пока невдалеке и ведет артиллерийский обстрел Ровно. Вечером я решил вернуться в Киев. Меня уговаривали остаться, но я не согласился. Выехал на север и направился вдоль нашей старой границы с Польшей. В каком-то месте размещалась наша тыловая снабженческая база. Я приехал туда уже ночью. В помещении было страшно много народу. Окинул я всех взглядом и подумал: "Сколько же тут переодетых бандеровцев? И они тут подкармливаются, обогреваются, а заодно шпионят". Меня заранее предупредили, что хотя не было тревожных случаев, но замечено, что здесь орудуют бандеровские силы, поэтому дорога небезопасна. Тем не менее я решил той же ночью поехать дальше, чтобы там не ночевать. Приехал в какой-то городок на старой границе, где и заночевал. Вероятно, поступил правильно. Летом и осенью 1944 г. наши войска успешно продвигались на запад. Я теперь все реже бывал в штабе фронта: много было дел в республике. Хотя мне и хотелось, но не мог вырваться на фронт. А мне очень даже хотелось порою просто взглянуть на территории, которые мы освобождали. Это была уже не советская земля, а Польша. Наступил январь 1945 года. Мне позвонил Сталин: "Можете приехать?". Я: "Могу". "Приезжайте. Вы очень нужны". Я сейчас же вылетел в Москву. Сталин встретил меня в приподнятом настроении. Говорит: "Польские товарищи просят оказать им помощь в налаживании жизни и деятельности городских учреждений, особенно в налаживании водопровода и канализации, без чего города жить не могут. Освободили мы Варшаву, а они в беспомощном положении: вся Варшава в руинах, и они там ничего не могут сделать.
А вы уже накопили опыт быстрого восстановления в освобожденных городах самого необходимого". Отвечаю: "Хорошо. С удовольствием поеду в Варшаву. Разрешите мне взять с собой инженера по коммунальному хозяйству и инженеров по электростанциям. В первую очередь надо дать электрическую энергию, воду и восстановить работу канализации: город не может жить без этих трех компонентов". Я пригласил тогда с собой Страментова[300]. Я знал его как энергичного инженера-организатора. Потом пригласил инженеров по электростанциям, водопроводу и канализации. Этих людей я, кажется, взял в Москве, а может быть, кое-кого и из Киева, и вместе с ними вылетел в Варшаву. Тогда Временное польское правительство, Комитет национального освобождения, как раньше оно называлось, размещалось в пригороде Варшавы - Праге, на правом берегу Вислы. Премьером был Осубка-Моравский, секретарем ЦК Польской рабочей партии - Гомулка, а президентом Варшавы, как он тогда назывался, Спыхальский, имевший звание генерала[301]. Он произвел на меня благоприятное впечатление: молодой, энергичный, деятельный человек. По образованию он инженер-архитектор. Получилось хорошее сочетание: архитектор стал главой восстанавливаемого города Варшавы. Прежде Спыхальский занимал ответственные должности в Гвардии Людовой и Армии Людовой, созданных коммунистами Польши, и являлся одним из организаторов их вооруженных отрядов. Даже занимая гражданский пост президента столицы, Спыхальский ходил в военной форме. Президента Крайовой Рады Народовой Берута я встречал не раз и ранее, а со Спыхальским встретился в первый раз.
Мы условились, что наши инженеры вместе с польскими разобьются по участкам на группы. Одни взялись обследовать, в каком состоянии находится электростанция, сколь быстро можно ее восстановить и получить ток, другие принялись за водопровод, третьи - за канализацию. Все самое главное для людей. Расчистку города вели сами поляки, наших услуг тут не требовалось. Во главе всего дела я поставил теоретика и практика городского строительства Страментова. Он имел дело и с польскими специалистами, и с нашими. Конкретные вопросы, которые возникали, советские инженеры прежде всего обсуждали именно со Страментовым, а потом уже Страментов докладывал мне, и наши специалисты обсуждали далее ход работы с польскими товарищами. Вскоре мне доложили радостную весть: в электростанции, которая, по словам поляков, была полностью разбита, фактически разрушено только ее здание, а оборудование можно будет пустить, получим ток. Внешний осмотр показал, что машины на ходу. В таком же состоянии были механизмы, подающие воду, ее тоже можно быстро подать. И канализация не была как будто бы разрушена. Это было радостно слышать. Когда спустя несколько дней детальное обследовали состояние машин и опробовали турбины, я в шутку сказал Беруту: "Не отдадите ли в уплату за нашу консультацию и помощь половину энергии, которую мы восстановим в Варшаве, для Киева?".
Тогда в Киеве с электричеством обстояло дело очень плохо, электростанция была разрушена. Хотя и был в городе свет, но не всюду. У поляков положение оказалось лучше, электростанция меньше разрушена. Варшава получила электричество, получила воду. Берут сиял, благодарил нас, просил передать благодарность Сталину. Он говорил очень искренне. Я считаю, что он был честным коммунистом, преданным делу марксизма-ленинизма. Но у него имелась та слабость, что он чересчур мягкий, добрый, доверчивый человек. Это приводило к осложнениям; люди, которые рядом с ним работали, нехорошо пользовались этими чертами его характера. Берут порекомендовал мне: "Нашей партией руководит крупный деятель коммунистического движения товарищ Веслав, то есть Гомулка. Я хотел бы попросить вас подъехать к нему на квартиру, потому что он сильно болен и не выходит на улицу". Отвечаю: "Хорошо, с удовольствием поеду, познакомлюсь с ним". Мне дали проводника, и я отправился к Гомулке. Не помню, конечно, на какой он жил улице. Помню только большую комнату, мрачную и закопченную.
Там стоял какой-то камелек, чтобы можно было согреться, печное отопление не работало. Его жена стирала белье, когда я пришел. Гомулка сидел в кресле, и щека у него была повязана черным платком. Поговорили. Гомулка тогда не особенно владел русским языком, но с ним все же можно было объясниться, да и переводчик помогал. Товарищ Веслав рассказал, как он оценивает положение дел в стране и как организуется работа Рабочей партии. На меня Гомулка произвел впечатление человека с трезвым умом, знающего, с чего начать и как поставить деятельность партии, да и правительственных органов. Одним словом, произвел впечатление крупного политического и государственного деятеля. "Пока, - говорил он, - я болен, но вот я поднимусь, и скоро поднимусь, тогда включусь полностью". Когда я рассказывал Сталину о своей поездке, то сообщил и о Гомулке. Мы его прежде не знали. Мне неизвестно, слышал ли Сталин о нем. Наверное, тоже не слышал. Я дал ему высокую оценку и хорошо охарактеризовал его перед Сталиным. Захотелось мне побывать в Лодзи. Лодзь уже была освобождена от фашистов. Лодзинские текстильные предприятия еще до Первой мировой войны славились на всю Россию (Варшава и Лодзь входили тогда в состав Российской империи). Лодзь - это крупный промышленный пролетарский центр. Вот почему мне хотелось взглянуть на нее.
И я сказал об этом Гомулке. Он: "Хорошо, поезжайте". Видимо, польские руководители договорились между собой, потому что Осубка-Моравский предложил со своей стороны: "И я с вами поеду". Я ему: "Пожалуйста". Отправились мы на автомашине в Лодзь. Это довольно далеко от Варшавы, но дорога была очень хорошая. В пути я, конечно, видел разрушения, которые война принесла Польше, но особенно больших разрушений не заметил. Прибыли в Лодзь, заехали в гостиницу, хорошо оборудованную, некогда богатую, но холодную: отопление не действовало, а мы должны были заночевать в этой гостинице. Здание нас не грело, а только защищало от ветра. Это был настоящий ледник, и мы, чтобы согреться, натянули на себя все одежды, которые у нас имелись под рукой. Вечером появился Роля-Жимерский, ужинали вместе. А на второй день осмотрели город. Лодзинские фабрики не работали. Вообще ничто в городе не функционировало, все было дезорганизовано, хотя разрушений в Лодзи я тоже не видел. Во всяком случае, таковые не запечатлелись в моей памяти. Сравнивая разрушенные Киев, Харьков, города и шахты Донбасса, Полтаву с тем, что я заметил здесь, я пришел к выводу, что Польша "отделалась" довольно легко, за исключением Варшавы. Варшава лежала в руинах, сохранились целыми лишь отдельные дома. Люди жили в развалинах и в подвалах. Все было завалено щебенкой от развалившихся верхних этажей; люди делали лазы в руины, как-то устраивались там и жили. Я поднялся на самолете, чтобы осмотреть Варшаву с воздуха.
Ведь трудно представить себе масштабы разрушений, когда едешь по улицам: и слева, и справа развалины - все равно что едешь в горах или меж скал. Когда я поднялся в воздух и сделал несколько кругов над Варшавой, то увидел ужасное зрелище: все разбито, особенно район гетто, где фашисты собрали евреев и там их уничтожили, разрушив там буквально все, что поддавалось разрушению. Другие районы города пострадали, может быть, меньше, но тоже лежали в развалинах. В один из воскресных дней варшавяне организовали уборку улиц, чтобы обрести возможность пользоваться ими, ходить и ездить по ним. Берут предложил мне: "Давайте и мы поработаем, хотя бы символически". Мы пришли в отведенный заранее район, где уже собрались рабочие, служащие. Тогда их так не разделяли, а просто говорили обо всех - варшавяне, но не в том смысле, как мы говорим "киевляне", то есть жители Киева: нет, вкладывали в это слово особый общественный смысл. Приходили с плакатами и лозунгами, призывавшими восстановить полностью Варшаву. Приступили к делу. Работали все дружно, но люди питались плохо, и особых успехов трудно было ожидать. Мы тоже немного поработали, действительно - символически. Вместе с Берутом были там Спыхальский и другие руководящие товарищи, всех и не помню сейчас. Особо запомнился мне лишь один пожилой человек. Мне сказали, что он по образованию архитектор. Тогда он входил в актив коммунистов, а потом как-то быстро сошел со сцены, и когда я позже приезжал в Варшаву, то его уже не встречал. Что с ним случилось? Он был заметно старше других. Может быть, годы сказались?
У меня создалось о нем впечатление как об умном человеке, если судить по его высказываниям... Так я был приобщен Сталиным к восстановлению Варшавы сразу же после изгнания оттуда немцев. Мне было приятно уезжать из польской столицы, оставив после себя хорошо выполненную работу. Полагаю, что польские специалисты могли все сделать сами и, видимо, сделали бы. Но меня послал Сталин. Значит, вопрос исчерпан. Впрочем, у нас действительно уже имелся необходимый опыт: мы восстанавливали Харьков, Донбасс, Киев, другие места, знали, с чего надо начинать. На нас уже не производил убийственного впечатления, морально мешающего работать, вид разрушенных городов. Посмотришь: да ведь все разрушено, все в развалинах, а городские машины совершенно непригодны к делу. Но расчистим, уберем, вытащим битый кирпич, удалим пыль, доберемся до починки машин и прочего городского хозяйства, восстановим... Глядишь. город обрел нормальный вид. Польские электростанции тоже быстро были восстановлены и стали давать электроэнергию, полностью удовлетворявшую нужды Варшавы, причем не только удовлетворявшую запросы города и промышленности, но даже с резервами. Вернувшись в Москву, я доложил Сталину о результатах. Сталин остался очень доволен моим докладом. Ему было тоже приятно, что мы оказали Польше помощь и что это должно оставить хороший след в памяти польского народа, особенно жителей Варшавы. Конечно, Сталин не говорил мне о другом обстоятельстве, но я и сам понимал, что после советско-германских договоров 1939 г. у поляков еще не затянулись слишком свежие раны, и Сталин хотел это как-то смягчить, сделав все возможное для того, чтобы облегчить Польше заживление былых ран. Осубка-Моравский, как мне рассказали польские коммунисты, был пэпээсовцем, то есть членом социалистической партии, и к нему у них не было полного политического доверия.
Но он все-таки, вместе с каким-то количеством других пэпээсовцев, пошел на сотрудничество с Польской рабочей партией и был выдвинут на высокий государственный пост премьера. Сам он из кооператоров, много занимался вопросами кооперации. Мне трудно о нем судить как о личности, хотя я встречался с ним и после войны. Он был тогда моим гостем. Это Сталин мне как-то порекомендовал: "Пригласите Осубку-Моравского с польской делегацией к себе на Украину и хорошо примите их". К нам приезжали тогда, помимо Осубки, Берман и, кажется, Минц[302]. Они побывали в Киеве, Запорожье, потом я слетал с ними в Одессу. Мы делали буквально все, чтобы расположить их в нашу пользу и создать хорошие условия для добрых взаимоотношений между руководством СССР и Польши, проложить дорогу к дружбе и взаимоуважению наших народов. На фоне Берута и особенно Гомулки и Спыхальского Осубка не производил, впрочем, сильного впечатления. О Циранкевиче[303] я слышал уже тогда как о молодом, но видном деятеле ППС, однако сам его не видел. Его в 1945 г. в Варшаве еще не было, так как он находился в гитлеровском концлагере. Я познакомился с ним позже. О Циранкевиче мне много говорила Василевская - замечательная полька, интересный человек, хороший писатель с сильной волей и глубоким умом политического деятеля. Я с большим уважением относился к ней, но в том разговоре она меня огорчила. Я сказал ей: "Ванда Львовна, сожалею, что скоро настанет время, когда мы с Вами редко будем встречаться". "Почему вы так думаете?" - спросила она со своим заметным польским акцентом. Она не очень-то владела русским языком. "Как почему? Польша освобождается, вскоре освободится Варшава, и Вам, очевидно, надо будет переехать туда, чтобы руководить делами". А она в ту пору стояла во главе Союза польских патриотов, и Войско Польское подчинялось ей по идеологической линии. "Нет, - отвечает, - я из Киева никуда не уеду. Из Киева я уеду лишь тогда, когда Польша станет 17-й союзной республикой СССР" (в СССР входило тогда 16 союзных республик).
И она мне потом много раз это повторяла. И действительно, никуда из Киева не уехала. Я даже немного жалел, что не уехала, ибо чувствовал, то в Польше она была бы полезнее. Но, видимо, большим тормозом ее отъезда являлся Корнейчук[304]. Она сблизилась с Корнейчуком и вроде бы вышла за него замуж, хотя официально не оформила в государственном ведомстве этот брак. Ванда положительно влияла на Корнейчука и удерживала его от многих неверных поступков, особенно питейного свойства. В последнем Корнейчук всегда был несдержан. Правда, в первые дни войны и она сама злоупотребляла тем же. Видимо, от тяжелых переживаний: утрата Родины, отступление советских войск, потеря Украины. Потом она обрела прежнюю силу воли, сама взяла себя в руки и хорошо влияла на Корнейчука. Бывало, тот за обедом потянется ко второму бокалу коньяка, а Ванда только взглянет на него, и он отдергивает руку. Мне это нравилось. Это было полезно для них обоих. Хочу коснуться также Варшавского восстания 1944 года. Об этом много писали. Говорили, что мы, советские, повинны в том, что восстание потерпело поражение. Политические деятели западных стран часто возвращались к этому эпизоду, чтобы восстановить поляков против СССР: вот, мол, русские не подали руку помощи, когда Бур-Коморовский[305] бился против немцев буквально рядом с советскими войсками. Коморовский был взят немцами в плен. Но, несмотря на то, что являлся организатором восстания в Варшаве в наиболее критический момент для немецких оккупационных войск в Польше, лично он отделался испугом, а потом на Западе активно действовал против Советского Союза и народной Польши. Я сейчас могу высказать на этот счет лишь сугубо свои соображения. Каких-нибудь конкретных фактов насчет того, как решался вопрос о нашей помощи восставшим и насколько имели почву обвинения, которые Запад в данной связи бросал Сталину, не знаю и даже не могу утверждать, что они имели место, хотя противная сторона вполне могла их обосновать. Как складывались тогда общие обстоятельства? Советские войска подошли к Варшаве, имея за собой новое польское правительство в Люблине.
Польское эмигрантское правительство сидело в Лондоне, возглавлял его Миколайчик[306]. Естественно, что Запад, а главным образом Лондон, готовил свое правительство для Польши. Эти люди хотели, используя наши войска, нашу силу, нашу кровь, разгромить немцев и освободить Польшу, но чтобы Польша осталась капиталистической, прозападной страной. Они хотели лишить ее народ возможности построить новую, народную, социалистическую, рабоче-крестьянскую Польшу. Таков был замысел Черчилля. Естественно, Сталин в этом вопросе сердцем и душой был за то, чтобы Польша стала социалистической; если и не буквально советской по форме, то по существу; чтобы там взяли верх рабочий класс в союзе с крестьянством; чтобы там победила ленинская политика. Когда наши войска подошли к Висле и в Варшаве вспыхнуло восстание, начался большой шум насчет того, что мы должны оказать варшавянам помощь. Но ведь шла война. Что такое оказать помощь? Там стояли немцы, они защищались, перед нами лежала широкая и глубокая река Висла. Тут не такое легкое дело: захотел и ворвался! Напомню, что когда мы подошли к Киеву, то тоже остановились перед Днепром. Надо было сначала попробовать переправиться через Днепр, а потом уж разгромить немецкие войска и выбить их из Киева. На это мы потратили немало времени. Я рассказывал, как мы два раза предпринимали наступательные операции с Букринского плацдарма, а потом вынуждены были перегруппироваться севернее и ударить с другого плацдарма. Видимо, и здесь, перед Варшавой, у нас возникли такие же трудности. Варшаву брали не в лоб, не прямо переправлялись туда из Праги - пригорода Варшавы, а форсировали Вислу севернее, обошли Варшаву и вынудили немцев оставить город. Конкретных же условий тех дней, когда враг находился еще в Варшаве и мы как бы смотрели через реку друг на друга, находясь на разных берегах, я не знаю. Но я понимаю доводы и противной стороны. Она имела полную возможность вдолбить кое-кому в голову, что мы, советские, сознательно не предприняли никаких действий, потому что не в наших интересах было укреплять Бур-Коморовского. Ведь он потом воевал бы против нас в Варшаве, если бы мы не признали его власти. А мы бы, конечно, не признали ее. Инспирировал же это восстание Черчилль через Миколайчика.
Он хотел поставить нас перед фактом: мы пролили кровь, подошли к Варшаве, прогнали немцев, а в польской столице уже есть правительство страны во главе с Миколайчиком. Устранять существующее правительство - значит вызвать осложнения между союзниками, резкие трения, что, конечно, было нежелательно. Вот такой была там ситуация, как я ее понимаю. Но, повторяю, никаких фактических оснований той или иной версии не знаю. Когда немцы были изгнаны оттуда, Миколайчик приехал в Варшаву и стал заместителем премьер-министра. Я с ним познакомился в Москве, когда польское руководство приезжало, чтобы побеседовать со Сталиным. Потом Сталин дал обед в его честь. Нужно сказать здесь правду, что Армия Крайова, которая создавалась людьми, возглавлявшимися Миколайчиком, была разветвленной и сильной. Потом мы с ней столкнулись, и она много нам принесла беспокойства. С действиями Армии Крайовой мы встретились еще во Львове. Зимой 1944 - 1945 гг. наши войска успешно продолжали наступление и вступили на территорию самой Германии. Я частенько перезванивался по телефону с командующим войсками 1-го Украинского фронта Коневым. Он держал меня в курсе дел, но какой-либо необходимости моего присутствия во фронтовом штабе, конечно, не имелось. А я был тогда по горло занят гражданскими делами на Украине, хотя меня тянуло, очень даже тянуло время от времени побыть с военными товарищами, послушать их, посмотреть на немецкую землю. Я никогда в Германии до того не был, а хотелось взглянуть в глаза немцам, прочесть на их лицах, как они переживают вступление наших войск на их землю, каково им отведывать войны, которую навязал нам Гитлер. Теперь война перенесена на территорию самой Германии, и немецкий народ страдает от того, что принес нам. Могут сказать, что виноват Гитлер, а не немецкий народ. Это верно. Я это понимаю, и всегда понимал, и различал их. Немецкий народ был одурачен или опьянен шовинизмом (не знаю, какое выражение больше тут подходит; видимо, оба) и поддержал Гитлера.
Если бы немецкий народ не поддержал Гитлера, то и Гитлер не удержался бы. Армия Германии не только воевала против нас, но и проявляла очень большое упорство в боях, а ведь состояла она из немцев. Выдвинутые Гитлером идеи завоевания жизненного пространства и господства немецкой нации, нацистский дурман ослепляли людей. Поэтому-то мне и хотелось посмотреть, как идет отрезвление немцев и вообще - идет ли оно. Однажды я, созвонившись с Коневым, вылетел к нему. Штаб фронта находился в каком-то населенном пункте Германии, перед Одером. Наши войска вели бои в районе Бреслау. Бреслау был окружен, но немцы оказали там упорное сопротивление, шли довольно затяжные бои[307]. Я решил, по прибытии в штаб фронта, поговорить с командующим и с давними товарищами. Мне хотелось побывать в Силезии, ибо там действовала 38-я армия Москаленко. Потом я хотел проехать в 60-ю армию, которой командовал Курочкин[308]. Черняховский, который командовал ею раньше, был назначен командующим фронтом и в Восточной Пруссии погиб. Это был очень многообещающий молодой генерал[309]. Итак, я полетел в Германию. Командующий воздушной армией Красовский[310] сообщил мне, где можно приземлиться. Нас встретили и направили в штаб. Он находился в немецком поселке. Когда мы туда ехали, то было видно, что все дороги усыпаны пухом и перьями. Я спросил: "Что это значит?". "А это, - объясняют, - немцы, когда отходили, бросали свое имущество, включая перины и подушки. Видимо, солдаты выпустили из них пух и использовали материю на портянки". В районе расположения штаба я никаких немцев вообще не видел. Либо они бежали, либо были выселены. Мне знакомы немецкие постройки: стоит дом и тут же к нему примыкают конюшня, коровник, другие службы, посреди двора навозная яма. Я встречал такое устройство у колонистов на Украине, где издавна жили большие колонии немцев.
Из штаба я поехал к Курочкину и Москаленко. Не помню, у кого из них заночевал, однако помню, что штаб одной из армий был расположен в поселке какого-то рудника, у угольных копей. Я сравнивал их с донбасскими. Глазами шахтера тут был воистину рай земной. Копи - в лесу, прекрасное место, хорошие постройки для служащих и для рабочих, значительно лучшие бытовые условия, чем на шахтах, на которых работал мой отец и где я провел свои детство и юность. Командующие армиями докладывали обстановку. Положение везде было блестящим: войска продвигаются вперед, настроение - лучше некуда, победа уже маячила перед глазами. Я, собственно говоря, и поехал-то больше взглянуть на условия жизни в Германии и встретиться с населением, а не заниматься военными делами. Но и тут я с населением тоже не встретился. Все или бежали, или были выселены. Как правило, мы и в собственной стране выселяли местных жителей из района, где размещался штаб. Действовали жесткие правила, установленные Сталиным на этот счет. Насколько они были необходимы, трудно сказать. Это делалось, чтобы не было рядом шпионов. В это время снег оставался только в лесах, а остальная земля уже освободилась от него, и я увидел в полях огромное количество буртов. Спросил: "Это картофель?". Ведь немцы любят картофель и хорошо его выращивают. Они прямо в поле делали большие бурты, в которых картошка хранилась очень долго. Это я знал и по опытам, которые мы производили на Украине. Но не так, как я видел здесь. Вот уже сейчас, когда я пенсионер, вышел я как-то пройтись на лыжах. На поле грузили кормовую свеклу, она была забуртована еще осенью.
И мне просто обидно было смотреть, как безграмотно и бесхозяйственно это было сделано. Огромное количество свеклы сгнило, потому что ее плохо забуртовали. Я сказал местным работникам: "Разве буртуют без доступа воздуха?". Они слегка прикрыли свеклу соломой, а потом набросали земли, не оставив никакой вентиляции. Конечно, все внутри задохнулось и сгнило. У немцев же было сделано по-немецки. Нужно отдать должное немецкой культуре земледелия, вообще высокой немецкой культуре. Я смотрел на их поля и завидовал, что у них все так хорошо. Картошки было много, а ведь шел 1945 год, год поражения Германии в войне. Конев мне рассказал о дальнейших планах фронта. Он в это время уже ни на что не жаловался. Считал, что его войска дерутся хорошо и обеспечены всем, чем требуется, чтобы они могли успешно выполнять свои задачи. Я возвращался с фронта через Познань и еще какие-то города, которые теперь отходили к Польше. Эти города были побиты очень сильно. Потом поехал в Краков, откуда вернулся в Ужгород, а из Ужгорода прилетел в Киев. По польской земле я решил ехать на автомашине. Когда же проехал, получше изучив на ходу обстановку, то понял, что сильно рисковал; наших войск там уже не было, дорожное движение было слабым, а Армия Крайова начинала разворачивать свои действия. Ближе к границе Советской Украины орудовали бандеровцы. Это было еще только начало, однако уже имелись случаи нападения на наших людей и их уничтожения, убийств партийного, государственного и особенно чекистского актива. Чекисты сами охотились за бандеровцами и сами же платили своей жизнью в борьбе с врагами Советского Союза. О Кракове не могу сейчас сказать ничего иного, кроме того, что это был совершенно нетронутый город. Польские деятели ставили спасение Кракова в заслугу советским войскам. Об этом много писали. На пути от Кракова до Ужгорода я тоже не увидел больших разрушений, и у меня сложилось впечатление, что в результате быстрого продвижения наших войск, а также слабого сопротивления польской армии в 1939 г., когда тут наступали немцы, здесь не было затяжных боев и, следовательно, не появилось и крупных разрушений. То был последний раз, когда я вылетал в штаб фронта. Я порадовался тогда за ход событий вместе с командующим войсками фронта, командующими родами войск, командармами Москаленко и Курочкиным. Все они чувствовали себя на седьмом небе.
Не просто "наша взяла"! Но мы уже близки к завершению войны, к полному разгрому гитлеровской армии; к нашему вступлению в Берлин, к победе! Это была награда нам за страдания, перенесенные страной ранее. Я вернулся в Киев. Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Жуков[311] мне тогда часто звонил. Мы поддерживали с ним дружеские связи. Он радовался по телефону: "Вот такой-сякой Гитлер, скоро я его в клетку посажу и привезу тебе. Когда буду его доставлять в Москву, то пошлю через Киев, чтобы ты тоже на него посмотрел". Я со своей стороны желал Жукову успеха и радовался вместе с ним. Я был уверен, что если командует войсками Жуков, то их наступление прочно обеспечено. Когда Германия капитулировала, Жуков мне опять позвонил: "Не могу выполнить своего обещания: погиб этот гад, и труп его сожгли. Мы нашли труп обгоревшим".
С Коневым я тоже разговаривал тогда по телефону, и он тоже рассказывал мне о своих делах. Но в это время я имел большую связь с Жуковым, чем с Коневым, потому что личные отношения у меня с Жуковым были более близкими. С Коневым я познакомился только во время войны, а до войны я его видел только один раз. Жуков же был командующим войсками Киевского Особого военного округа. Мы с ним встречались и по службе, и на дачу ко мне он заезжал, и на охоту мы ездили вместе. Так что у меня сложились с ним добрые отношения. Я относился к нему с большим уважением и высоко ценил его как командующего. Он заслужил того. Когда завершилась великая эпопея войны народов СССР против гитлеровского нашествия, смешались воедино радость от уничтожения врага и высокое чувство морального удовлетворения от нашей победы. Фраза из Священного писания, когда-то повторенная Александром Невским: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", - в то время была у всех на устах и наконец-то воплотилась в жизнь в результате нашей победы. Когда я узнал, что Германия капитулировала, радость моя была невероятной. Да и все у нас радовались. Это многократно описано, и я лучше не скажу, чем было рассказано писателями и художниками о том, что имело место в Москве на Красной площади. Военных там буквально душили в объятиях радости.
Победа! Всеобщее ликование! Целовались, обнимались, торжествовали. Я тоже переживал все это. Хотя я хорошо знал Сталина и то, на что могу рассчитывать в ответ, но спешил позвонить ему и поздравить и его с победой. Позвонил. Меня быстро соединили, и Сталин снял трубку. Я его поздравляю: "Товарищ Сталин, разрешите поздравить Вас с победой наших Вооруженных Сил, с победой нашего народа, с полным разгромом немецкой армии", и пр. Уж не помню дословно, что я тогда говорил. И что же? Сталин сказал мне в ответ какую-то грубость. Вроде того, что отнимаю у него время, обращаясь по такому вопросу. Ну, я просто остолбенел. Как это? Почему? Очень я тогда переживал и ругал себя: зачем я ему позвонил? Я ведь знал его характер и мог ожидать чего угодно.
Знал, что он захочет показать мне, что происшедшее - уже пройденный этап, что он думает уже о новых великих делах. Поэтому, мол, чего там говорить о вчерашнем дне? Он теперь ломает себе голову о завтрашнем дне. Я считаю, что это была актерская игра. Сталин очень умело и хорошо играл такую роль. А поскольку он был к тому же грубый человек (не я первый говорю о его грубости: еще Ленин, который отлично его знал, в своем завещании упомянул о грубости Сталина, о его нетерпимости), то вот так и получилось. Я потом долго переживал происшедшее. Как же так? Что же он, действительно лишен всякого чувства радости? Или притворяется? Но ведь не лишен он чувства страха! Я видел, в каком состоянии находился Сталин в первые дни войны. Он тогда был совершенно деморализован: какая-то бесформенная протоплазма. Он чуть не отказался от своих постов, от активных действий. А членам Политбюро высказал такие слова: "Ленин создал наше государство, мы же его про... Все погибло. Я ухожу". Сел в машину и уехал из Кремля к себе на дачу. Потом за ним поехали туда, как рассказывал мне позднее Берия, уговаривали его, призывали, чтобы он обрел прежние силы и приступил к деятельности, потому что победа возможна, не все потеряно, у нас остались еще огромная территория и большие ресурсы. И вот наконец долгожданная победа! Но сейчас он вроде бы не радуется. Показывает: "Что это ты меня поздравляешь? Я-то заранее знал, что именно так будет". Однако я-то видел его и в другой ситуации и твердо знал, что он в свое время так не думал, а думал даже хуже, чем лица из его окружения. А тут он теперь такое отмочил коленце: не принял поздравления...
ПОСЛЕВОЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
На 24 июня 1945 г. в Москве был назначен Парад Победы. Я тоже приехал в Москву. Мне хотелось посмотреть, как пройдут войска по Красной площади, порадоваться вместе со всем народом в столице нашей Родины. Не помню, звонил ли мне Сталин, чтобы я приехал, или же я сам просто взял да поехал. Прибыл к нам Эйзенхауэр. Он тоже стоял тогда на Мавзолее. В тот раз я впервые встретился с Эйзенхауэром, в ту пору еще не президентом США, а верховным главнокомандующим силами союзников в Западной Европе. Как прошел парад, не мне сейчас описывать. Его видели многие, он запечатлен в кинокартинах и художниками. Это действительно был парад большой радости. Потом Сталиным был дан обед. Там находился и Эйзенхауэр, и все наши видные военные. Английского командующего, кажется, не было. У Сталина сложились хорошие отношения с Эйзенхауэром и еще лучше с Рузвельтом. С Черчиллем же были плохие отношения и очень скверные с Монтгомери[312]. Сталин относился к нему плохо, и я считаю, что для того имелись у Сталина большие основания. Хочу высказать здесь свою точку зрения на наши взаимоотношения с союзниками, с которыми мы вместе воевали против гитлеровской Германии. Франция почти не воевала после 1940 г., а вскоре после своего освобождения вышла из масштабной войны в связи с ее окончанием.
Реально оставались боевыми союзниками на протяжении 1941 - 1945 гг. США и Англия. Я считаю, что большую роль в ходе войны сыграл Черчилль. Он понял угрозу, нависшую над Англией, и делал все, чтобы натравить немцев на Советский Союз, втянуть СССР в войну против Германии. А когда Гитлер счел возможным напасть на нас, Черчилль первым заявил, что Англии необходимо заключить договор с СССР, чтобы объединить наши военные усилия. Сталин поступил правильно: он принял это предложение, и установились соответствующие контакты, которые были оформлены договорами. Спустя какое-то время вступили в войну США. Сложилась коалиция трех великих держав: Советского Союза, США и Англии. Япония выступила в конце 1941 г. против США, Англии, Нидерландов и других стран, которые имели свои колонии в Азии и на Тихом океане. Тут уже мы получили военное облегчение, смогли использовать наши войска с Дальнего Востока и обрели уверенность в том, что Япония не будет воевать против нас. Теперь наш Дальний Восток уже не находился под непосредственной угрозой. Это создавало возможности для маневра, для лучшего использования наших вооруженных сил, хотя и тогда мы должны были учитывать возможность какого-то удара со стороны Японии. Япония же вначале успешно наступала и была уверена, что скоро добьется решающей победы. Но это были "неразумные победы", и, когда она застряла в войне и американцы остановили ее продвижение, стало видно, что Япония не в состоянии организовать нападение на Советский Союз.
Англия и США делали все, чтобы оказать нам материальную помощь всех видов, главным образом военную - вооружением и другим материальным обеспечением, нужным для ведения войны. Мы получили очень существенную помощь. Это было, конечно, не великодушие со стороны Англии и США и не то, что они хотели помочь народам Советского Союза, вовсе нет. Они оказывали нам помощь, чтобы мы перемалывали живую силу общего врага. Таким образом, они нашими руками, нашей кровью воевали против гитлеровской Германии. Они платили нам, чтобы мы могли продолжать воевать, платили вооружением и материалами. С их точки зрения это было разумно. И это действительно было разумно, да и нам выгодно. Ведь нам тогда приходилось тяжело, мы платили очень дорогую цену в войне, но вынуждены были это делать, потому что иначе воевать были неспособны. Тут возник взаимный интерес, и у нас установились и налаживались далее хорошие отношения и обоюдное доверие. Хотел бы высказать свое мнение и рассказать в обнаженной форме насчет мнения Сталина по вопросу, смогли бы Красная Армия, Советский Союз без помощи со стороны США и Англии справиться с гитлеровской Германией и выжить в войне. Прежде всего хочу сказать о словах Сталина, которые он несколько раз повторял, когда мы вели между собой "вольные беседы". Он прямо говорил, что если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли: один на один с гитлеровской Германией мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну.
Этой темы официально у нас никто не затрагивал, и Сталин нигде, я думаю, не оставил письменных следов своего мнения, но я заявляю тут, что он несколько раз в разговорах со мной отмечал это обстоятельство. Он не вел специально разговоров по этому вопросу, но когда возникала беседа непринужденного характера, перебирались международные вопросы прошлого и настоящего и когда мы возвращались к пройденному этапу войны, то он это высказывал. От Сталина трудно было ожидать объективности. Он был человеком очень субъективным. Да и вообще в политике, между прочим, субъективизм, личность играют большую роль. Иной раз бывает полезно оценить, что было сделано правильно, подойти объективно к прошлому, взвесить все влиявшие на дело факторы, с тем чтобы вернее оценить пройденный этап и на будущее находить правильные решения. В данном случае считаю, что заключение Сталина было правильным. Когда я слушал его, то полностью был с ним согласен, а сейчас - тем более. Поэтому хочу аргументировать со своей стороны то, что говорил Сталин, и то, что я сам тогда видел и понимал. Как протекала война? Надо войти в наше положение, мысленно проанализировать пройденный нами путь после нападения Германии, особенно после того, как Гитлер вынудил нас оставить Белоруссию, Украину и огромные области Российской Федерации, включая Северный Кавказ с его нефтеносными районами. Правда, основные нефтеносные районы оставались там в наших руках, но они были фактически выведены из строя, оборудование демонтировано, прекратились добыча и переработка нефти[313]. Сложились тяжелые условия для промышленности. Кроме того, мы лишились возможности экономически использовать территории, которые достались противнику.
Возьмем хотя бы Украину. Какой удельный вес в СССР занимала в 1941 г. украинская металлургия? Я сейчас не имею статистических данных, но думаю, что тогда Украина вырабатывала как минимум 50% всей стали, если не больше[314]; занимала ведущее место по добыче угля; имела большой удельный вес в производстве хлеба, овощей, мяса. Мощными были украинская машиностроительная промышленность, химия. Была фактически выведена из строя ленинградская промышленность: судостроение, танкостроение, приборостроение. Это была промышленность с высококвалифицированными рабочими и большим количеством научно-исследовательских институтов, мозговой центр всей технической мысли Советского Союза. Он был парализован и дезорганизован, реально блокирован. Вопрос стоял уже не о производстве, а о том, как людям выжить физически. Много тысяч ленинградцев умерло, лишь частично они эвакуировались. Стала работать с перебоями горьковская промышленность, ибо попала в сферу действия немецкой авиации. Московская промышленность тоже была дезорганизована. Производство самолетов вывели из Москвы, производство моторов - тоже, производство автомашин в Москве прекратилось. Да мало ли что делала Москва с ее мощным квалифицированным потенциалом? Харьков: крупнейший тракторный завод, второй в СССР по силе после Сталинградского; потом машиностроительные, паровозостроительные заводы. Харьковская промышленность давала много средств ведения войны, и все это осталось в руках противника.
Воронеж - крупный промышленный город. Там большой авиационный завод, и он тоже фактически прекратил производство: не тогда, когда противник вторгся в Воронеж, а еще ранее его оборудование было вывезено, завод же использовался как мастерские фронтового значения для ремонта самолетов, а не их производства. Мы лишились самых мощных баз по производству самолетов, танков, моторов для тракторов и автомашин. А Сталинградский тракторный завод? Мы и его потеряли. Там же находился крупнейший орудийный завод, который давал легкую и тяжелую артиллерию для армии и военно-морского флота, включая береговую артиллерию дальнего боя. Можете себе представить, какая надвинулась на нас катастрофа? Мы оказались без средств передвижения, у нас не стало заводов, которые обеспечивали нас автомобильным транспортом, особенно тягачами, без которых нельзя воевать. Нет тяги! Приходилось ориентироваться на лошадей, возвращаться в прошлое. Значительная часть артиллерии у нас перешла на конную тягу. Кроме нас в эту войну только румыны воевали с артиллерией, которая передвигалась на волах. Значит, и нам полностью переходить на волов и лошадей? Вот какое возникло положение. При современной технике и современном вооружении немецкой армии, когда немцы захватили почти всю Европу с ее промышленным потенциалом, создавалась тяжелая для нас ситуация.
Если оглянуться, то скажу, что, когда мы отступали, я не мог представить себе, как же мы сумеем выйти из этого положения. Часть оборудования эвакуировали на Восток, но еще надо найти помещение, установить и смонтировать оборудование, а это требует большого времени. Наши люди героически справились с такими трудностями. Они творили чудеса. Порой буквально в сараях монтировали оборудование и приступали к производству вооружения. Но, как бы там ни было, потеря времени была неизбежна. Тут американцы и англичане предприняли усилия, чтобы не дать нам выйти из строя, чтобы противник не разгромил нас, чтобы мы не оставались беспомощными. Они нам давали самолеты, автомашины, вооружение. Когда я увидел машины, которые мы стали получать, то глазам своим не поверил. А мы их получали в довольно-таки большом количестве. Эти цифры у нас пока что не опубликованы. Их хранителем, если не в письменных материалах, то в памяти, является сейчас Микоян. Он выполнял соответствующие функции представителя СССР, имел дело с США и Англией при получении по ленд-лизу военного снаряжения и промышленного оборудования. Ленд-лиз - это особый кредит военного времени, за который предусматривалось рассчитываться на льготных условиях после окончания войны. Одним словом, к нам потекли всякие товары. Как-то Анастас Иванович рассказал, сколько он получил дюралюминия, стали, бензина, самолетов, материалов для производства самолетов, сколько другого военного имущества и вооружения.
Это была очень существенная помощь. Прежде всего автомашины. Мы обрели возможность обеспечить подвижность наших войск, что в современных условиях является решающим условием для успешной войны. Немцы против Франции и против нас широко использовали подвижность своих войск, наносили удары рассекающими клиньями, а потом окружали наши войска, уничтожали их или пленили и двигались дальше, совершая марши на большую глубину для нового окружения. Они наводили панику на гражданское население, да и военные были напуганы, подвержены боязни окружения. Это затем нашло, между прочим, отражение в нашей военной и художественной литературе. А дальняя бомбардировочная авиация? В начале войны мы фактически ее не имели. Она была у нас, так сказать, символической. Иной раз несколько самолетов добирались до Берлина. Но это же не систематическая бомбежка. Такой бомбежкой нельзя нарушить производственный потенциал противника. Это была капля в море, булавочные уколы, а были нужны мощные налеты на промышленные центры. У нас для этого не было возможностей. Я уж не говорю о том, что, когда мы отступили и Ленинград остался в окружении, то потеряли возможность бомбить административный центр Германии - Берлин (только Балтийский флот обладал самолетами, способными долететь до столицы Германии), не говоря уже о районах Западной Германии. Они находились в безопасности, и мы для них никакой угрозы не представляли.
Другое дело налеты английской авиации. А когда вступили в войну США, которые поставили свою промышленность на рельсы удовлетворения запросов войны, то огромный потенциал американской промышленности создал реальную угрозу для Германии. Думаю, что Гитлер, видимо, представлял себе, что это - начало его конца. Вот я ссылаюсь тут на Сталина, критикую его. Но деятельность Сталина имела две стороны. Он делал много хорошего и полезного для нашей страны, это всеми признавалось, и я это сейчас тоже признаю. Но как человек, который был поставлен на такой высокий пост, который я занимал, я должен был все анализировать, вскрывать недостатки, промахи и злоупотребления властью, превышение этой власти со стороны Сталина. Вот одна сторона дела. Теперь я беру и другую сторону, положительную. Сталин, когда США вступили в войну, сказал в беседе: "Ну, сейчас пойдет война моторов". Но он говорил это и раньше. Были ли это его собственные слова или они были сказаны кем-то до него, не знаю. Ясно, однако, каждому среднеразвитому человеку, что война сейчас, на современном этапе, действительно война моторов. У кого больше моторов, у кого больше возможностей держать эти моторы на ходу, то есть иметь в достаточном количестве горючее, тот и выиграет войну. Конечно, США, у которых совершенно исключалось всякое нарушение их промышленной деятельности, имели огромный экономический потенциал и такие возможности. И они эти возможности использовали.
А нам это было выгодно с точки зрения поставки материалов и вооружения. Конечно, поставки обогащали капиталистов, на них наживались монополии США. Но они помогали нам. США создали мощные воздушные силы. У них появился самолет "летающая крепость", замечательный самолет, лучший в мире. Американцы на таких самолетах вторгались в воздушное пространство противника даже без сопровождения истребителей, а наши бомбардировщики могли так поступать только ночью, днем же должны были иметь прикрытие. Без прикрытия они могли действовать в пределах фронта, используя внезапность нападения. И мы несли довольно тяжелые потери от зенитной артиллерии и истребительной авиации немцев. Американцы же без прикрытия налетали на территорию противника и подвергали бомбардировке его промышленные центры, что имело огромное значение. Эти самолеты были вооружены крупнокалиберными пулеметами - хвостовыми, бортовыми и лобовыми. В 1943 г., когда мы наступали под Киевом, авиация у противника была уже довольно жиденькая и не представляла такой серьезной силы, как в начале войны.
В 1944 г. я редко выезжал на фронт. Но я вообще не слышал жалоб, что немецкая авиация не дает нам покоя. Мои фронтовые приятели (с ними я поддерживал телефонную связь, они приезжали в Киев или я иной раз приезжал на фронт) говорили: "Вы не можете себе даже представить, сейчас мы ездим и днем, и ночью, и нас авиация противника не беспокоит". Чья это была заслуга? Американской авиации. Она вывела из строя немецкие заводы, которые производили самолеты. Металл у немцев был, и бензин имелся, но разрушены были авиационные заводы. Разве этого мало? Разве маленькая помощь? И другие их заводы, которые производили вооружение, США очень настойчиво, упорно и со знанием дела разрушали. Это была большая поддержка нам. А помощь, которую мы получали в виде готовых танков? Помню, получили мы английские танки под Сталинградом (сейчас уже забыл их название). Их боевые качества были невысокими, но это все же был танк. Пехотинец был прикрыт броней, смелее шел в атаку и лучше наносил удары по врагу. Эти танки уступали нашим по броне, но в ходовой части превосходили их. В этой связи вспоминаю возмутительные случаи с нашими танками. Во время Сталинградской битвы получили мы танки, а они, не пройдя и 100 километров, остановились в пути, у них вышла из строя ходовая часть. Я тогда написал записку Сталину, и Сталин принял суровые меры. В частности, сделал перестановку в руководстве, ответственным за производство танков был назначен Малышев[315]. Заострили внимание на качестве ходовой части танков, а не только на их количестве. Но ее качество оставалось отвратительным. Зимой 1943 года, когда немцы стремились прорвать кольцо окружения вокруг Сталинграда, пришла к нам Гвардейская армия Малиновского.
В ней имелось три корпуса, а в каждом корпусе - по танковому полку. И из этих танковых полков ни один не вышел на линию фронта: все танки стояли на дорогах и ждали, пока их приведут в подвижное состояние. Если бы дошел хоть один танк из трех, то мы имели бы танковый полк, а так не получилось ни одного полка в результате низкого качества производства. А ведь воевать надо было! Противник имел достаточно вооружения. Оно было порой хуже нашего, но его было значительно больше. Да и не все у немцев было хуже нашего. Простой патриотизм - он больно бьет, если на нем основывать политику и не анализировать факты. Следовательно, и на будущее нельзя строить иллюзий, а надо исходить из реальных фактов. У нас нет соответствующих сведений. Они не появились в печати из-за чувства ложного стыда. Это неправильно. Считаю, что было бы полезно, если бы такие работы были опубликованы. Может быть, даже подготовлены каким-то научным институтом, который провел бы глубокий научный анализ былого. Надо изучать прошлое, чтобы не допускать тех ошибок, которые были допущены раньше, и исключить их в настоящем и будущем. К сожалению, Сталин в то время уже стоял на неправильных позициях. Он многое признавал, но сам перед собой, в туалете. А высказать это где-то публично, чтобы другие услышали, он считал унизительным. Нет, это не унижение! Признание заслуг своего партнера не принижает наших заслуг. Наоборот, объективное заявление подняло бы нас еще выше в глазах всех народов и ни в какой степени не принизило бы наших достоинств, наших успехов, наших побед, значения тех решающих ударов, которые мы нанесли по общему врагу. Но это было для Сталина невозможно. Он старался прикрыть нашу слабость, полагая, что это делает нас как бы сильнее противника: пусть нас больше боятся. Это глупый вывод, неправильный.
Противника не обманешь: он умеет считать, умеет анализировать, а наш народ все понял бы правильно. Возможно, Сталин боялся, что откровенность в этом вопросе когда-то обернется и против него: почему не предвидел? Это уже другой вопрос. Думаю, что надо было бы пойти на откровенное признание, не щадить себя, потому что лучшая помощь стране и делу, которому ты служишь, - не прикрывать недостатки, а вскрывать их, даже с болью, чтобы народ все увидел. Тогда народ правильно поймет тебя, оценит и поддержит, если нужно, то и простит ошибки, которые были допущены. Если люди искренне анализируют ошибки, следовательно, они не будут их повторять. Могут сказать: "Вот, Хрущев критикует Сталина, а сам в этих вопросах анализа и критики на Сталина же и ссылается". Верно. Впрочем, полагаю, что мои товарищи, с которыми я вместе работал под руководством Сталина, тоже оставят какие-то воспоминания. Если они будут объективны, то не побоятся перед историей рассказать о недостатках Сталина, обо всем том, что они знали. Сталин же то, о чем я сейчас рассказываю, обычно говорил не один на один, айв беседах, в которых участвовало 5, 7, 10 человек. Не все члены Политбюро принимали обычно участие в заседаниях Сталина. Сталин всегда выбирал какую-то группу, которую он приближал к себе, а какую-то группу как бы в порядке наказания некоторое время не приглашал.
В такую группу мог попасть кто угодно. Одних он приглашает сегодня, а завтра пригласит тех, которых не приглашал вчера. То, о чем говорил Сталин на этих заседаниях, являлось правильным, глубоким и трезвым признанием на основе сопоставления всех фактов, определяющих, быть нам на свете или не быть, победить или же проиграть войну. Когда там Сталин хорошо оценивал роль наших союзников, я был абсолютно согласен с ним и считал, что это - правильный анализ фактов. Сказать это никогда не поздно. Ведь новое поколение, которое сменит современное руководство страной, обязательно осмелится объективно осветить начало войны. Сейчас это уже не имеет принципиального значения. Все равно наши вчерашние союзники сегодня стали нашими противниками. Признание их помощи нам с точки зрения материального обеспечения и вооружения в то время не отражает нынешнего состояния дел, потому что сейчас мы находимся в другом положении. Шутка ли сказать, дожили до такого времени, когда нас считают второй державой по промышленному потенциалу в мире! Мы действительно являемся такой державой.
Мне британский премьер Макмиллан[316], когда я в свое время беседовал с ним, говорил: "Ну что сейчас Англия? Англия сейчас уже не та, когда она была владычицей морей и определяла мировую политику. Теперь все решают две страны - США и СССР". Почти в таких же выражениях мне сказал это де Голль, президент Франции, человек трезвого ума. Он сказал: "Господин Хрущев, сейчас США и Советский Союз - вот два великих государства. Франция не имеет того величия, какое имела в прошлом. Теперь она уже не может определять мировую политику". Таково признание нашей мощи, нашей роли и значения в мировой политике. Поэтому нисколько не умалило бы нашего достоинства признание, что в прошлом эти страны оказали нам такую помощь, которая существенно повлияла на исход войны. Повторяю: они оказали нам помощь не ради победы дела социализма, идей марксизма-ленинизма. Для них стоял вопрос о жизни или смерти. Они нам помогали для того, чтобы наша армия не пала под ударами Гитлеровской Германии, а, опираясь на более современное вооружение, перемалывала бы живую силу врага, тем самым ослабляя и себя. Это ведь тоже было в интересах наших союзников. Они хотели выбрать подходящее время и активно включиться в войну против Германии тогда, когда Советский Союз уже не обладал бы мощью и не занимал бы решающего положения при решении мировых проблем после разгрома Германии.
Поэтому их помощь - это не любовь к нашему народу и не проявление уважения к нашей государственной системе, а результат трезвого взвешивания возникшего тогда положения для западных стран. Ситуация сложилась так, что мы стали союзниками с ними, чтобы выиграть эту войну против общего врага. Англия и США хотели воспользоваться ситуацией и использовать наши государственные и главным образом людские ресурсы, с тем чтобы чужими руками перемолоть силы общего врага, добиться победы и получить возможность самим вершить судьбы мира. Этим они и руководствовались, когда помогали нам. Они не стыдились того, что идут на союз с социалистическим государством - заклятым врагом капитализма. И Сталин, нужно отдать ему должное, тоже пошел на это. Конечно, не от хорошей жизни, а потому, что иного выхода не было, никакого выбора не было.
Но это был путь к спасению. Единственный путь, чтобы выжить и выиграть войну. Так я оцениваю этот вопрос, и такое же мнение я слышал от Сталина. Он подробно не разбирал тот период войны. Но не требуется больших усилий, чтобы прийти к такому заключению. Он понимал это и говорил об этом. Я надеюсь, что моя точка зрения найдет отражение в исследованиях тех историков, которые попробуют объективно разобраться в обстановке, сложившейся в 1941-1943 годах. Впрочем, и в 1944 - 1945 гг. американцы многое нам давали. Уже после войны Жданов съездил в США, и мне сказали, что после этого по ленд-лизу мы получили мощный прокатный американский стан и этот стан решено смонтировать на заводе им. Ильича в Мариуполе, потом этот город назвали Жданов[317]. Я туда съездил. На монтаже работали японцы. Монтаж был организован узлами, чтобы быстрее ввести стан в строй. Помню, говорил я с японцами, спрашивал об их жизни. Потом мы шутили над тем, что нам пленные японские солдаты отвечали: они приехали сюда помогать русским, их прислал помогать микадо. Они считали себя не пленными, а посланцами микадо (императора). Итак, мы получали от союзников оборудование, корабли, много военного снаряжения. Это сыграло важную роль в войне.
Почти вся наша артиллерия была на американской тяге. Как-то, уже после смерти Сталина, я предложил: "Давайте все машины, которые мы производим, дадим нашим военным, потому что просто неприлично смотреть: идет парад, а тягачи - американские". Почти вся наша военная техника, которая стояла в ГДР, тоже была на американских "студебеккерах". Это неудобно, это для нас позор. Уже сколько лет прошло, как кончилась война, а мы все еще ездим на американской технике. Хочу тут подчеркнуть, какое количество этих машин и какого качества мы получили. Представьте, как без них мы бы наступали? Как двигались бы от Сталинграда до Берлина? Я не представляю себе. Наши потери были бы колоссальными, потому что не было бы никакой маневренности у наших войск. Кроме того, мы получали много стали и дюралюминия. Наша промышленность была подорвана, частично оставлена врагу. В этих условиях помощь от США имела очень большое значение. В оказании нам помощи проявили большое упорство и англичане. Они доставляли грузы кораблями в Мурманск и несли при этом большие потери. Там пролег длинный путь, на котором безнаказанно разгуливали немецкие подводные лодки. Германия захватила Норвегию и подошла вплотную к нашему Мурманску.
Поэтому многие машины англичане и американцы перегоняли к нам и через Иран[318]. Это было гораздо выгоднее, потому что южный путь был безопасен. Корабли разгружались в Персидском заливе, а дальше машины своим ходом двигались к нам. Кроме того, самолеты из США летели своим ходом через Аляску, Чукотку и Сибирь. Там получились довольно большие грузопотоки. Конечно, это не все полностью решало, но без этого не оказалось бы и главного решения дела. Из крови наших бойцов и техники со стороны США и Англии в совокупности складывалось обеспечение победы, обеспечение действий Красной Армии, которая дралась и наносила сильнейшие потери нашему общему врагу. Продукты питания мы тоже получали тогда в большом количестве. Ходило немало анекдотов, в том числе неприличных, об американской тушенке. И все-таки она была вкусной. Много появилось на этот счет прибауток, но тушенку-то мы ели. Без нее нам было бы очень трудно кормить армию. Ведь мы потеряли самые плодородные земли - Украину и Северный Кавказ. Это надо себе представить, как трудно было в таких условиях организовать обеспечение продовольствием всей страны. Кроме того, мы получили от союзников много новых технических устройств, о которых вообще не имели понятия.
Для противовоздушных сил мы получили электронный прибор - радиолокатор. Командующий военно-воздушными силами говорил мне, что этот аппарат прибыл из Англии. Раньше мы оборудовали противовоздушную оборону из приборов только прожекторами и "слухачами", довольно грубыми и сложными. О современном электронном оборудовании мы и понятия не имели, англичане же его имели и какое-то количество передали нам. На командном авиапункте меня обучали военные, как можно следить за авиацией противника по экрану этого аппарата. Одним словом, надо честно признать вклад наших союзников в разгром Гитлера. Нельзя хвастать: вот мы шашки вынули и победили, а они пришли к шапочному разбору. Такая точка зрения верна, если рассматривать лишь вклад союзников с точки зрения высадки десантников, то есть непосредственного участия американских и английских войск в борьбе против Германии на Европейском континенте. Тут будет верно. Но техника и материалы, которыми они помогали нам, - другой вопрос. Если бы они не помогали, то мы бы не победили, не выиграли эту войну, потому что понесли слишком большие потери в первые дни войны. Теперь - о десантах союзников. Мы ждали второго фронта в Европе в 1942 г. и в 1943 году. Особенно он был нужен в 1942 г., когда нам приходилось очень тяжело. Я говорю в основном о нашем участке Юго-Западном и Южном фронтах, где в 1942 г. наносился врагом главный удар. Противник поставил задачу лишить нас нефти и пробиться через Кавказ в Иран.
Он был недалек от реализации своих планов. Конечно, если бы наши союзники высадили десант именно тогда, то наши потери были бы гораздо меньшими. Сейчас мне трудно судить о намерениях союзников в то время. Было ли решение не высаживать десант продиктовано желанием переложить еще больший груз на плечи Советского Союза и еще больше нас обескровить? Этого я не исключаю. Или же было так, как они нам объясняли: что они еще недостаточно подготовлены, что у них еще недостаточно развито производство вооружения и они не готовы к высадке мощного десанта? Что им нужно еще какое-то время? Думаю, что имело место и то, и другое, но больше первого. Больше было желания обескровить нас, обескровить своего союзника, с тем чтобы включиться в войну как следует уже на завершающем этапе и потом вершить судьбы мира. Воспользоваться результатами войны и навязать всем свою волю: не только врагу, но и союзнику. Это я вполне допускаю. И это, видимо, сыграло немалую роль. Если рассматривать с классовых позиций, то союзникам было неинтересно усиливать нас. Их интересы заключались в том, чтобы своевременно использовать СССР, несмотря на то что он базируется на социалистических принципах.
Так уж сложилась наша общая судьба, что нам понадобилось объединить свои усилия. Каждый из нас поодиночке или совсем не смог бы выиграть войну, или же выиграл бы, но с гигантскими потерями и очень большой затяжкой во времени. Поэтому стороны шли на такой союз и, прилагая совместные усилия в борьбе против общего врага, оставались в то же время на своих классовых позициях. Мы тоже считали, что нам было бы полезно стать значительно сильнее своих союзников к концу войны, чтобы наш голос звучал еще внушительнее при решении международных вопросов. Если бы это удалось, то не так был бы решен вопрос о Германии, как он был решен в Потсдаме. В Потсдаме решение явилось компромиссным. Оно основывалось на соотношении сил, которое сложилось к концу войны. Особенно сказалось это на статусе Берлина и Вены. Эти города находились в зоне, которую занимали советские войска. Казалось бы, эти города должны целиком входить в нашу зону. Однако союзники целиком нам их не отдали. Эти города были разделены на четыре сектора: мы получили четвертую часть, а три части получили Англия, США и Франция.
Это тоже свидетельствует о соотношении сил, которое сложилось к концу войны. О многом, конечно, американцы и англичане думали еще тогда, когда пошли на союз с нами. Особенно стала эта проблема беспокоить их, когда наша армия выдержала немецкий удар и при напряжении всех сил перешла в наступление, весьма устойчиво чувствуя себя на всех фронтах. Когда мы уже двигались на запад и подошли к Германии, союзники вынуждены были поспешить открыть второй фронт в Европе, потому что они теперь боялись, что мы можем продвинуться значительно дальше на запад от тех границ, которые были определены ранее, когда намечались зоны оккупации для каждой страны, участвовавшей в войне. Все это тоже надо учитывать, указывая и на достоинства союзников, их вклад в общее дело разгрома гитлеровской Германии, и на их классовую позицию. Теперь хочу рассказать насчет высказываний Сталина относительно взаимоотношений с союзниками в процессе войны, конкретно - с Рузвельтом и Черчиллем. Франция не имела крупных сил в Европе, и Сталин стал уделять ей внимание, в сущности, начиная с Потсдамской конференции и после нее. Его внимание занимали раньше главным образом Рузвельт и Черчилль. Сталин, по его собственным словам, больше симпатизировал Рузвельту, потому что президент США с пониманием относился к нашим проблемам. Сближала Рузвельта со Сталиным и его нелюбовь к английской монархии, к ее институтам. Сталин как-то рассказал о таком эпизоде. Когда во время Тегеранской конференции главы держав встретились за обедом, Рузвельт, подняв бокал, предложил выпить за президента Советского Союза господина Калинина.
Все выпили. Спустя какой-то срок Черчилль, тоже подняв бокал, объявил тост за короля Великобритании. Рузвельт сказал, что он пить не будет. Черчилль обиженно насторожился, а тот - ни в какую: "Нет, я пить не буду. Я не могу пить за английского короля. Я не могу забыть слова моего отца". Оказывается, когда отец Рузвельта уезжал в Америку из Европы, то уже на пароходе он сказал сыну про британского короля: "Он наш враг". Сын не забыл этого и, невзирая на этикет, так и не поднял бокала. При деловых разговорах и возникавших спорах очень часто Сталин встречал поддержку со стороны Рузвельта против Черчилля. Таким образом, у Сталина симпатии сложились явно в пользу Рузвельта, хотя Черчилля он тоже ценил и относился к нему с уважением. Это был крупный политический деятель не только Англии, он занимал одно из ведущих мест в сфере мировой политики. При неудаче конца 1944 г. в Арденнах, когда немцы серьезно угрожали союзным войскам на втором фронте, Черчилль обратился за помощью к Сталину, с тем чтобы мы оттянули на себя немецкие армии. Для этого нам нужно было провести внеочередную наступательную операцию. Ее мы провели, хотя она планировалась у нас на значительно более поздний срок[319].
Это стало демонстрацией дружбы и помощи союзнику, у которого сложилась тяжелая обстановка. Это было Сталиным проведено очень хорошо, он умел понимать и такие дела и проводить их в жизнь. Помню, как Сталин несколько раз возвращался к характеристике Эйзенхауэра. Он отмечал его благородство, рыцарский подход к взаимоотношениям с союзником. Несколько раз я слышал такие высказывания при беседах в узком кругу у Сталина уже после войны, но еще до моего переезда в Москву. Когда я вновь начал работать в Москве и чаще бывал у Сталина, он стал часто приглашать меня, когда уезжал в отпуск на Кавказ. Я чувствовал, что он просто не терпит одиночества и даже боится его. У него появлялся физический страх перед одиночеством. Это было для всех нас довольно накладно (говорю о членах руководства страны, которое окружало Сталина). Отдыхать вместе с ним и обедать считалось великой честью. Но это еще и большая физическая нагрузка. Однажды я с ним вместе отдыхал целый месяц. Он меня поместил буквально рядом с собой. Приходилось и жить рядом, все время вместе обедать и ужинать. Но это внешняя сторона дела. А если бы знали, что это означает на деле, какие это физические нагрузки, сколько нужно было съедать и вообще потреблять того, что вредно или неприятно, лишь бы не нарушить личных отношений! Отношение к тебе демонстрировалось самое хорошее, дружеское, и приходилось идти на жертвы. Но такая жизнь была отчасти полезна тем, что велись беседы, из которых можно было извлечь для себя пользу и сделать различные политические выводы. В ходе таких бесед я неоднократно слышал от Сталина очень лестные отзывы о порядочности Эйзенхауэра. Сталин говорил, что когда мы наступали на Берлин, то если бы со стороны союзников был не Эйзенхауэр, а какой-то другой верховный командующий их войсками, мы бы, конечно, Берлин не взяли, просто не успели бы.
Его бы заняли раньше нас американцы. И это действительно так, потому что немцы сосредоточили главные силы против нас и охотно готовы были сдаться Западу. Сталин обратился к Эйзенхауэру с письмом, в котором говорилось, что, согласно межсоюзническому договору и с учетом крови, которая пролита нашим народом, мы хотели бы, чтобы наши войска вошли первыми в Берлин, а не союзные. Как говорил Сталин, Эйзенхауэр тогда придержал свои войска и прекратил наступление. Он предоставил нашим войскам возможность разбить немцев и занять Берлин. Таким образом, мы получили приоритет, захватив столицу Германии. Другой человек на это не пошел бы. А ведь если бы Берлин был захвачен американцами, то тогда, по словам Сталина, по-другому решался бы вопрос о судьбе Германии, а наше положение значительно ухудшилось бы. Эйзенхауэр проявил такое рыцарское благородство и был верен слову, данному нам Рузвельтом. Он уважал память о Рузвельте. В это время новым президентом США стал Трумэн, которого Сталин и не уважал, и не ценил. И, видимо, правильно делал, потому что тот заслуживал такого отношения. А вот еще один факт, о котором рассказывал Сталин, тоже относящийся к концу войны, когда немцы были уже приперты нашими войсками к стене капитуляции и не могли оказывать сопротивления, должны были слагать оружие и сдаваться в плен. Многие из них не хотели сдаваться в плен нашим войскам и двинулись на запад с тем, чтобы сдаться американцам. Опять последовало обращение Сталина к Эйзенхауэру: было сказано, что советские войска проливали кровь, разгромили врага, а противник, который стоит перед нашими войсками, сдается в плен американцам: это несправедливо. Эйзенхауэр приказал тогда не брать немцев в плен (кажется, это было в Северной Австрии, где у нас наступал Малиновский) и предложил командующему германскими силами сдаться в плен русским, так как именно русское оружие победило его армию. Так и получилось. Сталин рассказывал также, что он обратился с аналогичной просьбой к Черчиллю.
На участке в Северной Германии, который занимал Монтгомери, немцы тоже убегали от войск Рокоссовского к англичанам. Сталин попросил, чтобы их англичане не брали в плен и вынудили сдаться нашим войскам. "Ничего подобного! - возмущался Сталин. - Монтгомери забрал себе их всех и забрал их оружие. Так наши войска разбили немцев, а результат разгрома пожинал Монтгомери". И Эйзенхауэр, и Монтгомери - оба представители буржуазного класса. Но они решили по-разному и по-разному соблюдали принципы партнерства, договоренности, слова, чести. Когда я имел дело с Эйзенхауэром, то всегда передо мной как бы стояли его былые действия. Я помнил слова, сказанные Сталиным, и верил им. Ведь Сталина заподозрить в симпатиях к комулибо никак было нельзя. В классовых вопросах он был неподкупен и непримирим. Это у него была очень сильная политическая черта, за которую он пользовался среди нас большим уважением. Под конец войны Сталин очень беспокоился, как бы американцы не перешли через линию разграничения союзных войск. Я уже говорил, что против нас было организованное сопротивление немцев, а американцы спокойнее наступали и легко пересекли линию разграничения. Сталин сомневался, уступят ли они, сдержат ли слово, данное Рузвельтом. Они ведь могли сказать, что их войска останутся там, куда вышли, и это будет теперь разделительная граница оккупационных районов. Но нет, американцы отвели свои войска назад и расположили их по линии, которая была намечена в Тегеране, еще до победы над Германией. Это тоже свидетельствует о порядочности Эйзенхауэра. Из таких вот фактов складывалось хорошее отношение Сталина к Эйзенхауэру. Поэтому Сталин и пригласил Эйзенхауэра на Парад Победы и выразил наше признание его заслуг награждением его высшим военным орденом СССР "Победы". Это очень высокая награда. Правда, тем же орденом был награжден фельдмаршал Монтгомери.
Но в данном случае налицо формальное выполнение нашего долга по отношению к союзнику, потому что англичане тоже награждали наше начальство своими орденами. Здесь имела место лишь официальная взаимность, а Эйзенхауэра Сталин выделял особо. Потом я не раз встречался с Эйзенхауэром, но об этом я расскажу в другом месте. Сейчас хочу высказать свои соображения на тему, были ли созданы условия в СССР для того, чтобы все отдать нашей Красной Армии, дабы она могла противостоять врагу. Следовательно, вопрос конкретно стоит так: могла ли Красная Армия противостоять гитлеровской армии и, как тогда говорили Ворошилов и Сталин, не уступить ни пяди земли врагу? Могла ли бить врага только на его территории? Был такой лозунг. Весь мир чувствовал ложность этого лозунга, необеспеченность СССР реальной силой. Но могли ли мы сделать его реальностью? Безусловно, могли. Другое дело, что, помимо экономики, очень остро зависело это, особенно в начальный период войны, от проблемы военных кадров. Мы бы легче справились с фашистами, если бы в 30-е годы не были уничтожены наши военные кадры. Кадровый состав командиров Красной Армии был истреблен в очень большой степени. У меня нет точных количественных данных, сколько офицеров различных званий было уничтожено. Но если посмотреть на высший командный состав, то видно, что почти весь он - от командующих войсками военных округов до командиров дивизий - был истреблен. А ведь это были люди, которые обладали хорошими знаниями, многие из них окончили военные академии, а некоторые - и по две академии: общевойсковую и специальную. Средний командный состав имел среднее военное образование. Но самое ценное в этих кадрах было то, что они прошли Гражданскую и другие войны, обладали важным опытом. Они не имели нужных знаний раньше, когда участвовали в Гражданской войне, но после окончания Гражданской войны получили теоретические и специальные военные знания и накопили большой опыт командования соединениями, а до того прошли солдатскую и офицерскую школу Первой мировой войны, в Красной Армии стали командирами разных степеней и рангов, участвовали в военных играх, военных маневрах. Все у нас было сделано, что только можно было сделать, с этими кадрами, чтобы научить и должным образом натренировать этих людей. Они вполне соответствовали своему назначению и готовы были выполнить свой долг перед Родиной.
К сожалению, эти люди были истреблены, после чего были выдвинуты на командные должности люди, не обладавшие ни знаниями, ни опытом. Поэтому они во время войны уже на поле брани проходили стажировку и обучались вождению войск. А это совсем не то, что в мирных условиях. Правда, тут созревание шло быстрее, но обходилось народу дороже. Когда разыгрывается на карте та или другая операция, подсчитывают: столько-то тысяч людей погибло; но тут условные потери. На фронте же погибали не условно, а безусловно. Если бы сохранились кадры, которые прошли должную школу еще до войны, то мы понесли бы значительно меньшие потери. Это каждому понятно, и это обязательно нужно учитывать при анализе событий начального периода войны. К сожалению, никто не приподнимал этой завесы. Люди, которые были уничтожены в 30-е годы, считались "врагами народа". Вот почему их гибель не ставилась в вину тем, по чьей вине эти люди были загублены; наоборот, их уничтожение даже возводилось в заслугу. Ну, ладно, тогда все мы были обмануты, все верили, что прозорливость "отца и вождя советского народа великого Сталина" спасла нас от врагов. Но потом-то, на XX съезде КПСС все эти вопросы были подняты и неопровержимо освещены. Неопровержимые факты могут быть предоставлены в распоряжение всем, кто захочет произвести глубокий анализ свершившегося.
Однако еще и сейчас остались люди, которые буквально дрожат перед загаженными кальсонами Сталина, по-прежнему становятся перед ним во фронт и считают, что исторически тогда были неизбежные потери и что они говорят о величии того, кто не остановился перед потерями, а вывел нашу страну туда-то и туда-то, на такой-то рубеж, добился того-то и того-то. Я даже не знаю, как называть людей, которые так рассуждают. А если бы не было тех потерь и злоупотребления властью? Разве было бы хуже? Вспомним, что говорил Ленин о Сталине. Что Сталин нетерпим, поэтому нужно его отстранить от партийной власти. Если бы это было сделано, то война за спасение СССР стоила бы нам во много раз меньше, чем стоила при "отце родном, величайшем и гениальном вожде". Подготовка к ведению войны - это не только занятия на местности, проведение операций на картах, тренировка и муштровка людей, хотя без этого нельзя подготовиться к войне. Если не создать необходимых материальных условий, не создать экономического фундамента, то никакая война не может быть выиграна. Главное - это вопросы материального обеспечения и производства вооружения: авиация, артиллерия, танки, стрелковое оружие, инженерные средства, другое оружие - все то, что нужно для разгрома врага и отражения его нападения. Некоторые средства нужно иметь на всякий случай: химическое и бактериологическое оружие. К счастью. Вторая мировая война прошла без применения таких средств[320], но в Первой мировой войне использовались газы.
Если бы у нас не имелось заранее таких средств, а противник применил бы их, то для наших армий создалось бы бедственное положение. Следовательно, это оружие, необходимое в прошлом, необходимо готовить, увы, и в настоящем, и даже на будущее, пока существуют противоположные общественные системы. В какой-то степени мы просто вынуждены накапливать такие средства войны и держать их про запас. Итак, я высказался относительно репрессированных военных. Мне трудно перечислить их всех, хочу остановиться лишь на некоторых из них. Возьмем Гамарника, заместителя наркома обороны СССР. Это был большой политический деятель и очень хороший организатор, человек, который принимал непосредственное участие в создании Красной Армии. Его роль как заместителя наркома обороны тоже была весьма велика. Скажут, что Гамарник не был казнен. Знаю, Гамарник сам застрелился. Но он предвидел, что будет казнен. К нему пришли, чтобы его арестовать, и он застрелился. Палачи пришли тянуть его на плаху, и он решил, что лучше будет покончить жизнь самоубийством. Это был честнейший человек. Егоров - крупнейший военачальник.
Еще в Гражданскую войну он командовал Юго-Западным фронтом. Тухачевский в возрасте 27 лет руководил рядом фронтов. Какие операции поручал лично Ленин проводить Тухачевскому? Кронштадтская, против Антонова, против Колчака, против Деникина, против белополяков. Когда его казнили, сколько всякого ничтожного лепета произносилось в его адрес теми людьми, которые недоросли не только до его пупа, но и до его коленок. А они лягали его. Если в Гражданскую войну какая-то операция проводилась под командованием Тухачевского, то потом персонально валили все неудачи именно на Тухачевского. Однако после тех операций, которые, как считали эти критики, были провалены в результате того, что Тухачевский оказался "не на высоте", другие, даже более сложные операции, связанные с вопросом и жизни, и смерти Советской страны, Ленин неизменно поручал Тухачевскому. Он его ценил, и ценил правильно. Я с Тухачевским встречался, хотя знал его не столь близко, но и не очень далеко. Когда я работал секретарем Московского городского и областного комитетов партии, мы с ним перезванивались и встречались, причем не только на пленумах: я с ним не раз выезжал в поле, где он показывал мне в деле некоторые военные новинки. Я говорю о новинках, которые имеют отношение к вооружению Красной Армии и ее инженерному оборудованию.
У меня осталась самая добрая память о Тухачевском. Теперь - Якир. Якир был раньше студентом, не имевшим до 1917 г. никакого военного образования. Он не был на мировой войне, а во время Гражданской начал свою военную карьеру с создания какого-то отряда. Вооружались тогда, кто чем мог, а главным оружием трудящихся была ненависть к старому строю и преданность новому строю, во имя которого и шла война. Отряд Якира вырос затем в дивизию. Он командовал ею, оставаясь на Юге, где был отрезан от основных сил Красной Армии, пробился к основным силам, прошел как бы сквозь строй белогвардейцев и вывел дивизию к своим. Потом успешно руководил группами войск. Кончилась Гражданская война, и он занимал высшие командные посты в Красной Армии, командуя войсками Украины и Крыма, других округов, а затем был арестован и казнен. Эйдеман. Он был поэтом и был воином. Тоже выделялся как крупный военачальник. Возглавлял Осоавиахим, когда был арестован и тоже казнен. Я сейчас забыл фамилию того военного, по национальности эстонца, который был офицером царской армии, но прошел вместе с нами всю Гражданскую войну, а затем командовал войсками Московского и других военных округов. Я знавал его в Москве. Он тоже считался крупнейшим военачальником, тоже был арестован с Тухачевским и Якиром и казнен вместе с ними[321]. А Блюхер? Сейчас в газетах без конца твердят: Блюхер получил первым орден Красного Знамени, Блюхер сделал то-то, Блюхер сделал то-то.
Никто не осмеливается, однако, рассказать, как окончил жизнь Блюхер. Где он был, когда шла война с Гитлером? А он был уже мертв. Почему? Он сам умер? Нет, тоже был казнен как "враг народа". Это был рабочий, имел профессию слесаря, приобрел военный опыт в Первую мировую войну унтер-офицером, а потом вырос в крупнейшего военачальника, командовал в Гражданскую войну соединениями, был нашим советником у Чан Кайши, которому мы тогда доверяли как военному и политическому деятелю, командовал войсками Дальневосточного военного округа, являлся грозой для врагов и надежным щитом Страны Советов. Сейчас ему ставят памятник. Как же не стыдно тем, которые не хотят сказать народу правду, что Блюхер пал от руки того, о ком Ленин сказал, что ему нельзя доверять? Да, памятник Блюхеру нужен. Но памятник ему должен ставиться такой, чтобы все знали, что нас лишила возможности использовать талант Блюхера в войне против немцев не естественная смерть человека. Я недавно вновь смотрел кинофильм "Железный поток" по одноименной книге. Это была первая книга о Гражданской войне, которую я в свое время прочел. Написана она талантливым писателем Серафимовичем, а теперь эта книга вышла на экран.
Я смотрел этот фильм не в первый раз, но, как всегда, волновался и переживал, все время вспоминал этого мужественного и умного человека, командующего авангардом Таманской армии. В книге его назвали Кожух, а на деле это Ковтюх, человек, проявивший ум, военный талант и мужество: он вывел Таманскую армию, прорвался из белого окружения. Зрители восхищаются талантом этого человека и его бойцами крестьянами и кубанскими казаками, которые выходили из окружения со своими семьями. Спрашивается, где же Ковтюх? Что он делал во время этой войны? Нет Ковтюха. Он тоже попал в число "врагов народа" и был расстрелян. Можете себе представить? Если бы Ковтюх был жив и возглавлял бы воинские соединения в борьбе с немцами, какую пользу принес бы? Когда его арестовали, он имел звание комкора, крупное воинское звание. Так разве только Ковтюх? А другие? Они тоже погибли от руки Сталина как "враги народа". Теперь всем им вернули доброе имя. Это сделано после XX съезда партии. Но сейчас многое замалчивается. Я считаю, что нужно не только вернуть, но и показать их всех как мучеников террора, который проводился Сталиным под лозунгом борьбы с "врагами народа". Чего же он стоит? Какой он гений? Какой же он "отец родной" советского народа, каким его провозглашали на митингах и повторяли это, где надо и где не надо? В литературе он тоже выведен "отцом родным".
Нет, прежний покров будет сорван, и Сталин будет показан перед советским народом нагим, займет именно соответствующее ему место в истории. Еще один крупный военачальник, тоже выходец из народа, - Федько. И его тоже нет. В последнее время своей деятельности он командовал войсками Киевского военного округа и стал заместителем наркома обороны. Потом был арестован в 1938 г. и тоже погиб, как и другие честные люди, объявленный "врагом народа". Я сейчас уже не помню, рассказывал ли я когда-нибудь раньше об Иване Наумовиче Дубовом. Дубовой - выходец из пролетарской семьи. Его отец - донецкий шахтер с дореволюционным партийным стажем. Мне говорили, что во время Первой мировой войны Иван окончил школу прапорщиков и стал офицером. Потом началась Гражданская война, и вот он уже заместитель начальника дивизии, а начальником был Щорс. Я познакомился с Дубовым позже, на съездах Компартии Украины. Он всегда был участником этих съездов. Особенно близко я с ним познакомился в 1928 - 1929 гг., когда работал в Киеве, заведуя орготделом Окружного комитета партии, а Дубовой был помощником командующего войсками Украинского военного округа. Он очень дружил с Николаем Несторовичем Демченко, секретарем Окружного комитета партии Киева. А я в свою очередь уважал этого человека, часто с ним встречался, выезжал вместе с ним в войска. Дубовой был ближайшим другом Якира. Я радовался, что вот такие у нас сейчас имеются командиры в Красной Армии, душой и телом преданные делу революции. Советской власти и социализма. Когда же началось разоблачение "врагов народа", погибли Якир, Тухачевский и другие, то спустя какое-то время Сталин разослал нам их "показания". Он иной раз делал это. Редко, но рассылал. Читаю я эти "показания" Дубового. Оказывается, они собственноручно написаны Дубовым. Он там писал, что убил Щорса, так описывая место, где тогда вела бой дивизия, которой командовал Щорс: "Мы со Щорсом лежали и наблюдали за боем. Вдруг пулеметчик противника повел огонь в нашем направлении. Пули довольно хорошо ложились вокруг наших бойцов. Мы тоже были под обстрелом этого пулемета.
Я сзади был, а Щорс впереди, он повернулся: "Ваня, Ваня, а у беляков-то пулеметчик хороший, смотри, как он метко ведет огонь". Потом он еще обернулся и что-то хотел мне сказать. Тут я убил его - выстрелил ему в висок. Убил, чтобы после него самому занять его место, то есть получить командование этой дивизией". Вы можете себе представить, насколько я был возмущен? Я уважал этого человека, и вдруг он сделал такую подлость. Я ругал себя: каким же я оказался слепцом, как же я мог не увидеть! Ведь когда я его знал, он уже был убийцей Щорса! Теперь, после XX съезда партии, когда мы подняли архивы, взяли те дела, по которым людей объявляли "врагами народа", расстреливали и душили, я увидел, что все это были ложь и обман. Так я оказался во второй раз обманутым: в первый раз был ложный обман, когда я считал Дубового честным человеком, а он "признался" в своих преступлениях; а вторично я оказался обманутым уже убийцей этого человека, то есть Сталиным. Я вполне допускаю, что это были собственноручные показания Дубового, которые он сам написал и сам рассказал о своих "преступлениях", признался в убийстве Щорса - ближайшего друга. Тогда же я узнал, как делали "врагом народа" Мерецкова[322]. Он тоже собственноручно написал показания, в которых признавался, что является английским шпионом, врагом народа и прочее. Его показаний я не читал, в 1941 г. Сталин уже не нуждался в том, чтобы его поддержали другие лица в руководстве, он просто сам вершил суд и уничтожал людей. Шла война; мне эту историю рассказал Берия, то есть источник довольно точный. Бывало, когда о ком-нибудь говорили как о стойком человеке, Берия высказывался так: "Слушайте, дайте мне его на одну ночь, и он у меня признается, что он английский король". Уж он-то знал, как этого можно добиться, да и не раз добивался. Тогда, при жизни Сталина, он только говорил так, а позднее, когда мы подняли архивные материалы, арестовали и осудили Берию, то увидели, какими методами он достигал своей цели.
Так вот, Берия еще при жизни Сталина рассказывал об истории ареста Мерецкова и ставил освобождение его себе в заслугу: "Я пришел к товарищу Сталину и говорю: "Товарищ Сталин, Мерецков сидит как английский шпион. Какой он шпион? Он честный человек. Война идет, а он сидит. Мог бы командовать. Он вовсе не английский шпион". Я и сейчас не могу понять, кто же его арестовал? Берия валил все на Абакумова. Но кто этот Абакумов? Человек Берии. Он в своей деятельности прежде всего отчитывался перед Берией, а уж потом перед Сталиным. Следовательно, Абакумов не мог арестовать Мерецкова, не посоветовавшись с Берией и без санкции Сталина. "И вот, - продолжает Берия, - Сталин сказал: "Верно. Вызовите Мерецкова и поговорите с ним". Я вызвал его и говорю: "Мерецков, ты же глупости написал, ты не шпион. Ты честный человек, ты русский человек, как ты можешь быть английским шпионом? Зачем тебе Англия? Ты русский, ты честный человек". Мерецков смотрит на меня и отвечает: "Я все сказал. Я собственноручно написал, что я английский шпион. Больше добавить ничего не могу и не знаю, зачем вы меня опять вызвали на допрос". "Не допрос. Я тебе хочу сказать, что ты не шпион. Ступай в камеру, посиди еще, подумай, поспи, я тебя вызову". Его снова увели в камеру. Потом, на второй день, я вызвал Мерецкова и спрашиваю: "Ну что, подумал?" Он стал плакать: "Как я мог быть шпионом? Я русский человек, люблю свой народ и верю в свой народ". Его выпустили из тюрьмы, одели в генеральскую форму, и он пошел командовать на фронт". А теперь, когда я видел Мерецкова в последний раз, это был уже не Мерецков, а его тень.
Раньше он был молодой генерал, физически крепкий, сильный человек, а теперь он еле ходит, "скрипит". Я узнал, что его в очередной раз наградили в связи с 50-летием Советских Вооруженных Сил. Это, конечно, награда по заслугам. Но здоровье-то отнял у него Сталин, и он из честного человека был превращен во "врага народа", в английского шпиона, спасся чудом, и я не знаю, как это пришло в голову Берии. Думаю, что он хотел его вернуть в строй как талантливого полководца, хотел вернуть его армии, чтобы он делал свое дело, командовал войсками и громил вражеские полчища, которые вторглись в нашу страну. Но Берия - это такая бестия. Не исключаю, что он мог так поступить еще и с дальним прицелом: ведь два века никто не живет, а талантливый полководец Мерецков вновь займет соответствующее место в Вооруженных Силах в свое время, сможет лично ему пригодиться. Берия был очень коварен, и я не исключаю, что с его стороны тут был шаг большой политики, предвидение возможности опереться на него и других "своих" военачальников в будущем, когда Берия будет нуждаться в этом. Много потребовалось бы мне времени (да я и все равно не смог бы), чтобы перечислить всех, кто погиб в результате сталинского вероломства и террора. Впрочем, для моих воспоминаний этого, вероятно, и не требуется. Может быть, когда-нибудь, уже для наших потомков, историки покопаются в архивах и извлекут все на свет. Это все станет доступно, и они обнародуют тайные факты, чтобы люди их знали и чтобы они не допустили возможности повторения такого. История иной раз повторяется, особенно вот в таких делах. Тут нельзя благодушествовать, нельзя считать, что это пройденный этап, который никогда не повторится. Надо клеймить содеянную гнусность, надо разоблачать ее авторов, надо не замалчивать событий, не приглаживать историю, а, наоборот, поднимать и обострять чувство ответственности у народа, у партии, с тем чтобы исключить повторение того, что было сделано Сталиным. Ведь Сталин сделал с превышением то, о чем Ленин предупреждал, причем предупреждал очень четко. Несмотря на его предупреждение, Сталин все-таки втерся в доверие народа, а потом быстро вернулся к тем методам действий, о которых упоминал Ленин, предупреждавший, что может произойти злоупотребление властью.
Так и случилось. Возвращаюсь опять к тому, что если бы кадры, которые были обучены, выращены партией и прошли школу Гражданской войны, остались бы в живых и занимали в войсках соответствующие места, то совершенно иначе пошло бы дело при нападении Гитлера на Советский Союз. Недаром нам в войну потребовалось выдвижение новых командиров. Наверное, имели место две, три, а где-то и четыре смены командного состава. Я знаю людей даже пятой смены. Многие из них заслуженно вырывались вперед. Это были способные и честные люди, преданные Родине. Но им нужен был опыт, а опыт этот они приобретали в ходе войны за счет солдатской крови и материального ущерба для ресурсов Родины. Такое учение стоило огромного количества жизней и разорения страны. В конце концов мы выжили, победили, на собственных ошибках научились командовать по-настоящему и разбили врага. Но чего это стоило? Если бы не произошло того, что сделал Сталин, когда выдумал "врагов народа" и уничтожил честных людей, я убежден, что нам победа стоила бы во много раз дешевле, если, конечно, это слово морально допустимо с точки зрения оценки количества крови тех человеческих жизней, которые пришлось положить во время войны. Все бы произошло значительно дешевле и гораздо легче для нашего народа. Сейчас таких работ еще не написано, никто таким анализом не занимался. Многие историки получают кандидатские и докторские ученые степени за анализ событий, которые мало интересны.
Иной раз смотришь: состоится защита диссертации на такую-то тему, а тема достаточно сомнительная для науки. Порою бывают такие темы. А вот провести бы ту работу, о которой я мечтаю. Она еще ждет своих исследователей и, конечно, будет осуществлена, но, видимо, не сразу. Что касается наших прежних кадров, то полагаю, что, возможно, при их наличии противник и не решился бы навязать нам войну. А если бы война возникла, то велась бы действительно больше на чужой территории, чем на нашей. Итак, умение использовать человеческие ресурсы, правильно организовать войска, верно командовать, быть на высоте положения в военной тактике и стратегии - одно из решающих условий победы. Но только одно. Вторая сторона дела - экономика. Насколько развита страна экономически и в какой мере экономика может служить базой механизации и вооружения армии, от этого в современных условиях тоже зависит победа. Прошли времена, когда князья выводили свои дружины с пиками, топорами, вилами и булавами драться с врагом. Теперь налицо война механизмов, моторов, артиллерии, авиации, танков и противотанкового оружия, инженерных войск. Она идет на земле и на воде, под землей (мины, убежища) и под водой, в воздухе. Если одна сторона будет владеть всем, что создали современная наука и техника, а другая станет опираться только на мускульную и волевую возможности человека, возникнут неравные условия. Так имела ли Красная Армия эту инженерно-техническую материальную базу до войны?
Если нет, то возникает следующий вопрос: имели ли мы общую возможность создать соответствующую военно-техническую базу, вооружение, средства защиты и нападения? Без всяких колебаний я категорически отвечаю: "Да, имели!". Наш народ, рассматривая окончание Гражданской войны как передышку борьбе с империалистами, стремился использовать ее, чтобы создать могучую индустрию, перестроить народное хозяйство, пробежать в короткий срок путь, который капиталистические страны проходили за десятки лет. Наш народ затягивал животы поясами, голодал и холодал, жил в нужде, но не жалел средств на создание такой индустрии и вооружение армии, с тем чтобы враг не мог даже подступиться к нашим границам. Помню время, когда я вернулся с фронтов Гражданской войны в начале 1922 года. Как только пришел, меня партийная организация направила заместителем управляющего рудниками Французской компании, туда, где я в 1912 - 1914 гг. работал слесарем. А управляющим этими рудниками был мой ближайший друг Егор Трофимович Абакумов. Это не тот Абакумов, который был министром внутренних дел, а другой, который стал одним из руководителей угольной промышленности СССР. Тяжелое время переживали мы в 20-е годы. На рудниках был голод, в 1922 г. отмечались отдельные случаи людоедства. А деревня еще сильнее была разорена, чем промышленность. Вот какое возникло положение. Но народ поверил партии, потому что знал, что нам навязала разруху наша собственная и мировая буржуазия, которая поддержала контрреволюцию и организовала интервенцию. Лозунги партии были понятны каждому неграмотному. Мы тогда не только клали животы ради новой жизни, но иной раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось хуже. Грех потому, что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 г. я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 г., когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже. Наверное, хуже. Ведь не все жили одинаково...
Да, мы сознательно шли на лишения, потому что мы выжимали буквально все ради раскручивания индустриализации. Надо было выиграть время. Порой это требовало просто нечеловеческих жертв. Но и на это шел народ и создал современную промышленность. Однако использовать эту промышленность как следует мы не сумели. Наша армия оказалась к началу войны и без квалифицированного командного состава, и без соответствующего вооружения, необходимого для отражения наступления противника и разгрома его еще на границе СССР. Думаю, что нашим историкам понадобится проанализировать результаты потерь не только военных кадров, уничтоженных Сталиным, но и в народном хозяйстве. Сколько же там погибло честнейших людей, партийных, профсоюзных и других работников промышленности! Тысячи и тысячи... Самые квалифицированные люди были загублены: директора заводов, главные инженеры, начальники цехов, секретари районных и городских партийных комитетов, председатели рай- и горсоветов, секретари первичных партийных организаций. Погибли безвинно сотни тысяч людей. Я, конечно, не смогу их перечислить, я могу здесь назвать лишь отдельных людей, из числа тех, которых знал. Вот, например, Иван Тарасович Кирилкин - директор Рутченковских рудников, где я раньше был рабочим, а потом заместителем управляющего. Как я уже рассказывал, я поступил на эти рудники в 1912 году. Тогда они принадлежали французской компании, которая потом продала их (кажется, "Брянскому акционерному обществу"). После революции они стали государственной собственностью, и их назвали Рутченковскими.
Одно время они носили название Краснотворческих, но это слово не прижилось. Их называли Рутченковские копи по фамилии владельца местных земель, крупного помещика. Кирилкин был управляющим этими рудниками в 1925 - 1926 годах. А потом Ивана Тарасовича назначили директором Макеевских металлургических заводов, и он со знанием дела руководил ими. А заводами, которые принадлежали раньше англичанину Юзу, командовал Базулин, всем известный Вася Базулин, местный рабочий. Он неплохо управлял этими заводами, опираясь на актив, на инженеров. А затем наступил 1937 год. Погиб Иван Тарасович. Я так и не нашел следов, где и при каких обстоятельствах он погиб. Базулин тоже исчез с горизонта. А в Москве сколько же директоров заводов, сколько инженеров погибло? Только, бывало, и докладывают мне: вот, проглядели "врага народа". Партийная организация бьет себя в грудь: Проглядели! Таких "врагов народа" набралось столько, что уже и Орджоникидзе не смог переварить это и застрелился. Покончил с собой честнейший человек рыцарского склада характера. Как мне передавал в разговоре Анастас Иванович Микоян, перед тем как застрелиться, Серго ходил с ним вечером по аллеям Кремля и говорил: "Не могу больше, не могу мириться с тем, что творится. Бороться со Сталиным я тоже не могу и не вижу сейчас возможности продлевать свою жизнь". И вот Серго застрелился. А как же Сталин? Сталин этот случай ловко обставил по-своему. Я в то время был секретарем Московского городского и областного комитетов партии. В один из выходных дней мне звонит Авель Софронович Енукидзе и говорит: "Товарищ Хрущев, приезжайте ко мне в Кремль. Срочный вопрос".
Приезжаю. Спрашиваю: "В чем дело?". "Умер, - говорит, - Серго". "Как умер? Я его видел недавно". "Скоропостижно скончался. Вы же знаете, что он был больной человек. Создана правительственная комиссия по организации его похорон, и Вы входите в эту комиссию, а я в ней председатель. Мы должны сейчас подготовить предложения для ЦК о порядке проведения похорон". Имелся соответствующий трафарет для таких похоронных дел, мы быстро обсудили вопрос и дали свои предложения. Не помню сейчас точно, но, кажется, я выступал от Московского комитета партии на этих похоронах. Я очень жалел Серго. Он пользовался большим уважением в народе, а мне лично было его жаль еще и потому, что я чувствовал его хорошее, теплое отношение ко мне. Серго ко мне относился с некоторым отцовским покровительством, а я нуждался в этом, к тому же было приятно. Ведь всякому человеку приятнее доброе слово, чем окрик или грубость, которые тогда были в ходу... Похоронили. Я так и считал тогда, что Серго скоропостижно скончался в выходной день. Говорили, что он позавтракал, прилег на диван и уже не поднялся. Он действительно лег на диван, но застрелился. Столько лет я и другие были обмануты на этот счет Сталиным. Зачем ему понадобилось обманывать? Видимо, чтобы не будить лишних мыслей в головах наших людей, почему такой человек, как Серго, ближайший к Сталину человек, вдруг застрелился. Видимо, не от хорошей жизни? И это - человек, который прошел через испытания подпольной борьбы, ссылок. А в годы, когда СССР на подъеме, когда, казалось, только и надо, что работать да радоваться, вдруг решил уйти из жизни и уничтожил сам себя.
Значит, была причина. Без причины такой человек не мог умертвить себя, потому что это был коммунист высокого толка и особого воспитания, с высокоразвитым чувством чести. Я так говорю, опираясь на мнение и самого Сталина: беспринципный в вопросах морали, Сталин его осуждал как раз за это. Когда я узнал, что Серго застрелился, мне многое стало понятнее из того, что я слышал от Сталина о Серго: Сталин всегда старался приуменьшить его роль в революции и в борьбе за развитие экономики СССР. А Завенягин Авраамий Павлович? Мой приятель, с которым я познакомился в 1922 г., когда вернулся из Красной Армии. Он тогда был в Юзовке секретарем уездного комитета партии. Потом я пошел учиться в Юзовке на рабочий факультет, а Авраамий Павлович поступил в Горную академию и с блеском ее окончил. Это был интересный человек и хороший работник. Он трудился на многих постах. Потом Орджоникидзе выдвинул его своим заместителем по черной металлургии. И вдруг Завенягин исчез. Я обеспокоился, где же Авраамий? Ни слуху ни духу. Но через какое-то время опять всплывает Завенягин.
Позднее он стал заместителем Председателя Совета Министров СССР. Последняя его должность (по совместительству) министр среднего машиностроения СССР. Иначе говоря, он занимался атомными делами. А умер он, пострадав от облучения атомными зарядами. Где же пропадал в свое время Завенягин? Оказывается, отбывал ссылку. Мне потом рассказывали, что Сталин его вызвал и выразил ему свое недоверие: "Вот, Завенягин, на тебя есть показания". И куда-то сослал его за тридевять земель[323]. Там он трудился и отличился. Честный был человек, с умением мог использовать свои знания и энергию. Потом, правда, Сталин вернул его, и он опять стал работать в Москве. Я сейчас и не решаюсь называть всех зря пострадавших по фамилиям. Во-первых, я забыл фамилии многих директоров заводов, инженеров и начальников цехов, которые были уничтожены в те годы в Москве. Их, наверное, были тысячи. Во-вторых, просто не в курсе дела: где эти люди, куда подевались? Но делаю такой вывод: если бы эти кадры не были уничтожены, а продолжали свою деятельность на пользу нашей страны, создавая средства производства и средства вооружения Красной Армии, применяя разумно и со знанием дела промышленный потенциал, то мы использовали бы с толком все условия, чтобы создать нужное вооружение и в нужном количестве, так что Красная Армия была бы обеспечена не хуже, а лучше немецкой.
Мы имели для этого все возможности. Хотел бы показать это наглядно. К примеру, мы сумели создать нужное количество вооружения уже в ходе войны, к середине 1943 года. Как раз тогда мы разгромили на Курской дуге огромнейшую армию гитлеровцев, вооруженную до зубов самым современным оружием. Я не припоминаю, чтобы там в составе наших наземных войск использовалось какое-то иностранное оружие, если не говорить об автомобилях. Я видел под Сталинградом отдельные экземпляры английских и американских танков, но советские танкисты по боевым качествам всегда ставили на первое место наши, отечественные танки, особенно Т-34. Артиллерия, пулеметы, винтовки, автоматы были нашими, отечественными. Следовательно, смогли же мы создать замечательное оружие в нужном количестве, чтобы вооружить нашу армию к середине 1943 года? Далее, мы получали наше оружие в нарастающем количестве, хотя ранее оставили врагу обширную территорию - Украину с Донбассом, Белоруссию, другие районы с их заводами и сырьем. Но и это еще не все. Мы лишились тогда промышленной, научной и технической базы блокированного Ленинграда и эвакуированной Москвы - двух центров индустрии союзного значения. Лишились мы Ростова, Воронежа, Сталинграда, Северного Кавказа. Если сделать сейчас выборки из статистических данных, то районы, которые оказались оккупированы немцами, давали чугуна, стали, угля и нефти значительно больше половины всего их производства в СССР. Вероятно, процентов 60 или 70, если взять металлургию.
И вот, лишенный всей этой базы, наш народ, вывезя кадры и оборудование, какое успел, нашел возможность смонтировать это оборудование, порою на чистом месте, где-нибудь в сараях, и наладил заново производство танков, артиллерии, автоматического оружия, винтовок, пулеметов, мин, взрывчатки и прочего. Колоссальная была проделана работа для того, чтобы дать армии все необходимое. В чем же дело? Почему не все успели сделать до войны? Как только определилось, что война с фашистской Германией у нас будет, а это определилось с приходом Гитлера к власти в 1933 г., мы должны были непрерывно наращивать производство боевой техники и подготовиться к неизбежной войне. В 1936 - 1939 гг., когда шла война в республиканской Испании, мы стояли лицом к лицу со своим врагом, оказывая помощь революционным силам Испании. Наши люди сталкивались там с немецкими и итальянскими фашистами, которые воевали на стороне мятежника Франко. Но вот наступил 1939 год. Был подписан договор Риббентропа Молотова, как тогда называли его на Западе. И Сталин сказал нам: "Обману, обману Гитлера". Следовательно, он считал, что Гитлер все равно нападет на нас, но он-то выиграет нужное время, подписав этот договор. Вместо того, чтобы сразу столкнуться лбом с Гитлером и вызвать огонь на себя, мы подписанием этого договора миновали опасный рубеж, создав условия для столкновения Гитлера сначала с западноевропейскими странами. Это и был тот выигрыш времени, о котором говорил Сталин.
Сталин именно так оценивал тогда сложившееся положение. Хочу думать, что он его понимал как раз так. В таком случае он должен был приложить все усилия, чтобы, подписав договор о ненападении, а затем новый договор - о дружбе и границе с Гитлером, сейчас же развернуть работу нашей промышленности, научных учреждений, конструкторских бюро по производству требуемого вооружения, развернуть дело на полный ход, на все обороты. А мы имели достаточно времени с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года. Я считаю, что это был прямой предвоенный период. Неизбежность войны была ясна каждому, мало-мальски думающему человеку; стоял только вопрос времени. А время определялось Гитлером. Нужно было использовать это время и максимально развить производство средств ведения войны. Если бы мы это сделали (беру 1939 г., 1940 г. и почти половину 1941 г., то есть 2,5 года, именно то время, за которое мы потом потеряли, отступая, полстраны по промышленному потенциалу), то сумели бы раньше наладить выпуск вооружения и заранее обеспечить армию всеми средствами ведения войны. Значит, если бы мы с толком использовали полученную передышку, то к 1941 г. имели бы то, что получили в 1943 г., и Красной Армии этого было бы достаточно, и даже с лихвой, чтобы разгромить немцев еще на наших границах и не допустить вторжения фашистских орд в пределы Советского Союза. Конечно, мы не бездельничали, а трудились. Однако использовали передышку не так, как следовало. Это знает история. Мне, близко стоявшему к армии, хорошо известно, что, как только началась война, рабочие на Украине сами пришли в ЦК партии и потребовали: "Дайте винтовки!". А я ничего не смог предложить им, ибо винтовок не было, и обратился с этой просьбой к Москве.
Москва сказала (к телефону подходил Маленков): "Нет винтовок. Те, что были в Москве, осоавиахимовские винтовки с дырочками, мы восстановили, заклепали дырочки и отдали Ленинграду. А вы должны теперь ковать оружие сами. Делайте ножи, пики и прочее". Можете себе представить? Немцы обрушились на нас с такой боевой техникой, а нам говорят: "Куйте пики, куйте ножи, громите врага, который наступает с танками". Только наш народ, наша армия, наша партия смогли выдержать такое испытание! Несмотря на тяжелейшие условия, армия сопротивлялась, отходя, но и при отходах перемалывала живую силу противника и его технику. Тут шли в ход и бутылки с горючим, и мины, и всякие другие выдумки, на которые пошел народ, защищавший свою родную землю, честь и богатство. А если бы мы полностью использовали передышку? Имел ли Сталин право, игнорируя опасность, сохранять прежние темпы работы промышленности по производству вооружения и на том же уровне, на котором она была до подписания договоров с Германией? Нет, не имел такого права. Ведь он сам сказал, что обманет Гитлера. Следовательно, был уверен, что Гитлер нападет на нас. А раз нападет, нужно с толком использовать время, пока Гитлер завяз на Западе, с тем чтобы развернуть производство средств уничтожения врага, дать их в нужном количестве и создать резервы.
Тут надо бы вставить цифровые данные об уровне производства чугуна, стали, проката, развития машиностроения. Цифр этих у меня под рукой нет. Разумеется, сказанное не противоречит рассуждениям о том, что мы победили с учетом помощи нам боевых союзников. Как не противоречит сказанное и тому, что мы сами производили массу вооружения для разгрома врага. Не знаю, получали ли мы артиллерию от союзников. По-моему, нет. Самолеты, автомашины получали. Автомашинами мы не только оснастили армию, но даже после войны поступило в народное хозяйство большое количество американских автомобилей. Морской транспорт у нас в значительной степени тоже был американским. Часть кораблей мы вернули США после войны. В принципе же тот факт, что мы отступили далеко от границы и дали противнику возможность занять и разорить Украину, Белоруссию, часть Российской Федерации, явился результатом просчетов и неумелого руководства. Вероятно, многие люди, которым доверили дело, были достаточно примитивны. Еще раз напомню о Кулике. Кулик, занимавшийся вопросами вооружения армии, был именно примитивным человеком. Сталин потом его расстрелял. Повторяю в который раз, что это было преступно, он не заслуживал расстрела. Но что Кулик был недостоин назначения на столь высокий пост, несомненно. В этом я давно не сомневался и говорил это Сталину еще до войны. А теперь о технике. В 1940 г. танк Т-34 был уже принят на вооружение и прошел нужные испытания.
Раз мы находились в таком состоянии, что вот-вот грянет война, надо было не на одном 75-м Харьковском заводе заниматься этим танком, а сейчас же разработать массовую технологию, создать технологическое оборудование, выделить ряд заводов и развернуть широкое производство Т-34. Тогда в начале войны мы могли бы каждый месяц давать Т-34 столько, чтобы обеспечивать минимальную в них потребность. У нас не было также достаточно зенитных пулеметов, а уж пулеметы-то производить мы умели, да и промышленность наша готова была дать их столько, сколько нужно. Хлопали ушами. Я уже говорил раньше, что после заключения договора о ненападении с Германией Сталин поставил вопрос о строительстве новых заводов по производству зенитных пулеметов. Заводы, конечно, не были выстроены к началу войны, не построили их и во время войны. Производство таких пулеметов перенесли на другие заводы, так что в дальнейшем потребности армии были удовлетворены. Почему же это не было сделано в 1939-м, в 1940 году? Имелось ведь достаточно времени. У нас не хватало и дивизионной артиллерии. Под Сталинградом к нам приходили пополнения без пушек. Помню, прибыла дивизия (при ней служил сын Долорес Ибаррури) не только без артиллерии: она не была даже вооружена в должном количестве пулеметами. Кто отвечает за это? Говорят, Сталина подвели.
Значит, когда Сталин уничтожал военные, хозяйственные, партийные и научные кадры, интеллигенцию, это подсказывал ему его гений? А то, что он допустил, чтобы наша армия не имела в начале войны нужного количества винтовок, не говоря уже о другом вооружении, тут его подвели другие. Отчего же столь неодинаковый подход к оценке гениальности и провалов вождя? Я же считаю, что случившееся - преступно. Тут проявляется моральное потворство, рабская психология: все прощать сильному и искать слабого, который "подвел" сильного, чтобы слабого бросить в мясорубку, вдобавок к тому, что этой мясорубкой уже было раньше уничтожено. Думаю, что партия сделает правильные выводы и завершит то дело, которое было начато на XX и XXII партсъездах; что будут названы все виновные и таким образом правильно проинформирована советская общественность, с тем чтобы не допустить в дальнейшем повторения этого. Вот мое мнение о наших поражениях в первые годы войны, наших потерях, нашем отступлении. Поражения, которые как бы готовились "в союзе" с Гитлером. Гитлер использовал подозрительность, недоверие и вероломство Сталина и подбросил ему материалы о том, что наши известные военные - немецкие агенты. Сталин поверил, и заработала машина истребления. Так враг сумел лишить нас военных кадров. А мы ему в этом помогли. Высшего накала уничтожение честных советских людей достигло в 1937 г., том единственном предвоенном году в рамках пятилеток, когда промышленный план не был выполнен.
А Гитлер учел задержку в развитии нашей промышленности, готовясь к войне с СССР. Сталинисты (эта кличка станет позднее, я знаю, самой оскорбительной, самой ругательной) сегодняшнего дня лакируют Сталина как гения и как вождя. Это вреднейшие люди. Они, вольно или невольно, не только прикрывают преступления, которые были совершены, но и прокладывают путь в будущее таким же методам, которыми пользовался Сталин. Открыл это "движение" сталинистов с середины 60-х годов маршал Захаров. По его пути идет маршал Конев, а за ними плетется в хвосте Гречко на своих длинных ходулях. Это позор! У Захарова мог иметься какой-то личный осадок по отношению ко мне, хотя у меня никогда не было с ним столкновений и я никогда ему не сказал ни одного плохого слова во время войны, да и от него не слышал. Уже в 1960-е годы я действительно говорил Малиновскому, что надо Матвея Захарова освободить от обязанностей начальника Генерального штаба. Но ведь я это не сам сделал единолично. Боже упаси! Когда я возглавлял руководство страной, то все вопросы проводил через заседание Президиума ЦК, все важные решения обсуждались и с этим предложением все согласились. Чем я мотивировал? Возрастом и физическим состоянием человека. Нельзя оставлять начальником Генерального штаба человека, который на заседании через пять минут после его открытия клюет носом или просто спит. Как же можно доверять оборону страны людям, которые физически износились? Это не их вина. Возраст есть возраст. Держать в должности людей, которые физически не могут с должной энергией работать на пользу армии, нельзя. Поэтому я и сказал, что надо найти Захарову другой, тоже почетный пост. И он был назначен начальником Академии Генерального штаба.
Это не только почетно, но и ответственно: создавать кадры, учить людей. Там его возраст не мешал, ибо там преподает ряд профессоров, преподавателей, да и он сам, человек знающий, грамотный, честный и преданный, понимал, какие отдавать распоряжения. Видимо, человеческая обида иной раз заглушает разум и лишает возможности правильно уразуметь акцию, которая не обязательно является приятной. Но надо же понимать, что осуществляется в интересах дела! Его преемником назначили маршала Бирюзова, который погиб, когда летел с делегацией в Югославию. Захаров был выше его по уровню военных знаний, зато Бирюзов - моложе и энергичнее. Сейчас Захарова вернули на прежний пост. Считаю, что эту комбинацию произвели за счет интересов страны, за счет улучшения руководства, за счет улучшения работы по подготовке армии. Потому что, увы, стар товарищ Захаров. А почему такую позицию занял Конев? Конев - это человек особого склада ума и особого характера.
Он единственный из крупных военачальников, кто "откликнулся" на материал, который был разослан Сталиным по делу "врачей-вредителей", арестованных под конец жизни Сталина. Конев в ответ на эти псевдоматериалы прислал Сталину письмо, в котором солидаризировался с разосланной фальшивкой, хотя это была липа. Он укреплял Сталина в мысли о правильности ареста врачей и даже подтверждал это на примере собственной персоны, что его вроде бы врачи тоже неправильно лечили. Это просто позор для честного человека! Не могу примириться с тем, как это мог культурный человек согласиться с бредом, который был выдуман Сталиным. Потом все рассеялось, как дым. Никаких преступлений не было, и все эти люди, крупнейшие врачи, освобождены. А Гречко? Это - КВД (то есть куда ветер дует). Я много приложил усилий, чтобы его приподнять. Тот же Конев упрекал меня, что Хрущев покровительствует Гречко, выдвигает его, поддерживает его, что именно Хрущев предложил присвоить ему звание Маршала Советского Союза уже после войны, и пр. А потом с Гречко произошло удивительное превращение! Я многих видел, перед моими глазами прошел не один Гречко, и могу сказать, что в ряду людей-хамелеонов он тоже типичный хамелеон.
Да, господа хорошие, какой бы вы пост ни занимали, какие бы у вас ни имелись личные заслуги, нельзя становиться на ложный путь, история этого не прощает. Вы только оставите неверную память по себе, потому что не были честны перед самими собою и вводили в заблуждение народ, прикрывая злоупотребления Сталина и обеляя его тем фактом, что наша страна ведь победила! Да, народ добился победы, партия добилась ее. А Сталин? Сталин в своих идеях, в своем мировоззрении, понимании дел был, конечно, партийный человек. Но его методы, формы работы основывались на уничтожении людей, расстрелах, пытках, вымогательствах признаний в несуществующих преступлениях. Не может возникнуть двух мнений в оценке личной деятельности Сталина, подробности которой выявились в полной мере уже после его смерти. Многие стороны этой деятельности заслуживают морального осуждения, а может быть, и суда истории. На этом хочу закончить свои воспоминания о ярком периоде борьбы нашего народа за преобразование нашего общества на социалистических началах. Мы добились больших успехов в строительстве, создании могучей индустрии, перестройке сельского хозяйства, подъеме культуры, науки, искусства. Народ пробудил свои силы и создал такую сильную державу, какой является Советский Союз. Сегодня мы не слабее любой страны. Хотя промышленность США сильнее нашей, но наши Вооруженные Силы вооружены не хуже, а может быть, даже лучше американских. Пусть это будет серьезным предупреждением для всех авантюристов, милитаристов и агрессоров. Если они развяжут войну, то такая война выйдет им боком. Я не говорю о каких-то европейских противниках СССР, таких, как Западная Германия. В сравнении с нами любая страна Европы без США - просто нуль. Сейчас никакой здравомыслящий человек, как бы он ни был ослеплен ненавистью к Советскому Союзу, не может думать об агрессии против СССР. Вот дальнее последствие победы Октябрьской революции в 1917 году.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сейчас на дворе 1969 год, и я хочу продиктовать свои воспоминания об окончании войны, о победе над Японией, о том, как непросто складывались послевоенные отношения с этой страной. Потерянные в результате Русско-японской войны 1904 - 1905 гг. права на собственность в Маньчжурии и Корее вернулись к нам. Та война закончилась поражением царской России, и Япония навязала, как известно, кабальный мирный договор[324]. Соответствующие пункты, касающиеся нас, были включены сначала в текст Сан-Францисского мирного договора с Японией, но без учета всех предложений СССР, и мы в 1951 г. не подписали его. Очень трудно, на мой взгляд, найти какую-то логику в нашем подходе к заключению мирного договора. Имело значение одно: нам нужно было признать, что главные усилия для разгрома Японии были приложены США. Этот факт понятен каждому знающему факты и мыслящему человеку. В результате вероломного нападения со стороны Японии именно США понесли главные потери, хотя были затронуты также интересы Англии, Нидерландов и других стран европейских колонизаторов: Япония захватила некоторые колонии этих стран. Не нам переживать за это. Что касается нас, то на протяжении всего времени вплоть до Второй мировой войны Япония проводила враждебную политику в отношении СССР. И не только враждебную, а наглую, вымогательскую, нетерпимую. Мы же тем не менее вынуждены были терпеть. Кроме того, мы понимали, что дело не только в Японии: милитаристская Япония действовала на Востоке, нацистская Германия - на Западе. Надо было вести дипломатическую игру, лавировать, чтобы обеспечить мир и не вызвать противников на войну. Нельзя было допустить войну СССР на два фронта: на Западе и на Востоке. Мы были тогда еще слабы для такой войны. Даже в 1945 г. мы соблюли трехмесячный интервал. Впрочем, я никогда не слышал от Сталина (он не рассказывал этого при мне), как конкретно был оформлен договор СССР с союзниками о нашем участии в войне против Японии после разгрома гитлеровской Германии.
Когда этот момент наступил, наши войска перешли маньчжурскую границу. Главнокомандующим этими войсками был назначен Василевский. Фронтами руководили Малиновский, Мерецков, Пуркаев. Больше других дали войск Малиновскому. И мы разгромили Квантунскую армию Японии. Правда, после того, как Япония уже была, собственно, разбита, ибо на нее были сброшены американцами две атомные бомбы. Япония металась в предсмертной агонии и искала возможность как-нибудь выйти из войны. Буквально в последний месяц событий и мы включились в войну с нею. Я присутствовал в Москве при разговоре, когда Сталин торопил военачальников как можно скорее начать операции против Японии, иначе она капитулирует перед США и мы не успеем включиться в войну. У Сталина были тогда сомнения, станут ли американцы держать данное ими ранее слово. Думал, что могут и не сдержать. Обговоренные между нами условия были таковы: мы получаем территории, которые были отторгнуты от России Японией в войне 1904 - 1905 гг., если сейчас станем участвовать в этой войне с Японией. А если не будем участвовать? Если еще до нашего вступления в войну Япония капитулирует? Складывается другая ситуация, так что американцы могут пересмотреть обязательства, которые они нам дали. Скажут: вы не участвовали, и мы вам ничем не обязаны.
Если бы оставался жив президент Рузвельт, у Сталина было бы больше надежд. Рузвельт был умным руководителем и считался с Советским Союзом. С ним Сталин не раз делал дела, и у них сложились. как говорил сам Сталин (видимо, так оно и было), хорошие личные отношения. Они были куда лучше, чем взаимоотношения с другим нашим союзником Великобританией и лично с ее лидером Черчиллем. Но Рузвельта летом 1945 г. уже не было в живых, он умер весной, а войну с Японией завершал Трумэн. Трумэн был неумный человек и стал случайно президентом. Он вел разнузданно реакционную политику, а в отношении Советского Союза его политика стала потом просто нетерпимой. Когда Япония капитулировала, я сейчас точно не могу вспомнить, но наш представитель, кажется, в этом не принимал участия, он прибыл только на официально-парадную церемонию подписания капитуляции. И это не случайно. Мы ведь не воевали на тихоокеанских островах, если не говорить о Сахалине и Курилах; наших войск там никогда не было. Наши претензии на решение послевоенной судьбы Японии вызвали раздражение союзников по отношению к нам, а Сталин, переоценивая свои возможности, отвечал им той же неприязнью. Одним словом, отношения с США начали портиться.
Нас нередко игнорировали, с нами порою не считались, нас пытались третировать. Первым третировал нас Трумэн. Это вытекало из его характера и умственных способностей. Умный президент не вел бы себя так вызывающе и не восстанавливал бы Советский Союз против Соединенных Штатов Америки. Что касается территорий, то американцы, нужно отдать им должное, сдержали свое слово. Когда проект мирного договора с Японией был составлен, мы тоже получили там место для подписи. Соблюдение наших интересов было предусмотрено, как и оговаривалось ранее протоколом, подписанным еще Рузвельтом. Нам надо было подписать этот договор. Я не знаю, что сыграло главную роль в нашем отказе: самолюбие Сталина, гордость за наши успехи во Второй мировой войне или то, что Сталин переоценил свои возможности и влияние на ход событий. Но он закусил удила и отказался подписать договор. Кому была выгода от нашего отказа? Правда, мы фактически территории Южного Сахалина и Курильских островов получили. Наши войска стояли там, реализация соответствующих пунктов договора как бы уже произошла. Но юридического подтверждения она не обрела и не была закреплена в мирном договоре. Раз мы не подписали договор, то и не сумели воспользоваться им для закрепления принятых решений[325]. Сталин был недоволен, и справедливо недоволен, политикой Трумэна. Но одно дело быть недовольным и другое - совершать неправильные действия, которые наносят вред нашему государству. Нас пригласили подписать мирный договор с Японией, а мы отказались. Сложилась неясная обстановка, которая тянется до сих пор. Мне лично это совершенно непонятно.
Тогда было непонятно и сейчас непонятно. Сталин не советовался с нами, да и вообще не считался с другими людьми. Он был слишком самоуверен. Тем более после разгрома нами гитлеровской Германии. Тут, как раньше говорилось, он изображал лихого казака Кузьму Крючкова. Люди младшего поколения могут не знать этого газетного героя. Во время Первой мировой войны был создан армейский герой. Донской казак Кузьма Крючков. Изображали на иллюстрациях в журналах и газетах, как он поднимал на пику сразу по 10 немцев. Лучше бы Сталин изображал не его, а Василия Теркина, известного героя поэмы Твардовского, если уж искать аналогию, а не точное сравнение. А Сталин изображал именно Кузьму Крючкова. Ему море по колено, ему все нипочем. Что захочет, то, дескать, и получит. Но в то время война уже кончилась. Главный враг, для разгрома которого мы были нужны Западу, был разбит. Теперь Запад начал уже мобилизовывать и сплачивать свои силы против Советского Союза. И когда мы отказались подписать мирный договор с Японией, это не только не огорчило былых союзников, но оказалось для них выгодным. Были созданы Дальневосточная комиссия и Союзный совет для Японии, которые наблюдали за положением дел в этой стране после капитуляции японской армии[326]. В них были и советские представители, но мы занимали там, на мой взгляд, незавидное место, как нищий на свадьбе у богача. Наши представители в Дальневосточной комиссии и Союзном совете для Японии никакого влияния на ход событий не имели, американцы их третировали. Я сейчас конкретного подтверждения не могу привести, факты выветрились из памяти, но было так. Это нас раздражало, да и не только Сталина. Но ничего не поделаешь, там первенствовали США.
Не войну же объявлять им из-за этого? Немыслимое дело! Да и возможностей таких у нас не было. Вообще из-за подобного умные государственные деятели войн не объявляют. Однако отношения между союзниками не только заморозились, но и все время накалялись. А если бы мы дали ранее правильную оценку сложившихся после разгрома японского милитаризма условий и подписали бы мирный договор, разработанный американской стороной без нашего участия, но с учетом наших интересов, мы бы сразу открыли в Токио свое представительство, создали посольство. Наши люди имели бы контакты с японцами на новой основе. Наше влияние как-то возросло бы. Думаю, что в те дни, когда только что был подписан мирный договор, существовали более хорошие условия установления контактов с прогрессивной общественностью в Японии и доведения сути нашей политики до сознания ее общественности, чем сейчас. Главной силой, которая разгромила Японию и разрушила ее военщину, были США. Но своими действиями они нанесли материальный и моральный ущерб Японии, особенно в результате применения атомных бомб.
Это было первое в истории такого рода зверство, совершенное против человечества! А мы не использовали тогда выгодный момент, сами себя изолировали и тем самым позволили агрессивным силам США натравить японцев против Советского Союза. После того как наши представители удалились из Японии, много лет мы не имели там никаких представителей. Это большая потеря. Мы сами, проявив тупость, непонимание, создали наилучшие условия для антисоветской пропаганды со стороны врагов как внутри Японии, так и в США. Огромный пропагандистский аппарат, находившийся на Японских островах, был нацелен против Советского Союза. Так поплатились мы за проявленное нами совершенно необъяснимое упорство. Я и сейчас толком не пойму, чем оно было вызвано. Помню, уже после войны приезжала по какому-то случаю делегация из США. Возглавлял ее государственный секретарь Бирнс[327]. Я был в то время в Москве и присутствовал на обеде, который Сталин дал в его честь. На этом обеде присутствовал и лидер лейбористов Англии Бевин[328]. Он раньше входил в военный кабинет Черчилля. Влиятельный человек. В какой атмосфере проходил обед? Сталин как хозяин стола объявлял тосты и при этом буквально третировал Бевина. Мы позднее, когда обменивались мнениями, возмущались этим. Ведь Бевин вышел из рабочих, он был шофером и докером. А когда Сталин за столом делал в его адрес какие-то совершенно недопустимые намеки, предпринимал булавочные уколы, Бевин стыдил Сталина: "Я первым поднял голос в защиту Советской России. Это я организовал в свое время забастовку английских докеров под лозунгом "Руки прочь от Советской России!".
Так и было, он говорил правду, об этом писали все газеты. Чем было вызвано такое поведение Сталина? Трудно объяснить. Думаю, что Сталин, как говорится, закусил удила, считал себя вершителем мировой политики. Поэтому он столь несдержанно вел себя в отношении этого представителя союзной страны, нашего партнера по войне. Зато он очень любезно держал себя в отношении Бирнса. Правда, его любезность тоже имела обратную сторону. Сталин, ухаживая за Бирнсом и говоря ему всякие приятные слова, в то же время позволял себе отпускать шуточки, направленные против президента США Трумэна. Это было совершенно недопустимо: любезничать в лицо с представителем Трумэна и поносить самого Трумэна. Бирнс же как-то "уворачивался", не принимал комплиментов в свой адрес. А Сталин сравнивал Трумэна и Бирнса в невыгодном для президента свете. Даже Берия, когда мы после обеда беседовали, возмущался: "Слюшай, как это можно, как это можно? Ведь еще сегодня, как только Бирнс выйдет от нас, все станет известно Трумэну". Видимо, так и произошло. Трумэн как бы подогревался нами в своих антисоветских настроениях и антипатии к Сталину. После подписания мирного договора с Японией были постепенно ликвидированы органы, созданные для наблюдения за ней[329]. Мы входили в них, пусть на положении, не соответствующем статусу великой державы, но все же присутствовали там.
А после подписания мирного договора с Японией ею были установлены обычные дипломатические отношения со странами, подписавшими договор[330]. Наши представители еще какое-то время пребывали в Токио, не хотели уезжать оттуда, пользовались правом державы, которая тоже принимала капитуляцию Японии. Наконец американцы попросили, чтобы мы ушли вон. Мы сопротивлялись. В конце концов, наши люди были там буквально блокированы. Им были созданы невыносимые условия жизни. И при этом они ничем, по существу, не занимались, их никуда не пускали, с ними не считались. В результате наши люди уехали домой. Что же получилось? После разгрома Японии мы обрели то, что было утеряно царской Россией. Наша честь великой державы была восстановлена. Наши войска участвовали на завершающем этапе операций в разгроме японской армии, нам надо было проявить трезвость: все-таки главные затраты и материальных средств, и живой силы пришлись в войне с Японией на США. Если сравнивать, то мы меньше затратили в войне против Японии, чем американцы и англичане при разгроме гитлеровской Германии. Их вклад соответственно был побольше, хотя они тоже пришли к победе над Германией, уже завоеванной СССР, завоеванной кровью советских людей и истощением наших ресурсов. Конечно, они, согласно договору о ленд-лизе оказывали, нам существенную помощь.
Даже Сталин признавал это в нашем кругу, я об этом несколько раз от него слышал: "Если бы нам американцы и англичане не помогли по ленд-лизу, то мы бы одни не смогли справиться с Германией, мы слишком много потеряли". Почти каждый солдат знает, как шли дела в Маньчжурии под конец Второй мировой войны. Наши самолеты приземлились с десантом в Мукдене, и был захвачен в плен император Маньчжурии Пу И, ставленник Японии[331]. Одно это само по себе говорит о том, в каком состоянии находился противник. Император не успел даже уехать из Маньчжурии и был захвачен нашими солдатами, которые прибыли туда на транспортном самолете! Разве сравнимо это с тем, что происходило на германском фронте? Конечно, иное дело, что в других местах Маньчжурии и мы пролили немало крови. А когда после подписания мирного договора наших представителей, собственно говоря, выдворили из Японии, то вплоть до самой смерти Сталина абсолютно никаких контактов с нею у СССР как бы и не было. А это кому было выгодно? Произошло же это по нашей вине. Если бы мы подписали договор, то завели бы в Японии свое посольство, имели бы мы контакты с японской общественностью, налаживали бы торговые и деловые отношения с японскими фирмами и предприятиями. А мы такой возможности лишились. Вот то, чего как раз хотели американцы. Они желали, чтобы наших представителей там не было, и вообще стремились изолировать нас. Эта политика, впрочем, проводилась фактически с первых дней возникновения Советского государства: вражеское окружение, интервенция, непризнание; но теперь мы сами попались на эту удочку, в угоду агрессивным силам США.
Да и не только США, а и всех антисоветских сил в мире. Вот такое положение мы создали по своему недомыслию в результате какого-то затемнения сознания и переоценки собственных возможностей. Противник же наш, по тому времени - США, этим воспользовался. Когда мы после смерти Сталина, в середине 50-х годов начали расчищать политическое поле и убирать осколки, оставшиеся после Второй мировой войны в Европе и в Азии, то сразу столкнулись с еще не нормализованными отношениями с Японией. У нас не было с нею никаких прямых контактов, и это наносило ущерб нашей политике и экономике. Американцы же были представлены в Японии не только посольством: они как оккупанты были там почти хозяевами, вели себя нагло, строили базы, проводили антисоветскую политику, настраивали японцев против нас. Одним словом, делали все, что диктовали оголтелые монополисты и милитаристы, дышавшие ненавистью к странам социализма, в первую очередь к стране, первою поднявшей марксистско-ленинское знамя борьбы рабочего класса и добившейся больших успехов в этой области.
Хочу теперь рассказать, как мы решили ликвидировать это наследие сталинских времен, убрав осколки ошибочной политики. Эту политику Сталин строил вместе с Молотовым. Внешнеполитические взгляды Сталина и Молотова это все равно, что взгляды Молотова и Сталина. Кто у них был первой Скрипкой? Безусловно, Сталин. Но Молотов вторил ему, как мог, во весь голос. Между прочим. Молотов - скрипач. Я не могу оценить, насколько хорошо он играл на скрипке, но слышал, как он играл. Сталин иной раз подтрунивал над ним в этой связи, иногда просто издевался. Когда Молотов был до революции в ссылке в Вологде или еще где-то[332] (Молотов сам про это рассказывал, а я был слушателем), то пьяные купцы в ресторан зазывали его. Он играл им на скрипке, а они ему платили. Молотов говорил: "Вот был заработок". Сталин же, когда раздражался, бросал Молотову: "Ты играл перед пьяными купцами, тебе морду горчицей мазали". Тут я тоже, признаюсь, был больше на стороне Сталина, потому что считал, что это унижало человека, особенно политического ссыльного. Тот играет на скрипке и ублажает пьяных купцов! Можно ведь было поискать пути материального самообеспечения и другим трудом. Ну, ладно, это попутно.
Итак, когда я поднял вопрос о ненормальном положении с Японией, то разговаривал с Микояном, Булганиным, Маленковым и другими. Все мы в этом вопросе оказались едины: надо искать пути, как поставить свои подписи под мирным договором и таким способом официально ликвидировать состояние войны СССР с Японией. Мы хотели иметь возможность послать в Токио посольство, которое проводило бы необходимую работу в Японии. Только Молотов проявил непонимание, выказал запальчивость и резкость, такие же, как при заключении мирного договора с Австрией: "Как же так? Они и того не сделали, и этого не сделали... Поэтому и мы не можем!". Одним словом, повторял все аргументы, которыми прежде руководствовался Сталин, когда отказался поставить нашу подпись под мирным договором. Мы Молотова убеждали: "Вячеслав Михайлович, поймите же, чего сейчас мы можем добиться в создавшемся положении? Какое может быть наше влияние в Японии? Поправить пройденное невозможно, старое ушло невозвратимо. Единственное, что еще можно поправить, - добиться, чтобы приняли нашу подпись к протоколу мирного договора. Тогда все встанет на должное место". Мы ведь, собственно, получили все, что было предусмотрено протоколом.
Наши интересы фактически учтены, и мы это уже реализовали. Осталось единственное: мы все еще находимся юридически в состоянии войны с Японией. Нет ни японского посольства в Москве, ни нашего в Токио. Кому выгодно наше отсутствие в Токио? Надо же понимать, что выгодно это только США. Они господствовали и ныне господствуют в Японии. Наше возвращение будет выгодно прогрессивным японцам, а невыгодно американцам. Сразу же, как только наше посольство появится в Токио, оно, как магнит, станет притягивать силы, недовольные реакционной политикой. Так мы начали бы оказывать влияние на политику Японии. Ведь в Японии, естественно, существует большое недовольство американцами.
Достаточно вспомнить о Хиросиме и Нагасаки! Больные люди, которые облучились, но остались еще живы. Мертвые, конечно, недовольство выражать не могут. А их родственники? Японцы ничего не могли тут поделать, потому что были обессилены. Американцы после войны вели себя в Японии нагло, их солдаты проявляли грубость и насилия, всяческие художества. Да и сейчас это еще случается. "Поэтому, - говорил я, - если мы будем упорствовать, отказываться от поиска контактов и возможностей подписать мирный договор, который нас устраивает, то это подарок лишь американцам. Им и желать более нечего от нас, это самое лучшее: мы будем выражать недовольство, а им предоставим абсолютную свободу действий в проведении политики. Они восстанавливали Японию в еще большей степени против СССР, указывая, что советские захватили то-то и то-то, но не подписали мирный договор; видимо, имеют еще какие-то намерения... А никаких других особых намерений даже у Сталина не было!". Вот с какими трудностями столкнулись мы и какую оппозицию встретили со стороны Молотова. Но она не вызывала у нас гнева, а мне было просто жаль Молотова. Я недоумевал: как же это можно? И этот человек при Сталине занимался вопросами дипломатии? Представлял столько лет нашу внешнюю политику в самых ответственных ситуациях? Был наркомом иностранных дел и даже главой правительства? И такая ограниченность, такое непонимание простейших вещей? Да, ограниченность. Я и сам удивляюсь, откуда такое? Если с ним просто о чем-то разговаривать (а у меня даже дружеские отношения сложились ранее с Молотовым), то видно, что умный человек. Поговорить с ним доставляло мне удовольствие. О хороших отношениях, сложившихся у нас с Молотовым, свидетельствует и такой факт. Я всегда называл его на "Вы": "Вячеслав Михайлович, Вы". А он мне как-то говорит: "Слушай, давай перейдем на "ты"? Будем называть друг друга по имени и перейдем на "ты".
Я первое время испытывал какую-то неловкость. Потом привык. Он особенно хорошо был расположен ко мне после устранения Берии. Когда был дан обед в честь моего 60-летия в кругу руководства страны, то Молотов произнес там в мой адрес очень дружескую речь, причем особенно подчеркивал мою роль и заслуги в организации устранения Берии. Не хочу играть в скромность, но скажу, что устранение Берии было проведено своевременно. Если бы мы не сделали этого, то совершенно по-другому направлению развивались бы все события внутренней и международной политики Советского Союза. Этот изверг и палач расправился бы со всеми нами, и он уже был близок к такой расправе. Все убийцы, которые выполняли его тайные поручения, были уже собраны им в Москве и, видимо, успели получить или должны были получить задания.
После ареста Берии эти люди были названы нам пофамильно. Я сейчас их фамилий не помню. Те события очень сблизили нас, потому что Молотов хорошо понимал Берию и знал, на что тот способен. Понимал, что, начни Берия действовать, головы Молотова и Хрущева полетели бы в первую очередь. Эти головы Берии надо было снять, чтобы развязать себе руки. Было бы пролито море крови, еще больше, чем при Сталине. Я отвлекся, чтобы рассказать, какие у меня были хорошие, не просто доверительные, а даже дружеские отношения с Молотовым. Поэтому у меня лично не было никаких причин быть недовольным Молотовым. Но факты политики, столь разное понимание простых вещей, истин для каждого, даже не искушенного в политике человека меня обескураживали. Казалось, и другого выхода-то нет, нельзя найти другого решения. Конечно, лишь единственное решение бывает полностью разумным, но могут быть и компромиссные решения. Компромисс с учетом условий, в которых может быть проведено единственно правильное решение. В данном же случае заключение мирного договора вообще не требовало никакого компромисса. Отказ - это затемнение мозгов и проявление тупоумия. В конце концов мы стали предпринимать дипломатические шаги к установлению контактов с японским правительством. Нельзя было обойти США при этом, потому что протокол-то находился там и от США зависела возможность подписания договора. Когда мы сообщили, что хотим подписать мирный договор, США отказались.
Ведь протокол был составлен руками Америки, и там наша подпись была, как говорят канцеляристы, уже заделана. Надо было только расписаться. Но нам в этом отказали. Японцы тоже вели линию против нашего подписания. Я говорю о японцах, проводивших антисоветскую политику. Тогда именно они были у власти, те, которые были угодны США. Америка фактически определяла подбор людей и комплектование ими высших государственных органов в Японии и оказала решающее влияние на японскую позицию. Естественно, японцы стали бороться против пунктов мирного договора, фиксирующих переход Курильских островов и Южного Сахалина к Советскому Союзу, а также против прочих выгод, которые предусматривались в нашу пользу. Вот почему мы так и не получили возможности подписать договор. Не захотели нашей подписи не японское правительство, ни американское. Какую позицию занимала по этому вопросу Англия, у меня не отложилось в памяти. Видимо, занимала подчиненную позицию, не решающую. Антисоветская политика по японскому вопросу в это время определялась США. А у нас отношения с США были тогда обострены до невозможности. Казалось бы, простое дело: исправить ошибку, которая была совершена Сталиным и Молотовым, проявить желание подписать мирный договор с Японией и подписать его? На деле же оказалось, что одного нашего желания мало.
И это было понятно. Почему? Да потому, что недругам было выгодно, чтобы мы не имели советского посольства в Токио, не имели возможности оказывать влияние на японские общественность и правительство. Напротив, США развернули активную деятельность по закреплению своих позиций в Японии. Были подписаны договоры о военных базах[333]. В резкой форме подтверждалось пребывание американцев на территории Японии. После войны еще не остыли страсти, и США наслаждались победой над Японией, а в 50-е годы Япония уже сама прикрывалась силами США от Советского Союза. Главным врагом Японии стал Советский Союз. Вот как обернулось дело! Когда Молотов по вопросу о подписании мирного договора с Японией буквально становился на дыбы, я его абсолютно не понимал, смотрел на него и думал: "Что такое? Почему?". Потом, после принятия нами решения. Молотов уже не возражал. Ведь существовало партийное решение. Но понял ли он сам суть дела или нет?
Я никогда не возвращался позднее к тем неприятным разговорам. Такой опытный дипломат, каким мы его считали, и вдруг оказал нашей стране медвежью услугу. Мы же пресекли это, решив по-своему. А теперь жизнь показала, что мы поступали правильно, хотя нам и не предоставили возможности подписать мирный договор. Мы подписали декларацию о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Японией[334], и только. Юридически это можно толковать как перемирие. Конечно, лучше, если бы мы имели подписанный нами мирный договор. Правда, сейчас наши отношения нормализовались и развиваются так, как развивались бы, если бы был подписан мирный договор, но юридическая сторона дела остается прежней. Итак, мы создали в Токио свое посольство и получили тут равные права с другими странами, которые находятся в состоянии мира с Японским государством. Таким образом, было восстановлено нормальное положение, стали хорошо развиваться различные контакты, даже очень хорошо, я бы сказал. Сейчас забыл фамилию японского премьер-министра той поры, либерального человека[335]. Когда он пришел к власти, то приехал к нам, в Советский Союз. С ним приезжал, кажется, еще министр земледелия и рыболовства, не старый, можно даже сказать - молодой человек, и очень активный.
У нас состоялись переговоры относительно возможности подписать все-таки мирный договор с Японией. Я нетвердо сейчас помню, говорилось ли об этом с премьер-министром или же с министром, хотя и очень влиятельным. Вспоминаю, но не могу восстановить это в своей памяти, а к газетному источнику сейчас не в состоянии обратиться. Повели мы переговоры. Премьер проявлял много внимания к делу и прилагал все усилия к тому, чтобы нормализовать отношения с СССР. Он был сторонником подписания мирного договора. Но внутренние силы Японии, а самое главное, влияние США, которые давили на общественность и на правительство Японии и держали японскую внешнюю и внутреннюю политику в шорах, не позволили сделать это. Японцы могли делать тогда только то, что. им негласно рекомендовали американцы. Правда, самим приездом японской делегации были заложены основы, которые обещали принести хорошие плоды. Но, к сожалению, улучшение отношений не получило дальнейшего развития. Реакционная сторона была сильна, а США проводили политику изоляции СССР.
Да и сейчас проводится эта агрессивная антисоветская политика. Может быть, если бы тот премьер пожил бы дольше и укрепился у власти, то общественное мнение Японии могло измениться. Но он был уже стар и очень болен. По возвращении в Японию он вскоре умер. Таким образом, его усилия по нормализации наших отношений, по фиксации новых, хороших отношений подписанием мирного договора не увенчались успехом. Во время его визита японской стороной был поднят также вопрос об уступке нами двух небольших Курильских островов[336], непосредственно прилегающих к Японским островам. Мы долго совещались тогда в руководстве СССР и пришли к выводу, что стоит пойти навстречу желаниям японцев и согласиться с передачей этих островов (сейчас не помню их названий), но при условии подписания мирного договора Японии с СССР и выведения войск США с Японских островов. Иначе было бы непонятно, просто глупо передавать эти острова такой Японии, которая сама фактически находится под оккупацией. Несмотря на подписание мирного договора, она как бы оккупирована войсками США. Мы бы передали острова японцам, а США превратили бы их в свои военные базы. Мы хотели одного, а получили бы другое. И поэтому мы сказали: "Поймите, что мы не можем выполнить вашу просьбу. Когда будут выведены американские войска и прекратится действие военного союза Японии с США, направленного против СССР, тогда можно будет говорить о передаче вам островов".
Хочу сказать еще несколько слов, чтобы было понятно, почему мы решили пойти в те годы на уступку Японии, точнее - тому премьеру, который приехал к нам и проводил политику сближения и дружбы с Советским Союзом. Мы считали, что такая уступка не имеет особого значения для СССР. Там лежат пустынные острова, которыми пользовались только рыбаки и военные. Оборонного значения при современной военной технике эти острова тоже не имеют. Когда мы получили ракеты, которыми можно поражать врага на тысячи километров, острова утратили значение, которое они имели ранее для береговой артиллерии. Экономического значения они тоже никакого не имеют. По-моему, и никаких полезных ископаемых там не было найдено. Зато дружба, которую мы хотели завоевать со стороны японского народа, наша взаимная дружба имела бы колоссальное значение. Поэтому территориальные уступки с лихвой перекрывались бы теми новыми отношениями, которые сложились бы между народами Советского Союза и Японии. Мы хотели усилить влияние этого премьера в японской внутренней и международной политике, считали, что она должна развиваться в сторону укрепления дружеских отношений с Советским Союзом.
Вот главное, чем мы руководствовались, когда решали этот вопрос. Я и сейчас полагаю, что это было правильное решение, что оно сыграет полезную роль, если мы будем и дальше развивать политику мирного сосуществования и крепить дружбу с Японией. Правительства уходят и приходят, они меняются, а народы остаются. Дело затянулось. Сейчас очередной премьер-министр Японии Сато[337] во время своей поездки в США и встречи с президентом Никсоном достиг какого-то соглашения о выводе американских войск. Непонятно, конкретно какая там достигнута договоренность, но об Окинаве они договорились[338]. Как это осуществится на практике, надо еще посмотреть, не торопиться с выводами. Во всяком случае, США не расстанутся полностью с территорией Японии, не выведут целиком свои войска и не прекратят действие военного договора с Японией, направленного против СССР. Тогда и наше упомянутое соглашение с премьер-министром Японии, видимо, не будет реализовано.
На этот счет я уже ничего не могу сказать, потому что это вопрос той ситуации, которая сложится в будущем, в процессе развития наших отношений с Японией. Это будет зависеть и от позиции руководства Советского Союза, даваемых им оценок ситуации. Но о том, что была допущена грубая ошибка, когда мы не подписали мирный договор с Японией, свидетельствует многое. Когда в 60-е годы были испорчены наши отношения с Китаем (я входил тогда в руководство страны), я узнал, что Мао Цзэдун принимал какую-то японскую делегацию. Не помню, были ли это промышленники или политические деятели. В беседе с Мао японцы подняли вопрос об их претензиях к Советскому Союзу, в том числе о Южном Сахалине и Курильских островах. Мао Цзэдун согласился с их претензиями: "Да, мы поддерживаем вас. Ваши претензии имеют силу и законные основания". Я познакомился с некоторыми материалами, опубликованными уже после возвращения той делегации в Японию. Японцы публиковали в своей печати сообщения о том, что Мао с пониманием отнесся к их национальным чаяниям, к претензиям в адрес Советского Союза. Вот вам конкретные плоды нашей былой ошибки. Конечно, возмутительный поступок со стороны Мао Цзэдуна. Он не только не поддержал СССР, но натравливал общественность Японии на нас и поддерживал их стремление отторгнуть от нас Курильские острова и Южный Сахалин. Ведь Япония никаких исторических оснований к этому не имела. В свое время, когда Россия была слаба, были учинены захваты, осуществленные японцами[339]. Соединение усилий таких могущественных и богатых стран, как Советский Союз и Япония, предоставило бы много возможностей расширения и углубления наших связей, а на этой базе - расширения дружбы, укрепления братских отношений между нашими народами.
Японский народ потерял Окинаву, американцы ее оккупировали. А обратный шаг с нашей стороны, возвращение Японии двух островов, как мы считали, мобилизует общественное мнение Японии в пользу дружбы с СССР и направит народные силы Японии против оккупантов, против тех, кто втянул Японию в военный союз и преследует военные цели. Вот сумма вопросов, которыми мы руководствовались, когда шли на такой шаг, думая, что уступка, которую мы сделаем Японии, политически оправдана и окупится с лихвой. И еще одно подтверждение тому же. Не случайно Мао Цзэдун вдохновлял против нас японских политических деятелей, с которыми он беседовал, укреплял их претензии к нам. Тут пошла борьба за то, чтобы Япония и Китай нашли взаимопонимание хотя бы в тех вопросах, которые не служат мирным целям. Но это проявились уже личность, характер Мао. Он, к сожалению, остался и сегодня этому верен, вершит дела не в пользу социализма, а во вред братским отношениям, которые сложились у нас с Китаем. Все народы СССР хотели бы их восстановления. Думаю, что это сбудется, потребны только время и терпение.
Сейчас я, читая газеты и слушая радио, полагаю, что дипломатические отношения СССР с Японией, экономические связи развиваются нормально. Мы долго вели в свое время переговоры о прямом воздушном сообщении из Европы с Японией по самому краткому маршруту, через воздушное пространство СССР. Нам не удавалось решить вопрос. Уже в самом конце моей деятельности мы достигли договоренности на базе какого-то суррогата, все же пришли к тому факту, что полеты состоятся, но на наших самолетах и под нашим контролем[340]. И здесь тоже на японцев давили США, они не хотели этого. Но существовало и другое: нас самих сдерживали навязанные нам во времена Сталина практика и неправильное понимание вещей. Вот скажут: "Опять на Сталина все валят!". Нет, я не валю. Нужно ведь признать: столько лет мы воспитывались в духе того, когда даже малейшее послабление казалось недопустимым. Как это так: иностранец поднимется в воздух и пролетит через Советский Союз? Надо будет пролететь через СССР буквально от восточной его границы до западной. Мы считали, что зарубежные разведчики буквально вывернут нам нутро, все будут знать о нас. Конечно, мы тоже смотрели тогда на вещи упрощенно. Сами же осуждали Сталина, а смотрели его глазами, руководствовались его практикой и его ложным, неправильным, больным пониманием событий. Надо беречь суверенитет.
Надо не давать возможности разведчикам империалистических держав работать против нас, эта мысль всегда свежа и правильна. Но нужно все-таки иметь и чувство меры. Разведчики останутся, пока существуют разные социально-политические и экономические устройства в государствах, пока мир будет разделен, как сейчас. Пока существуют антагонистические общественные устройства, сохранится их борьба, и разведки будут стремиться делать свое дело. Здесь, как говорится, надо "держать ухо востро". Но это не значит, что мы должны пойти на самоизоляцию, которая выгодна только крупным капиталистическим державам, лидерам западного мира вроде США. Вот что я хотел сказать. Думаю, что эта тема представляет общий интерес, ибо речь идет о значительных вехах в развитии наших отношений с Японией. Япония сегодня - третья страна в мире по размерам производимой продукции. Она стоит сразу же за СССР и довольно быстро развивает свою экономику. Так что с Японией надо считаться и надо прилагать усилия к созданию между нами нормальных отношений, насколько возможно их создать при различном социально-политическом устройстве. Японии выгодно укреплять экономические и дипломатические связи с нами, это бесспорно, потому что мы - самая близкая к Японским островам страна, к тому же богатая природными ресурсами, в значительной степени могущая удовлетворять запросы промышленности Японии в сырье. Например, когда я входил еще в руководство, японцы проявляли особый интерес к нашему лесу. Скажут, что немудрено. Япония нуждается в сырье, а мы нуждаемся в покупателе и в товарах, которые может нам поставлять Япония.
Да, японцы предложили тогда: мы вам поставим оборудование по переработке леса, выработке целлюлозы и получения на основе полученной целлюлозы пряжи из искусственного волокна. Оно по техническим характеристикам было бы наилучшим для производства корда автомобильных покрышек из всего, что производится за границей. Условия действительно выгодные и для той, и для другой стороны. Они нам поставят в кредит все оборудование. После его монтажа на Дальнем Востоке мы должны будем платить им целлюлозой из перерабатываемого леса. Что может быть более выгодно? Проценты тоже, как говорится в капиталистическом мире, были божеские. Да и другое сырье мы могли бы поставлять в Японию. Япония вообще очень интересная страна, с сильно развитой промышленностью. Я это повторяю сейчас с осадком горечи. Ведь если принять во внимание, что Япония была разбита в войне, не имеет природного сырья и обладает гораздо меньшим населением, чем мы, то как оценить, что она так шагнула вперед не только в производстве промышленных товаров, но и в технике, в производстве тончайших и точнейших приборов? Не знаю, на каком уровне они сейчас находятся в оптике, но в конце моей деятельности Япония занимала тут одно из первых мест (может быть, самое первое место в мире). Помню, как наши инженеры-оптики ездили в Японию, привезли оттуда образцы продукции и нам показывали.
Наши специалисты смотрели раскрывши рты. Я спросил: "Сколько это стоит?". Услышал ответ: "Ничего. Это просто дали нам в подарок". Тогда я сказал: "Если это дали в подарок, так имейте в виду: то, что они нам дали, уже снято с производства. Никогда фирма не даст образцы, которые сейчас по-новому находятся в производстве, потому что это может создать конкуренцию их фирме". Все это вполне закономерно: конкуренция, прибыль! Да, многое свидетельствует, говорит о том, как далеко шагнула техническая мысль в Японии. А транзисторные приемники? Японские считаются самыми лучшими. Говорят, с ними конкурируют западногерманские. Тоже ведь разрушенной была страна! Все это заставляет нас подумать об организационных формах, о работе наших научно-исследовательских институтов и многом другом. Видимо, здесь существует у нас какой-то большой дефект. Количество инженеров и ученых, если подходить к делу чисто арифметически, у нас, видимо, не меньше, чем в Западной Германии и Японии. Статистика гласит даже, что мы выпускаем во столько-то раз больше инженеров и техников. А сколько у нас докторов и кандидатов наук? Тем не менее результаты технической и научной мысли, на основе которой создаются прогрессивные машины и приборы, приходится приобретать за границей. И сейчас остается такое же положение. Это заставляет нас думать, и не только думать, а хорошенько проанализировать ситуацию, чтобы поправить дело. Победа будет за тем общественным строем, который сумеет лучше использовать возможности научно-исследовательской мысли и инженерно-конструкторских усилий. Кто обеспечит наивысший уровень производства и самую высокую производительность труда, тот и победит.
Материальные блага, которые может получить человек при той или другой общественной системе, капиталистической или социалистической, определяются уровнем развития науки и техники, инженерной мысли, станочного оборудования и приборов, увеличивающих производительность труда. Я не скрываю, что говорю это с завистью: мне и завидно, и обидно, что мы, прожив уже 52 года после Октябрьской революции, хотя достигли огромных успехов и преобразили свою страну, до сих пор не можем похвастать передовыми позициями в технике и науке. Наша техника и наука сделали невероятно большой шаг вперед. Но все же ученые, наверное, лучше меня знают и чувствуют, как подпирают нас ученые капиталистических стран. Это не какое-то свойство социалистических или капиталистических условий. Никак невозможно согласиться с тем, что капиталистические порядки создают лучшие условия для развития науки и техники. С этим я не смогу согласиться. Нет, имеются какие-то у нас организационные дефекты, которые нужно нащупать и устранить, чтобы мысли ученых реализовались и были поставлены на службу социалистическому обществу. Интересы японского народа созвучны интересам советского народа. Если бы Япония стала дружественной страной по отношению к СССР, то она от этого только выиграла бы и экономически, и политически.
Сейчас действующий договор Японии с США преследует главным образом военные цели. Такие договора ведут к истощению материальных ресурсов страны и могут вовлечь Японию в военную катастрофу, более ужасную, чем пережил японский народ во Вторую мировую войну, когда на него свалились две атомные бомбы. Ведь если разразится война, неизвестно, сколько и каких бомб обрушится на Японские острова. Что останется тогда от Японии? Дружба же с Советским Союзом, устранение с Японских островов военных сил США принесли бы облегчение. Создались бы возможности использования природных ресурсов для развития экономики, повышения жизненного уровня народа. Япония обрела бы возможность получать сырье из соседней страны, находящейся под боком у нее: лес, нефть, газ, руду, уголь. Многое еще можно назвать.
О ВОЕННЫХ МЕМУАРАХ (Запись этого текста на магнитофонную пленку происходила в ноябре 1969 года.)
Несколько дней назад я совершенно случайно встретился с Иваном Христофоровичем Баграмяном. Мне было очень приятно его повидать. Ведь я уже много лет не видел его. Накоротке мы обменялись с ним различными мнениями. Неожиданно он поднял вопрос о книге мемуаров Жукова, высказал ряд замечаний и заявил, что в ней допущены очень большие искажения и отступление от истины. Тут же он сказал, что написал воспоминания и маршал Москаленко, причем написал просто гадкую книгу. Я не стал его выспрашивать и как-то уточнять, в чем же выражается эта гадость. Но вообще-то Москаленко может такое сделать. Я его знаю и с хорошей, и с плохой стороны. С хорошей знаю в том смысле, что он человек, преданный делу, воевал неплохо, проявлял настойчивость и энергию, не щадил себя. Плохие его стороны - нервозность, неуравновешенность, вспыльчивость, грубость, даже больше чем грубость. Оскорбления, которые он наносил своим подчиненным, всем известны. Люди, которые находились у него в подчинении, неоднократно жаловались мне на то, что он груб, оскорбляет их. Вот его обычный лексикон: "Враг народа! Предатель! Подлец! Судить надо! Расстрелять надо!".
Это человек настроения, который очень поддается влиянию. Он на все способен. Особенно если почувствует, что это выгодно для него, что такая гадость как-то оплачивается, то он пойдет на нее. Его беспринципность особенно поразила меня во время истории с отставкой Жукова в 1957 году. Я с доверием относился к Жукову во время войны и многое сделал для поднятия его репутации и авторитета в глазах Сталина. Когда в 1957 г. обсуждался вопрос о пресечении попытки Жукова организовать военный путч с целью захвата власти в руки военной хунты, то Москаленко активно выступал с обвинениями в адрес Жукова. Уже не на общем заседании пленума ЦК КПСС, а в более узком кругу лиц, когда Москаленко со страстью обвинял Жукова за поползновение к захвату власти, а Жуков с его солдатской грубостью, с его солдатской прямотой (а я верю Жукову, что он сказал правду) бросил ему: "Что ты меня обвиняешь? Ты же сам не раз мне говорил: чего смотришь? Бери власть в свои руки, бери!".
Когда я услышал это, то был поражен. Такого я никак не ожидал от Москаленко. Жукову не было смысла лгать. Да и Москаленко никак не смог парировать такое серьезное обвинение, фактически в государственной измене. Когда я рассказал об этом Малиновскому, Малиновский по собственной инициативе внес предложение об освобождении Москаленко от занимаемых постов. Но я сказал: "Родион Яковлевич, вряд ли нужно так поступать. Это же Москаленко! Если будет нормальная обстановка (а я был уверен, что она нормализуется), то Москаленко станет честно выполнять свои обязанности". Малиновский посмотрел на меня с каким-то удивлением. В его взгляде читалось удивление потому, что то, что сказал Жуков и не отрицал Москаленко, - подсудное дело. Заговор! А я сказал тогда членам Президиума ЦК: "Давайте не будем сейчас следовать государственному принципу, хотя следовало бы провести следствие и судить Москаленко. Надо принять во внимание ту роль, которую он сыграл при аресте Берии, когда мы прибегли к его помощи, и он честно выполнил все, что ему поручили.
Поэтому давайте простим ему данный эпизод". Это я рассказал, чтобы показать, кто есть Москаленко. Существуют несколько Москаленко. Один - это генерал, который честно командовал войсками, попадая во всевозможные переплеты на первом этапе войны. Затем он командовал армией, и его активная роль была заслуженно отмечена. Я лично вносил предложение о присвоении ему, уже после смерти Сталина, звания Маршала Советского Союза. Другой Москаленко - настоящий истерик. Я уже рассказывал анекдотический случай, как при нашем отступлении его выгнала колхозница из своего коровника, где он прятался, переодевшись в крестьянскую свитку, и он, сам украинец, выступил после этого против украинцев, кричал, что все они предатели и всех их надо выслать. Вот неуравновешенность этого человека. А есть и третий Москаленко - приспособленец, алогичный и беспринципный человек. Таким он показал себя в деле с Жуковым. Но в чем конкретно выражалась та гадость, о которой говорил Баграмян, я не знаю. Что касается Жукова, то Баграмян при нашей встрече, говоря о книге Жукова, рассказал, что неправильно, искаженно изложено проведение Барвенковской операции в 1942 году. Жуков пишет, что когда эта операция докладывалась Сталину, то при этом присутствовали Тимошенко, Баграмян и сам он, Жуков. Иван Христофорович возмущенно заметил: "Но там ничего не говорится о Вашем присутствии.
И еще меня удивило, как он пишет, что присутствовал там, хотя я отлично помню, что Жукова при этом не было". Почему же он так написал? Вряд ли сам Жуков мог написать, что он присутствовал. Допускаю, что это не Жуков написал. Я ведь знаю его, Жуков не пойдет на ложь. Это, видимо, дело рук редакторов, которые ему "помогали". Книга изобилует такой "помощью", искажающей факты, порой вопреки здравому смыслу. "А вот еще, - продолжал Баграмян, - в книге описывается, как Сталин звонил на фронт и разговаривал с Вами в присутствии Жукова, предупреждая Вас о том, что по данным Ставки на нашем фронте намечается угроза прорыва противника на нашем левом фланге, то есть в направлении Славянок Барвенково. Я же помню, что такого звонка не было, я отлично помню, как развивались события на нашем фронте. Это выдумка!". Да, это чистая выдумка. Однако она ничего не давала Жукову. Следовательно, это опять же выдумка не Жукова, а кого-то иного, кому было выгодно вставить такой эпизод при описании операции. Все очень характерно. Кто же эти редакторы, кто? Ведь не Сталин звонил мне тогда, а, наоборот, я позвонил Сталину после того, как он отменил решение командования фронтом о приостановке наступления и перегруппировке войск для прикрытия нашего левого фланга в направлении Славянска. Сталин тогда вообще не подошел к телефону, а мне предложили, чтобы я передал то, что хочу сказать, через Маленкова. Я изложил Маленкову нашу аргументацию и опять поставил вопрос об утверждении нашего решения как единственно правильного. Сталин передал через Маленкова, что надо выполнять прежнее решение Ставки. Я вновь доказывал, что это делать нельзя. Сталин опять передал мне через Маленкова, что решение об отмене наступления было принято командующим войсками фронта Тимошенко в результате моего давления на него.
Я в ответ доказывал, что товарищ Сталин хорошо знает характер Тимошенко: заставить его, надавить на него невозможно. К тому же у нас никакой размолвки по этому вопросу вообще не было, тут наше единодушное мнение. "Нет!" - заявили мне. Разговор на этом закончился. Весь разговор происходил в присутствии Баграмяна. А наутро, когда мы встретились с Тимошенко, он ничего мне не сказал. Видимо, ему неприятно было возвращаться к данной теме. Мы сели в машину и поехали на фронт. Вот какая была история в тот злополучный для нас день нашего наступления в направлении на Красноград. Чем оно кончилось, известно. Оно кончилось гибелью наших войск. Спрашивается, зачем Жукову сейчас понадобилось возвращаться к этой операции? Лично он в ней не участвовал, а был, как говорится, сбоку припека. Видимо, кто-то был заинтересован в том, чтобы вложить Жукову в уста небылицу насчет того, как якобы в присутствии Жукова Сталин звонил Хрущеву и предупреждал его об угрозе немцев с фланга. Если такой звонок действительно был, то почему Сталин позвонил Хрущеву, а не командующему войсками фронта? Этот вопрос ведь относится к компетенции командующего. Конечно, имели место случаи, когда Сталин по тем или другим вопросам оперативного характера звонил и мне. Но как раз в этом случае не он звонил, а я домогался разговора со Сталиным, и при этом присутствовали свидетели - Молотов, Маленков и другие. Микоян как-то, уже после войны, в разговоре за столом у Сталина и находясь под довольно большим градусом, сказал: "Товарищ Сталин, а ведь Хрущев тогда правильно предупреждал Вас". Сталин так глянул на него, что даже я испугался, и ответил: "Для чего ты поднимаешь этот вопрос, Анастас Иванович?". Ведь это был ежик в горло Сталину.
Он же знает, скольких тысяч жизней стоило его упрямство. Как рассказывал мне Анастас Иванович, когда я разговаривал по телефону с Маленковым, Сталин заметил: "Чего Хрущев, гражданский человек, сует свой нос? Что он понимает в военных вопросах? Мне военные уже доложили обстановку". Спрашивается, кто те военные, кто дал такой совет Сталину, который стоил многих тысяч жертв? Думаю, что это мог быть Василевский, к которому я тогда тщетно взывал о помощи. Василевский сейчас написал воспоминания. Я их не читал и читать не буду. Вряд ли он скажет правду, хотя он на меня производил впечатление очень порядочного человека. Но вряд ли он наберется мужества рассказать, как эта операция была задумана, как она проводилась, какие меры принимало командование фронта. Не хватит у него мужества признать, что он, работая в Генеральном штабе, не разобрался, доложил Сталину о необходимости отменить решение Военного совета фронта и продолжить проведение этой операции.
Но находились там и другие, потому что Василевский не сам лично следил за обстановкой на фронтах. У него имелись "направленны", как называли генералов, которые наблюдали за определенными направлениями на фронте и докладывали ему. Кто конкретно? Сейчас трудно сказать. Это мог быть Штеменко. Тогда Штеменко был офицером соответствующего направления. Мое предположение основывается на том, как Штеменко защищает точку зрения Генерального штаба относительно этой операции и обвиняет во всех грехах фронтовое командование. Вот эти-то штабисты сейчас в мемуарах Жукова подпудривают его воспоминания, навязывают ему чужую точку зрения, подправляют и редактируют тексты. Они, видимо, и были замешаны. А сейчас они хотят войти в историю чистенькими и свалить вину с больной головы на здоровую, в данном случае на меня. Почему-то Тимошенко оказывался здесь в стороне, а Хрущев фигурирует. Тоже не случайно. Конечно, я как член Военного совета пользовался равными с ним правами при решении тех или других вопросов. Но командующий здесь не должен быть лишь каким-то свидетелем, если он командующий войсками. Хочу обратить внимание и на такой факт. Люди, которые сейчас редактируют ход истории и подкрашивают ее под свои вкусы, знали Сталина, знали его крутой характер. Вот Жуков пишет, что Сталин мне позвонил и предупредил о том, что нам угрожает с левого фланга противник, а я его не послушал. Значит, это я несу ответственность за провал операции. Но это противоречит словам Сталина, которые мне передал Маленков насчет того, что я "навязал" Тимошенко решение об отмене директивы Ставки о наступлении. Если даже считать, что моя вина доказана, то, спрашивается, почему же Сталин сделал вывод обратного характера? Ведь Сталин злился не на меня, а на Тимошенко. И это вскоре проявилось. Когда наши войска вынуждены были отступить за Дон, а противник, заняв Ростов, прорвался через Дон на Северный Кавказ и начал развивать наступление в сторону Сталинграда, Сталин позвонил мне (тут и я уже говорю, что мне позвонил Сталин): "Вы должны сейчас же собраться и переехать со своим штабом в Сталинград.
Там организуется Сталинградский фронт, мы утвердили Вас членом Военного совета Сталинградского фронта. Но Вы должны назвать командующего войсками нового фронта". Я отказался предложить командующего, ссылаясь на то, что это функция Ставки. Сталин: "Я назначил бы Еременко, но он в госпитале. Подошел бы Власов, но он в окружении. Поэтому назовите Вы". Отказывался я, отказывался и в конце концов назвал Гордова. Гордов был утвержден командующим войсками Сталинградского фронта. О Тимошенко же Сталиным не было сказано ни слова. В чем дело? Поражение на Дону обернулось опалой для Тимошенко. Значит, Сталин, помня, как я настаивал на отмене решения о наступлении у Барвенково после провала той операции, одумался и понял, что Хрущев был прав. Вот он и перенес свой гнев на командующего войсками фронта за то, что не проявил твердости, хотя у него не было недостатка в твердости. В результате Сталин, видимо, сделал вывод, что надо сменить командующего войсками фронта. Меня же, члена Военного совета того же фронта, на которого сейчас редакторы валят ответственность за провал операции, Сталин взял да и утвердил членом Военного совета Сталинградского фронта. На Сталинградском фронте я был до конца его существования.
Потом был утвержден членом Военного совета Южного фронта, и мы с Еременко, а затем с принявшим у него командование Малиновским освободили Ростов и продвинулись к Таганрогу. Потом меня забрали с Южного фронта и назначили членом Военного совета Воронежского фронта. Когда его преобразовали в Первый Украинский, я опять остался членом Военного совета. Мы провели Курскую операцию, и хорошо провели. Это был перелом в войне. Затем освободили Киев, и я оставался членом Военного совета этого фронта до конца войны, до полного разгрома Гитлера. Если бы Сталин считал меня виновным, он бы мне никогда не простил, а, как говорится, поставил бы мне в строку. В то же время я не говорю, что там была именно моя личная точка зрения. Это была точка зрения и командующего войсками, и начальника штаба фронта, вообще всего фронтового руководства, а в первую голову Баграмяна, который проявил большое упорство, стараясь добиться отмены Сталиным решения Ставки.
Уверен, что найдутся объективные люди, которые разберут ход операции и дойдут до первоисточников. Правда, не существует записей телефонных переговоров, которые я вел со Сталиным через Маленкова. Но имеется наш приказ о перегруппировке войск, который Сталин отменил, хотя тоже устно. И снова о мемуарах. Я сейчас мало читаю мемуары военных лиц. Я не хочу, не могу их читать, не могу равнодушно переносить неправду. Я очень хорошо знаю, как начиналась война и как она проходила, с какими трудностями и с какими жертвами, и при чтении подобной литературы нервы мои не выдерживают. Но кое-что я все-таки знаю. Очень много существует искажений в описании проведенной войны, много вранья, много неправильного. Видимо, есть люди, которые заинтересованы в этом. Вот они и подтасовывают факты так, как им выгодно, с тем чтобы показать собственное Я: какие они были умные, как они все предвидели. Но ведь не пишут о том, как они "все предвидели", а мы оказались не подготовленными к войне, хотя эти люди и тогда сидели в штабах и формировали по своей линии политику обороны страны. В своем преклонном возрасте я постоянно возвращаюсь к прожитому, у меня теперь другого нет. У меня осталось только прошлое. Будущее для меня определяется только могилой, которой я не боюсь, и не только не боюсь, но и желаю ее. Скучно, скучно жить в моем положении.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Акц. о-во - Акционерное общество.
АН - Академия наук.
АН СССР - Академия наук Союза Советских Социалистических Республик.
АН УССР-Академия наук Украинской советской социалистической республики.
АССР - Автономная Советская Социалистическая Республика.
Башобком - Башкирский областной комитет.
БОВО - Белорусский Особый военный округ.
Бюро ЦК КПСС по РСФСР - Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза по Российской советской федеративной социалистической республике.
БСЭ - Большая советская энциклопедия.
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
БСЭ - Большая советская энциклопедия
ВВС КОВО - Военно-Воздушные силы Киевского Особого военного округа.
ВО - Военный округ.
ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи.
ВРК- Военный революционный комитет.
ВСНХ СССР - Всесоюзный Совет Народного Хозяйства Союза Советских Социалистических Республик.
ВЦ - военная цензура.
ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет.
ВЦСПС- Всесоюзный Центральный Совет Профессиональный Союзов.
ГА - гвардейская армия.
ГКО - Государственный комитет обороны.
Генштаб - Генеральный штаб.
ГКО - Государственный комитет обороны.
ЗОВО - Западный Особый военный округ.
Исп. Комит. С.Р.Д.Р.К.Б.З. - Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов Рутченковских копей Брянского завода.
Исполком - Исполнительный комитет.
КГБ - Комитет государственной безопасности
КОво - Киевский Особый военный округ.
кд - кавалерийская дивизия.
кк - Кавалерийский корпус.
Коминтерн - Коммунистический Интернационал.
КП - Коммунистическая партия.
КПК - Комитет партийного контроля.
КП(б)У- Коммунистическая партия (большевиков) Украины.
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза.
КПЧ - Коммунистическая партия Чехословакии.
ЛКСМУ-Ленинский коммунистический союз молодежи Украины.
МВД СССР - Министерство внутренних дел СССР.
МГБ - Министерство государственной безопасности.
МВО - Московский военный округ.
МГК- Московский городской комитет.
МК - Московский комитет (областной).
МОПР- Международная организация помощи борцам революции.
НКВД- Народный комиссариат внутренних дел.
Нарком - Народный комиссар.
Наркомат- Народный комиссариат.
Наркоминдел - Народный комиссар иностранных дел.
Наркомлегпром УССР- Народный комиссариат легкой промышленности УССР.
Наркомпрос - Народный комиссариат просвещения.
Наркомтяжпром - Народный комиссариат тяжелой промышленности.
Обком - Областной комитет.
ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление.
ОК, Окружком - Окружной комитет.
ОКР - отдел контрразведки.
ОПК- Окружной партийный комитет.
Оргбюро - Организационное бюро ЦК ВКП(б).
ОС - особый сектор.
ОС ЦК ВКП(б) - Особый отдел Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).
ОУН - Организация украинских националистов.
ПД - пехотная дивизия.
ПЗП - Польский союз повстанцев.
ПБ, Политбюро - Политическое бюро.
ПОРП - Польская объединенная рабочая партия.
ППР- Польская партия рабочих.
ПСП - Польская социалистическая партия.
Промакадемия - Промышленная академия.
РК, Райком - Районный комитет.
РВС, Реввоенсовет- Революционный военный совет.
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия.
РПК - Районная партийная комиссия.
РЦХИДНИ - Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории.
СНК- Совет Народных Комиссаров.
СНК СССР - Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик.
СНК УССР - Совет Народных Комиссаров Украинской Советской Социалистической Республики.
Совмин СССР - Совет Министров СССР.
Совинформбюро - Советское информационное бюро.
сд- стрелковая дивзия.
та - танковая армия.
тбр - танковая бригада.
тд - танковая дивизия.
тк - танковый корпус.
УГБ НКВД УССР - Управление государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики.
УВД - Управление внутренних дел.
Уисполком -Уездный исполнительный комитет.
Укрпромсовет-Украинский промышленный совет.
Укрлегснаб - Управление по снабжению легкой промышленности Украины.
УПА - Украинская повстанческая армия.
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика.
ЦАМО - Центральный архив министерства обороны.
ЦК-Центральный Комитет.
ЦА ФСБ РФ - Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
ЦГАОО Украины - Центральный государственный архив общественных объединений Украины.
Центросоюз - Центральный союз потребительской кооперации.
ЦИК- Центральный Исполнительный Комитет.
ЦК ВКП(б) - Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
ЦК КП(б)У - Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) Украины.
Юзукомпарт - Юзовский уездный комитет партии.
ЮЗФ - Юго-Западный фронт.
Примечания
1
В описываемое время генерал-лейтенант Е.А.ЩАДЕНКО возглавлял Управление по командному и начальствующему составу РККА.
(обратно)2
Генерал-лейтенант Ф.И. ГОЛИКОВ ведал кадрами РККА в промежутке между осенью 1939 г., когда он командовал 6-й армией, и июлем 1940 г., когда он, будучи заместителем начальника Генерального штаба, возглавил Главное разведывательное управление.
(обратно)3
Двух дивизий: с октября 1919 г. - 6-й кавалерийской и с августа 1920 г. - 4-й кавалерийской.
(обратно)4
Генерал армии Г.К.ЖУКОВ командовал войсками КОВО с июня 1940 года. Начальником Генштаба он стал в январе 1941 г., сменив на этом посту генерала армии К.А.МЕРЕЦКОВА, который в августе 1940 г. сменил на том же посту Маршала Советского Союза Б.М.ШАПОШНИКОВА.
(обратно)5
Генерал-лейтенант В.Д. СОКОЛОВСКИЙ стал заместителем начальника Генштаба в феврале 1941 года. Генерал-майор A.M. ВАСИЛЕВСКИЙ работал зам. начальника Оперативного управления Генштаба с мая 1940 г.
(обратно)6
Барвенково-Лозовская наступательная операция в январе 1942 г.
(обратно)7
Речь идет об авторе картины "И.В.Сталин и К.Е.Ворошилов в Кремле" А.М.ГЕРАСИМОВА, за которую он получил в 1941 г. Сталинскую премию.
(обратно)8
Генерал-лейтенант ПУРКАЕВ М.А.
(обратно)9
И.Х.БАГРАМЯН, полковник.
(обратно)10
Река Западный Буг.
(обратно)11
Генерал-майор ВЛАСОВ А.А.
(обратно)12
Генерал-майор ДЕМЕНТЬЕВ Н.И.
(обратно)13
Генерал-лейтенант РЯБЫШЕВ Д.И., командовал 8-м механизированным корпусом.
(обратно)14
22-й механизированный корпус (командовал генерал-майор С.М.КОНДРУСЕВ, затем генерал-майор B.C. ТАМРУЧИ). Но там же действовал еще 15-й мехкорпус (командовал генерал-майор И.И.КАРПЕЗО, затем полковник Г.И. ЕРМОЛАЕВ).
(обратно)15
19-я армия генерал-лейтенанта И.С. КОНЕВА.
(обратно)16
Вероятно, в 4-й и 8-й мехкорпуса. Но еще оставались 9-й мехкорпус (командовал генерал-майор К.К.РОКОССОВСКИЙ) и 19-й мехкорпус (командовал генерал-майор Н.В. ФЕКЛЕНКО).
(обратно)17
Корпусной комиссар ВАШУГИН Н.Н.
(обратно)18
Генерал-майор ПОНЕДЕЛИН П.Г. (12-я армия) и генерал-лейтенант МУЗЫЧЕНКО И.Н. (6-я армия).
(обратно)19
Три с половиной дня.
(обратно)20
Бригадный комиссар ПОПЕЛЬ Н.К.
(обратно)21
Генерал-лейтенант ПАРУСИНОВ Ф.А.
(обратно)22
Генерал-лейтенант авиации АСТАХОВ Ф.А.
(обратно)23
К 7 июля 1941 г. (т.е. на 16-й день войны).
(обратно)24
Окончательно сформирована к 8 августа 1941 года.
(обратно)25
64-й стрелковый корпус (командовал генерал-майор А.Д. КУЛЕШОВ).
(обратно)26
У леса южнее дер. Голосеево, при шоссе на Васильков.
(обратно)27
Генерал-майор МАРТЬЯНОВ А.А.
(обратно)28
И.В.СТАЛИН был назначен Верховным Главнокомандующим 8 августа 1941 года.
(обратно)29
До 10 сентября 1941 г. КОВО функционировал, находясь в оперативном подчинении у Юго-Западного фронта, и обеспечивая его ресурсами.
(обратно)30
Генерал-майор (затем генерал-лейтенант) ШУМИЛОВ М.С. командовал 64-й армией с августа 1942 г. вплоть до ее преобразования в 7-ю гвардейскую в апреле 1943 г., а затем командовал последней по май 1945 г. (с 1943 г. - генерал-полковник).
(обратно)31
МУЗЫЧЕНКО И.Н., вернувшись из плена, служил в Советской Армии по 1947 г.; ПОТАПОВ М.И. - по 1965 г. (в 1961 г. стал генерал-полковником).
(обратно)32
СЕРГИЕНКО В.Т. - нарком внутренних дел УССР с июня 1941 по 1943 год.
(обратно)33
БУДЕННЫЙ С.М. возглавлял войска этого направления в июле сентябре 1941 года.
(обратно)34
Войсками Южного фронта генерал армии ТЮЛЕНЕВ И.В. командовал до августа 1941 года.
(обратно)35
Генерал-лейтенант РЯБЫШЕВ Д.И. - с августа до октября 1941 г., затем до декабря 1941 г. - генерал-полковник ЧЕРЕВИЧЕНКО Я.Т., далее до августа 1952 г. - генерал-лейтенант МАЛИНОВСКИЙ Р.Я. (вторично генерал-полковник Малиновский командовал войсками Южного фронта в феврале - марте 1953 г.).
(обратно)36
БУРМИСТЕНКО М.А. занимал этот пост в августе - сентябре 1941 года.
(обратно)37
Корпусной комиссар ЛЕОНОВ Д.С., член РКП(б) с 1918 г., окончивший Военно-политическую академию им. В.И.Ленина.
(обратно)38
Днепропетровск был оставлен 25 августа 1941 года.
(обратно)39
Генерал-майор ПОКРОВСКИЙ А.П.
(обратно)40
Это была Резервная армия (командовал генерал-лейтенант ЧИБИСОВ Н.Е.).
(обратно)41
Член РКП(б) с 1920 г. ДВИНСКИЙ Б.А. был секретарем Ростовского обкома ВКП(б) в 1938 - 1944 годах.
(обратно)42
48-м корпусом.
(обратно)43
25 августа 1941 года.
(обратно)44
Это происходило с 1 по 8 сентября 1941 года.
(обратно)45
Линия фронта тянулась тогда от Глухова к Ворожбе.
(обратно)46
ШУЙСКИЙ Г.Т.
(обратно)47
Командующий 26-й армией генерал-лейтенант КОСТЕНКО Ф.Я.
(обратно)48
То есть генерал-майор ДОБЫЧИН Д.М.
(обратно)49
Командир 15-го корпуса генерал-майор МОСКАЛЕНКО К.С. ранее командовал 1-й моторизованной противотанковой артиллерийской бригадой.
(обратно)50
Сейчас входит в состав Харькова.
(обратно)51
Село Гришине. Ранее входило в Новочеркасскую губернию.
(обратно)52
Одноэтажный дом в центре города.
(обратно)53
Дивизионный комиссар РЫКОВ Е.П.
(обратно)54
Это был Брянский фронт. Генерал-лейтенант ЕРЕМЕНКО А.И. командовал его войсками в августе - октябре 1941 года.
(обратно)55
Речь идет о неделе с 13 по 20 сентября 1941 года.
(обратно)56
Военным атташе в Германии генерал-майор ТУПИКОВ В.И. служил с 1940 г., а на Юго-Западный фронт попал в июле 1941 года.
(обратно)57
Действительно, ТУПИКОВ родился в 1901 г., а ПУРКАЕВ - в 1894 году.
(обратно)58
Под Москвой ВЛАСОВ А.А. командовал с ноября 1941 г. по март 1942 г. 20-й армией.
(обратно)59
37-я армия оставила Киев 19 сентября, а в конце сентября была расформирована.
(обратно)60
5-я армия была расформирована 20 сентября.
(обратно)61
Река в Харькове.
(обратно)62
БЕЛОВ П.А. генерал-майор, командовал 2-м кавкорпусом.
(обратно)63
38-й армией генерал-майор ЦЫГАНОВ В.В. командовал в сентябре декабре 1941 года.
(обратно)64
Начальником штаба Юго-Западного направления и Юго-Западного фронта генерал-майор БОДИН П.И. был в октябре-декабре 1941 года.
(обратно)65
Командующий 1-й танковой армией КЛЕЙСТ Э.
(обратно)66
Это произошло 29 ноября 1941 года.
(обратно)67
Генерал-лейтенант.
(обратно)68
Большая Мартыновка на реке Сал.
(обратно)69
Елецкая операция - наступательная операция войск правого крыла Юго-Западного фронта 6-16 декабря 1941 года.
(обратно)70
Заново 10-ю армию сформировали в ноябре 1941 г., в составе Юго-Западного фронта она была включена в феврале 1942 г., командовал ею генерал-майор ПОПОВ B.C. Что касается его "молодости", то он был однолеткой Хрущева, родившегося в 1894 году.
(обратно)71
Генерал-лейтенант ГОЛИКОВ Ф.И. командовал ею с ноября 1941 г. до февраля 1942 года.
(обратно)72
1-й гвардейский кавалерийский корпус (командовал генерал-майор БЕЛОВ П.А.).
(обратно)73
Барвенково-Лозовская наступательная операция 18-31 января 1942 года.
(обратно)74
6-й кавалерийский корпус (командовал генерал-майор БЫЧКОВСКИЙ А.Ф.).
(обратно)75
Генерал-майор ГРЕЧКО А.А. командовал в январе-апреле 1942 г. 5-м кавалерийским корпусом.
(обратно)76
1-й кавалерийский корпус (командовал генерал-майор ПАРХОМЕНКО Ф.А.).
(обратно)77
Там действовали несколько (количество менялось) танковых бригад.
(обратно)78
Перед впадением в Северский Донец там сливаются реки Сухой Торец и Казенный Торец.
(обратно)79
Командовавший 9-й армией генерал-майор ХАРИТОНОВ Ф.М. умер 28 мая 1943 года.
(обратно)80
Генерал-лейтенант ГОРОДНЯНСКИЙ A.M., генерал-лейтенант ПОД-ЛАС К.П.
(обратно)81
Генерал-майор БОБКИН Л.В.
(обратно)82
Член РКП(б) с 1921 г. генерал-лейтенант ГУРОВ К.А. являлся членом Военного совета Юго-Западного фронта с января 1942 г., а умер 25 сентября 1943 года. А в 62-й армии (командующий ЧУЙКОВ В.И.) он был членом Военного совета с июля 1942 года.
(обратно)83
Дивизионный комиссар БОКОВ Ф.Е., являвшийся военным комиссаром Генерального штаба с августа 1941 года.
(обратно)84
ШТЕМЕНКО С.М, был тогда заместителем начальника направления в Оперативном управлении Генштаба.
(обратно)85
Генерал-лейтенант ШТЕВНЕВ А.Д.
(обратно)86
Хрущев поправляет тут Сталина, который случайно, либо намеренно, связал воедино разные события. В окружение попала в августе-сентябре 1914г. 2-я армия (командовал генерал от кавалерии САМСОНОВ А.В.). 1-я армия (командовал генерал от кавалерии фон Ренненкампф П.К.) не помогла ей. Затем Ренненкампф во время Лодзинской операции (октябрь-ноябрь 1914 г.) не закрыл отход попавшей в мешок немецкой ударной группе войск (ею командовал генерал Шеффер Р.), после чего был отстранен от командования и уволен в отставку. Арестован же и судим он был советскими органами власти и расстрелян (а не повешен) в 1919 г. в Таганроге. Хрущев как раз в те годы участвовал в освобождении Таганрога от белых, поэтому мог помнить описание всех перипетий событий 1914 г. по сообщавшим тогда о деле Ренненкампфа местным газетам. Что касается жандармского офицера МЯСОЕДОВА С.Н., изобличенного как пособника германских шпионов в 1915 г., то он был близок к жене российского военного министра СУХОМЛИНОВА В.А., завербованной германо-австрийской разведкой. Именно Мясоедов и другие "стрелочники" по делу о министре были осуждены. СУХОМЛИНОВ же, арестованный лишь в 1916 г., был судим в сентябре 1917 г., а в 1918 г. немецкая агентура помогла ему бежать в Германию.
(обратно)87
КИРИЧЕНКО А.И.
(обратно)88
Генерал-майор ГОРДОВ В.Н.
(обратно)89
Генерал-майор артиллерии МОСКАЛЕНКО К.С. командовал этой армией в марте-июле 1942 г.
(обратно)90
Заместитель командующего войсками Сталинградского военного округа генерал-майор ТОЛБУХИН Ф.И., которому было поручено отвечать за укрепленный район.
(обратно)91
64-й армией в июле-августе 1942 г. командовал генерал-лейтенант ЧУЙКОВ В.И.; 62-й армией в те же месяцы - генерал-майор КОЛПАКЧИ В.Я.
(обратно)92
38-я мехбригада.
(обратно)93
ЕРЕМЕНКО А.И., упомянутый Сталиным, находился тогда в резерве Ставки ВГК. ВЛАСОВ А.А., в ту пору командовал на Волховском фронте 2-й ударной армией, которую не сумел вывести из окружения при осуществлении Любанской операции, задуманной для прорыва к блокированному Ленинграду, после чего он совершил летом 1942 г. измену.
(обратно)94
МАМОНОВ Ф.А. 1-м секретарем Астраханского обкома КПСС он был в 1950-1954 годах.
(обратно)95
Генерал-лейтенант ЗАХАРОВ Г.Ф. Хрущев называет его по имени, чтобы не спутали с ЗАХАРОВЫМ М.В., в то время начальником штаба Калининского фронта.
(обратно)96
Генерал-лейтенант ГОРДОВ В.Н. командовал войсками Сталинградского фронта в июле-августе 1942 года.
(обратно)97
БОДИН П.И. погиб в бою у г. Орджоникидзе (Владикавказ) 2 ноября 1942 года.
(обратно)98
КУЛИК Г.И. числился в те недели "в распоряжении наркома обороны СССР", то есть Сталина.
(обратно)99
Это, второе оставление Ростова нашими войсками произошло 24 июля 1942 года.
(обратно)100
Генерал-майор ЛОПАТИН А.И. командовал 62-й армией в августе-октябре 1942 года.
(обратно)101
То есть ЛОПАТИН А.И.
(обратно)102
Генерал-полковник ЕРЕМЕНКО А.И. командовал войсками Сталинградского фронта в августе-декабре 1942 года.
(обратно)103
То есть Калач-на-Дону (в отличие от Калача в Воронежской области).
(обратно)104
1-й танковой армией генерал-майор артиллерии МОСКАЛЕНКО К.С. командовал в июле-августе 1942 года. Эту армию сформировали на базе 38-й армии, но спустя три недели вновь расформировали, чтобы на базе ее полевого управления создать управление Юго-Восточного фронта. Вторично 1-я ТА возникла в январе 1943 г. как 1-я Гвардейская танковая армия, однако уже в ином составе. МОСКАЛЕНКО же возглавил в августе 1942 г. 1-ю Гвардейскую армию.
(обратно)105
Генерал-полковник ВАСИЛЕВСКИЙ A.M. Он стоял во главе Генштаба с июня 1942 года.
(обратно)106
Эта смена командования произошла в августе 1942 года.
(обратно)107
Он с октября 1942 г. командовал 33-й армией на Западном фронте.
(обратно)108
13-й механизированный корпус (командовал генерал-майор ТАНАСЧИШИН Т.И.)
(обратно)109
После Великой Отечественной войны генерал-полковник ГОРДОВ В.Н. командовал войсками Приволжского военного округа, потом был перемещен на другую должность, с понижением. Генерал-майор КУЛИК Г.И. служил в ПриВО его заместителем, в июне 1946 г. уволен в отставку. В 1950 г. они оба были репрессированы. В 1957 г. КУЛИК посмертно был восстановлен в звании Маршала Советского Союза.
(обратно)110
Речь идет об авиационном налете 23 августа 1942 года.
(обратно)111
Первый секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП(б) ЧУЯНОВ А.С.
(обратно)112
Генерал-лейтенант ГЕРАСИМЕНКО В.Ф. до сентября 1942 г. командовал войсками Сталинградского военного округа.
(обратно)113
В Севастополе генерал-майор КРЫЛОВ Н.И. был начальником штаба Приморской армии, а под Сталинградом в сентябре 1942 г. был назначен начальником штаба 62-й армии.
(обратно)114
Нарком танковой промышленности МАЛЫШЕВ В.А.
(обратно)115
Представителем, поскольку ранее являлся председателем Совнаркома УССР.
(обратно)116
Генерал-лейтенант (вскоре генерал-полковник) авиации НОВИКОВ А.А. стал в апреле 1942 г. заместителем наркома обороны СССР и командующим ВВС. Генерал-полковник артиллерии ВОРОНОВ Н.Н. был с июля 1941 г. заместителем наркома обороны СССР и начальником артиллерии Красной Армии.
(обратно)117
Эту должность он занимал в августе-октябре 1942 года.
(обратно)118
13-я Гвардейская стрелковая дивизия (командовал генерал-майор РОДИМЦЕВ А.И.).
(обратно)119
Поселок на реке Червленная, юго-западнее Сталинграда.
(обратно)120
Генерал-лейтенант ШУМИЛОВ М.С. командовал тогда 64-й армией.
(обратно)121
Генерал-майор СЕРДЮК З.Т.
(обратно)122
То есть 1-я гвардейская и 66-я армии.
(обратно)123
Генерал-майор авиации ГОЛОВАНОВ А.Е.
(обратно)124
В начале XVII в. автор "Трактата об артиллерии" Диего Уффано, понимавший "артиллерию" как "arte de tirar" (то есть "искусство стрелять"), ввел в обиход выражение "артиллерия - богиня стрельбы". В XVIII в. выдающийся мастер артиллерийского вооружения Ж.-Б. Вакетт де Грибоваль переиначил данное выражение на "артиллерия - богиня полей сражения". В ходе Наполеоновских войн оно стало ходячим. Выражение "артиллерия - бог войны" есть его модификация. В советской печати впервые появилось как будто бы со времен Финляндской кампании 1939-1940 года.
(обратно)125
Генерал-лейтенант (вскоре генерал-полковник) РОКОССОВСКИЙ К.К. командовал войсками этого фронта с сентября 1942-го по февраль 1943 года.
(обратно)126
Генерал-майор (затем генерал-лейтенант) авиации СКРИПКО Н.С. был заместителем командующего АДД с марта 1942 года.
(обратно)127
Контр-адмирал РОГАЧЕВ Д.Д. командовал Волжской военной флотилией с февраля 1942 по май 1943 года.
(обратно)128
Генерал-лейтенант ЗАХАРОВ Г.Ф. был начальником штаба фронта в августе-октябре 1942 года.
(обратно)129
Он еще до Великой Отечественной войны окончил "Выстрел" (Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА им. Коминтерна), Военную академию им. М.В.ФРУНЗЕ и Военную академию Генштаба.
(обратно)130
8-я воздушная армия (командовал ею генерал-майор, затем генерал-лейтенант и генерал-полковник авиации ХРЮКИН Т.Т. с июля 1942 по июль 1944г.).
(обратно)131
Герой Советского Союза, генерал-майор авиации НАНЕЙШВИЛИ В.В.
(обратно)132
Генерал-лейтенант ПОПОВ М.М. ранее командовал войсками Ленинградского ВО, Северного фронта. Ленинградского фронта, 61-й и 40-й армиями. В должность заместителя командующего войсками Сталинградского фронта вступил в октябре 1942 года.
(обратно)133
Генерал-лейтенант ШАПКИН Т.Т. командовал 4-м кавалерийским корпусом.
(обратно)134
То есть командующий войсками Воронежского, затем Юго-Западного фронтов генерал-лейтенант (потом генерал-полковник и генерал армии) ВАТУТИН Н.Ф.
(обратно)135
4-й механизированный корпус (командовал генерал-майор, затем генерал-лейтенант танковых войск ВОЛЬСКИЙ В.Т.).
(обратно)136
Генерал-майор Толбухин Ф.И. в те дни командовал именно 57-й армией.
(обратно)137
Генерал-майор ТРУФАНОВ Н.И командовал ею в июле 1942 г., затем вновь с октября 1942 по февраль 1943 года. А на Дальнем Востоке он служил в 1950-1957 годах.
(обратно)138
Там генерал-лейтенант ГЕРАСИМЕНКО В.Ф. командовал 28-й армией с сентября 1942 до ноября 1943 г.
(обратно)139
Генерал-майор ТРУФАНОВ Н.И. командовал тогда 51-й армией (до февраля 1943 года).
(обратно)140
Там находилась 4-я румынская армия.
(обратно)141
Командир 4-го механизированного корпуса генерал-майор ВОЛЬСКИЙ В.Т.
(обратно)142
Генерал-лейтенант ПОПОВ М.М. с октября 1942 г. был заместителем командующего войсками Сталинградского фронта.
(обратно)143
Командир 4-го танкового корпуса генерал-майор КРАВЧЕНКО А.Г.
(обратно)144
Генерал-фельдмаршал МАНШТЕЙН фон ЛЕВИНСКИ Э., командовавший группой армий "Дон" (оперативная группа "Холлидт", 3-я румынская армия, армейская группа "Гот", 6-я армия, имевшие в своем составе 44 дивизии), пытался деблокировать Сталинградское кольцо окружения с ноября 1942 по февраль 1943 года. Действовавшая на правом фланге его войск армейская группа "Гот" включала 4-ю танковую армию и 4-ю румынскую армию, противостоявшие войскам Сталинградского фронта.
(обратно)145
Генерал-лейтенант ШУМИЛОВ М.С. командовал 64-й армией с августа 1942 г. вплоть до апреля 1943 г. (когда она стала 7-й Гвардейской армией) и далее, до конца войны.
(обратно)146
Генерал-лейтенант МАЛИНОВСКИЙ Р.Я. командовал 2-й Гвардейской армией в ноябре 1942-го - феврале 1943 года.
(обратно)147
Генерал-майор КРЕЙЗЕР Я.Г. был моложе Хрущева на 11 лет. Он командовал 2-й Гвардейской армией до Малиновского (в октябре-ноябре 1942 г.) и после него (в феврале-июле 1943 г.).
(обратно)148
Генерал-майор БИРЮЗОВ С.С. стал начальником штаба 2-й Гвардейской армии в декабре 1942 года.
(обратно)149
Генерал-майор танковых войск РОТМИСТРОВ П.А. командовал тогда (с апреля 1942 г.) 7-м танковым корпусом.
(обратно)150
Генеральный инспектор кавалерии РККА генерал-полковник ГОРОДОВИКОВ О.И., с 1943 г. - заместитель командующего кавалерией Красной Армии.
(обратно)151
5-я ударная армия.
(обратно)152
Дивизионный комиссар ЛАРИН И.И.
(обратно)153
Член партии с 1918 г., кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), генерал-лейтенант, заместитель наркома обороны СССР, начальник Главного политического управления Красной Армии с июня 1942 г. ЩЕРБАКОВ А.С.
(обратно)154
Член Коммунистической партии Германии с 1918 г., член Политбюро ЦК КПГ с 1935 г., кандидат в члены Исполкома Коминтерна УЛЬБРИХТ В, являлся в ту пору одним из руководителей национального комитета "Свободная Германия".
(обратно)155
Эти фронты в период отступления Красной Армии неоднократно включали в свой состав разные соединения, меняя названия. В описываемое время войска Воронежского фронта наступали по р. Оскол от Касторной до Купянска, войска Юго-Западного фронта - по р. Северский Донец от Сватово до Каменска-Шахтинского, войска Южного фронта - на Нижнем Дону (участок от железной дороги из Донбасса в Сталинград до г. Азов).
(обратно)156
МАЛИНОВСКИЙ Р.Я. вновь вступил в командование войсками Южного фронта в феврале 1943 года.
(обратно)157
Генерал-лейтенант БОДИН П.И. до февраля 1943 г. являлся начальником штаба Закавказского фронта.
(обратно)158
Генерал-майор СТРОКАМ Т.А., член партии с 1927 г., был начальником Украинского штаба партизанского движения в 1942-1945 гг.
(обратно)159
Генерал-лейтенант КОРНИЕЦ Л.Р., член партии с 1926 г., являвшийся в 1939-1944 гг. председателем Совнаркома УССР, был переведен в 1943 г. вторым членом Военного совета с Северо-Кавказского фронта на Воронежский, где оказался вместе с Хрущевым первым членом Военного совета.
(обратно)160
РОТМИСТРОВ, будучи Главным маршалом бронетанковых войск, возглавлял эту академию в 1958-1964 гг., после чего занял должность помощника министра обороны СССР.
(обратно)161
Вероятно, Нижне-Чирская, так как у Верхне-Чирской стоял небольшой мост местного значения.
(обратно)162
Это была 5-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта ЦВЕТАЕВА В.Д.
(обратно)163
БОГДАНОВ С.И., генерал-лейтенант танковых войск, тогда был командиром механизированного корпуса.
(обратно)164
Генерал-лейтенант ГЕРАСИМЕНКО В.Ф. командовал 28-й армией с сентября 1942-го по ноябрь 1943 года.
(обратно)165
БУДЕННЫЙ С.М. - уроженец хутора Козюрин, ГОРОДОВИКОВ О.И. хутора Мокрая Ельмута.
(обратно)166
КОРНИЛОВ Л.Г. - уроженец станицы Каркаралинской в Казахстане.
(обратно)167
Новочеркасск был освобожден 12 февраля 1943 г. 2-й Гвардейской армией (командующий КРЕЙЗЕР Я.Г.).
(обратно)168
Город Шахты освободили 13 февраля 1943 года.
(обратно)169
Генерал-лейтенант КИРИЧЕНКО Н.Я. командовал подвижной конно-механизированной группой в составе 4-го Гвардейского Кубанского, 5-го Гвардейского Донского кавалерийских корпусов и танкового соединения. Эта группа ранее входила в войска Северо-Кавказского фронта.
(обратно)170
Это произошло 7 февраля 1943 года.
(обратно)171
Генерал-лейтенант ХОМЕНКО В.А. командовал 44-й армией с ноября 1942 года. Погиб под Никополем 9 ноября 1943 года. До войны он командовал пограничниками Молдавии и прилегающего участка Украины.
(обратно)172
Это произошло 14 февраля 1943 года.
(обратно)173
С севера наступали в обход Ростова 2-я Гвардейская и 51-я армии.
(обратно)174
Генерал-майор ЦЫГАНОВ В.В. командовал 56-й армией с декабря 1941 по июль 1942 года.
(обратно)175
КИРИЧЕНКО А.И. Первым членом Военного совета был генерал-лейтенант Гуров К.А.
(обратно)176
Эта встреча состоялась в мае 1960 года.
(обратно)177
Это произошло 16 февраля 1943 года.
(обратно)178
Генерал-лейтенант ГОЛИКОВ Ф.И. командовал войсками Воронежского фронта до марта 1943 г., после чего был назначен заместителем наркома обороны СССР по кадрам.
(обратно)179
Генерал-лейтенант ВАТУТИН Н.Ф. был начальником штаба Киевского Особого военного округа в 1939 г., а перед Великой Отечественной войной возглавил Оперативное управление Генерального штаба.
(обратно)180
В дальнейшем генерал-майор авиации ЦЫБИН Н.И.
(обратно)181
Генерал-лейтенант КОЗЛОВ Д.Т. командовал войсками Крымского фронта с января 1942 г., а после оставления Керчи был командующим 24-й армией с августа 1942 г. на Воронежском фронте с октября того же года заместителем командующего войсками.
(обратно)182
БАЖАН Н.П., являвшийся с 1943 г. заместителем председателя Совета Министров УССР, в те месяцы редактировал газету "За Советскую Украину".
(обратно)183
ГМЫРЯ Б.Р., бас, с 1936 г. был солистом Харьковского, а с 1939 г. - Киевского театров оперы и балета.
(обратно)184
Вторично Харьков был сдан гитлеровским войскам 16 марта 1943 года.
(обратно)185
Белгород был оставлен 18 марта 1943 года.
(обратно)186
Пушечное вооружение, достаточное для противотанковых атак с воздуха, в то время имели немецкие самолеты "Мессершмитт-109Е", "Фокке-Вульф-190А", "Хеншель-129".
(обратно)187
Ею командовал тогда генерал-лейтенант ЧИБИСОВ Н.Е.
(обратно)188
6-я Гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта ЧИСТЯКОВА И.М. занимала позиции с 16 апреля 1943 г. у Томаровки и Бутово.
(обратно)189
Генерал-лейтенант Шумилов М.С. Его армия стала Гвардейской в апреле 1943 года.
(обратно)190
Генерал-майор КРЮЧЕНКИН В.Д. Во время гражданской войны он воевал в составе 1-й Конной армии.
(обратно)191
Генерал-лейтенант МОСКАЛЕНКО К.С.
(обратно)192
Когда 47-я армия находилась в резерве, ею командовал генерал-майор РЫЖОВ А.И. В июле 1943 г. ее возглавил генерал-майор КОЗЛОВ П.М.
(обратно)193
Генерал-лейтенант ТРОФИМЕНКО С.Г.
(обратно)194
Генерал-майор ПЕНЬКОВСКИЙ В.А.
(обратно)195
Село Бобрышево.
(обратно)196
Генерал-лейтенант ИВАНОВ С.П.
(обратно)197
Полковник ПЕНЬКОВСКИЙ О.В.
(обратно)198
Станция Александровский.
(обратно)199
Генерал-майор РЯБЫШЕВ Д.М., командир 8-го механизированного корпуса, и бригадный комиссар ПОПЕЛЬ Н.К.
(обратно)200
Генерал-лейтенант КАТУКОВ М.Е. командовал 1-й танковой армией с января 1943 года.
(обратно)201
Генерал-майор КРАЙНЮКОВ К.В. служил тогда в 40-й армии.
(обратно)202
Генерал-лейтенант артиллерии ВАРЕНЦОВ С.С., генерал-лейтенант авиации КРАСОВСКИЙ С.А., генерал-майор ТАМРУЧИ B.C., генерал-лейтенант танковых войск ШТЕВНЕВ А.Д.
(обратно)203
Генерал-майор ШАТИЛОВ С.С. (по декабрь 1942 г. - бригадный комиссар).
(обратно)204
Генерал армии АПАНАСЕНКО И.Р. командовал с января 1941 г. войсками Дальневосточного фронта, который был образован в 1938 г. С 1943 г. заместитель командующего Воронежским фронтом.
(обратно)205
17-й танковый корпус (командовал генерал-лейтенант ПОЛУБОЯРОВ П.П.), в январе 1943 г., ставший 4-м Гвардейским танковым корпусом; 66-я армия (командовал генерал-лейтенант ЖАДОВ А.С.), в апреле 1943 г. ставшая 5-й Гвардейской армией; генерал-лейтенант РОТМИСТРОВ П.А. (он командовал этой армией с февраля 1943 г.).
(обратно)206
12 июля 1943 г. начали наступление Западный и Брянский фронты, 15 июля - Центральный фронт.
(обратно)207
Генерал-фельдмаршал фон В. БРАУХИЧ (1881 - 1948) являлся главнокомандующим сухопутными вооруженными силами Германии с 1938 года. Уволен в отставку в декабре 1941 года.
(обратно)208
Генерал-лейтенант РОТМИСТРОВ П.А. командовал тогда 5-й Гвардейской танковой армией.
(обратно)209
Дважды Герой Советского Союза генерал армии (в описываемое время генерал-лейтенант) БАТОВ П.И. командовал тогда 65-й армией, которая участвовала в Сталинградской битве в составе Донского фронта.
(обратно)210
Вторичное освобождение Белгорода состоялось 5 августа, а Харькова - 23 августа 1943 года.
(обратно)211
Речь идет о баритоне, солисте Киевского театра оперы и балета (с 1957 г. народном артисте СССР) ЛАПТЕВЕ К.А.
(обратно)212
В 1943 г. первым секретарем Харьковского обкома партии недолго являлся ЕПИШЕВ А.А., но он не утверждался в ЦК ВКП(б), и после него оставались в должности только второй секретарь ПРОФИТИЛОВ И.И. и третий секретарь МАКСИМОВ М.Д. А ЧУРАЕВ В.М. стал первым секретарем в 1944 году.
(обратно)213
СВИНАРЕНКО П.Г. погиб в мае 1942 года. Когда в августе 1943 года Харьков освободили, на этот пост сначала никто не был назначен, а обязанности председателя облисполкома исполнял военный комендант, заместитель командующего 69-й армией генерал-майор ТРУФАНОВ Н.И.
(обратно)214
4-й Гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск ПОЛУБОЯРОВАП.П.
(обратно)215
Начальник штаба Воронежского фронта генерал-лейтенант ИВАНОВ С.П.
(обратно)216
В отечественной истории это выражение впервые было употреблено как будто бы в 1773 году, когда во время русско-турецкой войны отряд генерала СУВОРОВА А.В. совершил успешный "поиск на Туртукай", разбив внезапной атакой превосходящие силы противника. При этом Суворов предпринял действия, выходящие за рамки начальственного предписания. Его непосредственный начальник пожаловался Екатерине II, но царица написала на рапорте: "Победителей не судят", - после чего это выражение вошло у нас в обиход.
(обратно)217
Генерал-лейтенант КУЛИК Г.И. командовал 4-й Гвардейской армией с апреля по сентябрь 1943 года.
(обратно)218
Член ВКП(б) с 1926 г. полковник ШЕПИЛОВ Д.Т.
(обратно)219
Он был уроженцем хутора Дудниково Полтавской губернии.
(обратно)220
Это был генерал-лейтенант ЗЫГИН А.И.
(обратно)221
Генерал-лейтенант ГАЛАНИН И.В.
(обратно)222
Генерал-лейтенант авиации КРАСОВСКИЙ С.А.
(обратно)223
Генерал-лейтенант авиации ФАЛАЛЕЕВФ.Я. в 1942г. командовал Военно-Воздушными Силами на Юго-Западном направлении.
(обратно)224
Генерал-лейтенант авиации СКРИПКО Н.С. являлся тогда заместителем командующего Авиацией дальнего действия.
(обратно)225
Речь идет об авиационных бомбардировках участка железной дороги северо-западнее Выборга, между станциями Икспя и Вайниккала.
(обратно)226
В конце сентября 1943 года.
(обратно)227
Это произошло 22 сентября 1943 года.
(обратно)228
Комбриг ВАТУТИН Н.Ф. был начальником штаба Киевского Особого военного округа с ноября 1938 г. по сентябрь 1939 года.
(обратно)229
Генерал-лейтенант ВЛАСОВ А.А., командуя 2-й Ударной армией Волховского фронта, после окончания Любанской операции, имевшей целью прорыв Ленинградской блокады, не сумел вывести свою армию из фашистского окружения. Частичный прорыв соединениями этой армии вражеского кольца организовали в июне 1942 г. вторично назначенный командующим войсками Волховского фронта (после генерал-лейтенанта ХОЗИНА М.С., "проморгавшего" фашистское окружение 2-й Ударной) генерал армии К.А.МЕРЕЦКОВ и представитель Ставки Верховного Главнокомандования, начальник Генерального штаба генерал-полковник ВАСИЛЕВСКИЙ A.M., извне раздвинувшие коридор, пробитый в кольце окружения усилиями 59-й (командующий генерал-майор КОРОВНИКОВ И.Т.) и 52-й (командующий генерал-лейтенант ЯКОВЛЕВ В.Ф.) армий. Многие воины 2-й Ударной армии попали тогда в фашистский плен, а Власов сдался врагу добровольно. Впоследствии он приступил к организации РОА (Российская освободительная армия) для участия в боях против Красной Армии, но официально Берлин разрешил Власову воевать в 1944 году.
(обратно)230
ДЖУГАШВИЛИ Я.И., попав в плен, был заключен в фашистский концлагерь Хаммельбург, оттуда попал в любекский лагерь ХС для пленных поляков, потом в Заксенхаузен, где был убит, якобы при попытке к бегству. В СССР остались его жена МЕЛЬЦЕР Ю.И. с дочерью Якова Галиной и сын Якова Евгений от другой жены.
(обратно)231
Во время битвы за Москву ВЛАСОВ командовал с октября 1941 г. до марта 1942 г. 20-й армией.
(обратно)232
Генерал-лейтенант авиации СКРИПКО Н.С. являлся заместителем командующего Авиацией дальнего действия.
(обратно)233
"Песня о Днепре" (1942 г), слова Е.А.Долматовского, музыка М.Г.Фрадкина.
(обратно)234
Межигорье - поселок на правом берегу Днепра за Вышгородом, севернее Киева. Генерал-полковник МОСКАЛЕНКО К.С. командовал 40-й армией с октября 1942-го по октябрь 1943 года. Генерал-лейтенант ЖМАЧЕНКО Ф.Ф. командовал ею с октября 1943-го до мая 1945 года. Генерал-лейтенант ЧИБИСОВ Н.Е. командовал 38-й армией с августа 1942 до октября 1943 года.
(обратно)235
Генерал-лейтенант Рыбалко П.С. командовал 3-й Гвардейской танковой армией с мая 1943-го по май 1945 года.
(обратно)236
Букринский плацдарм на западном берегу Днепра, в 80 км юго-восточнее Киева, возник 23 сентября 1943 года.
(обратно)237
Бои там длились до 3 ноября 1943 года.
(обратно)238
Ново-Петровцы находятся на правом берегу Днепра, Старо-Петровцы на левом.
(обратно)239
Речь идет о Лютежском плацдарме, в 30 км. севернее Киева, возникшем 26 сентября 1943 года.
(обратно)240
Генерал-лейтенант ПУХОВ Н.П. командовал 13-й армией с января 1942-го по май 1945 года. Генерал-лейтенант ЧЕРНЯХОВСКИЙ И.Д. командовал 60-й армией с июля 1942 по апрель 1944 года.
(обратно)241
Ему было тогда 37 лет.
(обратно)242
Это произошло в конце августа - начале сентября 1941 г., когда 5-я армия в устье р. Десна попала в окружение.
(обратно)243
ЕПИШЕВ А.А. стал первым членом Военного совета 38-й армии в октябре 1943 года.
(обратно)244
5-й Гвардейский танковый корпус (командующий генерал-лейтенант КРАВЧЕНКО А.Г).
(обратно)245
Полковник Л. СВОБОДА командовал этим батальоном (а затем бригадой) с февраля 1942 года.
(обратно)246
Командующий 2-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации КРАСОВСКИЙ С.А., командующий артиллерией 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант артиллерии ВАРЕНЦОВ С.С., командир 7-го артиллерийского корпуса прорыва из Резерва Верховного Главнокомандования генерал-майор артиллерии КОРОЛЬКОВ П.М.
(обратно)247
Он находился в Ново-Петровцах.
(обратно)248
Генерал-лейтенант ГРЕЧКО А.А. занял должность заместителя командующего войсками 1-го Украинского фронта в октябре 1943 года.
(обратно)249
БАЖАН Н.П. являлся тогда редактором газеты "За Советскую Украину", затем был назначен заместителем председателя Совета Министров УССР.
(обратно)250
ТОЛБУХИН Ф.И. командовал войсками 4-го Украинского фронта с октября 1943 г. до мая 1944 г. МАЛИНОВСКИЙ Р.Я. командовал войсками 3-го Украинского фронта с октября 1943 г. до мая 1944 г.
(обратно)251
Киев был освобожден 6 ноября 1943 г., Днепропетровск - 25 октября 1943г.
(обратно)252
Генерал-лейтенант КРЕЙЗЕР Я.Г. командовал 2-й Гвардейской армией с февраля по июль 1943 г.
(обратно)253
Макеевка была освобождена 6 сентября 1943 г.
(обратно)254
Житомир впервые освободили 12 ноября 1943 г., вторично - 31 декабря 1943 г. На этом участке наступал 1-й Гвардейский кавалерийский корпус (командующий генерал-лейтенант БАРАНОВ В.К.).
(обратно)255
Херсон оставался под вражеской оккупацией до конца 1943 г.
(обратно)256
КОНЕВ И.С. командовал войсками Степного фронта с июля 1943 г. до октября 1943 г., после чего этот фронт был переименован во 2-й Украинский.
(обратно)257
Это была 6-я танковая армия. Генерал-лейтенант танковых войск КРАВЧЕНКО А.Г. командовал ею с января 1944 г. по сентябрь 1945 г.
(обратно)258
Генерал-лейтенант ТУМАНЯН Г.Л.
(обратно)259
Это было сделано в 1965 г.
(обратно)260
С мая по август 1943 г. это была 1-я Польская дивизия им. Т.Костюшко. Затем до марта 1944 г. это соединение называлось 1-м Польским корпусом. Далее существовала 1-я Польская армия. В июле 1944 г. она слилась с Армией Людовой в Войско Польское, состоявшее из двух армий.
(обратно)261
ГМЫРЯ Б. Р. (1903-1969), народный артист СССР с 1951 г., окончил в 1939 г. Харьковскую консерваторию. С 1936 г. он пел в Харьковском оперном театре, а с 1939 г. - в Киевском.
(обратно)262
ПАТОРЖИНСКИЙ И.С. (1896-1960), народный артист СССР с 1944 г., являлся солистом Харьковского оперного театра в 1925-1935 гг.., затем пел в Киеве.
(обратно)263
ДОНЕЦ М.И. (1883-1941), народный артист УССР с 1930 г., член ВКП(б) с 1940 г., солировал в театрах Москвы, Харькова, Свердловска и Киева.
(обратно)264
Одесса была освобождена 10 апреля 1944 г. войсками 3-го Украинского фронта (командующий МАЛИНОВСКИЙ Р.Я.).
(обратно)265
Это произошло 29 февраля 1944 г.
(обратно)266
Академик БУРДЕНКО Н.Н. (1876-1946), генерал-полковник медицинской службы. Герой Социалистического Труда с 1943 г., являлся тогда главным хирургом Красной Армии.
(обратно)267
Маршал Советского Союза ЖУКОВ Г.К. командовал войсками 1-го Украинского фронта с марта по май 1944 года.
(обратно)268
Это произошло 15 апреля 1944 года.
(обратно)269
Речь идет о председателе Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР ХРАПЧЕНКО М.Б. Он родом из Смоленской губернии.
(обратно)270
Маршал Советского Союза КОНЕВ И.С. командовал войсками 1-го Украинского фронта с мая 1944 г. до мая 1945 г.
(обратно)271
То есть 23 марта 1944 г. С 1944 г. Тарнополь носит название Тернополь.
(обратно)272
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция, длившаяся с 4 марта по 17 апреля 1944 г.
(обратно)273
3-я Гвардейская танковая армия генерал-полковника танковых войск РЫБАЛКО П.С.
(обратно)274
Львовско-Сандомирская наступательная операция, длившаяся с 13 июля по 29 августа 1944 года.
(обратно)275
Генерал-лейтенант ПУХОВ Н.П.
(обратно)276
Генерал-лейтенант авиации РЯЗАНОВ В.Г., дважды Герой Советского Союза. Он командовал 1-м Гвардейским штурмовым авиационным корпусом.
(обратно)277
Это произошло 27 июля 1944 г.
(обратно)278
Генерал-полковник МОСКАЛЕНКО К.С. командовал 38-й армией с октября 1943 г. по май 1945 г. Генерал-полковник ГРЕЧКО А.А. командовал 1-й Гвардейской армией с декабря 1943 г. по май 1945 г. Третья армия, о которой здесь говорится, - это 18-я. Ею до февраля 1944 г. командовал генерал-полковник ЛЕСЕЛИДЗЕ КН., а затем генерал-лейтенант ЖУРАВЛЕВ Е.П.
(обратно)279
Генерал-полковник ( с октября 1944 г. генерал армии) ПЕТРОВ И.Е. командовал войсками 4-го Украинского фронта с августа 1944 г. по март 1945 г.
(обратно)280
Генерал-полковник МЕХЛИС Л.З. являлся членом Военного совета 4-го Украинского фронта с августа 1944 г. по июль 1945 г.
(обратно)281
ТУРЯНИЦА И.И. (1901-1955), член ВКП(б) с 1925 г., участник Венгерской революции 1919 г., был в 1928-1930 гг. секретарем Мукачевского, потом Ужгородского партийных комитетов, далее учился в СССР (Харьковский коммунистический институт журналистики), затем продолжал участвовать в революционном движении Закарпатья. В 1944-1946 гг. он являлся председателем Народного совета Закарпатской Украины (секретарь ЦК Компартии Закарпатской Украины - к 1945 г.), до 1948 г. - первым секретарем Закарпатского обкома КП(б)У и председателем местного облисполкома, с 1949 г. - членом ЦК Компартии Украины.
(обратно)282
Член РСДРП с 1903 г. МАНУИЛЬСКИЙ Д.З. работал в Коминтерне с 1922 до 1943г.
(обратно)283
Маршал Советского Союза РОКОССОВСКИЙ К.К. командовал войсками 1-го Белорусского фронта с февраля до ноября 1944 года. Далее и вплоть до июня 1945 г. эти войска возглавлял Маршал Советского Союза ЖУКОВ Г.К. Начальником штаба фронта оставался генерал-полковник МАЛИНИН М.С.
(обратно)284
Генерал-лейтенант БЕРЛИНГ 3. (1896-1980) служил, будучи еще подполковником, начальником базы в Польской армии генерала АНДЕРСА В. После ее ухода в Иран весной 1942 г. остался в СССР. В 1943-1944 гг. полковник Берлинг командовал дивизией им. Костюшко будучи генерал-майором - 1-м Польским корпусом, затем Польской армией в СССР и с июля 1944 г. - 1-й армией Войска Польского. В октябре-декабре 1944 г. этой армией командовал генерал-лейтенант КОРЧИЦ В. Далее - генерал-лейтенант ПОПЛАВСКИЙ С.Г.
(обратно)285
БЕРЛИНГ 3. с осени 1944 г. учился в Военной академии Генерального штаба в СССР, в 1948-1953 гг. являлся начальником Генера0льного штаба Войска Польского, затем находился на гражданской службе.
(обратно)286
СВЕРЧЕВСКИЙ К. В звании генерал-лейтенанта командовал 2-й армией Войска Польского в июле-сентябре 1944 г., затем ее возглавил генерал-лейтенант Поплавский С.Г, а с декабря 1944 г. - опять Сверчевский.
(обратно)287
БЕРУТ Б. (1892-1956) в 1944-1947 гг. был председателем временного высшего органа власти - Крайовой Рады Народовой.
(обратно)288
Писательница ВАСИЛЕВСКАЯ В. (1905-1964) была в годы Великой Отечественной войны полковым комиссаром, а потом полковником Красной Армии, работала агитатором Главного политического управления, редактором газеты "За Радяньску Украину", в 1943-1945 гг. главным редактором газеты "Свободная Польша", была председателем Союза польских патриотов в СССР.
(обратно)289
Генерал армии СОКОЛОВСКИЙ В.Д. служил начальником штаба 1-го Украинского фронта с апреля 1944 г. до апреля 1945 г., потом был заместителем командующего войсками 1-го Белорусского фронта (по май 1945 г.). (
(обратно)290
ПОНОМАРЕНКО П.К. занимал эти посты в 1944-1948 годах.
(обратно)291
Лидер партии "Польске Стронництво людове" Винценты Витос возглавлял ее с 1931 года. "Воля люду" (ее левое крыло) входило в состав Крайовой Рады Народовой и Польского комитета национального освобождения.
(обратно)292
ГОМУЛКА В. (Веслав) был Генеральным секретарем ЦК Польской партии рабочей с ноября 1943 г. по август 1948 г., а затем до декабря 1948 г. этот пост занимал Берут Б. Далее ППР стала называться Польской объединенной рабочей партией.
(обратно)293
Генерал брони РОЛЯ-ЖИМЕРСКИЙ М. командовал Войском Польским с июля 1944 года.
(обратно)294
Это было предместье Люблина, гитлеровский концлагерь Майданек.
(обратно)295
Речь идет о 5-й Гвардейской армии под командованием ЖАДОВА А.С.
(обратно)296
Они приземлялись на трех аэродромах: под Полтавой, у Миргорода и возле Пирятина.
(обратно)297
Это случилось у Полтавы 22 июня 1944 года. Там были уничтожены 47 американских самолетов, повреждены 21 американский и 24 советских. 23 июня состоялся налет на аэродром возле Миргорода. Там были уничтожены 3 американских самолета и повреждены 13. Всего погибло 30 советских военнослужащих и ранено 80; американских погибло 2, ранено 14.
(обратно)298
БЕГМА В.А. (1905-1965) был в 1939-1941 гг. первым секретарем местного обкома КП(б)У, в звании генерал-майора являлся в 1942-1944 г. секретарем Ровенского подпольного обкома партии.
(обратно)299
Ровно освобождал 6-й Гвардейский кавалерийский корпус (командующий генерал-лейтенант СОКОЛОВ С.В.).
(обратно)300
Автор ряда монографий по городскому строительству и развитию городского транспорта СТРАМЕНТОВ А.Е.
(обратно)301
Председатель Временного правительства Польши с 1 января по 28 июня 1945 г. ОСУБКА-МОРАВСКИЙ Э. Президент Варшавы в 1944-1945 гг., потом заместитель министра народной обороны генерал СПЫХАЛЬСКИЙ М. Ранее он являлся начальником штаба Гвардии Людовой и заместителем начальника штаба Армии Людовой.
(обратно)302
БЕРМАН Я. После войны был членом ЦК ППР и ответственным деятелем правительства; МИНЦ X. - членом ЦК ППР, министром промышленности и торговли.
(обратно)303
ЦИКАНКЕВИЧ Ю. (1911-1989) находился в гитлеровских концлагерях с 1941 г. по 1945 г., потом был Генеральным секретарем Польской партии социалистов, в 1948 г. вошел в состав Политбюро ЦК ПОРП, в 1947-1970 гг. являлся премьером страны (в 1952-1954 гг. был вице-премьером).
(обратно)304
Драматург КОРНЕЙЧУК А.Е. в 1946-1953 гг. был председателем Союза писателей Украины.
(обратно)305
БУР-КОМОРОВСКИЙ Т. (1895-1966) входил в 1943-1944 гг. в руководство Армии Крайовой и официально возглавлял Варшавское восстание с 1 августа по 2 октября 1944 года.
(обратно)306
МИКОЛАЙЧИКС. (1901-1966) был в 1940-1943 гг. вице-премьером эмигрантского правительства Польши, в 1945-1947 гг. являлся вице-премьером в самой Польше и председателем партии "Польске Стронництво Людове", потом опять убыл в эмиграцию.
(обратно)307
Бои за г. Бреслау тянулись с середины февраля по 6 мая 1945 года.
(обратно)308
Из Силезии 38-я армия двинулась на г. Моравска Острава. Генерал-полковник КУРОЧКИН П.А. командовал 60-й армией с апреля 1944 г. по май 1945 года.
(обратно)309
Генерал армии ЧЕРНЯХОВСКИЙ И.Д. командовал этой армией с июля 1942 г., потом он возглавлял с апреля 1944 г. войска Западного фронта и также - войска 3-го Белорусского фронта. Погиб 18 февраля 1945 г. возле г. Мельзак (ныне в Польше).
(обратно)310
Генерал-лейтенант авиации КРАСОВСКИЙ С.А. командовал 2-й Воздушной армией с марта 1943 г. помай 1945 года. А штаб 1-го Украинского фронта находился в Ш?нвальде (на железной дороге из Познани в Катовице).
(обратно)311
Маршал Советского Союза ЖУКОВ Г.К. командовал войсками 1-го Белорусского фронта с ноября 1944 г. по июнь 1945 года.
(обратно)312
МОНТГОМЕРИ Аламейнский Бернард ЛОУ (1887-1976) - виконт, фельдмаршал британских войск. С 1942 г. командовал в Северной Африке 8-й армией, нанесшей поражение германским и итальянским войскам под Эль-Аламейном. Командующий группой армий в 1944-1945 гг. во Франции, Бельгии и Германии. До 1948 г. возглавлял Генеральный штаб. В 1951-1958 гг. являлся заместителем главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе. В описываемое время был главнокомандующим британскими оккупационными войсками в Германии. Из советских орденов был награжден, помимо ордена "Победа" (см. ниже), также орденом Суворова 1-й степени.
(обратно)313
С июля 1942 г. прекратилась отправка кавказских нефтепродуктов по железной дороге через Ростов-на-Дону, затем через Сальск - Сталинград. Нефтепродукты из Краснодара и Грозного вывозились железнодорожными "вертушками" через Махачкалу и далее морем в Астрахань. Позднее они шли через Красноводск и оттуда, кружным путем, через Среднюю Азию на Урал и Волгу. Из-за этого цистерны на кавказских линиях простаивали. К августу 1942 г. по кавказским линиям поступало в страну 48% всего налива горючего, по окончании боев за Сталинград зимою 1943 г. - лишь 17%. Удельный вес значения кавказских пунктов налива упал втрое. В Махачкале цистерны без колес, спущенные прямо в море и для равновесия частично заполненные водой, буксировались в Гурьев или Красноводск, а тележки с колесами грузились на сухогрузные баржи либо буксирные пароходы.
(обратно)314
1940 г. из выплавленных в СССР 18,3 млн. тонн стали на долю Украины пришлось 8,6 млн. тонн. Но в первой половине 1941 г. темпы роста выплавки возросли и в УССР, и по стране в целом. Из 166 млн. тонн общесоветского угля в 1940 г. на Украине добыто 83,73 млн. тонн.
(обратно)315
МАЛЫШЕВ В.А. (1902-1957) - генерал-полковник инженерно-технической службы с 1945 г.. Герой Социалистического Труда с 1944 г., являлся с 1941 г. наркомом танковой промышленности.
(обратно)316
МАКМИЛЛАН Г. (1894-1986) - лидер консервативной партии в 1957-1963 годах. Тогда же был премьер-министром. С середины 60-х годов он возглавлял крупную издательскую фирму.
(обратно)317
Мариуполь стал Ждановом в 1948 г., теперь вновь Мариуполь. Речь идет о заводе, построенном в 1897 г. Никополь-Мариупольским горным и металлургическим обществом.
(обратно)318
Эту операцию осуществляло Советское транспортное управление в Иране с февраля 1942 года. Американская военная администрация отвечала за участок от Персидского залива до Тегерана по железной дороге и до Казвина по шоссе, а далее на север действовало СТУ. Самолеты, поставляемые союзниками, перегоняли в СССР два советских перегоночных истребительных авиаполка. Всего с 1941 по 1945 год общий оборот грузов через Иран в СССР составил (с учетом перевалки) 10,5 млн. тонн. Эксплуатацию и ремонт дорог, по которым перегонялись автомобили и другие союзнические грузы, обеспечивали советские ВАД (то есть "военно-автомобильные дороги" подразделения дорожных войск).
(обратно)319
Речь идет об обращении Черчилля к Сталину от 6 января 1945 года. Советское наступление в Восточной Пруссии и Польше началось 12 января. Планировалось же с 20 января.
(обратно)320
Япония применяла некоторые виды бактериологического оружия против монгольских и китайских войск.
(обратно)321
Речь идет о командарме 2-го ранга КОРКЕ А.И. (1887-1937).
(обратно)322
МЕРЕЦКОВ К.А. находился под следствием с конца июня по конец августа 1941 года.
(обратно)323
В Норильск, где Завенягин являлся начальником строительства и директором горно-металлургического комбината.
(обратно)324
Портсмутский договор, заключенный 5 сентября 1905 г. (н.ст.) в г. Портсмуте (США).
(обратно)325
СССР предложил 8 новых статей в дополнение к 27 американским, но их не обсуждали. Договор был подписан, без СССР, 49 странами в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года.
(обратно)326
Они были образованы после Московского совещания министров иностранных дел СССР, США и Англии 16 - 26 декабря 1945 года.
(обратно)327
БИРНС Дж.Ф. являлся государственным секретарем США с июля 1945 по январь 1947 года.
(обратно)328
БЕВИН Э. В юности рассыльный, вагоновожатый, продавец и шофер, руководил позднее профсоюзом докеров, транспортников и чернорабочих. Был одним из лидеров Совета действия в Англии, который в 1919 - 1920 гг. выступал против антисоветской интервенции. В военном кабинете У. Черчилля он являлся министром труда и национальной повинности.
(обратно)329
Американцы распустили их 25 апреля 1952 года.
(обратно)330
Это произошло после официального прекращения оккупации Японии 28 апреля 1952 года.
(обратно)331
18 августа 1945 г. в Шэньяне (Мукдене) советский десант захватил в плен Генри Пу И вместе с японскими генералами исиока и Хасимото.
(обратно)332
СКРЯБИН В.М. (Молотов) находился в ссылке в городах Вологодской губернии - Тотьме, Сольвычегодске и Вологде в 1909 - 1911 гг.
(обратно)333
Там возникли 282 такие базы. 28 февраля 1952 г. было подписано Административное соглашение, регулирующее порядок применения Договора безопасности. 28 апреля 1952 г. вступил в силу Пакт безопасности. 8 марта 1953 г. подписано американо-японское Соглашение о помощи в обеспечении взаимной безопасности. 2 июня 1953 г. создано Управление обороны Японии.
(обратно)334
Этапы подписания: 11 октября 1954 г. опубликована совместная Декларация КНР и СССР о готовности нормализовать отношения с Японией; 29 января 1955 г. опубликовано Заявление Советского правительства о готовности установить дипломатические отношения с Японией; 3 июня 1955 г. в Лондоне состоялись переговоры между советскими и японскими представителями о нормализации отношений двух стран; 19 октября 1956 г. в Москве подписана совместная советско-японская Декларация о нормализации отношений; 12 декабря 1956 г. последняя вступила в силу.
(обратно)335
Этим премьером был ХАТОЯМА И. (с 10 декабря 1954 г. по 20 декабря 1956 г.). В Москву он прибыл 19 октября 1956 года.
(обратно)336
Речь шла об островах Хабомаи и Шикотан. СССР дал согласие на их возврат Японии. Но после подписания 19 января 1960 г. американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности, который заменил собою предыдущий Пакт безопасности (серия соглашений от 1951 - 1952 гг.), согласие было взято назад.
(обратно)337
САТО Э. являлся премьером с 9 ноября 1964 г. по 17 июня 1972 г.
(обратно)338
С 19 по 21 ноября 1969 г. состоялись переговоры о поддержке Японией политики США в Азии, взамен чего США согласились возвратить Японии острова Рюкю. Соглашение вступило в силу 15 мая 1972 г.
(обратно)339
Действительно, Южный Сахалин отошел к Японии по Портсмутскому миру, то есть в результате военного поражения России. Но Курильские острова отошли к Японии согласно российско-японскому договору о границах от 7 мая 1875 г., так что тут военного захвата не произошло.
(обратно)340
Переговоры по данному поводу состоялись во время поездки Микояна А.И. в Токио 14 - 27 мая 1964г., а в апреле 1967 г. вступило в силу соглашение о прямом воздушном сообщении Москва - Токио.
(обратно)
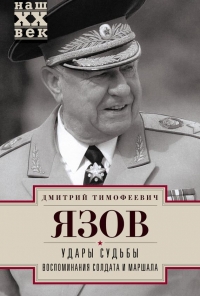


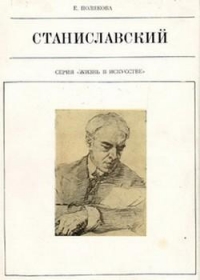


Комментарии к книге «Время, Люди, Власть. Воспоминания. Книга 1. Часть 2», Никита Сергеевич Хрущев
Всего 0 комментариев